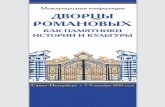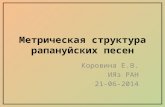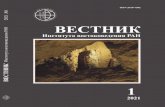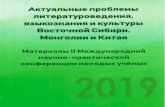ЛИНГВИСТИЧЕ - Государственный институт русского ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ЛИНГВИСТИЧЕ - Государственный институт русского ...
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина»
Филологический факультет
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Материалы Международной научно-практической конференции
«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие.XVII Кирилло-Мефодиевские чтения»
24 мая 2016 года
Москва – Ярославль2016
2
ББК 80я431УДК 80 (063)Ф 54
Печатается по решению Научно-технического советаФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
Рецензенты: д.ф.н., проф. Е.В. Никольский, к.п.н., доц. Т.В. Кудоярова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:М.Н. Русецкая (главный редактор);
М.А.Осадчий (зам. главного редактора);А.В. Пашков (зам. главного редактора);
А.А. Розова (ответственный секретарь);Т.Ю. Бутяйкина (заместитель ответственного секретаря);
Л.А.Мовсисян (заместитель ответственного секретаря)К.Ю. Горшкова, Т.А. Михалёва, А.А. Москаленко,А.Д. Красичкова, К.А. Паутова, М.В. Королёва.
Ф 54Филологическое образование в современных исследованиях:
лингвистический и методический аспекты // Материалы Междуна-родной начуно-практической конференции «Славянская культура: исто-ки, традиции, взаимодействие. XVII Кирилло-Мефодиевские чтения», 24 мая 2016 года. – М.; Ярославль: Ремдер, 2016. – 386 с.
ISBN 978-5-94755-390-1
В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам язы-кознания и методике преподавания филологических дисциплин в школе и вузе. В книге содержатся материалы Международной научно-практической конферен-ции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XVII Кирилло-Мефодиевские чтения» (24 мая 2016 года). Конференция ежегодно проходит в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина.
ISBN 978-5-94755-390-1
3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Агафонова Ольга Владимировнааспирант Волгоградского государственного
социально-педагогического университетаВолгоград, Россия
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ РАЗГОВОРНОСТИ
В МАТЕРИАЛАХ БЛОГОВРазговорность, показатели разговорности, Живой Журнал. В статье рассматривается сущность категории разговорности, выявляется специфика реализации данной категории на материале блогов.
В настоящее время в лингвистике изучению разговорности и разго-ворной речи посвящено большое количество работ (Н.Д. Голев, Е.А. Зем-ская, И.А. Иванчук, Т.Н. Колокольцева, М.В. Китайгородская, Е.В. Кра-сильникова, О.А. Лаптева, Н.Н. Розанова, О.Б. Сиротинина, Е.Н. Ширяев, Н.Ю. Шведова, Е.Н. Ширяев и мн. др.). Исследовательский интерес впол-не понятен: разговорный стиль все активнее проникает в другие функци-ональные стили и разновидности русского языка.
Категория разговорности имеет сложный характер в связи с тем, что разговорная речь подвержена постоянной эволюции, связанной с разви-тием коммуникативных процессов в обществе. Сущность данной катего-рии определяется исследователями по-разному.
Так, например, О.Б. Сиротинина отмечает, что понятие разговорность используется для «противопоставления книжной, малопонятной широ-ким массам людей и доступной, простой речи в ораторском искусстве, в СМИ, а также в художественной речи (эстетическая категория, сигналы разговорности при стилизации разговорного стиля и самого процесса го-ворения в художественной литературе)» [10, с. 321].
В работе Т.Н. Колокольцевой «Категория разговорности и специфика ее реализации в современной коммуникации» разговорность определя-ется «как лингвистическая категория, объединяющая обширный массив
языковых особенностей, генетически восходящих к разговорной речи, маркирующая их по принадлежности к соответствующей сфере общения, а за ее пределами создающая колорит этой сферы» [7]. Мы разделяем данную точку зрения.
И.А. Иванчук считает разговорность риторической категорией. Автор интерпретирует данную категорию в рамках теории типов речевых куль-тур. Исследователь рассматривает разговорность «как особую катего-рию – риторическую, – получающую свое воплощение в элитарном типе речевой культуры» [4, с. 5].
Т.Н. Колокольцева отмечает, что рассматриваемая категория вопло-щается в спонтанной разговорной речи, в персонажном речевом потоке в художественном стиле (стилизованная разговорность) и «в рамках раз-личных жанров интернет-коммуникации» [7].
Среди ученых-языковедов нет единого мнения о средствах выражения разговорности в письменной речи. Так, Л.Н. Козлова называет следующие конструкции и явления, используемые при стилизации разговорной речи на письме: «1) сегментность, расчлененность структур; 2) синтаксическая компрессия и редукция; 3) эллипсис; 4) структурно незавершенные выска-зывания (усечения); 5) пояснительные, уточняющие и вставные конструк-ции; 6) отказ от начатого повествования; 7) поиск подходящего слова (ис-пользование слов-паразитов, местоимений и частиц» [6, с. 111–112].
И.А. Иванчук, рассматривая специфику категории разговорности, от-мечает, что «общим свойством разговорности признается намеренное, мо-тивированное привлечение разговорных элементов (включая просторечие, жаргонизмы, диалектизмы) для создания иллюзии говорения в словесном искусстве и впечатления книжной некнижной речи в СМИ» [4, с. 5].
Т.Б. Трошева в статье «Религиозный дискурс и категория разговорно-сти» называет такие свойства разговорности, как «использование боль-шого количества разговорных частиц, лексики разговорного характера, слов в переносном значении, включающих в себя экспрессивно-оценоч-ные коннотации, экспрессивно-эмоциональной лексики, фразеологиче-ских единиц разговорной окраски, присоединительных конструкций и парцелляций, эллиптичности» [10].
Важным является вопрос о специфике воплощения категории разговор-ности в рамках интернет-коммуникации. Приведем справедливое мнение Т.Н. Колокольцевой о том, что здесь мы имеем дело с «новым письмен-ным проявлением разговорного стиля, для которого характерны языковые особенности, присущие естественной непринужденной речи: свернутость, редукция сегментного ряда, высокая доля разговорной и другой сниженной лексики, обилие специфических разговорных конст рукций и т.д.» [7].
Т.Ю. Виноградова считает, что «сегодня по сути дела возникла новая форма языкового взаимодействия – письменная разговорная речь. Рус-ский язык существует в основном в письменном варианте, но в условиях
интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен к устной ее разновидности» [2, с. 64].
Совершенно противоположным является мнение А.Е. Войскунского, считающего текст в Интернете «гибридом устно-письменной речи, со-держащей признаки публичной, диалогической и монологической речи» [3, с. 144].
Новая письменная разговорность проявляет себя в таких жанрах Ин-тернета, как форумы, чаты, всевозможные социальные сети. Следует от-метить интерактивное взаимодействие текста интернет-пользователя с другими текстами электронной коммуникации.
Языковой материал, привлеченный для анализа в данной статье, пред-ставлял собой тексты, размещенные на блог-платформе «Живой Журнал» и в блоге российского писателя-сатирика М.Н. Задорнова на страницах сайта zadornov.net.
Как отмечает Н.Б. Рогачева, «одной из основных особенностей Жи-вого Журнала является с одной стороны, его ориентированность на лич-ность автора, а с другой – публичность, ориентированность на потенци-ально массового читателя» [8, с. 389–402]. Живой Журнал предлагает обычный для блогов набор функций: возможность публикаций записей, их комментирования читателями.
По мнению А.А. Качановой, популярность Живого Журнала обуслов-лена тем, что «персональные блоги Живого Журнала являются на сегод-няшний день не только источником информации, но и современным ка-налом коммуникации, так называемым стимулятором обмена мнениями среди пользователей» [5, с. 179].
Перейдем к рассмотрению средств категории разговорности, встреча-ющихся в текстах рассматриваемых нами блогов.
1. Парцелляция. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» парцелляция определяется как «способ речевого представления единой синтаксической структуры – предложения – несколькими коммуникатив-но самостоятельными единицами – фразами» [1].
В блогах авторы используют парцелляцию для усиления смысловых оттенков значений. Приведем пример:
(1) dr_piliulkin 23.02.2016Хорошая машинка, «туарег» новенький. Дорогая, хоть и не «Бент-
ли»! И с наклейкой «инвалид».(2) dr_piliulkin 19.02.2016Не то, чтобы Харпер Ли о ней забыла. Но ошарашенная славой и
всенародным признанием – предпочла жить тихо.В примере (1) идет речь о том, что ради бесплатной парковки для ав-
томобиля и для ухода от оплаты налогов все больше автовладельцев в Москве ездят с наклейкой «инвалид» на стеклах машин. Автор (писатель С. Лукьяненко) использует парцеллированную конструкцию, имеющую
6
ироническую тональность, с целью наглядно передать свое отношение к происходящему (Хорошая машинка, «туарег» новенький. Дорогая, хоть и не «Бентли»! И с наклейкой «инвалид»).
В примере (2), используя парцеллированные конструкции в своей записи об истории создания книги Харпер Ли «Убить пересмешника», С. Лукьяненко акцентирует важный момент сообщения, придает своему высказыванию дополнительную выразительность.
2. Пояснительные конструкции. Л.Н. Козлова отмечает, что «пояс-нительные конструкции представляют собой дополнения, присоедине-ния, возникающие в результате припоминания или уточнения уже завер-шенного высказывания» [6, с. 112]. Например:
(1) dr_piliulkin 19.02.2016Вы ведь читали, мои дорогие, книгу «Убить пересмешника». Или смо-
трели кино. Нет?Ну, значит, вы провели детство не в США. Поскольку там эту пре-
красную книгу читают в обязательном порядке школьники и не читать ее… ну, как у нас – пропустить чтение «Капитанской дочки».
(2) PRILEPIN 22.02.2016Читал на память стихи, речь отличная, зрение, слух – все в порядке;
и весь такой, знаете, казачок. Откинется на стуле и иронично озирает происходящее.
В примере (1) употребление писателем пояснения (ну, как у нас – про-пустить чтение «Капитанской дочки») создает иллюзию живого непо-средственного диалога с адресатом сообщения.
В примере (2) автор включает в текст пояснение (и весь такой, знаете, казачок) с целью иллюстрации жизненной позиции В.С. Бушина, писателя и публициста, о встрече с которым повествует в своем блоге З. Прилепин.
3. Слова сниженного характера. Употребление авторами текстов большого количества слов с разговорной окраской, а также просторечной и жаргонной лексики связано со стремлением изобразить устный разго-вор, как он есть в повседневной жизни. Приведем примеры:
(1) Михаил Задорнов 18.10.2015Для меня лично гораздо интереснее Шнобелевская премия, нежели Но-
белевская. Там действительно все по чесноку, а не зависит от политики.(2) Михаил Задорнов 21.06.2015Конечно, все уже привыкли к тому, что наш мэр, прежде всего, за-
ботится о брусчатке в Москве, а потом уже о людях. Ему даже дали погоняло «плиточник».
В примере (1), благодаря использованию жаргонного выражения (все по чесноку), текст записи становится более эмоциональным, динамич-ным. Употребление данного оборота позволяет М.Н. Задорнову выделить ту мысль в сообщении, которая для него является главной.
7
В примере (2) использование жаргонной лексики (погоняло) дает воз-можность автору выразить свое недовольство работой мэра г. Москвы С. Собянина.
Итак, категория разговорности реализуется повсеместно в сетевой блогосфере. Употребление средств разговорности в сетевой словесности является ее характерной чертой. За счет использования разговорности в электронной коммуникации создается эффект неподготовленной, живой разговорной речи. С помощью средств передачи категории разговорности авторы экспрессивно передают свое видение мира.
ЛИТЕРАТУРА:1. Ванников Ю.В. Парцелляция // Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь / под ред. В.Н. Ярцевой: [Электронный ресурс]. – URL: http://lingvisticheskiy-slovar.ru/description/partselliatsiia/455.
2. Виноградова Т.Ю. Специфика общения в интернете // Русская сопо-ставительная филология: Лингвокультурологический аспект / Казанский гос. университет. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2004. – С. 63–67.
3. Войскунский А.Е. Речевая деятельность в ходе компьютерных кон-ференций // Вопросы психологии. – М.: Академия пед. наук РСФСР, 2003. – № 6. – С. 139–158.
4. Иванчук И.А. Риторическая категория разговорность в публичной речи носителей элитарного типа речевой культуры: ее специфика и функ-ции // Вестник Томского государственного педагогического университе-та. – Томск, 2004. – № 1. – С. 5–11: [Электронный ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskaya-kategoriya-razgovornost-v-publichnoy-rechi-nositeley-elitarnogo-tipa-rechevoy-kultury-ee-spetsifika-i-funktsii.
5. Качанова А.А. Специфика коммуникативного поведения и самопре-зентации пользователей российского Живого Журнала // Интернет-ком-муникация как новая речевая формация: колл. монография / науч. ред. Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 328 с.
6. Козлова Л.Н. Синтаксические средства создания разговорности (на материале произведений Л. Улицкой) // Вестник волгоградского госу-дарственного университета. Серия 2: Языкознание. – Волгоград, 2009. – № 2. – С. 110–113.
7. Колокольцева Т.Н. Категория разговорности и специфика ее реали-зации в современной коммуникации // Русский язык как государственный язык Российской Федерации: лингвистический, социальный, историко-культурный, дидактический контексты функционирования. Сб. м-лов междунар. конф. – М.; Волгоград, 2013. – С. 100–104.
8. Рогачева Н.Б. Новые приоритеты в русском Интернет-общении: на материале жанра блога // Жанры речи: сб. науч. ст. Вып. 5. Жанр и куль-тура. – Саратов, 2007. – С. 111–127.
8
9. Сиротинина О.Б. Разговорный стиль // Стилистический энциклопе-дический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с.
10. Трошева Т.Б. Религиозный дискурс и категория разговорности: [Электронный ресурс]. – URL: http://uchebilka.ru/literatura/7158/index.html.
Agafonova Olga Vladimirovna
THE MEANS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF COLLOQUIALITY IN BLOG ENTRIES
Colloquiality, colloquiality markers, written colloquial speech.
The article views the essence of the category of colloquiality and determines the peculiar realization of this category exemplified in blog entries.
Bocale Paola research assistant of Università Roma Tre
Rome, [email protected]
THE USE OF ТАМ IN CONTEMPORARY RUSSIAN: A CASE OF SEMANTIC BLEACHING?
Spatial deixis, temporal deixis, textual deixis, epistemic modality, grammaticalization.
Analysis of the occurrences of the adverb там in a variety of texts and contexts shows that the function of this word is not reducible to that of a spatial adverb or a discourse marker. The original lexical meaning of this distal deictic is eroding, and там is taking on a more textual-based interpretation: its meaning depends on the syntactic context it occurs in, and different contexts may lead distinct interpretations of this item. This means that a full adverb is semantically bleaching into a more category neutral lexical item that permits different interpretations based on the context.
In corpora of spoken Russian and in dialogic texts in print media the word там “there” is often used beyond its deictic value (spatial, temporal or textual). This observation led me to start investigating the contexts of use of там, its deictic and textual functions and to wonder whether this word might be going through a process of semantic bleaching and possible grammaticalization.
9
1. Там as a spatial markerIn manuals, handbooks, teaching and reference texts the spatial value of
там is considered fundamental for the categorization of its meaning. The 1980 academic grammar [21, p. 703] categorizes там as an adverb of place (наречие места). The spatial conceptualization of там is given prior description also in dictionaries of modern Russian [8; 18; 24; 22]. However, in analysing the use of там in contemporary Russian one is confronted with the ambiguity and complexity of its functions. The main meaning of там as an adverb of place used to signal a distant element (vs. a proximal one) recedes in certain contexts or disappears completely while the function of textual or discursive marker prevails.
Although in many instances там does carry out some deictic functions, it is not always possible to trace the reference unambiguously from the context of enunciation or from the text, see example (1) below:
(1) Как все творческие люди / находятся в творчестве постоянно / у них там делается в голове / как у всех творческих людей (oral speech, Ruscorpora, 2004)
In spoken language the strategy of repeatedly marking the spatial situation through the use of spatial elements is likely to be linked with the willingness of the speaker to describe accurately a certain situation and to recreate the spatial situation for the interlocutor. Discourse is often saturated with emphatic там as if the speaker wants the listener to follow him in his mental reconstruction step by step:
(2) Такое ощущение что у нас такой телефон Марго / который вот так берёшь / ты там трубку взял / неровно / он там просто рассыпается на части / и приходится весь собирать / он там раскрученный / разбитый (oral speech, Za steklom, 2001)
2. Там as temporal markerGiven that the temporal notion is always present as an inference of the
spatial notion [4, p. 269; 26, p. 50], it comes to no surprise that deictics can be used with a temporal value. Transfer from spatial deixis to temporal deixis takes place when там is used to express temporal remoteness, i.e. with the meaning of “then”, or “in that moment”. Corpora and transcriptions of spoken language bring instances of the use of там which are deictically ambiguous since the context does not help in trying to separate the temporal value from the spatial one:
(3) Я думаю надо отдавать / а отбой есть у него? Где у нас с тобой от-бой? Есть / а там выберем все (oral speech, Za steklom, 2001)
(4) Вы вообще прочитайте / вот / антологию политического фельето-на // А / Я даже не советские фельетоны имею в виду / там / «Крокодил» / который бичевал там / условно говоря / тех / кто не мог ответить / а / до-пустим / дореволюционные / вот то / что было до 1917 года // Фельето-ны публичные / особенно после 1905 года / когда свобода слова началась
10
в России / вот эти 12 лет // Там максимально жесткие оскорбительные высказывания // Социалисты с кадетами / кадеты с этими / понимаете там / и так далее / и так далее // (M. Ševčenko, Osoboe mnenie, 2016).
3. Там as a marker of textual cohesionТам can be used to mark the relation with other elements in the text, be it oral
or written. This textual use of deictics is called secondary or indirect deixis since it refers to a space outside the communication context [9, p. 13], and it is more difficult to interpret, because access to the text is necessary in order to decode the sequence of words preceding or following the occurrence of the deictic word. That a spatial and temporal deictic element takes over functions of textual cohe-sion is not surprising and has been investigated in a number of works on other languages [2; 13; 14; 15; 16; 20; 25; 28]. In the following example, the deictic reference of там is not any more anchored in the context of the speech act, but in the text itself, as the speaker is referring to what he said before:
(5) Ведь / когда я говорю / там / в структуре импорта есть там чет-верть импорта / это промежуточные товары // Ну / там не знаю / в зо-лотых цепочках вряд ли есть чего-нибудь импортное да? Ну / не знаю / там / какая-то часть (S. Aleksašenko, Osoboe mnenie, 2015)
It can be arduous to distinguish between the spatial or temporal value of the deictic там and its textual use. It seems that in several cases these meanings overlap and supplement each other. However, it would appear that in its textual use the meaning of там can be paraphrased as “в данный момент в выска-зывании”, which refers not to a physical place or point in time, but rather to a moment in the speech process.
4. Там as a discourse wordIn examining the use of там as a discourse word some introductory
remarks are necessary since the issue in question is so difficult and ill defined. The observation made above that там shows a complexity of functions is particularly pertinent in evaluating its use as a discourse word in the following examples. It is evident that its deictic value (spatial or temporal) is not any more central.
(6) То есть / вот / казалось бы / импорт упал на 45% // Вот / российский импорт по сравнению там с пиком / с 2013-м годом там в 2014-м году упал на 10% и сейчас еще на 38% упал // Всего на 45% // В 2 раза практи-чески упал импорт // (S. Aleksašenko, Osoboe mnenie, 2015)
(7) Ну, действительно, не каждый вуз там даже московский… Ну, чего говорить там далеко? там Высшая Школа Экономики, где я работал, она внешне в подметки не годилась тем профтехучилищам, которые я видел на промышленных предприятиях да.. (S. Aleksašenko, Osoboe mnenie, 2015)
In the example (6) там does not mark spatial or temporal deixis, since this is already expressed by the clauses “с пиком” and “с 2013-м годом”. Likewise, in the example (7) spatial deixis is conveyed by the circumstantial elements “московский” and “далеко”. I believe that там assumes here the
11
role of a discourse word [1] and, possibly, that of a prosodic marker [19]. The concatenation of several там indicates a process of continuous reformulation of speech segments:
(8) Смысл мне здесь видится следующий // Что а / ввиду дестабилиза-ции определенной экономики да и / как мне кажется / дезориентации там / по крайней мере / экономического блока да / а / может быть / и осталь-ных тоже каких-то промышленных там / ну и так далее / то есть гото-вятся различные сценарии там амортизации / а скажем так там / авансо-вой амортизации грядущих политических процессов // (D. Gluchovskij, Osoboe mnenie, 2016)
In the following example the speaker employs там to add a new idea, express a further opinion and so on:
(9) А насколько я читаю все эти правительственные программы / кон-цепции и прочее там и точки // Они точку «Б» нарисовать / куда идти / не могут да // А уж там то / что предлагаемые решения туда не ведут / это точно совершенно // Поэтому стратегии нет // И мне кажется / что вообще там вся экономическая политика последних там лет / наверное / ну там 12-ти / может / даже 14–15-ти / она / по большому счету / такое броунов-ское движение (S. Aleksašenko, Osoboe mnenie, 2015)
It is also common to find там in combination with other discourse words that affect its deictic value:
(10) Ну / для начала нужно разобраться / нужно выяснить там да? Вот / мне очень смутно понятно / что там произошло / из той картинки / там да? Картинка выглядит просто как вот такой вот «гайричивский» там сценарий, там да? Нужно во-первых разобраться / кто / что / кого / там да? Если это определенным образом поданная статистика там да? то есть всяких чрезвычайных происшествий на обычном людском сборище / где в том числе может быть и какой-то инородческий элемент там да? то есть тогда это чисто такая / ну журнальная провокация / там да? (O. Džemal’, Osoboe mnenie, 2016)
In the above example the use of the deictic там partitions the speech flow, underlining the important elements of the discussion.Tам focuses the attention of the listener either to what follows in the speech stream (cataphoric deixis) or to what precedes (anaphoric deixis). In pragmatic terms, demonstrative adverbs universally display an essential role in the presentations of the events, since they help creating a centre of attention shared among those who take part in a commu-nication [6; 7; 27]. In its use as a discourse word, the prototypical demonstrative function of там persists, but it coexists with its extended function as a discourse marker, that is an element which signals the relationship of the current chunk of language to the preceding or following discourse. Despite the apparent retention of the full phonetic form, the clause-final position in which там frequently ap-pears testifies to an incipient degree of cliticization of this word, which is starting to manifest a certain loss of phonetic independence.
12
5. Там as a marker of epistemic modalityThis function of там, which has not been investigated in the literature so far,
is detectable in hypothetical sentences where the use of a distancing element conveys the speaker’s judgement of the likelihood of the state of affairs under consideration:
(11) Представляете? Вот / там / вот вы заболели / вы идете / вы чув-ствуете / вот / у вас там температура / там не знаю / чего-то перехватило / вы понимаете / что вы болеете / понимаете / что надо лечиться // При-ходите к врачу / а врач говорит «У тебя всё в порядке // А я считаю / что вы не болеете» // Говоришь «Доктор / но у меня-то температура / у меня там скачки давления / у меня там сердце выскакивает / не знаю еще че-го-нибудь такое происходит» / «Да не / слушайте / я / Отстаньте / хва-тит говорить // Вы не больной / вы здоровый человек»// (S. Aleksašenko, Osoboe mnenie, 2015)
(12) Предположим / тот же реп / да / считается речитатив / а на заднем плане идёт мелодия голоса / просто бес слов там / или там из слова „Love you” и оно меняет там через всю песню (oral speech, Za steklom, 2001)
(13) А это хорошо / вот такая индифферентность и такое народное долготерпение? Это правильно? Это хорошо? Ну / может быть / лучше / когда люди пошли бы и начали бы / там я не знаю / добиваться от мест-ных властей или от правительства / чтобы им там / предположим там / сделали какие-то более выгодные условия для того / чтобы открыть свою лавочку или там создать свой маленький бизнес и себя / наконец / кор-мить вот в этих условиях / а не чего-то ждать / допустим / ну / или что-то еще? (O. Byčkova, Osoboe mnenie, 2016)
(14) государство могло бы какие-то там стимулирующие программы для этого разработать с тем чтобы регионы вкладывались / с тем / чтобы предприятия вкладывались / не знаю там / землю бесплатно давать без арендной платы / там / налог на имущество с них отменят // Ну / какие-то вещи можно было бы сделать да / с тем чтобы этот вопрос решался // (S. Aleksašenko, Osoboe mnenie, 2015)
(15) А вот интересно: если б вы сейчас писали книгу и / вот/ сюжет за-кручивался бы сейчас / вот / в наше время / в наши дни / вот там букваль-но сегодня // Дальше бы что там происходило / вот / при нынешних ценах на нефть / при нынешней ситуации с интеллигенцией / с народом / наст-роениями? Вот / там не знаю / выборы / революция? (O. Pašina, Osoboe mnenie, 2016)
The function of там in these sentences seems to be that of a marker of a hypothetical event. Repeated use of там is embedded in clauses with epistemic verbs such as представлять ‘imagine’, допустить ‘presume’ or предположить ‘suppose’ to code potential events, that is events that may happen in the future, or perhaps are happening at the moment of speaking, but of which the speaker is not sure about. The speaker is speculating about the possibility of an event,
13
i.e. s/he is expressing epistemic, or subjective, modality [17, p. 21]. Impersonal modal auxiliaries such as могло бы or можно было бы ‘possibly’, epistemic parenthetical phrases such as я не знаю ‘I don’t know’, evidential adverbials such as может быть ‘perhaps’ or other epistemic indicators can appear in these sentences. The use of the distancing deictic там in this type of contexts causes a conceptual shift of the whole situation from a real-world dimension to a hy-pothetical mental space.
6. Moving towards grammaticalization?The synchronic picture of the contemporary features of там given above
leaves an important question open: is the use of this deictic word moving to-wards more grammatical functions? Answering this question requires taking an historical perspective on the deictic meanings of this adverb. Only a dia-chronic analysis can show whether the spatial meaning of там was the basic value of this word in Old Russian, or whether it was just one of its values, which coexisted with the temporal and textual uses. If grammaticalization is the process by which grammar is created through the exploitation of ordinary words for grammatical expression [5, p. 366], two important issues concern the rate at which a new form spreads when it starts to become grammatical, and whether that particular grammaticalization process will indeed be completed to the full [12, p. 95]. A diachronic analysis of the use of deictic там could yield relevant insights into the linguistic development of this word.
Deixis is situated at the juncture between semantics and pragmatics, be-cause deictic expressions can only be interpreted within the actual speech situ-ation [3, p. 111]. It is precisely at this intersection that pragmatic constructs, i.e. generated at the level of speech, can change from lexical to grammatical elements, i.e. grammaticalize. Grammaticalization involves semantic bleach-ing, namely is an evolution through which linguistic units lose semantic com-plexity, functional significance, syntactic independence, and phonological sub-stance [10, p. 15]. The synchronic picture sketched above points to an obvious degree of semantic fading of the deictic meaning of там. The original lexical sense of this distal deictic is eroding and там is taking on a more textual-based interpretation. Its meaning depends on the syntactic context it occurs in, and different contexts may lead distinct interpretations of this item. The different values of там when it functions as either a spatial/temporal deictic, a marker of textual cohesion, a discourse word or a marker of epistemic modality are caused by the different constructions in which this element can occur. This means that a full adverb is semantically bleaching into a more category neutral lexical item that permits different interpretation based on the context. Exten-sion, i.e. the possibility of using grammaticalizing items in new contexts, and decategorialization, that is the loss of of the categorial properties prototypical of a certain lexical category, are among the central principles that operate in the early stages of grammaticalization [11, p. 405; 23]. Moreover, as it was mentioned above in examining the use of там as a discourse word, this deictic
14
also manifests a certain loss of phonetic independence, which is another of the euristic parameters of grammaticalization. Therefore, it can be claimed that там exhibits several properties of incipient grammaticalization.
Early stages of grammaticalization are characterized by great variability and ambivalence, and findings are often potentially controversial. Only future research can determine if the trajectory of semantic bleaching displayed by там will evolve into the full grammaticalization of this deictic into a marker of epistemic modality.
REFERENCES:1. Baranov A.N., Plungjan V.A., Rachilina E.V. Putevoditel’ po diskursiv-
nym slovam russkogo jazyka. Moskva: Pomovski i partnery, 1993.2. Borillo A. Quelques marqueurs de la deixis spatiale, in: M.-A. Morel, L.
Danon-Boileau (Eds.), La deixis, Paris: PUF, 1992. Pp. 245–255.3. Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics, Lon-
don: Routledge, 2006.4. Bybee J.J. et al. The Evolution of Grammar, Tens, Aspect and Modality
of the World. Chicago – London: University of Chicago Press, 1994.5. Croft W. Typology and universals (2nd ed.), Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2003.6. Diessel H. Demonstratives: Form, function, and grammaticalization,
Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 1999.7. Diessel H. Deixis and demonstratives, in: C. Maienborn, K. von Heu-
singer, P. Portner (Eds.), An International Handbook of Natural Language Meaning, vol. 3, Berlin/New York: De Gruyter, 2012. Pp. 2407–2431.
8. Efremova T.F. Novyj slovar’ russkogo jazyka tolkovo-slovoobra-zovatel’nyj, Moskva: Russkij Jazyk, 2000.
9. Grenoble L. Deixis and information packaging in Russian Discourse, Amsterdam: John Benjamins, 1998.
10. Heine B., Reh, M. Grammaticalization and reanalysis in African lan-guages. Tübingen: Buske Helmet Verlag Gmbh, 1984.
11. Heine B., Narrog, H. Grammaticalization and linguistic analysis, in: B. Heine and H. Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Linguistic analysis, Oxford: Oxford University Press, 2009. Pp. 402-424.
12. Hopper P. On some principles of grammaticalization, in: E. Traugott, B. Heine (Eds.), Approaches to grammaticalization, Amsterdam: John Benja-mins, 1991. Pp. pp. 17-36.
13. Jungbluth K. Pragmatik der Demonstrativpronomina in den iberoroma-nischen Sprachen, Tübingen: Niemeyer, 2005.
14. Kleiber G. La deixis d’ICI, in: C. Maass, A. Schrott (Eds.), Wenn Deik-tika nicht zeigen: zeigende und nichtzeigende Funktionen deiktischer Formen in den romanischen Sprachen, Berlin: LIT, 2010. Pp. 33–54.
15
15. Le Draoulec A., Borillo A. Quand ici, c’est maintenant, “Langue fran-çaise”, 179, 3, 2013. Pp. 69–87.
16. Lima C. R. Os dêiticos espaciais como instrumento de orientação da atenção, in: M. M. Martins Salomão, N. Salim Miranda (Eds.), Construções do Português do Brasil: da gramática ao discurso, Belo Horizonte: UFMG, 2009. Pp. 331–353.
17. Nuyts J. Epistemic modality, language and conceptualization: a cogni-tive-pragmatic perspective. Amsterdam: John Benjamins, 2001.
18. Ožegov S.I., Švedova N.Ju. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. 4-oe izdanie, dop., Moskva: Azbukovnik, 1997.
19. Potapova R.K., Potapov V.V. Rečevaja kommunikacija. Ot zvuka k vy-skazyvaniju, Moskva: Jazyki Slavjanskich Kul’tur, 2012.
20. Smith J. C., L’évolution sémantique et pragmatique des adverbes déic-tiques ici, là et là-bas, “Langue française”, 107, 1995. Pp.43–57.
21. Švedova N.Ju. Russkaja grammatika, Moskva: Nauka, 1980.22. Švedova N.Ju. Russkij semantičeskij slovar’. Moskva: Azbukovnik, 1998.
23. Sweetser, E. Grammaticalization and Semantic Bleaching, “Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society”, 1988. Pp. 389–405.
24. Tichonov A.N., Tichonova E.N., Kazak M.Ju. Novyj učebnyj slovar’ russkogo jazyka, Moskva: Astrel’, 2003.
25. Vanderbauwhede G. Le déterminant démonstratif en français et en néer-landais: théorie, description, acquisition, Bern/Berlin/Bruxelles: Lang, 2012.
26. West D. E. Deictic Imaginings: Semiosis at Work and at Play, Berlin: Springer, 2014.
27. Yang Y. A cognitive interpretation of discourse deixis, ”Theory and Practice in Language Studies” 1/2, 2011. Pp. 128–135.
28. Žic Fuchs M. ʻHereʼ and ʻthereʼ in Croatian: A case study of an urban standard variety, in:
M. Pütz, R. Dirven (Eds.), The Construal of Space in Language and Thought, Berlin/New York: Mouton De Gruyter, 1996. Pp. 49–62.
Бокале Паола
О ВОЗМОЖНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ НАРЕЧНОГО СЛОВА «ТАМ»
Пространственный дейксис, временной дейксис, текстуальный дейксис, эписте-мическая модальность, грамматикализация.
В русской разговорной речи наречное слово там употребляется не только в своем дейктическом значении (пространственном, временном или текстуальном). Ос-новной смысл там как наречия места для выделения далекого (в отличие от близ-
16
кого) элемента уходит в определенных контекстах на второй план, становится неосновным, или полностью исчезает, в то время как его функция дискурсивного или текстуального маркера выходит на первый план. Это наблюдение приводит к рассмотрению тех контекстов, в которых появляеться там, и тех функций, и дейктических и текстуальных, которые он выполняет. Будет также прини-маться во внимание возможная грамматикализация этого слова.
Борзенко Екатерина Олеговнааспирант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Москва, Россия[email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ КОМПАРАТИВА ОТ МЕСТОИМЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕСравнительная степень, местоимение, семантика, окказионализм.
Статья посвящена окказиональным формам сравнительной степени, образован-ным от местоимений, особенностям семантики данных компаративов и при-чинам их образования.
Степени сравнения – кладезь возможностей для передачи градаций признака. А поскольку градация может быть очень субъективной, то и возможности для творчества здесь неисчерпаемы [5, с. 361].
В конце XX – начале XXI веков в связи с демократизацией русского языка творческая составляющая речи становится необычайно важной. Это проявляется во все более увеличивающемся количестве нестандартных форм. Самые удачные из них имеют шанс со временем войти в литератур-ный язык. Окказиональные новообразования появляются в художествен-ной литературе, публицистике, устной речи, языке интернета. Подробно описаны формы от существительных типа центрее и звездее, которые, как нам кажется, довольно уверенно входят в «письменно-разговорную» речь интернета XXI века [1, 2, 3]. Здесь же рассмотрим другой вид таких ново-образований – компаративы, образованные от местоимений.
Данное явление не было всесторонне изучено лингвистами, мы наш-ли лишь несколько интересных наблюдений над особенностями употре-бления подобных форм.
В исследованиях перечисляются следующие формы сравнительной и превосходной степени, образованные от местоимений: самее, моее, мой-нее всех, своее, никакейших:
17
Огромный город. Затемнение. Брожу. Гляжу туда, сюда.Из всех моих ты всех ты всех мойнееИ навсегда! [Глазков Н. Хихимора] [8, с. 73]Анализ, проведенный А.А. Козаковой, позволяет выявить, что у Ма-
рины Цветаевой форма моее обозначает «не разную степень проявления признака у разных лиц, а очень сильное ощущение свойственности». Моее у поэтессы сопоставляется с ненормативной формой чуждее, и не только в поэтическом, но и в прозаическим тексте: Все предшество-вавшее лето 1902 г. я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы моее было, чтобы я сама написала [Цветаева М. Мой Пушкин] [4, с. 121; 6, с.206]. Человек, которого я больше и моее всех любила [М. Цветаева. Письма] [7, с. 237].
Поскольку существует гораздо большее количество компаративов по сравнению с упоминаемыми в литературе и перечисленными выше, было проведено их изучение на материале языка интернета. Лексической базой для формы сравнительной степени могут служить местоимения разных разрядов: личные (мы – мее, оно, они – онее), неопределенные (нечто – нечтее), отрицательные (никто – никтее), относительные (что – чтее), указательные (такой – такее), притяжательные (мой – моее, свой – своее), определительные (весь – всее).
В случае, когда лексической базой для образования компаратива яв-ляется местоимение они, имеет место ироническое обыгрывание они как ‹чужие, виноватые, неправые›:
– Ну да, мы здесь спокон веку были, а потом понаехали они, да как начали!
– «Они и еще онее». Название, только непонятно, чего. – Продолжение романа «Мы»?– Часть первая: «Мы и еще мее». Часть вторая: «Они и еще онее».Акцент делается на тех коннотациях, которые в сознании носителей
языка связаны с мы и они. Фактически, данные местоимения возможно соотнести с прилагательными родной, близкий, с одной стороны, и чу-жой – с другой. В форме компаратива интенсивность названных качеств усиливается, особенно если обе формы даны в одном предложении.
Если компаратив образуется от указательного местоимения это (А Веллинг – это это, а Кларк – это еще этее!), это обозначает ‹нечто потрясающее, шедевр›, а форма компаратива, соответственно, – ‹шедевр в большей степени, чем названный ранее фильм›.
Оно, образующее компаратив, может иметь два значения: ‹нечто не-определенное› (Поэтому что от их смешения [их – жанров кино] «оно» становится ещё «онее») и ‹то, что нужно; наиболее подходящее› (Как
18
увидела борщ в меню, так сразу поняла: это оно! а когда к борщу еще водки принесли, так стало сразу еще онее).
Упоминавшееся выше местоимение свой является синонимом прила-гательных близкий, родной, и в соответствии с этим компаратив выражает увеличение интенсивности данного признака: Я, конечно, и так воспри-нимала GNOMik как свою (надеюсь, что и она тоже); но вот эта ее экс-курсия по парку позволила мне стать еще «своее», поближе... В других случаях свой – ‘отличный от чужого, оригинальный›, своее – ‹еще более оригинальный›: У нас, хронических блондинок, логика своя, маршруты передвижения по городу – ещё своее. Форма своее используется даже в переводном названии произведения Миранды Джулай «Нет никого своее» («No one belongs here more than you»). В последнем случае акцент делается на большую степень принадлежности к определённому месту.
Подобные компаративы иногда очень легко заменить синонимичным прилагательным или фразой: В худшем, в частом случае, связь внешняя, местная, порядковая, чтобы все сказать – житейская, чтобы еще всее сказать – кладбищенская, по случайности соседства номеров и могил. [М. Цветаева. Твоя смерть]. Фразу чтобы еще всее сказать можно заме-нить на фразу чтобы выразить свою мысль еще полнее, чётче без ущерба для смысла, хотя и с потерей экспрессивности.
В предложении с указательным местоимением (...) что ты – не один в этом Мире, что вокруг тебя живут такие же (а может быть, и «ещё такее»), признак идентичности, или, скорее, похожести интенсифициру-ется.
Неопределенное местоимение нечто образует сравнительную форму, если оно обозначает ‹удивительное, чудесное› и в таком случае, соот-ветственно, является синонимом прилагательного: Цирк у нас большой и часто приезжает московский цирк и европейский. А это НЕЧТО! при-езжай в наш Шапито, это еще нечтее.
Относительное местоимение какой в предложении Ах вот ты какая, так я еще какее!! заменяет собой прилагательные, относящиеся к соби-рательному образу строптивой женщины. Во второй части предложения утверждается, что те же признаки (в данном случае злая, дикая и т.п.) присутствуют у мужчины еще в большей степени. Следовательно, место-имение, указывающее на прилагательные, принимает их форму, приоб-ретая суффикс -ее.
Таким образом, лексической базой компаратива может быть местои-мение в том случае, когда оно фактически является синонимом прилага-тельного или несет в себе какую-либо дополнительную семантику (как происходит в случае с мы – они). При образовании сравнительной сте-пени интенсивность качеств, относящихся к местоимению, усиливается. Данные окказионализмы фактически незаменимы с точки зрения экс-прессивности и необычности текста, что и обусловливает их появление.
19
ЛИТЕРАТУРА:1. Борзенко Е.О. Образование сравнительных форм от существитель-
ных в русском языке XXI века (центрее, жизнее и др.) // Проблемы язы-ка: Сборник научных статей по материалам Первой конференции-школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых». М.: Институт языкознания РАН, 2012.С. 11-18.
2. Борзенко Е.О. Семантическая специфика отсубстантивных компа-ративов («звездее», «центрее») // Русский язык: исторические судьбы и современность: Сборник научных статей по материалам V Международ-ного конгресса исследователей русского языка М.: Изд-во Моск.ун-та, 2014. С. 225-226.
3. Борзенко Е.О. Семантические и прагматические различия между однокоренными отсубстантивными и отадъективными компаративами в современной русской речи // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. Вы-пуск 3 (43). М.: ПСТГУ, 2015. С. 32-47.
4. Вольская Н.Н. Поэтика автобиографических очерков М. И. Цветае-вой: дис. ... кандидата филологических наук. Москва, 1999.
5. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. М., 1961.6. Козакова А.А. Особенности употребления грамматических катего-
рий числа и степени сравнения в идиостиле Марины Цветаевой: дис. ... кандидата филологических наук. Ростов-на-Дону, 2000.
7. Кононова М.М. Итальянские отзвуки в творческой судьбе Марины Цветаевой. Санкт-Петербург: Алетейя, 2010.
8. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Яз. рус. культуры, 1999.
Borzenko Ekaterina Olegovna
THE FORMATION OF THE FORMS OF THE COMPARATIVE FROM PRONOUNS IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE
Comparative, pronoun, semantics, occasionalism.
The article is devoted to the study of comparatives formed from pronouns, their semantics and the reasons for their formation.
20
Васильева Анна Александровнапреподаватель Московского государственного института международных
отношений Министерства иностранных дел Российской ФедерацииМосква, Россия
РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙВ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Гендер, пол, речевые стратегии, гендерные стереотипы, гендерная лингвистика.
В данной статье дифференцируются понятия пол и гендер, даются определения основным понятиям, употребляющимся в исследованиях с данной проблематикой, а также изложены основные направления научных исследований в области гендера.
Категория гендер (англ. gender) была введена в понятийный аппарат гуманитарной наукой в конце 60-х-начале 70-х гг. XX века, сначала полу-чала обоснование, затем использовалась в социологии, психологии, исто-рии, а затем и в лингвистике.
Термин гендер использовался «при выделении всего, что формирует черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для тех, кого обще-ство определяет как женщин и мужчин» [6, с. 16]. В этот период речь шла преимущественно о женских исследованиях (women’s studies), т.е. термин гендер использовался для описания социальных, культурных, психологи-ческих аспектов «женского» в сравнении с «мужским». Принято считать, что в России гендерные исследования начали развиваться несколько поз-же, в конце 80-х-начале 90-х гг. XX века. Тогда появилось более урав-новешенное понимание гендера как проблемы не только экспликации женской истории, женской психологии, но и как проблемы всестороннего исследования женственности и мужественности, фемининности и маску-линности. Пришло осознание того, что маскулинность имеет разные про-явления в любом обществе.
Гендерный фактор особенно пристально изучается в последние де-сятилетия отечественными учеными: А.В. Кирилиной, Е.И. Горошко, В.В. Потаповым, А.А. Романовым, Т.Д. Витлинской, И.А. Стерниным и многими другими. Так, А.В. Кирилина определяет множественное поня-тие гендер, «возникшее вместо бинарного понятия пол, как некий мысли-тельный конструкт, который имеет культурную обусловленность, а не как некую биологическую субстанцию» [3, с. 155].
В то же время в 90-х гг. прошлого века на Западе активно развиваются теоретические и практические гендерные изыскания, в первую очередь изучающие превалирование мужского менталитета.
21
Предметом гендерой лингвистики является язык и отражение в нем проявлений биологического (физиологического) и социального понима-ния пола, половых различий, полового поведения, речевое и в целом ком-муникативное поведение мужчин и женщин.
Объектом избираются гендерные, культурные стереотипы, гендерные роли и гендерные отношения, взаимосвязь половой идентичности и со-циального поведения; исторические закономерности полового развития, полового разделения труда и половой стратификации, исходя из разделе-ния общества на два пола – женский и мужской.
Итак, что же такое гендер и в чем состоит его отличие от пола?Гендерный концепт позволяет исследовать более широкий круг вопро-
сов. Если аспект «пол» значим для анализа семантики ряда лексических единиц, где пол является компонентом значения, то гендерные исследо-вания в языкознании охватывают более широкий круг вопросов, рассма-тривая конструирование мужской или женской идентичности как один из параметров говорящей личности. В этом случае гендер осмысливается как конвенциональная сущность, в чем и состоит его главное отличие от пола как биологической категории. Гендерный подход предполагает так-же исследование отражения гендерных отношений в истории языка, из-учение пола как культурной репрезентации в лингвокультурологии. Ген-дер отражает и процесс, и результат встраивания индивида в социально и культурно обусловленную модель женственности или мужественности, принятую в данном обществе [2; 3].
Таким образом, можно сказать, что гендер ‒ это своего рода социаль-ный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение проявляется и воспринимается: это такое поло-ролевое по-ведение, которое определяет отношения с другими людьми ‒ друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т. д.
Изучение гендерного аспекта речевого поведения коммуникантов имеет большое значение в лингвистике потому, что его учет позволяет лингвистам глубже проникнуть в «женскую или мужскую» картину мира, мировѝдение и таким образом точнее понять реально существующие мо-дели ориентирующего поведения мужчин и женщин, а также специфику мужской и женской речевых стратегий и тактик» [5, с. 118–123].
Речевое поведение определяется целым комплексом факторов, свя-занных со спецификой общения, с личностными характеристиками го-ворящих, в том числе: возраст, социальное положение, психологические особенности, пол.
В основе речевого поведения лежат речевые стратегии. Очевидно, что использование речевых стратегий помогает максимально эффективно добиться поставленной цели. Например, В.С. Третьякова [8, с. 143–152] предлагает такую их типологию, в основе которой лежит тип диалоги-ческого взаимодействия по результату, исходу коммуникативного собы-
22
тия – конфликт или гармония. Если собеседники осуществили свои ком-муникативные намерения и сохранили «баланс отношений», тогда можно говорить о том, что общение строилось на основе стратегий кооперации. Напротив, если коммуникативная цель не достигается, то коммуника-тивное событие регулируется стратегиями конфронтации. К стратегиям кооперации относятся стратегии доверия, близости, вежливости, сотруд-ничества и др., т.е. они способствуют наиболее полноценному поведению участников коммуникации и эффективной организации речевого взаи-модействия. К конфронтационным стратегиям относятся агрессия, дис-кредитация, подчинение, принуждение, что создает речевые конфликты. Стратегический замысел участника конфликтного взаимодействия опре-деляет выбор приемов его реализации – речевых тактик. Для реализа-ции кооперативных стратегий используются тактики согласия, уступки, одобрения, похвалы и др. Стратегии конфронтации связаны с угрозами, упреками, обвинениями, оскорблениями.
Помимо понятия гендер, важно определить другие ключевые поня-тия, использующиеся в данном направлении лингвистики. Существуют исследования, посвященные речевым актам. Теория речевых актов − это учение о строении элементарной единицы речевого общения, или ре-чевого акта, узко понимаемого как актуализация предложения. Проф. Е.А. Красина характеризует речевой акт следующим образом: «Речевой акт предполагает наличие говорящего и слушающего, которые облада-ют некоторым общим фондом знаний, или фондом идей, по Э.-Б. Кон-дильяку, представлений о мире, а также общими языковыми навыками, или языковой компетенцией. Речевой акт совершается в определенной, социально обусловленной речевой ситуации, которая включает ряд пара-метров, предполагает множественность контекстов» [4, с. 47].
Можно сказать о том, что теория речевых актов направлена на изуче-ние речевого общения, когда во главу угла ставится использование язы-ковых средств в вербальной коммуникации с определенной целью для выражения особых интенций говорящего, в которых также проявляется гендерная характеристика участников общения.
Гендерные параметры не могут не учитываться и в невербальной ком-муникации. Шон Меган Берн, профессор психологии Калифорнийского политехнического университета, говорит об основных гендерных стерео-типах, определяющих направленность, цели и задачи воспитания.
Первая группа – стереотипы «мужественности» и «женственности». Это представления о том, какими поведенческими свойствами обладают мужчины и женщины. Мужчина олицетворяет творческое, активное на-чало, женщина – репродуктивное, более пассивное. Обозначим их типич-но-отрицательные качества: для мужчин – грубость, авторитаризм, для женщин – болтливость, слезливость.
23
Вторая группа гендерных стереотипов закрепляет профессиональные и семейные роли в соответствии с полом. Для женщин главными соци-ально-половыми ролями являются семейные роли, для мужчин – профес-сиональные. Успешность мужчины оценивается по его профессиональ-ным успехам.
Третья группа связана с различиями в содержании труда. Удел жен-щин – исполнительский и обслуживающий характер труда, а область де-ятельности мужчин – творческий, руководящий труд. Исследования по-казывают, что мужественность и женственность не противопоставляются друг другу, а человек с характеристиками, четко соответствующими его полу, оказывается плохо приспособленным к жизни. Например, высоко-феминные мужчины и низкомаскулинные женщины отличаются пассив-ностью, тревожностью, депрессией. А мужчины и высокомаскулинные женщины характеризуются трудностями в установлении и поддержании контактов.
Также Шон Берн выявила основные нормы мужской роли. Словарь гендерных терминов определяет понятие гендерная роль как один из ви-дов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин» [7, с. 70].
Итак, по мнению Ш. Берн, мужские гендерные роли связаны с тре-мя факторами. Первый фактор связан «… с ожиданиями, что мужчины завоевывают статус и уважение других (норма статуса). Второй фактор – норма твердости – отражает ожидания от мужчин умственной, эмоци-ональной и физической твердости. Третий фактор – это ожидание того, что должен избегать стереотипно женских занятий и видов деятельности (норма антиженственности)» [1, с. 167].
Итак, гендерные исследования продолжают развиваться и в области психологии, и в других направлениях, связанных с человеком и его де-ятельностью. Можно утверждать, что в настоящее время гендерные ис-следования сформировались как новое направление лингвистики, уже признаны основные термины. Гендерные исследования позволяют по-новому взглянуть на многие языковые явления и процессы, дать им более разностороннюю и глубокую оценку, точнее выявить их природу и сущ-ность.
ЛИТЕРАТУРА:1. Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского по-
ведения. ‒ СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. – 320 с.2. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Особенности
мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании: ком-муникативно-прагматический аспект. – М., 1993. ‒ С. 90–135.
3. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. ‒ М.: Ин-т социо-логии РАН, 1999. ‒ 189 с.
24
4. Красина Е.А. Семантика и прагматика русских перформативных высказываний: дисс. … докт. филол. наук: 10.02.01. ‒ М., 1999. – 310 с.
5. Леонтьев В.В. Женские комплименты в английской лингвокульту-ре // Вестник ВолГУ. Сер. 2: Языкознание. Вып. 1. ‒ Волгоград, 2001. – С. 118–123.
6. Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы в системе истории наук // Женщина. Гендер. Куль-тура. ‒ М., 1999. – С. 15–34.
7. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. ‒ М.: Информация-XXI век, 2002. ‒ 300 с.
8. Третьякова В.С. Конфликт как феномен языка и речи // Известия УрГУ. ‒ 2003. ‒ № 27. ‒ С. 143‒152.
Vasilyeva Anna AleksandrovnaMAIN NOTIONS AND TERMINOLOGY
OF GENDER LINGUISTICS
Gender, sex, verbal strategies, gender stereotypes, gender linguistics.
Gender linguistics is a new branch of linguistics being in the process of development. The article differentiates its principle concepts of sex and gender, provides definitions of basic concepts used in the research works on the subject as well as basic trends of gender scientific research.
Изместьева Ирина Алексеевнад. филол. наук, профессор Тольяттинского государственного университета
Тольятти, Россия[email protected]
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ИСТОРИИ ГЛАСНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Историческая фонетика русского языка, фонетические изменения, межслоговой син-гармонизм, гортанный смычный согласный, русская литературная и диалектная речь, субституция фонем, стили произношения.
Статья посвящена рассмотрению вопроса о развитии лингвистических воззрений на механизм преобразования ‹е>о›, ‹е>ѣ›, ‹ь›, ‹ъ›, ‹ɂ›. В статье поднимается вопрос о результатах функционирования гортанного смычного согласного в русском языке.
История причинно-следственных отношений в системе русского вокализ-
ма, особенно судьба ударных гласных переднего ряда, привлекала внимание
25
не одно поколение учёных. Известны рассуждения Р.И. Аванесова о «трило-гии» гласных ‹i› и ‹у›, ‹е› и ‹о›, редуцированных ‹ь› и ‹ъ› [1], взгляды М.Б. По-пова о современном функционировании фонемы ‹ы› [6], идеи И.Г. Добродо-мова о судьбе ѣ и причинах перехода ‹и› в ‹ы› [2], Л.Л. Касаткина [4], В.В. Ко-лесова [5] о механизме межслогового сингармонизма в русских говорах, а также других учёных относительно истории развития русского вокализма и консонантизма.
В конце ХХ века традиционно решаемые вопросы истории переднеряд-ного вокализма оказались пересмотрены. Так, проблема перехода ‹е>о› и во-прос о совпадении ‹ě› со старой фонемой ‹е› получил новое рассмотрение. Была доказана утрата старой фонемы ‹е› и трансформация ‹ě› в новую фо-нему ‹е›, в которой отражены рефлексы трёх древнерусских фонем: фонема ‹ě›ѣ в состав современной фонемы ‹е/ě› вошла полностью; древнерусская фонема ‹е› вошла только частично, ограничиваясь теми позициями, где не было перехода ‹е>о›; частично вошла фонема ‹ь›, аллофоны которой в па-латальном окружении не испытали ни перехода в [о], ни исчезновения [ь] из произношения [2]. Новый взгляд на судьбы фонем ‹е› и ‹ě› сделан с опорой на следующие положения. В древнерусской акцентно-ритмической структу-ре слова имеют место такие средства фонетической организации слова, как межслоговой сингармонизм (гармония гласных по ряду) и словесное ударе-ние. При переходе от вокалической к консонантной системе в русском языке действует механизм взаимосвязи между соседними слогами. Пересмотр тра-диционной точки зрения на причину, характер и хронологию перехода ‹е>о› показал, что это изменение объяснимо межслоговой ассимиляцией гласных, а не влиянием лабиовеляризованного согласного, оказавшегося после паде-ния редуцированных в одном слоге с ‹е›. Судьбу старой фонемы ‹е› можно решить, принимая во внимание все позиции реализации ‹е›: под ударением перед твёрдым и мягким слогами. Одновременные позиционные изменение ‹е› указывает (с падением редуцированных) на дивергенцию ‹е› с конвер-генцией дивергировавших аллофонов с рефлексами фонем ‹о› и ‹ě›. Упо-требление в любых позициях только ‹о› и ‹ě› подтверждает окончательную дивергенцию ‹е›. На основании этого делается вывод о полной утрате старой фонемы ‹е›, а не ‹ě›ѣ.
Системный подход при изучении изменений ударных гласных передне-го ряда позволил представить цепную реакцию дивергентно-конвергентных процессов, суть которой состоит в том, что преобразования со стороны фоне-мы ‹е› вызвали и преобразование ‹ě›ѣ. Под ударением ‹ě› представлен закры-тым аллофоном [ê] и открытым аллофоном [е]. Перед мягким слогом с фоне-мой ‹ě› сливается старая фонема ‹е›, но в положении перед твёрдым слогом ‹ě› и старая фонема ‹е› никогда позиционно не совпадали ни до, ни во время конвергенции ‹е>о›. Причем, открытый аллофон [е], появившийся позже из ‹ě›, не изменяется в [о]. Учёт этого фактора и проливает свет на происхожде-ние современной фонемы ‹е›. Место дивергировавшей фонемы ‹е› занима-
26
ет открытая вариация фонемы ‹ě›, которая укрепляет свои позиции за счёт случаев, в которых согласные отвердели сравнительно недавно [е>ê>е], слов книжного происхождения, с укоренившейся нормой чтения высокого стиля «как написано», случаев морфологического происхождения и заимствован-ной лексики. Несмотря на переход открытой разновидности [е (из ѣ)] в зону среднего подъёма, этот звукотип практически не подвергается аналогическо-му воздействию со стороны форм, переживших изменение ‹е>о›. Появление нескольких случаев с ‹ě>о› говорит лишь о силе морфологического этапа в изменении ‹е>о›, в поле действия которого попали и словоформы с ‹ě›.
Известная условность и схематизм диахронического описания звуковой стороны языка позволяют сопоставить факты, содержащиеся в памятниках письменности, с результатами преобразований ‹е› и ‹ě› в некоторых совре-менных севернорусских говорах. В говорах с семифонемным вокализмом (с противопоставлением верхнего, верхнесреднего, среднего и нижнего подъ-ёмов) и ограниченной корреляцией согласных по дифференциальному при-знаку палатализованность-непалатализованность переход ‹е>о› представ-ляет собой чисто синтагматическое изменение старой фонемы ‹е› в слабой позиции, дивергентное развитие ‹е› не приводит к конвергенции с другими фонемами. В говорах, знающих противопоставление согласных по твёрдос-ти-мягкости, отмечается завершение дивергентно-конвергентных изменений ‹е› и ‹ě›.
Системный подход к изучению эволюции начальных ‹е› и ‹о›, по сравнению с тем, как история начальных ‹е› и ‹о› описана в историче-ских грамматиках русского языка, позволил с опорой на гипотезу о роли гортанного смычного согласного [ɂ] в истории русского вокализма пред-ложить новое понимание механизма перехода [е>о] в начале слова. Ос-новным фактором преобразования [е>о] явилось воздействие гортанного смычного согласного на начальный гласный слова. Доказательством по-служило следующее. В русском языке функционирует факультативный глухой гортанный смычный согласный, который встречается на стыках слов (внутри и на стыках синтагм), в положении перед гласным после гласного и после согласного звуков. Гортанный смычный согласный про-являет себя уже в эпоху действия закона открытого слога. При утрате ко-нечных согласных (напр.: род падеж *vъlka при санскр. vrka/d, *synъ при лит. sunus, *mati при лат. mater и т. п.) остаётся гортанная смычка, кото-рая сопровождает артикуляцию начального гласного следующего слова. Таким способом начальный гласный, находящийся в звуковой цепи сло-ва, отделяется от последнего гласного предыдущего слова во избежание межсловных sandhi. Неприкрытый гласный становится прикрытым. Гор-танный приступ выступал как слого- и словоразделитель (пограничный сигнал) на стыке любого слова со следующим словом с вокалическим или сонантным началом. Гортанная смычка исчезала перед шумным кон-сонантным началом.
27
В интервокальном положении на месте гортанной смычки развиваются близкие по артикуляции и звучанию гласным согласные звуки. Древнерус-ский язык с помощью протетических звуков стремился устранить соче-тания «гласный+гласный». Малоконтрастные с окружающими гласными согласные элементы могли легко утрачиваться. Так, при jedinъ в общесла-вянском языке существовало русское hedinъ, hedьnъ, которое могло дать только edinъ, edьnъ, ибо при отсутствии начального [j] гортанный смычный согласный вызывал изменение [е>о] оdinъ. Звук, образованный смычно-гортанной артикуляцией, отличался заметно пониженным тембром, благо-даря которому при слитном произношении смежных звуков осуществля-лось передвижение ‹е› в непереднюю зону образования олень, один, анало-гично в заимствованиях из греческого Остапъ, Овдотья, Иордан.
По-новому описаны некоторые последствия падения редуцированных гласных. С одной стороны, была показана связь между результатами ди-вергентно-конвергентных изменений ‹ь› и ‹ъ›, ‹е› и ‹ě›, ‹е› и ‹о›, с другой стороны, отмечена важная роль гортанного смычного согласного в ряде явлений, вызванных утратой редуцированных. Рассмотрение перехода ‹е>о› с точки зрения межслогового уподобления отодвинуло вглубь хро-нологические рамки этого изменения. Редуцированные гласные оказа-лись втянутыми в процесс преобразований и при разных условиях (перед твёрдыми и мягкими слогами) изменились в ‹о› и в ‹ê› или утратились.
Утрата слабых редуцированных в некоторых позициях сопровождается проявлением гортанного смычного согласного. Такими позициями актив-ного функционирования гортанного смычного оказались конец и начало слова. Изменения, наблюдаемые в результате падения редуцированных в конце слова, представляют собой проявление усиления напряжённости артикуляции. Оглушение звонких согласных после утраты еров связано с тем, что при размыкании голосовых связок сохраняется глухой согласный приступ. Гортанный смычный согласный, примкнув к концу первого сло-ва, не только обеспечил границу между словами, но в тех диалектах древ-нерусского языка, которые легли в основу великорусского и белорусского языков, вызвал оглушение конечного звонкого шумного согласного в абсо-лютном конце слова перед паузой садъ[ɂ] → сад[ɂ]→ сат[ɂ] → сат. Такое оглушение происходит и перед гласным при отсутствии паузы сaдъ[ɂ] и [ɂ]огoрoдъ[ɂ] → сaд[ɂ] и [ɂ]огoрoд[ɂ]→ сa[т ы ɂ о]гoрoт. При ассимиляции гортанного смычного согласного с последующим гласным происходит пе-редвижение [и, э, а, о, у] назад и вниз, а консонантный исход предшествую-щего слова остаётся стабильным. Качество предшествующего согласного сохраняется потому, что оглушение звонкого согласного не может произой-ти при полной утрате гортанного смычного согласного.
При падении конечного редуцированного нередко появлялась трудно произносимая группа из трёх и даже четырёх согласных, в состав которой входил и гортанный смычный. Происходил процесс упрощения: моглъ[ɂ]
28
→ могл[ɂ] → мог, мостъ[ɂ] → мост[ɂ] → мос, просторечное [карап, ка-рап’] карабль, [жыс’] жизнь (или оглушение [жыс’т’]). Стечение соглас-ных, возникшее под влиянием гортанного смычного согласного, могло быть преодолено путем появление гласного внутри ауслаутного сочета-ния согласных вѣтр[ɂ] → вѣтер. Гласный развивался и после согласного на месте утраченного редуцированного в глагольных формах прошедше-го времени мужского рода: приступле, оставле, преломле, в формах диа-лектного характера рубле двадцать, Петро, Александро, дерно. Гласная вставка между согласными помогала избежать утраты согласного.
С процессами конца слова связаны процессы начала слова. Наличие согласного приступа перед вокальным началом привело к широкому упо-треблению в памятниках письменности предложного ера перед последу-ющим гласным: безъ истьления, изъ едема, изъ егюпта. Таким способом сложившаяся древнерусская орфография передавала особенности слого-деления, а конечный редуцированный предохранял консонантный эле-мент типа смычного согласного перед начальным гласным слова от про-цессов аккомодации. Ассимиляция гласных в предложно-приставочных формах: во осень, изуутрь, възаалка, кы истьчю и под. связана с тем, что глухой гортанный смычный согласный артикуляционно легче проявляет себя между гласными. В интервокальном положении гортанная смычка имеет особенность теряться, а гласные, оказавшиеся рядом, испытыва-ют ассимиляцию и стяжение. Между гласными гортанная смычка могла заменяться близким по образованию согласным, возникала фонетически закономерная мена звуков: купи въ Оврама – купи y Григория. На месте согласного приступа отмечается и удвоение предлога, в котором также отразилось физиологическое стремление сохранить устойчивое слогоде-ление: във yстье, във yмъ, вв yтробѣ, вв ордy, във адъ [3].
Таким образом, обобщение новых взглядов ученых на явления рус-ского вокализма, системный подход к истории гласных русского языка позволяет представить причинно-следственные процессы в области глас-ных и согласных звуков, показать с иных позиций судьбы гласных фонем и результаты функционирования гортанного смычного согласного в исто-рии русского языка.
ЛИТЕРАТУРА^1. Аванесов Р.И. О встречах с Львом Владимировичем Щербой // Теория
языка. Методы его исследования и преподавания. − Л.: Наука, 1981. – С. 3–27.2. Добродомов И.Г. Еще раз об исторической памяти в языке // Вопросы
языкознания. − М., 2002, № 2. – С. 103-108; Добродомов И.Г. Парадоксаль-ная фонема / ɂ/ в русском языке // Вопросы филологии. − М., 2003. – № 1 (13). – С. 15–24.
3. Изместьева И.А. Актуальные вопросы русской исторической фоне-тики: электронное учебное пособие. – Тольятти, 2015.
29
4. Касаткин Л.Л. Современная русская диалектная и литературная фоне-тика как источник для истории русского языка. − М.: Наука; Школа «Языки русской культуры», 1999; Касаткина Р.Ф. Межслоговая ассимиляция гласных в русских говорах // Просодический строй русской речи. Институт русского языка РАН. − М., 1996. – С. 207–221.
5. Колесов В.В. История русского языка: учебное пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – СПб.: Изд-й центр «Академия», 2005.
6. Попов М.Б. Некоторые соображения относительно фонематической самостоятельности [ы] в русском языке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История, языкознание, литературоведение. − СПб., 1999. – Вып. 3 (№ 16). – С. 40–51.
Izmestjeva Irina Alekseevna
DISPUTABLE ISSUES OF RUSSIAN VOWELS IN HISTORY
Historical phonetics of the Russian language, phonetic changes, intersyllabic synharmonism, guttural occlusive constant, Russian literary and dialectal speech, phonemes substitution, style of pronunciation.
The article is devoted to the consideration of the problem about the development of the linguistic outlooks at the transformation mechanism ‹е>о›, ‹е>ѣ›, ‹ь›, ‹ъ›, ‹ɂ›. In the article the author raises the question about the results of the guttural occlusive consonant functioning in the Russian language.
Каверина Валерия Витальевнад. филол. наук, доцент Московского государственного университета
им. М.В. ЛомоносоваМосква, Россия
СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ОМОФОНОВ: ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ
Современная орфография, кодификация правописания, правописание омофонов.
В статье проанализированы проблемы кодификации правописания омофонов в современном русском языке. На материале справочной и учебной литературы рассмотрены формулировки правила, выявлены их недостатки, намечены пути их усовершенствования.
Слитное и раздельное написание омофонов – слов и сочетаний слов – является одной из проблемных зон современной русской орфографии. Вме-
30
сте с тем в полном академическом справочнике «Правила русской орфогра-фии и пунктуации» 2006 г. этой орфограмме посвящено всего два пункта:
«§ 140. Пишутся слитно следующие служебные слова и междометия.2. Союзы и частицы, образовавшиеся из сочетаний предлогов и со-
юзов с местоименными словами, напр.: впрочем, зато, итак, итого, по-куда, поскольку, постольку, притом, причём.
Примечание. Следует отличать их от сочетаний предлогов и союзов с самостоятельно употребляемыми местоименными словами. Ср.: Некра-сив, зато умен и Отвечает за то, что натворил; Он отверг эту версию, причём очень убедительно и При чём здесь его друзья?; Итак, пора на-чинать и И так он жил целый год.
3. Следующие союзы и частицы: дабы, кабы, также, тоже, чтобы (чтоб).
Примечание. Следует отличать союз чтобы от сочетания слова что с частицей бы, союз также от сочетания слова так с частицей же, союз и частицу тоже от сочетания слова то с частицей же. Ср.: Он встал, что-бы уйти и Что бы ему ответить на это?; Она промолчала, он также не ответил и Он ответил так же, как она; Она промолчала, он тоже не ответил и Он сказал то же, что она» [5, с. 148-149].
Полный список таких омофонов в справочнике отсутствует, приведен-ный в п. 2 перечень следует после сокращения «напр.», то есть является списком примеров.
Кроме того, часть омофонов не включает служебные слова, о чем здесь даже не упомянуто. Не подпадают под данное правило такие пары, как за тем – затем, за чем – зачем, от того – оттого, от чего – отчего, по сему – посему, по том – потом, по чём – по чём, по чему – почему, по этому – поэтому. Правда в параграфе 136 говорится о слитном написа-нии соответствующих местоименных слов, и примечание к п. 3 отсылает читателя к параграфу 140, упомянутому выше. К сожалению, подобного примечания нет к параграфу 140.
Вместе с тем проблема дифференциации таких написаний является общей для местоименных и служебных слов, и хотелось бы, чтобы прави-ло разграничения омофонов было сформулировано в общем и помогало бы во всех случаях, независимо от частеречной принадлежности слова или сочетания слов. Как и во многих других случаях, орфография здесь напрямую связана с контекстом, и пишущий должен быть более внимате-лен к тому, какой смысл он хочет передать.
Внимание к передаваемому смыслу и соблюдение норм литературно-го языка позволило бы избежать многих орфографических ошибок. В ка-честве иллюстрации данного положения приведем в пример оппозицию так же – также.
Слово также является одним из самых употребительных средств связи предложений в тексте в современном русском языке. Не только в
31
устных, но и в письменных жанрах современного русского дискурса это слово активно употребляется в начале предложения. Выполняя анафори-ческую функцию, также оказывается «квазисинонимично частицам еще и кроме того» [1, с. 20]. При этом заметно участились случаи раздельно-го написания данного слова, несмотря на то, что о разграничении омофо-нов также и так же знали еще полтора столетия назад.
В Академической грамматике 1849 г. сформулировано правило право-писания же: «Эта частица слитно пишется в союзе соединительном так-же; когда так встречается в значении союза сравнительного, которому и соответствуетъ какъ, же отделяется, н.п. онъ такъ же хорошо пишетъ, как читаетъ» [2, с. 263]. С тех пор данное правило не менялось, незначи-тельно отличались лишь формулировки. Так, в «Большом толковом сло-варе» под редакцией С.А. Кузнецова находим следующее определение слова также: «ТАКЖЕ, союз. Присоединяет однородные члены пред-ложения или предложения в составе сложного. Он был хорошим другом, учился т. хорошо. Брат бросил курить, вам т. следует сделать это. Он согласен, мы т. не возражаем. Ты устал, я т.
Также как, в зн. союза. Он владеет французским, также как и не-мецким.
Союзу также соответствует омонимичное ему сочетание местоиме-ния так с частицей же, обозначающего тождество обстоятельства образа действия (Я писал об этом так же, как и в прошлый раз)» [4, с. 1303].
В современной учебной и справочной литературе данную омонимич-ную пару советуют различать следующим образом: «Союз также пи-шется слитно. Его следует отличать от сочетания так же. В этом сочета-нии частица же может быть опущена или переставлена на другое место: Брат учится так же хорошо, как и сестра (Брат учится так хорошо, как и сестра). Союз также можно заменить союзом и: Сестра также учится в музыкальной школе. (И сестра учится в музыкальной школе)» [6, с. 40].
Но отличить слово также от сочетания так же, полагаясь на то, что в случае раздельного написания частицу можно переставить или опустить, удается не всегда. Например, при отсутствии же предложение Брат хоро-шо учится, сестра учится так же потеряет смысл и целостность: *Брат хорошо учится, сестра учится так. Рекомендации некоторых учебных пособий определять сочетание местоимения так с частицей же постанов-кой к нему вопроса как? тоже не всегда помогают: вопрос как? ошибоч-но ставят и к союзу также. Об этом свидетельствуют данные опроса, в результате которого в предложении Он хорошо работает, отдыхать он также умеет неплохо было сделано 80% ошибок.
Примерно такие же результаты получены в результате анализа орфо-графии сайтов интернета, где в 80 % случаев союз также пишется раз-дельно. Например: «А так же мы любим путешествовать и рассказываем
32
вам об интересных странах в которых можно побывать каждому желаю-щему, правильно развивающему свой бизнес» (http://mlm-lider.ru/). Дру-гой пример: «Здесь вы сможете послушать песни, посмотреть видео- и фотоматериалы связанные с творчеством группы, а так же оставить свои отзывы о творчестве коллектива» (http://www.oddiss.ru/). Встречаются и дефисные написания данного союза: «Смотрите так-же: Прайс лист – укладка напольных покрытий» (http://www.express-pol.ru/prais.htm).
Интересно, что в интернете активно обсуждается правильное написа-ние омофонов и среди рекомендаций по правописанию данных слов чаще встречаются формулировки типа: «Все зависит от контекста. Он был так же красив, как и его девушка. Он также занимается плаванием... Источ-ник: Никогда правил не учил, все время на интуиции, как объяснить – не знаю» (http://otvet.mail.ru/question/38118330/) или «Тут думать надо коро-че каждый раз, всё от случая зависит от конкретного» (http://otvet.mail.ru/question/38118330/).
В последнее десятилетие также всё чаще используется в начале предложения в функции средства связи предложений в тексте, что, как известно, противоречит нормам литературного языка. Некоторые авторы даже теоретизируют по этому поводу. Так, Н.А. Дьячкова в статье «Так-же никогда не начинай предложение с также» формулирует следующее правило: «Начинать предложение с союза «также» можно. И, хотя такой порядок слов не всегда бывает удачным со стилистической точки зрения, все же это не ошибка. С наречия «также» начинать предложение нельзя, потому что при таком порядке слов нарушаются логические связи между соседними предложениями» [3].
Думается, что начинать предложение с также ни в одном из значений не стоит. Малый академический словарь, кстати, вообще не знает союза также, только наречие и союзы а также, и также, но также:
«ТАКЖЕ, нареч.1. Равным образом, в равной мере; тоже. – С благополучным перехо-
дом, Владимир Михайлович! – весело поздравил меня Федоров. – И вас также. Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова. [Степан] не ужи-нал без Авдотьи, ждал ее у накрытого стола; она также не ужинала без него. Николаева, Жатва. || Вместе с тем, кроме того; одновременно. Пан-шин был действительно очень ловок, – не хуже отца; но он был также очень даровит. Тургенев, Дворянское гнездо.
2. В сочетании с союзами «а», «и», «но» образует сложные союзы с при-соединительным значением: а также, и также, но также. Известно было, что он [гимназист Макаров] пьет, курит, а также играет на бильярде в грязных трактирах. М. Горький, Жизнь Клима Самгина [7, с. 334].
Вместе с тем начинают предложение с также очень часто, не только в устной, но и в письменной речи. Н.А. Дьячкова в упомянутой выше статье приводит пример допустимого употребления также в начале предложе-
33
ния: «Союз «также» выражает значение ‘добавление к сказанному’. Напри-мер: «Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой; также трудами и успехами друзей» (Пушкин). Возможна такая пунктуация: «Я наслаж-дался мирно своим трудом, успехом, славой. Также трудами и успехами друзей»» [3]. Данный гипотетический пример представляется неудачным, слишком искусственным. Вообще, нами не отмечено ни одного стилисти-чески безупречного случая употребления также в начале предложения. При этом данное слово нередко пишется раздельно, например: «Пост в месяц Зульхиджа: Так же поощряется соблюдение пост в первые девять дней месяца Зульхиджа. Так же в риваятах сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) проводил эти дни в посте» (http://islam-today.ru/veroucenie/poklonenie/8-vidov-posta-o-kotoryh-musulmanin-takze-ne-dolzen-zabyvat/). С также начинают даже абзацы: «Также в рам-ках программы Microsoft CityNext («Города Будущего»), компания присо-единится к отраслевому треку SmartCity акселератора GenerationS, ориен-тированному на стартапы, работающие в области создания технологий для «умного города» и развития современной городской среды» (http://b-mag.ru/2015/russia/microsoft-podderzhit-startapyi-akseleratora-generations-a-takzhe-prisoedinitsya-k-napravleniyu-smartcity-generations/).
Действительно, к давно существовавшей трудности различения омофо-нов со слитным и раздельным написанием в последнее время прибавилось активное использование также в начале предложения. В данном случае актуализировалось анафорическое значение слова также, что было под-держано иноязычными образцами. Однако такое употребление разрушает существующее в языке противопоставление: «тоже маркирует предше-ствующую ему часть высказывания как новое, а последующую – как ста-рое: Гость молчал. Хозяин (новое) тоже молчал (старое); также (и), на-оборот, маркирует предшествующую ему часть высказывания как старое, а последующую – как новое: Гость молчал. Молчал (старое) также и хо-зяин (новое)» [1, с. 20]. К сожалению, новый порядок слов *Также молчал хозяин нивелирует эти смысловые оттенки, обедняет язык.
Подобным сопоставительным анализом можно и нужно сопроводить каждую пару омофонов.
ЛИТЕРАТУРА:1. Апресян Ю.Д. Типы коммуникативной информации для толкового
словаря // Язык: система и функционирование: сборник научных тру-дов. – М.: Наука, 1988. – С. 10-22.
2. [Давыдов И.И.] Грамматика русскаго языка. Изданiе Втораго отдѣленiя Императорской Академiи Наукъ. – СПб.: Въ типографiи Импе-раторской Россiйской Академiи Наукъ, 1849.
3. Дьячкова Н.А. Также никогда не начинай предложение с также: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/445
34
4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.
5. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академиче-ский справочник / Под. ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2006. – 480 с.
6. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 14-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 383 с.
7. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических ис-следований; Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз., По-лиграфресурсы, 1999. Т. 4. С-Я. – 800 с.
Kaverina Valeriya Vitalievna
THE ORTHOGRAPHY OF HOMOPHONES IN MODERN RUSSIAN: PROBLEMS OF STANDARDIZATION
Modern orthography, standardization of spelling, orthography of homophones.
The article raises the problems of standardizing the orthography of homophones in modern Russian. The analysis of the formulation of spelling rules provided in textbooks and reference books has revealed a number of drawbacks, which enables the author to find ways to overcome them.
Мельничук Виктория Александровнааспирант Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Россия[email protected]
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА КОМПОЗИТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
НА ПРИМЕРЕ СЛОВА БЛАГОВЕРНЫЙ
Русский язык, аксиологическая динамика, композиты.
В докладе на материале словарей и Национального корпуса русского языка про-слеживается аксиологическая динамика слова благоверный, рассматриваются семантические изменения, сопровождающие перемену оценочного знака.
Значение многоосновного слова формируется из значений частей, ко-торые вдобавок вступают «в непростые объектно-субъектные и др. отно-
35
шения в пределах структуры одного слова» [4, с. 175]. Таким словам при-суща семантическая цельность, которую, однако, может разрушать при-ращение смыслов и коннотаций при функционировании слова. Значение двухосновных слов, в которых первый элемент носит оценочную семан-тику: благо-, добро-, зло-, славо-, веле-, много- – изменяется и может по-влечь как качественные, так и количественные аксиологические сдвиги. В статье рассматривается история слова благоверный, имеющего в своем составе компонент благо-, оценочный знак которого согласно материалам словарей является положительным. Отметим также, что прилагательные, образованные от корня благ-, в 16–17 вв. «используется как постоянный эпитет к слову Бог» [1, с. 18].
«Словарь русского языка 18 века» фиксирует для слова благоверный значения ‘Слав. Исповедующий истинную веру; благочестивый. | Как эпи-тет государей православного вероисповедания’ [5, с. 32]. Особый инте-рес представляет употребление слова благоверный для обозначения лика православных святых правителей, исповедовавших христианство и отста-ивавших его на своих землях (к лику благоверных причислены, например, Александр Невский, Дмитрий Донской, Андрей Боголюбский). «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова сохраняет примечание об этом высоком значении, тогда как «Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой дает только общеизвестное с пометой «шутливое» (та же помета и у Ушакова): благоверный – ‘Разг. шутл. Муж’ [4, с. 92].
Вопрос об истоках бытового значения у слова благоверный остается открытым. В «Большом толково-фразеологическом словаре» М.И. Ми-хельсона его происхождение связывается с «наименованием членов им-ператорской семьи благоверными» и указывается, что благоверный – это исключительно ‘супруг-глава, супруга-глава’ [2, с. 108].
Если в значении ‘лик православных святых’ слово благоверный вы-ступает как прилагательное, то значение ‘муж’ связано в первую очередь с субстантивированным словом. Если первое сохранило высокую поло-жительную оценку, то шутливое значение всё меньше связано с идеей блага, напротив, судя по примерам из Национального корпуса, в нём на-растает даже не ирония, а недовольство, разочарование, осуждение гово-рящим объекта оценки: Шла я легко, свободно, с большим удовольствием, но месяца через четыре стала замечать, что благоверный мой как-то долго думает перед тем как сказать что-нибудь, выстраивает фразу и заботится о чистоте интонации [3]. Ее не было у Караванчиевских, понятно: приехал ее благоверный кабан [3]. В последнем примере, как видим, субстантивированность стирается контактным расположением с существительным кабан. Эту конструкцию можно рассматривать не только как словосочетание с согласованным определением (кабан какой? благоверный), но и как сочетание с приложением (благоверный какой? кабан, хотя такой трактовке противоречит орфографическое оформление,
36
а именно: отсутствие дефиса). Так или иначе, снижение значения и нарас-тание отрицательной оценочной характеристики в этом сочетании только усиливается.
Если оценки мужского варианта дают репертуар от иронического до резко негативного, то форма женского рода благоверная фиксируется и в положительных оценочных контекстах: … Дато … вознес жену свою на руки и бежал с нею до самого приемного покоя больницы, где ей сделали операцию и заверили пожилого супруга, что его благоверная останется жить [3]. Интересно, что «Словарь русского языка» под ред. А.П. Евге-ньевой фиксирует благоверный и благоверная как независимые лексемы, а «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова объединяет их в одну словарную статью.
Перемена оценочного знака у слова благоверный оказалась сопряже-на с выходом из сферы религиозного дискурса и расширением возмож-ностей иронического употребления слова. Семантика основы благо- ока-залась не просто утрачена, а заменена на противоположное с целым спек-тром негативных оценок.
Назовем также шутливое новообразование – благоневерный, в кото-ром оценочный акцент, благодаря префиксу и мнимой положительной семантике первого элемента, сместился на вторую часть слова.
ЛИТЕРАТУРА:1. Генералова Е.В. Энантиосемия в русском языке XVI-XVII вв. //
История русского языка и культурная память народа. Материалы 36 Меж-дународной филологической конференции. – СПб., 2007. – С. 16–22.
2. Михельсон М.И. Большой толково-фразеологический словарь рус-ского языка. – М., 2005.
3. Национальный корпус русского языка: [Электронный ресурс]. – URL: http://ruscorpora.ru/.
4. Никифорова С.А. Семантика композитов с начальным зъл – в ми-неях XI-XIV вв.: синтагматическая сочетаемость как инструмент опреде-ления объема и специфики семантического поля // Вестник Удмуртского университета, 2005, вып. 2. – C. 175–182.
5. Словарь русского языка XVIII века. – Л., 1984–1991.6. Словарь русского языка. В 4-х томах. – М., 1999.
Melnichuk Viktoria Aleksandrovna
AXIOLOGICAL DYNAMICS OF COMPOSITES IN RUSSIAN LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF THE WORD БЛАГОВЕРНЫЙ
Russian language, axiological dynamics, composites.
37
The report is dedicated to axiological dynamics of composite благоверный and to semantic changes that go along with changes of axiological sign on the material of dictionaries and Russian National Corpus.
Ольховская Александра Игоревнаканд. филол. наук, в. н. с. Государственного института
русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ«РУССКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ»
Лексикография, идеографический словарь, тематический словарь, словарь ак-тивного типа, словарная статья.
Статья посвящена обсуждению вопросов тематико-идеографического лексико-графирования русской лексики и, в частности, изложению ключевых принципов «Русского тематического словаря», работа над которым ведётся в Институте русского языка им. А.С. Пушкина в настоящий момент.
Тематико-идеографическое описание лексики имеет достаточно дли-тельную лексикографическую традицию. Зародившись ещё до нашей эры (напр., греческий словарь «Attikai Lexeis» Аристофана Византийского и санскритский словарь «Амаракоша» Амара Сина), оно оформилось в са-мостоятельную словарную ветвь в XIX столетии, свидетельством чего стал выход в свет «Тезауруса английских слов и выражений» П.М. Роже, до сих пор, несмотря на ряд недостатков, слывущий образцом словар-ной идеографики. Русская лексикография в этом отношении долгое время оставалась, если можно так выразиться, ретроградной, ср. высказывание В.В. Морковкина: «Если со стороны качества словари русского языка вполне сопоставимы с аналогичными словарями таких, например, язы-ков, как английский, французский, немецкий, испанский и итальянский, то со стороны разнообразия типов этого, увы, сказать нельзя … Ярким примером этого может служить тот факт, что русская наука о языке до сих пор не имеет идеографического, или, как его иногда называют, идео-логического словаря русского языка, хотя такой тип словаря достаточно хорошо разработан за рубежом» [1, с. 4].
За последние сорок с лишним лет интенсивного развития словарно-го дела в России ситуация резко изменилась, и сегодня мы располагаем
38
целым букетом лексикографических произведений, содержащих каче-ственное описание тематического разнообразия русского языка. Среди таких произведений необходимо назвать в первую очередь «Русский се-мантический словарь» и «Русский идеографический словарь: Мир чело-века и человек в окружающем его мире» – оба под редакцией академика Н.Ю. Шведовой, «Тематический словарь русского языка» Л.Г. Саяховой, Д.М. Хасановой, В.В. Морковкина, «Идеографический словарь русского языка» О.С. Баранова, а также такие учебные издания, как «Картинный словарь русского языка» Ю.В. Ванникова, А.Н. Щукина и «Иллюстриро-ванный тематический словарь русского языка» Л.Г. Саяховой, Д.М. Ха-сановой.
Несмотря на весомую количественную представленность русской идеографической лексикографии, её потенции и ресурсы, разумеется, нельзя считать исчерпанными. Об этом говорит хотя бы то, что в этой сфере до сих пор не достигнуто определённости по ряду ключевых во-просов. Отсутствует, в частности, однозначная логически непротиворе-чивая рубрикация тематических сгущений русской лексики, а также еди-ная модель словарной статьи, которая в наибольшей степени соответству-ет назначению тематического словаря.
В настоящее время в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина идёт интенсивная работа над созданием словаря под рабочим названием «Русский темати-ческий словарь», в основу которого положена антропоцентрическая кон-цепция лексикографирования. По способу существования указанный сло-варь является распределённым, т.е. таким, который существует в виде со-вокупности монотематических словарных выпусков. На текущий момент подготовлены четыре выпуска: «Выпуск 1. Космос. Неживая материя. Вещества. Недра», «Выпуск 2. Земной шар. Атмосфера. Земная поверх-ность», «Выпуск 3. Животный мир» и «Выпуск 4. Растительный мир». На разных стадиях разработки находятся выпуски «Человек как живое суще-ство», «Человек как чувствующее, желающее, мыслящее и поступающее существо», «Бог и религия» и «Пространство и время». Хотя указанное произведение вполне вписывается в традицию идеографической лексико-графии, оно обладает рядом отличительных черт, на основании которых может считаться новаторским по типу словарным произведением. Среди этих черт следует отметить следующие характеристики.
1. Тематико-идеографическая ориентация. В теории лексикогра-фии принято выделять три основных разновидности идеографического словаря – собственно идеографический (или идеографический тезаурус), тематический (или учебный идеографический) и аналогический. Первый предполагает исчерпывающее описание всего понятийного разнообразия русской лексики, при котором тематической квалификации подвергаются не только слова, но и ЛСВ низкого коммуникативного статуса. Второй, напротив, направлен на выявление некоторого числа важных для обуче-
39
ния языку тематических групп и их наполнение ядерными лексическими единицами. В третьем лексический массив разбивается на ЛСГ, озаглав-ленные словами-доминантами и расположенные в порядке алфавитного следования последних.
Рассматриваемый «Русский тематический словарь» в этом отноше-нии являет новый синтетический тип идеологического словаря, который может быть назван тематико-идеографическим. Опираясь на заданное число максимально важных в смысловом и коммуникативном отношении тем, авторы стремятся максимально полно отразить лексическое содер-жание каждой. Так, в рубрике «Точки и участки пространства» можно обнаружить не только ядерные для данной смысловой сферы слова, об-ладающие ощутимой языковой автономностью (место, местность, терри-тория, зона, пояс, участок и др.), но и достаточно периферийные и, что немаловажно, осознаваемые как содержательные отдельности далеко не всеми носителями языка единицы наподобие ветер, ср. стоять на ветру, холод, ср. выйти на холод, мороз, ср. прийти с мороза, солнце, ср. лежать на солнце и под.
2. Ориентация на активные виды речевой деятельности. Темати-ческий словарь априори является словарём активного типа, т.е. таким, который направлен на снятие трудностей, возникающих у языковой лич-ности при устной или письменной продукции речи. Однако, несмотря на жанровую предопределённость данной характеристики, ни один из суще-ствующих тематических словарей русского языка, как нам представляет-ся, не воплощает эту ориентацию рельефно. В основе «Русского темати-ческого словаря» лежит выраженная ориентация на продукцию речи. Это проявляется, в частности, в предоставлении комплекса исчерпывающей информации по продуктивно значимым параметрам слова, как то: полная словоизменительная парадигма, относительная ценность (синонимы, ан-тонимы, таронимы, эквонимы, стилистическая маркированность) и соче-тательная ценность (лексически наполненные сочетаемостные модели).
3. Всеохватность и синергийность. Словарь представляет собой первую попытку всеохватного тематического лексикографирования рус-ской лексики как в экстенсивном, так и в интенсивном отношении. Это значит, что, во-первых, каждая назначенная к описанию тематическая группа представлена по возможности б’ольшим количеством лексиче-ских единиц не только ядерного, но и предъядерного и в некоторых слу-чаях периферийного состава, а во-вторых, каждая заголовочная единица получает по возможности разностороннее описание по ряду параметров. Идеи синергии, столь популярные сегодня в естественных науках, реа-лизуются в словарном описании посредством эффективного совмещения разноаспектной информации о слове, представленной в соответствую-щих словарных зонах (о раскрытии сущности синергетического лексико-графирования см. [2]).
40
4. Полиаспектность. Кроме тематически связанных рядов лексиче-ских единиц, Словарь содержит комплекс языковой информации, распре-делённой по разнообразным зонам словарной статьи. В словарной статье «Русского тематического словаря» можно найти, в частности, следую-щую информацию:
а) акцентологическую и орфоэпическую – в тех случаях, когда зву-чание слова уклоняется от произносительных норм русского языка – характеристику слова, напр., сп›олох и спол›ох, с’интез [тэ], кр›атер [тэ и хуже те], вещ›ественн|ый [н], денн’иц|а [н’н’ и н’], с›олнц|е [н], ноосф›ера [оа и оо], бр›езжи|ть [жж], матери›альн|ый [рья], л›итиев|ый [ии и хуже и];
б) грамматическую характеристику слова, которая разделяется в Сло-варе на присловную и присловарную, напр., снеж›инк|а, -и, род. мн. снеж›инок, ж., нд., III в; сух|›ой, кр. ф. ж. сух›а, мн. с›ухи и сух›и, сравн. I с›уше, превосх. I не употр., кач., IV в; ид|т›и, зд. 1 и 2 л. не употр., -ёт, прош.: м. шёл, ж. шл|›а, прич. дейст. прош. ш’едш|ий, зд. нсв., V а, не-перех.;
Присловарная грамматическая характеристика представляет собой расположенные в зоне словарных приложений регулярные словоизмени-тельные парадигмы русского языка. Присловная грамматическая харак-теристика находится непосредственно в словарной статье, справа от за-головочной единицы, и содержит словоформы, которые не укладываются в образцовые грамматические схемы (первый опыт такого рода описания языкового словоизменения находим в [3]). Связь между присловной и присловарной характеристиками осуществляется на основании системы индексов (I а–ж, II а–г, III а–з, IV а–з, V а–б).
в) семантическую характеристику слов с модификационным слово-образовательным значением посредством системы помет (детск., един., увел., уменьш., уменьш.-ласк., ласк., интенс., ослабл.), напр., гр›адинк|а <…> един., уменьш.; тепл›ынь <…> интенс.; мор›озец <…> ослабл.;
г) стилистическую характеристику слова, напр., вёдр|о <…> просто-нар.; хмарь <…> обл.; мет›елиц|а, <…> с оттенком разг.;
д) отчасти словообразовательную информацию о слове, напр., леж›а|ть <…> {по-², про-²}; ду|ть <…> {по-¹; по-²}; морос›и|ть <…> {за-, по-²};
В фигурных скобках после грамматической характеристики могут по-мещаться префиксы, с помощью которых от заголовочной единицы об-разуются слова со значением некоторых способов глагольного действия. В настоящий момент в Словаре учитываются лишь пять таких префиксов: за- и по¹- со значением начала действия, по²- со значением осуществле-ния действия в течение непродолжительного времени, про- со значением осуществления действия в течение значительного времени, а также на- со значением получения с помощью действия множества результирую-
41
щих объектов. Информация о модификационных словообразовательных изменениях глагола используется в рассматриваемом словаре в качестве механизма расширения словника.
е) информацию о способности слова вступать в синонимические, анто-нимические и таронимические отношения, напр., хм›ур|ый <…> Син. п›асмурный, с›умрачный, с›ерый; непог'ож|ий <…> Син. нен›астный. Ант. пог›ожий, в›едренный; 'изморось <…> Син. м'орось. [!] Не пу-тать с 'изморозь;
ж) английские эквиваленты слова, которые для иностранцев выступа-ют, во-первых, дополнительным средством семантизации, а во-вторых, экономным входом в Словарь через английский алфавитный индекс;
В случае отсутствия в английском языке адекватного эквивалента заголовочной единицы пользователю предлагаются разъяснительные отрезки, напр., заз'имок <…> Eng. first snow which lies not for long; припорош'и|ть, припор'ашива|ть <…> Eng. to cover with newly-fallen snow; пром'оин|а <…> Eng. gully (formed by flood);
з) информацию о сочетаемостном поведении слова в виде перечня упорядоченных грамматических моделей, наполненных основными лек-сическими распространителями, напр., снег <…> крупный (мелкий, ред-кий, сильный, густой, тихий, первый, ранний, мокрый, колючий) ~; ~ с дождём; хлопья ~а; дождь со ~ом; ~ идёт зд. нсв. (валит нсв., кружится нсв., выпал, перестал) ~; 'ясн|ый <…> ~ небо (горизонт, день м., погода); свет'а|ть <…> уже ~ло; быстро (медленно) ~; начал'о (стало св.) ~; На дворе ~ет;
и) культурологические сведения о слове, к которым относятся знако-вые художественные произведения, страноведчески значимые перифра-зы, важные для русской культуры имена и события, пословицы, поговор-ки и крылатые выражения, а также яркие поэтические высказывания с заголовочной единицей, напр., лес <…> ● Чем дальше в лес, тем больше дров (посл.); Волков бояться – в лес не ходить (посл.); Как (сколько) вол-ка ни корми – всё в лес смотрит (посл.); Кто в лес, кто по дрова (погов.); «Лес» (комедия А.Н. Островского); «Русский лес» (роман Л.М. Леонова); «Без остановки ехал витязь | Дремучим лесом до утра» (Н.А. Некрасов. Баба-яга, костяная нога); «Ведёрко, полное росы, | Я 'из лесу принёс, | Где ветви в ранние часы | Роняли капли слёз» (С.Я. Маршак. Ведёрко, пол-ное росы..); г'орк|а <…> ● Красная горка (народн. весенний праздник, первое воскресенье после Пасхи); «Белели церкви божии | По горкам, по холмам..» (Н.А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо); «Солнце за горку ушло; | Светит косыми лучами» (А.А. Блок. Учитель); В'олг|а <…> ● Волга-матушка (трад.-поэт.); «Бурлаки на Волге» (картина И.Е. Репи-на); «Издалека долго течёт река Волга, | Течёт река Волга, конца и края нет» (песня «Течёт река Волга», сл. Л.И. Ошанина, муз. М.Г. Фрадкина); «Волга впадает в Каспийское море» (крылат. выраж., А.П. Чехов. Учи-
42
тель словесности); «Волга, Волга, мать родная, | Волга, русская река, | Не видала ты подарка | От донского казака!» (народн. песня); «Беспечально теки, Волга-матушка, | Через всю святую Русь до синя моря..» (А.Х. Вос-токов. Российские реки); «Чья кисть, соперница природы, | О Волга, рек краса, тебя изобразит?» (П.А. Вяземский. Вечер на Волге).
В заключение приведём полную словарную статью из обсуждаемого «Русского тематического словаря», иллюстрирующую изложенные лек-сикографические решения.
т'уч|а, -и, род. мн. туч, ж., нд., III г. Eng. rain cloud.серая (чёрная, тёмная, лиловая, синяя, сизая, свинцовая, мрачная,
грозная, грозовая, тяжёлая, набухшая, дождевая, снежная) ~, низкие ~и; разогнать ~и; спрятаться о солнце, луне за ~ей; показаться (выглянуть, выплыть) о солнце, луне из-за туч; лететь нсв. среди туч; ~ висит нсв. (растёт), ~и бегут зд. нсв. (идут зд. нсв., плывут нсв., ползут нсв., заво-локли небо, обложили небо, сгустились, собрались, нависли, разошлись, рассеялись); ● «На границе тучи ходят хмуро, | Край суровый тишиной объят» (песня «Три танкиста», сл. Б.С. Ласкина, муз. братьев Покрасс); «Мчатся тучи, вьются тучи; | Невидимкою луна | Освещает снег летучий; | Мутно небо, ночь мутна» (А.С. Пушкин. Бесы); «Гуляют тучи золотые | Над отдыхающей землёй..» (И.С. Тургенев. Весенний вечер); «На небе сходились тяжёлые, грозные тучи, | Меж них багровела луна, как смер-тельная рана..» (Н.С. Гумилёв. Гроза ночная и тёмная).
ЛИТЕРАТУРА:1. Морковкин В.В. Идеографические словари. – М.: Изд-во МГУ,
1970. – 72 с.2. Морковкин В.В. Синергетическое лексикографирование: понятие
и технология осуществления // Мир русского слова и русское слово в мире: мат-лы ХI Конгр. МАПРЯЛ. Варна, 17-23 сентября 2007 г. – София, 2007. – Т. 2: Проблемы фразеологии. Русская лексикография: тенденции развития. – С. 465–474.
3. Морковкин В.В., Богачёва Г.Ф., Луцкая Н.М. Большой универсаль-ный словарь русского языка / Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина; Под ред. В.В. Морковкина. – М.: Словари XXI века; АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016. – 1456 с.
Olkhovskaya Aleksandra IgorevnaTHE KEY PRINCIPLES OF «RUSSIAN THEMATIC DICTIONARY»
Lexicography, thesaurus, idioglossary, active dictionary, dictionary entry.
The article deals with the discussion of the ideographic lexicography questions in particular the statement of the key principles of “Russian thematic dictionary”, creating now at Pushkin State Russian Language Institute.
43
Редькин Сергей Витальевич канд. филол. наук, доцент Государственного института русского языка
имени А.С. ПушкинаМосква, Россия
ЕСТЬ ЛИ ПРИСТАВКА В ГЛАГОЛАХ ТИПА ИСКЛЮЧИТЬ, ИЗВЕРГНУТЬ?
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ; морф, субморф; членимость основы.
В статье дается анализ спорных случаев выделения приставок в глаголах со свя-занными корнями, предлагается один из возможных способов интерпретации их морфемной структуры.
Выделять или не выделять приставки в словах со связанным корнем при синхронном анализе слов? Если опираться на известные в научной и учебной литературе классификации степеней членимости основ, то эту часть слова следует признать морфом (конкретным представителем морфемы в тексте) и вычленять в глаголах заключить – исключить при-ставки за- и ис- (аналогично приставкам в- и вы- в глаголах включить – выключить). Если исходить из положения, что в словах со связанными корнями аффиксальные морфы выражают существенные семантические различия между этими словами и что путём сопоставления слов с этими морфами можно определить их лексические значения, то правомерность вычленения в глаголах заключить – исключить отрезков за- и ис- как живых морфов кажется сомнительной. В этом случае выделяемые в про-цессе анализа части слова могут быть признаны асемантическими, т.е. не имеющими значения. Такие отрезки слова называются субморфами (не-что подобное морфам). Раз и навсегда определить критерии выделения (или невыделения) таких морфов трудно, да и вряд ли целесообразно, по-этому предлагаемые рассуждения имеют исключительно учебно-методи-ческую ценность. Членение слов на части производится с помощью трёх видов анализа: этимологического, словообразовательного и морфемного. Результаты этих видов анализа различны, и, как следствие, само членение одних и тех же слов может быть не одинаково. При морфемном анализе принято учитывать степени членимости основ, поэтому количество зна-чимых частей при этом анализе обычно превышает по числу те, которые выделяются при словообразовательном анализе.
При этимологическом анализе в словах выделяется корень этимологи-ческий, и, с точки зрения исторической науки, в приведенных выше сло-
44
вах выделяемые отрезки являются приставками. При синхронном слово-образовательном анализе из таких этимологически близких слов выделя-ются корневые гнёзда. Как утверждает А.Н. Тихонов во вводной статье к «Словообразовательному словарю русского языка» [10], корневые гнёзда возглавляют не слова, а связанные корни. Корневое гнездо включает в себя несколько словообразовательных гнёзд со связанными корнями, на-пример, связанный корень -купор- входит в состав трёх словообразова-тельных гнёзд, возглавляемыми глаголами за/купор/и/ть, от/купор/и/ть, рас/купор/ть. При этом в названном словаре при каждом из этих сло-вообразовательных гнёзд приводятся соответствующие ссылки на гнёз-да, содержащие связанный корень, ср.: а) закупорить, ср.: откупорить, раскупорить; б) откупорить, ср.: закупорить, раскупорить;
в) раскупорить, ср.: закупорить, откупорить. Можно было бы пред-положить, что во всех глаголах, отмеченных такими отсылками в Слово-образовательном словаре, наличие связанного корня обязательно пред-полагает также выделение соответствующих приставок. Обратившись к другим словарям А.Н. Тихонова, в которых приводиться морфемный состав слова, обнаружим, что наше предположение не всегда верное. Приведём данные «Морфемно-орфографического словаря» (МОС) [8], в котором приводится морфемное членение глаголов со связанными корня-ми. Аналогичное выделение морфем есть и в «Словаре-справочнике по русскому языку» [9], но данные последнего словаря используются только в том случае, если в трактовках морфемной структуры этих глаголов есть расхождения, возможно, связанные с тем, что Александр Николаевич не успел полностью закончить работу над этим и словарями.
Не подлежит сомнению, что связанные корни выделяются в тех словах, значения которых определяются синонимическими и антони-мическими приставками, ср.: у-прекнуть, по-прекнуть, с одной сторо-ны, и о-буть, раз-уть, с другой. Однако, кроме этих очевидных при-меров, есть такие глаголы, в которых значение приставки осознаётся не так отчётливо и её выделение кажется спорным. Такие связанные корни выделяются А.Д. Зверевым в статье «О связанных и вариантных (усечённых) основах». Эти корни встречаются в словах «с аффикса-ми, выражающими такие соотносимые семантические признаки, кото-рые характеризуют <…> действия с разных сторон и получают свою определённость только при взаимном сопоставлении» [2, с. 213]. К та-ким словам учёный относит следующие глаголы: вонзить, пронзить; ввергнуть, свергнуть, отвергнуть; отнять, снять, разнять, принять, донять. А.Н. Тихонов в этих глаголах приставок не выделяет, ср.: вонз/и/ть, пронз/и/ть; сверг/ну/ть; отня/ть, сня/ть, разня/ть, приня/ть, доня/ть, но в глаголе ввергнуть находим эту приставку, ср.: в/верг/ну/ть. Здесь же отметим аналогичные глаголы в словарях А.Н. Тихонова, ср.: опроверг/ну/ть, изверг/ну/ть, подверг/ну/ть, низверг/ну/ть; в глаго-
45
ле ниспровергнуть учёный приставку выделяет, ср.: нис/проверг/ну/ть. Отметим также разночтения в МОС. Глаголы низвергнуть и свергнуть в основной части словаря даны как бесприставочные, ср.: низверг/ну/ть, сверг/ну/ть, а в отсылках они квалифицированы как приставочные, ср.: по/верг/ну/ть [ср.: низ/верг/ну/ть, с/верг/ну/ть]; глагол отвергнуть в двух словарях А.Н. Тихонова имеет разную морфемную структуру, ср.: от/верг/ну/ть (МОС) но отверг/ну/ть.
(Сл.-спр.). Объективная трудность разграничения приставок и субморфов, по-
добных приставкам, вероятно, связано с тем, что значения когда-то ак-туальных приставок обычно до конца не исчезают, а остаются в виде ассоциаций с другими одноструктурными словами. Такие компоненты современного значения можно увидеть в дефинициях словарных статей, указаниях на управление глагола и речениях, приводимых в качестве ил-люстраций. Известно, что глагольная приставка обычно дублирует зна-чение предлога зависимого существительного. Эта приставка включена в дефиницию глагола извергнуть в Словаре С.И. Ожегова (СО) и в одно из речений, ср.: Извергнуть, сов., кого-что (книжн.) ‘Выбросить из себя, удалить’. И. предателя из своей среды (перен.; высок.) (СО). Приставка низ- синонимична приставке с- в глаголе низвергнуть. В обеих дефини-циях этого глагола содержится указание на значение этой приставки, ср.: Низвергнуть, сов., кого-что (книжн.) 1. ‘Сбросить сверху (большое, тя-желое)’. Н. каменную глыбу. 2. перен. ‘То же, что свергнуть (во 2 знач.)’. Н. самодержавие (СО). Значение приставки актуализируется по ассо-циации с другим приставочным глаголом. Например, значение глагола подвергнуть сближается с переносными значениями глагола подставить, ср.: Подвергнуть, сов., кого-что чему. ‘Сделать предметом какого-н. дей-ствия; поставить в какое-н. положение (обычно плохое, тяжелое)’. П. про-ект обсуждению. П. свою жизнь опасности; Подставить.
3. перен., кого-что. ‘Лишить всякой защиты, сделать доступным для нападения’. П. фланг противнику. П. пешку под удар. 4. перен. ‘Наме-ренно или случайно поставить кого-н. в ложное, неприятное положение’ (разг.). П. доверчивого компаньона (СО).
В «Школьном словообразовательном словаре» З.А. Потихи (ШСС) [7] и «Школьном морфемном словаре русского языка» (ШМС) Н.А. Нико-линой [5] приведены следующие глаголы из этого списка, ср.: в/верг/ну/ть, из/верг/ну/ть, низ/верг/ну/ть, нис/про/верг/ну/ть, о/про/верг/ну/ть, от/верг/ну/ть, под/верг/ну/ть, по/верг/ну/ть, с/верг/ну/ть (ШСС); в-верг-ну-ть, извергнуть нет, но есть из-верж-ени-е; низвергнуть нет, но есть низ-верг-а-ть, ниспровергнуть нет, о-про-верг-ну-ть, от-верг-ну-ть, повергнуть нет, под-верг-ну-ть, с-верг-ну-ть (ШМС).
При членении глаголов, приведённых в начале статьи, возникают те же трудности, что и с глаголами с корнем -верг-. В тех глаголах, значения
46
которых противопоставлены по семам присоединения и отсоединения, приставки выделяются, ср. Включить, сов., 2. что во что. ‘Присоеди-нить к системе чего-н.’. В. аппарат в сеть; Выключить, сов. 1. что. ‘Прекратить, прервать действие чего-н.’. В. ток, свет. В. телефон (СО); Отключить, сов., что. ‘Разъединив, выключить из сети (электрической, телефонной, газовой)’. О. свет. О. телефонный аппарат (СО);
Подключить, сов. 1. что. ‘Включив, присоединить’. П. аппарат к сети (СО); Переключить, сов. 1. что. ‘Изменить (направление и силу какой-н. энергии, движения)’. П. конвейер на другой режим работы (СО); ср.: в/ключ/и/ть, вы/ключ/и/ть, от/ключ/и/ть, под/ключ/и/ть, пере/ключ/и/ть (МОС).
В глаголах заключить и исключить А.Н. Тихонов приставок не вы-деляет, ср.: заключ/и/ть, исключ/и/ть (МОС) [8]. В других аналогичных словарях также нет ясности. Например, А.Н. Николина так членит эти слова: за-ключ-и-ть, исключ-и-ть (ШМС), а З.А. Потиха в обоих глаго-лах приставки выделяет, ср.: за/ключ/и/ть, ис/ключ/и/ть (ШМС).
Приведённые наблюдения показывают, что общепризнанных правил выделения связанных корней не существует. Используемое А.Н. Тихоно-вым в своей словарной работе ограничение выделимости связанных кор-ней только синонимическими и антонимическими приставками призна-ется не всеми специалистами и нуждается в дальнейшем обосновании. Из этого может следовать только один методический вывод: при морфем-ном и словообразовательном анализе таких слов желательно приводить данные разных словарей.
ЛИТЕРАТУРА:1. Бутакова Л.О. Морфемика и словообразование: учеб. пособие. –
М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 232 с.2. Зверев А.Д. О связанных и вариантных (усечённых) основах // Раз-
витие современного русского языка 1972. Словообразование. Членимость слова. / Под ред. Е.А. Земской. – М.: Наука, 1975. – С. 211–216.
3. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 328 с.
4. Николина Н.А. Современный русский язык. Морфемика: учеб. посо-бие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 144 с .
5. Николина Н.А. Школьный морфемный словарь русского языка. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник» , 2013. – 368 с.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 20-изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1988. – 750 с.
7. Потиха З.А. Школьный словообразовательный словарь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Просвещение, 1964. – 391 с.
8. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. – М.: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель», 2002. – 707 с.
47
9. Тихонов А.Н. и др. Словарь-справочник по русскому языку: Право-писание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грам-матика, частота употребления слов. / Под ред. А.Н. Тихонова. – М.: ТОО «Словари», 1995. – 704 с.
10. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985. – Т. 1 – 856 с. Т. 2 – 886 с.
11. Шацкая М.Ф. Современные проблемы русского языка. Словообра-зование и морфология: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 152 с.
Redkin Sergey Vitalievich
IS THERE A PREFIX IN VERBS OF THE TYPE ИСКЛЮЧИТЬ, ИЗВЕРГНУТЬ?
Morpheme, word-formative, etymological analysis; morph, submit; cleanmost basis.
In the article the analysis of disputable cases, the allocation of prefixes in verbs with bound roots, suggested one possible way to interpret their morphemic structure.
Роговнева Юлия Васильевнаассистент Государственного института русского языка им А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
РЕГИСТРОВО-МАРКИРОВАННЫЕ СИНТАКСЕМЫ В СОСТАВЕ
ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Коммуникативный регистр, синтаксема, модель предложения, распространи-тель, коммуникативно-функциональный подход.
В статье анализируются и перечисляются регистрово-маркированные синтак-семы, доказывается их способность влиять на регистровую характеристику целой конструкции, формулируются критерии репродуктивности и информа-тивности.
Коммуникативно-функциональный подход, разработанный в русисти-ке Г.А. Золотовой и ее последователями, предполагает анализ любой язы-ковой единицы в единстве ее формы, значения и функции. Минимальной
48
синтаксической единицей, обладающей этими тремя сущностями, явля-ется синтаксема [2].
Г.А. Золотовой в «Коммуникативной грамматике русского языка» [1] была предложена схема анализа текста, состоящая из четырех уровней, или ступеней:
А. предикативное ядро предложения;В. регистровая характеристика;С. тактика текста;D. стратегия текста.Как мы видим, в этой схеме анализа текста нет отдельного уровня
синтаксем – анализ текста начинается с моделей предложения, то есть уже с предикативных единиц (под моделью предложения понимается со-пряженность субъектной и предикатной синтаксем, дающая определен-ное типовое значение). Таким образом, при анализе текста синтаксемы рассматриваются только с точки зрения их участия в образовании пре-дикативного ядра. Другие синтаксемы, входящие в состав придукатив-ной конструкции (синтаксемы-распространители), в этом варианте схе-мы анализа текста не учитываются. В [3] доказывается необходимость выделения отдельного допредикативного уровня («нулевого» уровня синтаксем) в схеме анализа текста. Это связано прежде всего с тем, что регистровая характеристика монопредикативной конструкции зависит не только от модели этой конструкции (как об этом говорится в «Ком-муникативной грамматике»), но и от распространителей этой модели. Напомним, что коммуникативный регистр мы понимаем как модель ви-дения действительности, существующую в сознании говорящего, а так-же как способ текстового моделирования этой действительности. Таким образом, коммуникатвный регистр является характеристикой не только уже готового текста, но и мысли говорящего. Так, представляется, что в сознании говорящего есть 5 моделей видения действительности: ин-формативная, репродуктивная, генеритивная, волюнтивная и реактивная. Каждая модель видения действительности (коммуникативный регистр) моделируется говорящим в текст с помощью определенного набора язы-ковых средств (от мельчайших допредикативных единиц – синтаксем до фрагментов текста). Эту систему языковых средств для каждого регистра можно представить в виде поля, ядро которого будут составлять языковые средства, прикрепленные только к одному регистру (монорегистровые), а на периферии этого поля окажутся языковые средства, способные функ-ционировать в нескольких регистрах, то есть единицы, не прикрепленные к конкретному регистру (полирегистровые). В связи с этим мы предла-гаем выделить регистрово-маркированные единицы, функционирующие в определенном регистре. К таким единицам можно отнести, например, синтаксемы вчера, в саду, на окне, модели предложения он смеется, я вижу и т.п. – то есть единицы с конкретной семантикой и в актуальном
49
времени, которые будут функционировать в репродуктивном регистре. С другой стороны, к регистрово-маркированным можно отнести, напри-мер, синтаксемы по вечерам, в садах, каждый день, модели предложения он любит, мне кажется и т.п. – то есть единицы с узуальной семантикой и в неактуальном времени, которые, вероятно, будут функционировать в информативном регистре.
Далее мы покажем на конкретных примерах, как регистрово-маркиро-ванные репродуктивные и информативные единицы (мы проанализируем только наименьшие из них – синтаксемы) ведут себя в составе преди-кативных конструкций и докажем возможность информативных единиц влиять на регистровую характеристику всей конструкции.
Рассмотрим следующие группы монопредикативных предложений:1. На станции много людей; Она улыбается; Моя соседка сидит у окна.Эти предложения отражают репродуктивную модель видения говоря-
щим действительности и, соответственно, функционируют в репродук-тивном регистре, поскольку:
а) в их состав входят предикаты с семантикой наблюдаемости;б) в них представлен сенсорный способ восприятия говорящим дей-
ствительности;в) говорящий находится в одном хронотопе с изображаемым (актуаль-
ное время, позиция говорящего «я – здесь – сейчас»).2. На станции по утрам много людей; Она часто улыбается; Моя со-
седка всегда сидит у окна.В этих предложениях выделяется то же предикативное ядро (модель),
что и в предложениях первой группы, однако их структура осложняется распространителями – информативными синтаксемами по утрам, часто, всегда, которые обозначают узуальные признаки. В результате возника-ет регистровое противоречие между моделью предложения и его рас-пространителем: модель остается репродуктивной, распространитель – информативный. В результате вся конструкция выходит за пределы репродуктивого регистра и отражает информативную модель видения говорящим действительности. Таким образом, информативный распро-странитель оказывается «сильнее» репродуктивного ядра. Приведем дру-гие примеры, демонстрирующие способность информативных синтак-сем выводить конструкцию за пределы канонического репродуктивного регистра: На ней пиджак; На ней черный пиджак – актуальное время, говорящий находится в хронотопе с изображаемым, распространитель – прилагательное, обозначающее наблюдаемый признак; На ней красивый пиджак; Она в элегантном костюме – актуальное время, говорящий так-же находится в хронотопе с изображаемым, однако распространителем в этих конструкциях является прилагательное, обозначающее оценочный признак. А оценка выражает не объективную действительность, а точку зрения говорящего, высказывание, содержащее оценочный признак, не
50
может быть репродуктивным. Таким образом, конструкции с синтаксе-мами, обозначающими оценочные признаки, не могут функционировать в репродуктивном регистре. Эти примеры еще раз доказывают способ-ность регистрово-маркированных информативных синтаксем выводить всю предикативную единицу в информативный регистр. В «Коммуника-тивной грамматике русского языка» рассматривается и доказывается спо-собность предикатов менять регистровую характеристику предложения: Лошадь ест сено (конструкция, которая может быть репродуктивной и информативной) – Лошадь жует сено (репродуктивная конструкция) – Лошадь питается сеном (информативная конструкция) [1]. Мы же мо-жем утверждать, что не только компоненты модели, но и ее распростра-нители влияют на регистровую характеристику предикативной единицы.
В связи с этим мы можем сформулировать критерии информативно-сти и репродуктивности предикативной конструкции: чтобы предикатив-ная единица функционировала в информативном регистре, в ее состав должна входить хотя бы одна информативная синтаксема (как компонент модели или ее распространитель); чтобы предикативная единица функ-ционировала в репродуктивном регистре, в ее составе не должно быть ни одной информативной единицы (как компонента модели или ее распро-странителя). Таким образом, регистрово-маркированные информативные синтаксемы оказываются «сильнее» репродуктивных, поскольку они способны менять регистровую характеристику всей конструкции.
ЛИТЕРАТУРА:1. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная
грамматика русского языка. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 528 с.2. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных еди-
ниц русского синтаксиса. – 3-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2006. – 440 с.3. Роговнева Ю.В. Коммуникативно-функциональный анализ нефик-
циональных репродуктвино-описательных текстов: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. – М., 2016. – 203 с.
Rogovneva Yuliya Vasilyevna
REGISTER-MARKED SYNTAXEME IN THE STRUCTURE OF PREDICATIVE CONSTRUCTION
Communicative register, syntaxeme, pattern of sentence, determinant, communicative-functional approach.
The article analyses and lists the register-marked syntaxeme, proves that they can change register feature of the sentence, formulates criterion of reproduction and informativity.
51
Таратина Елена Геннадьевнастарший преподаватель Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. ЯковлеваЧебоксары, Россия
«УБЕГЛЫЙ» ГЛАСНЫЙ Е В РУССКОМ ЯЗЫКЕ(об утрате гласного е в заимствованных словах
с финалью -стер)Беглый гласный, чередование, нуль звука.
В настоящей статье рассматривается история утраты в русском языке глас-ного Е в заимствованных словах с финалью -стер (министр из Minister, магистр из Magister, бургомистр из Burgmeister и под.).
Как известно, беглыми принято называть гласные Е и О, в определен-ной позиции появляющиеся в словоформах и исчезающие в других: пень – пня, сон – сна. Возникнув как фонетическое явление на месте редуци-рованных Ъ и Ь, чередование гласных с нулем перешло в явление морфо-логическое, то есть уже в древнерусском языке «беглость гласных» стала распространяться не только на те слова, в составе которых были когда-то Ъ и Ь, но и на те, в составе которых были исконные гласные полного образо-вания О и Е. В этих случаях беглость гласных возникла по аналогии к тем случаям, когда она фонетически закономерна. Этот факт отмечают многие исследователи истории русского языка [7, с. 171; 23, с. 46; 36, с. 142]. Так, например, в современном ров – рва, лёд – льда беглые О и Е появились не на месте слабых Ъ и Ь, а на месте исконных О и Е. В своем исконном виде эти слова зафиксированы в памятниках письменности: въ ровЪ прЪи-сподьнимь (Изборник 1076 г.), глЪбъ князь мЪрилъ море по ледоу (Надпись на Тьмутараканьском камне 1068 г.) [7, с. 171]. Сохранившаяся форма с гласным О в поговорке «руки в боки, очи в потолоки» и встречающаяся в северновеликорусских диалектах форма «потолока», а также формы с гласным Е «каменя», «кореня» в некоторых говорах, подобно соответству-ющим словам в украинском и белорусском языках, представляют сохране-ние первичных О и Е и доказывают, что формы с беглыми О и Е в таких словах появились под влиянием аналогии самостоятельно в русском языке.
Действие аналогии распространилось и на многие заимствованные сло-ва, ср.: курок (из польск. kurek) – курка вм. курока или курека, марганец (из нем. Marganerz) – марганца вм. марганеца, огурец (из ср.-греч. αγουρος) – огурца вм. огуреца и т.д. В формах косвенных падежей подобных слов на месте исконных гласных полного образования Е или О выступал нуль звука.
Отдельную группу составляют заимствования, в которых по анало-гии с русскими словами гласные полного образования исчезли сначала в
52
форме косвенных падежей, а потом вследствие выравнивания парадигмы произошла утрата гласного и в форме именительного падежа единствен-ного числа, исконные гласные «убежали». В настоящей статье рассмо-трим историю утраты этими словами гласного Е.
Слово магистр, магистра в значении «магистр ордена» (с вариантами маистр, маистер, мастер, местер) известно с древнерусской эпохи. В значении «магистр-ученый» это слово появилось в русском языке гораз-до позднее. Первоисточником этого слова является латинское magister – «глава, вождь, правитель, учитель, начальник, руководитель» [33, с. 501]. Вплоть до XIX века в русском языке наблюдается сосуществование вари-антов с гласной огласовкой финали (магистер, магистера, магистеры) и с нулем гласного (магистр, магистра, магистры), о чем свидетельству-ют данные словарей, где как равноправные приводятся обе формы [18; 20; 25], и литературные тексты, например: «Магистер брался все решить, но, по мнению студента, не решил ничего» (Н. Карамзин) [9]; «Француз, по-дорожному очень хорошо одетый, в торжестве сел на лавке между двух офицеров, с насмешкою жалея, что бедного магистера вымочит дождь, который накрапывал» (Н. Карамзин) [9] и «Аничков Димитрий [1733-1788] – Московского императорского университета философии и свобод-ных наук магистр» (Н. Новиков) [10]; «Я отдал ему письмо к магистру Р*, который у него жил, но которого здесь уже нет» (Н. Карамзин) [9].
В художественных произведениях первой половины XIX века про-должают сосуществовать магистер и магистр: «Скажу вам откровен-но, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ» (А. Герцен) [3] и «Магистр в 1304 году призывал в Дерпт всех своих чи-новников и епископов на сейм» (Н. Карамзин) [8]. Что касается косвен-ных падежей, то здесь наблюдается преобладание форм с нулем гласного: «Благословенный игуменом Исидором…, князь новыми подвигами герой-ства заслужил удивление и любовь псковитян; десять дней бился с нем-цами; ранил магистра» (Н. Карамзин) [8]. Со второй половины XIX в. более употребительными становятся варианты с нулем гласного и в фор-ме именительного падежа единственного числа, что, безусловно, нашло отражение в лексикографии: словари, изданные в XIX веке, приводят лишь форму магистр, магистра, магистры [15].
В начале ХХ века в единичных случаях ещё употребляется форма именительного падежа единственного числа с гласным Е, например: «Снегову в новом издании уконтентую вполне. Магистер Магнус Корне-лиус аткве Крокодилиус» (К. Чуковский, А. Реформатский) [34]. Кроме этого, употребление форм этого слова с гласной огласовкой характерно для разговорной речи и просторечья конца XX-начала XXI вв.: «Урааа!!! Я …получил степень магистера технических наук!!!» (запись в блоге опубликована 19.06.2009 (www.ruschudo.ru); «Так что попросил бы ма-гистера подправить названьице темы...» (опубликовано на forum.watch.
53
ru 10.11.2007). Такое словоупотребление не соответствует современной письменной литературной норме.
Слово Министр, министра было заимствовано русским языком в Пет-ровскую эпоху через нем. Minister от лат. minister. «Словарь русского язы-ка XVIII века» указывает как равноправные формы министр, министра и министер, министера [20], однако в памятниках литературы преиму-щественно встречаются формы без гласного: «Приехал из Дрездена наш полномочной Министр граф Бестужев-Рюмин» (М. Волконский) [2]; «Во всё это время слушал я новые от министра обещания» (М. Чулков) [35].
В XIX веке формы без гласного полностью вытесняют исконные фор-мы, о чем свидетельствуют данные словарей: «Словарь Академии Рос-сийской», «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля приводят только формы министр, министра [15; 5].
Однако в художественной литературе XIX–ХХ вв., а также в разго-ворной речи и просторечии нередко можно встретить формы с гласной огласовкой: «– Куда отсюда поедешь? – К министеру» (М. Салтыков-Щедрин) [14]; «Но где же у нас министер-демагог? (А. Толстой) [27]; «Вот подите: благополучие, семейная радость; сияет сам барин, мини-стер» (А. Белый) [1]; «Нянька гнет меня в дугу, А министер – ни гу-гу» (Л. Филатов) [32].
Как видно из примеров, писатели используют варианты, отклоняю-щиеся от литературной нормы, в основном в прямой речи в качестве ха-рактерологического средства, часто в целях создания разговорного или просторечного колорита.
Слово Бурмистр, бурмистра, известное в русском языке с XV века, было заимствовано из нем. Burgmeister [12], и сразу установился вари-ант с финалью -тр, о чем свидетельствуют данные словарей [17; 25], а также художественные тексты:«Правда, что и бурмистр наш, ког-да ездит к Моск ве, то его покупает, но также на наши слезы» (А. Ра-дищев) [13]. Лишь изредка встречаются варианты с гласной огласовкой финали, что делается в целях передачи особенностей живой русской речи: «Есть бурмистер, Михайла Викулов, а приказчика нету» (И. Тур-генев) [30]; «Нам ни почты не надо; бурмистеров не надо…» (А. Толс-той) [29].
Слово Бургомистр, бургомистра заимствовано из голланд. bur-gemeester в 14 веке. Словари древнерусского языка отмечают сосуще-ствование вариантов как с гласной огласовкой финали, так и без гласного [24]. В XVIII веке варианты бургомистр, бургомистра вытеснили вари-анты бургомистер, бургомистера: последние встречаются в разговорной речи, а также в художественных текстах в целях передачи особенностей речи персонажей: «Любчанский бургомистер, от всех имперских вольных городов!» (А. Толстой) [28].
54
Слово Вахмистр заимствовано в XVIII в. из голланд. Wachtmeester [29] или нем. Wachmeister [11] и имело равнозначные варианты вахтмей-стер, вахмастер и вахмистр [19], сосуществовавшие в русском языке до XIX века. В XIX веке последний вариант установился в качестве нор-мы, вытеснив все остальные, о чем свидетельствуют данные словарей [21; 5]. В художественной литературе варианты вахмистер, вахмистера встречаются, как и все слова этой группы, в целях передачи особенно-стей русской разговорной речи: «–Ой, ой, ой! – кричал он, – ой… стой-те! Я расскажу… много расскажу. Господин унтер-вахмистер, вы меня знаете» (И. Тургенев) [30]. В современном русском языке варианты с гласной огласовкой финали проникают в рекламные тексты, в публици-стику, например, в рекламном объявлении, размещенном на сайте продаж русских сувениров: «Оловянный солдатик вахмистер 35-го драгунского Белгородского полка Архип Петровский» (www. gar-ptisa.ru) или в статье С. Резника «Вместе или врозь», размещенной в №17 (302) 2002 г. ин-тернет-журнала «Вестник online»: «Дошло до того, что вахмистер по воспитанию и погромщик по убеждению организовал в Департаменте полиции публикацию нелегальных прокламаций погромного содержания» (www. vestnik.com).
Слово Ротмистр было заимствовано ещё в эпоху древнерусского язы-ка через польское rotmistrz из нем. Rottemeister [31]. Видимо, посредство польского языка объясняет тот факт, что в русском литературном языке сразу установился вариант с финалью -тр, о чем свидетельствуют сло-вари русского языка [22]. Однако в художественных текстах XIX–XX вв. и в разговорной речи варианты с финалью -тер встречаются довольно часто: «Полк возымел желание представить Августейшему Шефу свою историю, составление которой было поручено штабс-ротмистеру пол-ка Юлию Лукиановичу Ельцу» (Ю. Елец) [6]; «Ротмистер Лужин стоя раскуривал трубку» (В. Глинка) [4].
В начале XXI века из разговорного стиля варианты с вокализованной финалью проникают в публицистику, например, на сайте, посвященном описанию достопримечательностей России, можно увидеть: «Выйдя в 1841 г. в отставку в чине штаб-ротмистера лейб-гвардии Конного полка, он [Д.Е. Вяземский] приехал в Усманский уезд» (www. ruschudo.ru) или на сайте, содержащем информацию о новинках кинофильмов, в аннотации фильма «Моя Пречистенка»: «Три молодых офицера – князь Александр Репнин, Павел Куратов и жандармский ротмистер Жорж Надеин – весело встречают Новый 1900 год...» (www. onlyk.ru) и др., что не соответствует литературной норме.
В русской разговорной речи часто можно встретить варианты рассмат-риваемых слов с вставленным гласным О: магистор, министор, ротми-стор и т.д. Например, на различных сайтах Всемирной паутины: «Пре-мьер министор и Ольга Орлова – Синий иней» (www.audiopoisk.com);
55
«Магистор Йода. Пишите, что о нём думаете. Плохое не писать» (http://my.mail.ru); «Колбаска «Бургомистор» собственного производства, по-мидоры, лук «Шалот», перец болгарский, сыр «Моцарелла», соус томат-ный, пряные травы» (www.7th-sky.ru); «Штаб-ротмистор Яликов, в ис-полнении актера Евгения Сидихина, вызывает неподдельную, искреннюю улыбку». (http://seasonvar.ru). Подобные варианты, безусловно, являются нарушением литературной нормы и недопустимы в речи образованного человека.
Итак, история гласного Е в заимствованных словах с финалью -стер в русском языке достаточно сложна: исчезнув в косвенных падежах по аналогии с русскими словами, позже этот гласный был утрачен и в форме именительного падежа единственного числа или же, в разговорной речи, трансформировался в гласный О.
ЛИТЕРАТУРА:1. Белый А. Петербург (1913–1914) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.2. Волконский М.Н. Журнал жизни и службы князя Михаила Никитича
Волконского (1752) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.3. Герцен А.И. Кто виноват? (1841–1846) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.4. Глинка В.Ф. Судьба дворцового гренадера (1979) // Цит. по: www.
militera.lib.ru.5. Даль В.И. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. В 4 т.
Т. 2. – Москва: Типографiя А. Семена, 1865. – 1351 с.6. Елецъ Ю.Л. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.
В 2 т. Т.1 (1824–1865) // Цит. по: www.bookantique.ru.7. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. – М.: Про-
свещение, 1990. – 399 с.8. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 4. (1808-
1820) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.9. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника (1793) // Цит. по:
www.ruscorpora.ru10. Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писате-
лях (1772) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.11. Объясненiе 25000 иностранныхъ словъ, вошедшихъ в употребленiе
въ русскiй языкъ съ означенiемъ ихъ корней. Составилъ Михельсон. – М.: Изданiе книгопродавца А.И. Манухина, 1865. – 718 с.
12. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. В 3 т. Т. 1. – М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1910–1914. – 716 с.
13. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву (1790) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.
14. Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская старина (1887–1889) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.
56
15. Словарь Академии Российской. В 6 ч. Ч. 4. – СПб, 1822 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
16. Словарь древнерусского языка (XI-XIVвв.) // Цит. по: www.onlineslovari.com.
17. Словарь русского языка XI–XVII вв. В 28 вып. Вып. 1. – М.: Наука, 1975 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
18. Словарь русского языка XI–XVII вв. В 28 вып. Вып. 9. – М.: Наука, 1982 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
19. Словарь русского языка XVIII в. В 19 вып. Вып. 2. – Л: Наука, Ле-нингр. отд-ние, 1985 // Цит. по: www.feb-web.ru.
20. Словарь русского языка XVIII в. В 19 вып. Вып. 12. – СПб: Наука, 2001 // Цит. по: www.feb-web.ru.
21. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отделенiемъ Императорской Академiи наукъ. В 3 т. Т. 1. – Санкт-петербургъ: Въ Типографiи Императорской Академiи наукъ, 1847 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
22. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отделенiемъ Императорской Академiи наукъ. В 3 т. Т. 3. – Санкт-петербургъ: Въ Типографiи Императорской Академiи наукъ, 1847 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
23. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. – М.: Уни-верситетская типография, 1891. – 310 c.
24. Срезневский И.И. Материалы к словарю древнерусского языка. В 3 т. Т. 1. – Санктъ-Петербургъ, 1893 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
25. Срезневский И.И. Материалы к словарю древнерусского языка. В 3 т. Т. 2. – Санктъ-Петербургъ, 1893 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.
26. Толстой А.Н. Петр Первый (1929–1945) // Цит. по: www.fictionbook.ru.27. Толстой А.К. Сон Попова (1873) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.28. Толстой А.К. Царь Борис (1870) // Цит. по: www. velib.com.29. Тургенев И.С. Контора (1847) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.30. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. –
М.: Прогресс, 1986 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.31. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 3. –
М.: Прогресс, 1986 // Цит. по: www. etymology.ruslang.ru.32. Филатов Л. Про Федота-стрельца, удалого молодца (1985) // Цит.
по: www.ruscorpora.ru.33. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. В 2 т. Т. 1. – М.: Русский язык, 2002. – 624 с.34. Чуковский К.И., Реформатский А.А. Переписка с московскими
лингвистами (1934-1969) // Цит. по: www.ruscorpora.ru.35. Чулков М.Д. Пересмешник, или Славенские сказки (1766–1768) //
Цит. по: www.ruscorpora.ru.
57
36. Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – М.: Государ-ственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвеще-ния РСФСР, 1953. – 367 с.
Taratina Elena Gennad’yevna
UNSTABLE VOWEL E IN RUSSIAN (CONSIDERING LOSS OF VOWEL E IN HOLDINGS WITH THE ENDING -STER)
Unstable vowel, alternation, zero sound.
This article considers the history of loss of vowel e in holdings with the ending -ster (ми-нистр from Minister, магистр from Magister, бургомистр from Burgmeister) in Russian.
Тимофеева Ольга Николаевнастарший преподаватель Кокшетауского государственного университета
им. Ш. УалихановаКокшетау, Казахстан
РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРАНКАЦИИ
Транкация, транкаты, омонимические отношения, синонимические отношения, полисемия.В статье описывается развитие лексической системы русского языка в резуль-тате процесса образования новых слов способом транкации. В частности, рас-сматриваются такие явления, как омонимия, синонимия и полисемия.
Под транкацией мы понимаем способ безаффиксного словообразова-ния, при котором в качестве словообразовательного форманта выступа-ет усечение производящей базы (слова или словосочетания), например, комменты – комментарии, глобалы – глобалисты, Багамы – Багамские острова. Дериваты, образованные способом транкации, мы предлагаем называть транкатами.
В результате продуктивности транкации в современном русском языке, особенно в последние два-три десятилетия, появилось большое количество простых усеченных дериватов, т.е. таких образований, словопроизводство которых не сопровождается суффиксацией. Примечательно, что этот пласт слов продолжает очень активно пополняться новообразованиями.
В отличие от аббревиатур, которые, во-первых, используются только в книжных стилях, преимущественно в официально-деловом и научном,
58
во-вторых, чаще в письменной его разновидности, в-третьих, сложносо-кращенные слова лишены эмоционально-экспрессивной окраски, транка-ты обладают большими потенциальными возможностями. Так, у них более разнопланова стилистическая палитра и, соответственно, разнообразнее, чем у аббревиатур, сфера функционирования. Сейчас транкаты использу-ются не только в устной, но и в письменной форме языка. Они по-разному характеризуются с эмоционально-экспрессивной точки зрения. Если всег-да подчеркивалось, что значение транкатов не отличается от значения их производящей базы (как и у аббревиатур), то с некоторых пор стали по-являться такие дериваты, значение которых не совпадает со значением мо-тивирующих их слов. Вследствие всех этих свойств и качеств транкатов данный пласт слов более активно, чем аббревиатуры, влияет на развитие лексико-семантических отношений в современном русском языке.
Такое влияние не могло оставаться незамеченным со стороны тех лингвистов, которые изучали природу простых сокращенных слов. Обычно ученые обращают внимание на развитие омонимических и си-нонимических парадигм. Так, в связи с появлением в русском языке про-стых усеченных слов Ю.А. Лазарева обращает внимание на изменения, затронувшие отношения лексической омонимии и синонимии [1, с. 134-146]. Среди усечений она различает два типа омонимии. Это, во-первых, омонимия со словами литературного языка. Например:
автор1 – усечение от авторитет автор2 – создатель какого-нибудь произведения.Второй тип – внутренняя омонимия. Под внутренней омонимией по-
нимается омонимия среди самих усеченных слов: маг1 – магнитофон маг2 – магазин.Действительно, из-за способности транкатов вступать в омонимиче-
ские отношения не только со словами литературного языка, но и между собой, значительно увеличился потенциал формального совпадения слов в современном русском языке.
Ю.А. Лазарева обращает внимание на то, что «омонимичны сущест-вующим в языке словам многие топонимы». В качестве примеров ею при-водятся следующие:
Каша – Каширское шоссекаша – кушанье из сваренной или запаренной крупыКожа – название станции «Метро Кожуховская»кожа – кожный наружный покров тела человека, животного.Мы считаем, что в данном случае необходимо говорить о конкретной
продуктивной модели образования омонимов в результате регулярной тран-кации топонимических наименований. Такая модель распространяется на те случаи усечения, когда в качестве базы выступает непременно атрибутивное словосочетание «прилагательное + топоним» (например, Трубная площадь –
59
транкат Труба) или «существительное-название объекта, который назван именем кого-либо» (например, училище имени Б. Щукина – Щука).
Ю.А. Лазарева считает, что здесь имеет место усечение с нулевой суффиксацией. По нашему мнению, это чистое усечение (т.е. без допол-нительного использования суффикса) с универбацией, в результате чего происходит конденсация значения (а не нулевая суффиксация). Если со-гласиться с Ю.А. Лазаревой, то непонятно, какое значение привносит ну-левой суффикс. Кстати, в работах 60-х годов Е.А. Земская также считала, что здесь имеет место усечение с нулевым суффиксом. Ср.: «Однако наи-более интересны и показательны в рассматриваемом отношении случаи, когда способом образования нового слова является усечение производя-щей основы и производная основа включает лишь нулевой словообра-зующий аффикс» [2, с. 8]. Правда, она приводит примеры, не связанные с топонимическими наименованиями: демисезон – демисезонное пальто. А в монографии «Русская разговорная речь Земская Е.А. этот же и по-добные примеры рассматривает как «семантическую конденсацию соче-тания «прилагательное + существительное» и усечение основы прилага-тельного» [3, с. 125]. В числе примеров, приведенных ею: демисезонное пальто – демисезон, дипломная работа – диплом.
Нами отмечены случаи омонимии, когда топонимы, обозначающие разные географические объекты, в результате их усечения формально со-впали, т.е. стали омонимами. Например:
Санкт-Петербург → Петербург → Питер1 и Петропавловск → Питер2.Кантемировка – Кантемир1 и Кантемировец – Кантемир2.Рассматриваемая продуктивная модель регулярного образования омо-
нимов охватывает не только усечение топонимических наименований, но и личные имена, точнее, фамилии. Особенно показательны здесь приме-ры транкации фамилий известных общественно-политических деятелей, популярных артистов и вообще публичных людей. Ср.
Мавроди (основатель одной из финансовых пирамид) – транкат Мавр1
и мавр2 «Во времена древнего Рима житель северо-западной Африки».Зверев (известный стилист) – транкат Зверь1 и зверь2 «дикое животное».Мы полагаем, что такие усеченные имена известных, публичных лю-
дей приобретают дополнительную коннотацию разговорности, фами-льярности, иногда уничижительности.
Как известно, очень часто по этой модели образуются именно прозвища людей, особенно это характерное явление распространено в общении школь-ников, студенчества. Например, Сорокин – транкат Сорока1 и сорока2 «пти-ца», Гвоздев – транкат Гвоздь1 и гвоздь2 «металлический стержень». Здесь дополнительной коннотации фамильярности, уничижительности нет.
В омонимическую парадигму усечений могут входить не два, а три омонима: кок1 – прическа, кок2 – повар на судне, Кок3 – транкат, образо-ванный от топонима Коктебель.
60
Случаи омонимии нами отмечены среди усечений-онимов. Причем, среди казахских транкатов в русском языке их намного больше по срав-нению с русскими. Ср. русские имена: Николай – Ник1 и Никита – Ник2. А вот примеры действия транкации среди казахских имен: Гульнара – Гуля1, Гульмира – Гуля2, Гулим – Гуля3, Гульназия – Гуля4.
Явление омонимии, т.е. формальное совпадение семантически не свя-занных между собой языковых лексем, представляет собой одно из про-явлений системной организации лексики. И тот факт, что активно появ-ляющиеся в языке усеченные дериваты имеют вид не разрозненных обра-зований, а наоборот, формально упорядочены, на наш взгляд, доказывают неслучайность появления и активного развития транкации как способа словообразования в русском языке.
Другим проявлением системных отношений, также связанных с тран-кацией, является развитие синонимических рядов. Объяснение этому на-ходим в особенности транкации как способа словообразования, а точнее, отношений мотивации между производным и производящим. При тран-кации значение деривата чаще всего эквивалентно значению его произ-водящего. Ср. дембель – демобилизация, транс – трансформатор, чел – человек.
Это и дает основание для рассмотрения полного и усеченного наи-менований как синонимов в языке. Являясь однокорневыми, такие си-нонимы отличаются друг от друга чаще всего стилистической окраской, употребляемостью.
Ю.А. Лазарева предлагает выделять четыре вида синонимических групп. Первую группу образуют усечения с полными наименованиями типа комп – компьютер, трол – троллейбус, пед – педагогический ин-ститут, контакты – контактные линзы. Во вторую группу входят только чистые усечения: биба – библио, пенс – пенсион, Горб – Горбач – Горби, универ – университет. Третья группа представлена дериватами, которые образованы усечением и суффиксацией одновременно: видак – видик, мультик – мультяшка. Четвертая группа включает полное наименование, а также дериваты, образованные чистым усечением и усечением с суф-фиксацией: дир – дирик – диря – директор.
Возможно, что предложенная Ю.А. Лазаревой классификация более наглядно показывает структурное многообразие однокорневых синони-мов. Поскольку в своей работе она рассматривает и суффиксальные об-разования, то в характеристику синонимов ею включаются и особенно-сти, которые привносят в дериват суффиксы. Мы рассматриваем только те случаи транкатов, которые образованы без привлечения суффикса-ции.
Итак, благодаря транкации явление синонимии в русском языке ста-ло развиваться динамичнее. Синонимические ряды увеличились количе-ственно и стали более многообразными прежде всего с точки зрения сти-
61
листических и эмоционально-экспрессивных характеристик усеченных дериватов. Поэтому рассмотренные нами образования можно расценить еще и как пополнение изобразительных ресурсов языка.
Интересно отметить, что отношения антонимии для транкатов не свойственны. Имеются лишь единичные случаи противопоставления усеченных дериватов, например, зёма – земляк и инострань – иностра-нец, нал – наличные деньги и безнал – безналичные деньги.
Характеризуя влияние транкации на развитие лексико-семантических отношений, необходимо отметить и явление полисемии. Как известно, развитие семантической структуры слова показывает его востребован-ность обществом, служит доказательством того, что само слово не яв-ляется случайным в языке и, в свою очередь, может служить базой для номинации разных объектов действительности. Таким образом, те, кто сомневается в закономерности появления и дальнейшего развития тран-кации, не может не считаться с утверждением данного способа словоо-бразования в языке через полисемию его дериватов.
Такими многозначными транкатами могут быть как давно функци-онирующие в языке, так и появившиеся относительно недавно. Напри-мер, в словарях у усеченного деривата кино отмечено три значения: 1. Кинематография, киноискусство; 2. Кинотеатр; 3. Кинофильм. Недавно появившийся дериват видео тоже имеет три значения: 1. Видеофильм; 2. видеомагнитофон; 3. Визуальная информация, представленная в при-годном для обработки техническими средствами виде, напр., цифровое видео.
Полисемия – это своего рода проверка дериватов, в том числе новооб-разований, на прочность. Как правило, слова, не востребованные обще-ством, так называемые «однодневки», не способны к тому, чтобы укоре-няться в языке путем развития производных значений. И наоборот, свою жизненность доказывают такие образования, которые развивают свой по-тенциал, заложенные в них внутренние ресурсы через новые, переносные значения. В настоящее время все больше появляется таких транкатов, в системе которых фиксируется два и более лексических значений.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что роль транкации в раз-витии лексико-семантической системы современного русского языка зна-чительна. А это подтверждает мысль о том, данный способ словообразо-вания постепенно все больше утверждается в языке.
ЛИТЕРАТУРА:1. Лазарева Ю.А. Усечение в современной речи: дис. … канд. филол.
наук. – М., 2004. – 239 с.2. Земская Е.А. Понятия производности, оформленности и членимо-
сти основ // Развитие словообразования современного русского языка. – М.: Наука, 1966. – С. 3-12.
62
3. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговор-ная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М.: Наука. – 1981. – 276 с.
Timofeyeva Olga Nikolayevna
DEVELOPMENT OF LEXICAL SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF TRUNCATION
Truncation, truncuts, homonymic relations, synonymic relations, polisemy.
In the paper we describe development of lexical system of Russian language resulting in the process of creating new words with the use of truncation. In particular, homonymy, synonymy, and polisemy are considered.
63
ЯЗЫК – КУЛЬТУРА – ОБЩЕСТВО
Константинова Алла Юрьевнаканд. филол. наук, профессор
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
[email protected]Алексеева Ольга Вячеславовна
([email protected])Инь Сяо
([email protected])Назаров Орифжон Шавкатович
([email protected])Чистова Елена Васильевна
(evchistova@ pushkin.institute)аспиранты
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР: ПО СЛЕДАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Национальный характер, черты русского национального характера.
В настоящей статье представлены сравнительные характеристики черт русского национального характера в зеркале восприятия носителей разных культур, в том числе и русской. Авторы не преследуют цели разрушения имеющихся стереотипов, а хотят выявить и объяснить их природу, степень достоверности и устойчивости.
Научные наблюдения, обобщения и интерпретация русского нацио-нального характера относятся к сфере междисциплинарных исследований и поэтому не могут сводиться только к констатации тех или иных менталь-ных стереотипов или способам их языкового выражения [3]. Каждый ис-следователь вольно или невольно подходит к этой теме как идеолог, потому что он находится внутри определенной культуры, внутри своего социума, внутри своей социальной и гендерной группы [4]. У него не может не быть человеческой симпатии или антипатии к определенным свойствам чело-веческой личности, которые он должен преодолеть как беспристрастный
64
исследователь. Вопрос заключается в том, в какой мере это возможно и не-обходимо ли такое преодоление, или же, напротив, издержки человеческой рефлексии могут использоваться как инструмент измерения и интерпрета-ции фактов [2]. Иначе говоря, к материалам исследования необходимо при-кладывать, по меньшей мере, анкету респондентов, включающую сведе-ния, которые могут существенно повлиять на интерпретацию результатов. Вряд ли можно надеяться на то, что будет получена «объективная» картина и установлены «объективные» черты русского национального характера, но есть большая вероятность увидеть их сравнительные характеристики в зеркале восприятия русских носителями других культур, других языков, различных идеологий [5]. Такой подход не преследует цели разрушения имеющихся стереотипов. Он может помочь объяснить их природу, степень достоверности и устойчивости.
Руководствуясь этим общим принципом, мы разработали четыре типа анкет для того, чтобы не только выявить положительные и отрицатель-ные черты русского национального характера, но и установить зависи-мость их репертуара от их культурного и языкового типа анкетирующего и анкетируемых, от способа языкового выражения этих черт, от возраста и уровня образования анкетируемых.
Анкета №1 предложила китайским студентам разных вузов самим на-звать а) 10 положительных и 10 отрицательных черт русского националь-ного характера, б) положительные и отрицательные качества русских лю-дей в глазах китайцев.
Процитируем их выводы: «Когда речь идет о русском национальном характере, то по результатам данного анкетирования можно прийти к вы-воду: положительные характеры всех наций похожи друг на друга, а от-рицательные характеры у каждой нации свои». Главные положительные черты национального характера русских: вежливость, доброта, твер-дость, мужество, оптимизм, гостеприимство, наличие чувства юмора (иногда «черного» юмора), прямой характер. Многие китайцы считают, что у русских одновременно серьезный и открытый характер. С точки зрения большинства студентов, откровенность и щедрость тоже отно-сятся к группе положительных черт.
Студенты назвали больше разнообразных положительных черт рус-ских, чем отрицательных. Отрицательные черты русских в их ответах оказались более сходными. Это высокомерие, равнодушие, пьянство, неэффективность в работе, воинственность, лень. Упрямство, непун-ктуальность, *антииностранность (ксенофобия). Кроме того, к группе отрицательных черт студенты отнесли также агрессивность, грубость, небрежность, безразличие, консервативность.
Разделение задания на а) и б) дало неожиданный результат. Предпо-лагалось, что респонденты позволят себе уточнить слово (т.к. анкетиру-емые не являются носителями языка). Обнаружилось, что языковое вы-
65
ражение связано не столько со знанием языка и правильным выбором слова в словаре, сколько с ментальной реакцией на формулировки. В задании а) китайские студенты сосредоточились на перечислении того, что им было известно не столько из личного опыта, сколько из обуча-ющих текстов. Об этом свидетельствует повторяемость таких черт как мужество, удаль, оптимизм, вежливость, патриотизм, хлебосольность, которые в ответах на задание б) практически не находят подтверждение. Здесь видны следы поиска точной формулировки в словаре, есть случаи словотворчества. В целом же ясно, что ответы соответствуют личному опыту. Не находят подтверждения вежливость, оптимизм, удаль. Напро-тив, в выводах констатируется грубость. Слово хлебосольность (явно взятое из учебных текстов), в большей степени заменяется словом госте-приимство, а слово мужество словом смелость, что, видимо, уточняет их оценку качеств личности русских. В целом же удивляет полнотой ре-пертуар положительных черт русского народа. С точки зрения китайцев, у русских большой инновационный потенциал, они страстные, роман-тичные, «художественные», талантливые, джентльмены, культурные, духовные, модные, изящные, непобедимые. Среди отрицательных качеств чаще называют леность, пьянство, крайности, своенравие, нетерпение, суеверия, беспечность, агрессивность, высокомерие, неэффективность.
Настораживают и такие черты, как мужской шовинизм, равнодушие, жадность, непримиримость, неуважение к слабым, безжалостность, насилие, самодовольство, упрямство.
Приведем черты характера, указанные во второй анкете, предназна-чавшейся смешанной группе иностранных студентов.
Положительные черты характера русских: доброта, гуманность, ду-шевная мягкость, сила воли, мужество, смелость, любовь к природе, сво-бодолюбие, стремление к поиску правды и справедливости, трудолюбие, одаренность, щедрость, гостеприимство, чувство юмора, религиозность, скромность, героизм, жертвенность, уважение к старшим, оптимизм, отзывчивость, честность/ прямодушие, естественная непринужден-ность, уживчивость, терпение, гибкость, инициативность, надежность, уверенность в себе, пунктуальность, благодарность.
Отрицательные черты характера русских: предубежденность, пассив-ность, неорганизованность/ неопределенность, неточность, пьянство, рационализм, замкнутость, импульсивность, сентиментальность, агрес-сивность, грубость, неулыбчивость, леность, потребительство, эгоизм, равнодушие.
Главной задачей мы определили косвенно выявить и представить ре-пертуар общих и необщих черт русского национального характера. С этой целью было дано еще одно задание: сформулировать самостоятельно ос-новной репертуар положительных и отрицательных черт характера рус-ских, которые могут найти или не найти подтверждение в ходе анкетиро-
66
вания. Представленная выше анкета демонстрирует самим репертуаром и личностными комментариями 29 основных в глазах иностранных студен-тов черт характера русского человека. Многие черты сходны или повторя-ют названные китайскими студентами в анкете №1 щедрость, мужество, героизм, гостеприимство, чувство юмора, оптимизм. В то же время есть и различия. В частности, здесь названы такие черты, в отсутствии которых респонденты упрекали русских (уважение к старшим, инициативность, пунктуальность, гуманность, трудолюбие). Среди отрицательных черт нашли подтверждение респондентов неточность (непунктуальность), пьянство, агрессивность, неулыбчивость, равнодушие, грубость.
Интересно, что и в первом, и во втором случае (в моноэтнической и поли-этнической аудитории) в качестве отрицательной черты респонденты назы-вают сентиментальность. Природа такой квалификации требует уточнения.
Анкета №3 предназначалась для русской аудитории. Она задает репер-туар качеств русского человека в целях этнокультурной саморефлексии. В самом репертуаре наличествовали как отдельные именования черт харак-тера, так и парные, антонимичные, типа щедрость – жадность, актив-ность – пассивность, злопамятность – незлопамятность. Они маркиро-вали названия тех черт, которые вызывали споры не только у респондентов, но и у теоретиков в области когнитивистики и лингвокультурологии.
Приведем фрагмент анкеты (качества предложенные оценке респон-дентов). Активность (агентивность) ДружелюбиеПассивность (неагентивность) Склонность к прощению Безынициативность ГостеприимностьЛеность РадушиеВысокомерие СдержанностьГордость ТерпеливостьЛицемерие РавнодушиеИскренность ЗлопамятностьОтзывчивость Участливость к другим Преданность НезлопамятностьОткрытость ИнтеллигентностьВеселость СовестливостьОптимистичность СправедливостьЗамкнутость ПослушностьСкромность НепрактичностьНеуверенность в себе БунтарствоДоверчивость ЛихостьДушевность ИзобретательностьНескромность ГероизмЦиничность Патриотичность
67
Безответственность КонсервативностьНевоспитанность МаксимализмРасточительность ИдеализмЩедрость УпрямствоЖадность Несамостоятельность Агрессивность РелигиозностьЗавистливость ИндивидуалистичностьЗлобность Склонность к коллективизмуГрубость Противоречивость (характера)Доброта
Анализ показал, что наиболее типичными для самоощущения русских являются следующие черты национального характера: душевность, ис-кренность, радушие, изобретательность, героизм, совестливость, го-степриимность, доброта, склонность к прощению, леность, справедли-вость, упрямство, щедрость, религиозность.
Респонденты не согласились с тем, что типичными для русского наци-онального характера являются такие черты, как невоспитанность, высо-комерие, циничность, лицемерие, злобность, жадность, агрессивность, завистливость, равнодушие, злопамятность, сдержанность (последо-вательность сохранена).
И, наконец, анкета №4, предназначенная для русской аудитории сту-дентов, преследовала цель выяснить какие из предложенных черт русско-го национального характера, в сознании самих русских являются реаль-ными, а какие – мифологемами, природу которых необходимо дополни-тельно исследовать.
С целью выяснения мифологем предлагалось отметить утверждения, которые, на взгляд респондентов, не вызывают доверия, являются мифом.
Приведем фрагмент этой анкеты:Русские пассивны от природыРусские активны в личной жизни, но пассивны в социальном планеРусские всегда активныРусские активны только в экстремальных ситуацияхРусские становятся активными только по мере необходимостиРусские надеются на судьбу (склонны к фатализму)Русские рассчитывают только на себя (не верят в судьбу)Русские сумрачны и неулыбчивыРусские подозрительны, подходят к другим с предубеждениемРусские ленивыРусские семьи по кладу патриархальныВ настоящее время русская семья строится по либеральной моделиРусские активны по отношению к другим, но пассивны по отношению
к собственной жизни
68
Русские легки в общенииС русскими тяжело общатьсяРусские легко общаются с близкими людьми, но с трудом – с незна-
комымиРусские не любят порядка во всемРусские не законопослушныДля русских главное не закон, а справедливость Русские несправедливы к себеРусские несправедливы к другимРусские слишком скромныРусские долго «запрягают», но действуют потом очень быстроРусских не отличает аккуратностьРусские мелочныУ русских широкая душаРусские доверчивыРусские недоверчивы и подозрительныРусские радушныРусских не отличает радушиеРусские любят других больше, чем самих себяВ результате анализа выяснилось, что русские считают мифом следу-
ющие свои черты характера: пассивность, отсутствие радушия, мелоч-ность, скромность, отсутствие веры в судьбу, незаконопослушность, недоверчивость и подозрительность, несправедливость к другим, необ-щительность.
Сопоставительный анализ анкет позволил не только выявить общие черты русского национального характера с точки зрения самих русских и представителей других народов и культур, но и подвергнуть сомнению две выделяемые учеными черты – пассивность и феминность [1; 6]. Пас-сивность признается мифом, не указывается как типичная черта или на-зывается ее антонимическая пара – активность.
Феминность обычно констатируется как совокупность черт с доми-нантой мягкость, отсутствие сопротивления, безвольность и т.д. При выделении трех основных черт русского национального характера по ре-зультатам анкетирования в него попадают мужество и героизм, что пря-мо противоречит идее феминности.
Природа этих несоответствий требует дополнительного анализа исто-рии данных когнитивных представлений, роли авторитетных мнений и добросовестных заблуждений относительно прямых корреляций между языковыми структурами и определенными чертами характера носителей данного языка.
ЛИТЕРАТУРА:1. Вежбицка А. Семантика грамматики. – М.: РАН ИНИОН, 1992. – 31 с.
69
2. Маслова В.А. Новые направления в лингвистике. – М.: Издатель-ский центр «Академия». – С. 177-187.
3. Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведе-ние. – М.: Флинта Наука, 2006. – 328 с.
4. Сергеева А.В. Русские: Как мы изменились за 20 лет? – М.: Флинта Наука, 2015. – 432 с.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2010. – 146 с.
6. Hall E.T. Beyond Culture. – Garden City, NY. – 1976 – 288 c.
Alekseeva Olga Vʼacheslavovna, Chistova Elena Vasilʼevna, Ging Xiao, Konstantinova Alla Yuryevna, Nazarov Orifzhon Shavkatovich
RUSSIAN NATIONAL CHARACTER: IN THE WAKE OF QUESTIONNAIRE
National character, features of the Russian national character.This article presents the comparative characteristics of the features of the Russian national character in the mirror of perception of different cultures holders, including Russians. The authors do not have the goal of destroying existing stereotypes. They want to identify and explain their nature and the degree of reliability and stability.
Богатурова Лилия Анатольевнаканд. филол. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина[email protected]
Страмнова Татьяна Владимировнаканд. пед. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
ГОВОРИМ О ПОЛИТИКЕ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ТЕЛЕПРОГРАММАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Аудирование, осмысление, вероятностное прогнозирование, навыки и умения, общественно-публицистические темы.В статье представлен один из возможных приемов работы с текстом общест-венно-публицистического характера на примере ежегодного послания Президен-та РФ Федеральному Собранию 03.12.2015.
70
Продолжая обсуждение темы о разработке серии заданий на развитие навыков и умений аудирования, говорения и чтения текстов обществен-но-публицистического характера, начатого нами в предыдущей статье [1], остановимся более подробно на серии речевых заданий, назначение кото-рых – активизация языкового материала в условиях учебно-речевого и, отчасти, естественно-речевого общения. Практическим материалом для анализа послужило ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Фе-деральному собранию 3.12.2015 года. Задания рассчитаны на учащихся, владеющих русским языком на уровне не ниже ТРКИ-1 (В1).
Предлагаемая нами методическая работа строится с учетом:1. Особенностей монологической речи общественно-политического
характера, среди которых приоритетными являются:– наличие конкретного факта, явления общественно-политической
жизни; информирование о событии с обязательным комментарием к нему, цель которого – убедить зрителя (слушателя) в правильности вы-сказанной позиции;
– эмоционально-оценочной характеристики, передаваемой, прежде всего, оценочными словами, тональностью сообщения в целом.
В анализируемых нами материалах к таковым можно отнести сле-дующие: заварить кашу (в значении «начать делать что-нибудь непри-ятное, хлопотливое»), умыть руки (в значении «отстранившись, снять с себя ответственность за что-либо»), набивать свой карман (в значении «наживаться»), отделаться помидорами (в значении «уклоняясь от чего-нибудь, ограничится чем-нибудь несущественным»), переломить хребет бандитам, новоявленные мракобесы;
– устной формой телемонолога, диктующей необходимость учета тес-ной взаимосвязи и взаимозависимости психологических процессов по-рождения и приема устного высказывания, основывающегося на работе ряда общих для аудирования и говорения механизмов (осмысления, па-мяти, вероятностного прогнозирования и др.). Чтение при этом носит до-полнительный, вспомогательный характер, и работа над ним в большей степени выносится за рамки аудиторных занятий в качестве материала для самостоятельной работы. Самостоятельная обработка учащимися ма-териалов телепередач закрепляет и дополняет навыки и умения, получен-ные ими на аудиторных занятиях, а обучение в условиях языковой среды позволяет расширить и разнообразить задания;
– последовательности расположения упражнений от рецепции к ре-продукции с учетом такого нарастания трудностей, когда каждая после-дующая группа упражнений основывается на навыках и умениях, разви-тых упражнениями предыдущих групп.
Заключая теоретическую часть статьи, необходимо сказать об исполь-зовании упражнений в говорении для развития аудитивных навыков и умений. В частности, на контролирующей фазе упражнения в говорении
71
«замыкают цепь общения» [2], создают гарантию того, что информация, воспринятая на слух, правильно осознана.
В связи с этим, мы не выделяем специальные упражнения на проверку понимания услышанного, поскольку, как нам кажется, эти функции могут быть совмещены отчасти с речевыми упражнениями на говорение. Ха-рактер последних таков, что правильное их выполнение невольно будет свидетельствовать и о правильном понимании услышанного. Однако, в предлагаемой серии упражнений предусмотрены специальные задания, ориентированные на контроль понимания звучащих текстов. Типы зада-ний дают возможность проводить контроль понимания:
– на смысловом уровне;– на уровне воспроизведения понятого текста.Цель таких заданий – наряду с развитием устной речи учащихся –
определить уровень сформированности навыков и умений аудирования.Таким образом, речевые упражнения подразделяются на группы:1. Речевые упражнения в аудировании.2. Речевые упражнения в говорении:а) упражнения на воспроизведение;б) упражнения на воспроизведение с оценкой.Речевые упражнения, обучающие аудированию.1. Прослушайте фрагмент из выступления, где говорится о нараста-
нии угрозы терроризма в мире. Назовите слова, факты, свидетельствую-щие об отношении автора к описываемым событиям.
2. Прослушайте фрагмент из выступления, где приводятся примеры террористических атак на территории России в 90-х годах:
а) перечислите их и коротко прокомментируйте;б) скажите, к какому выводу приходит автор.3. Прослушайте фрагмент из выступления, объясняющий решение
российского руководства начать военную операцию в Сирии против бо-евиков. Скажите, чем автор аргументирует необходимость принятия та-кого решения.
4. Прослушайте фрагменты из выступления. Определите количество равноправных тем. Назовите их.
Речевые упражнения, обучающие говорению.а) на воспроизведение.1. Прослушайте фрагменты из выступления, содержащие географиче-
ские названия. Покажите их на карте и кратко охарактеризуйте.2. Прослушайте фрагменты из выступления, говорящие о роли России
в борьбе с международным терроризмом. Добавьте факты, не упомяну-тые в выступлении, но известные вам из СМИ и Интернета.
3. Прослушайте фрагмент из выступления, где говорится о позиции ру-ководства Турции по вопросу о терроризме. Выделите основные моменты, иллюстрирующие эту позицию. Скажите, какой вывод сделал автор.
72
4. Прослушайте (посмотрите) информационную программу («Вести», «Время» и др.). Отметьте сообщения, аналогичные темам, прозвучавшим в выступлении. Передайте эти сообщения в аудитории.
5. Найдите в газетах или в Интернете проблемные статьи большого объ-ёма по теме «Международный терроризм». Сделайте на основе этих статей короткие сообщения по типу информационных в телепередачах «Вести», «Время» и др. Проанализируйте сообщения других учащихся группы с точки зрения содержания, языковой правильности, актуальности.
б) на воспроизведение с оценкой.1. Прослушайте фрагмент выступления, рассказывающий об уроках
прошлого. Обратите внимание на вывод, сделанный автором. Если вы со-гласны с выводом, приведите доводы, подтверждающие его, если не со-гласны, скажите почему.
2. Прослушайте фрагмент из выступления, касающийся позиции ру-ководства Турции по отношению к террористам. Вспомните (или прочи-тайте в Интернете) сообщение, в каком-то отношении напоминающее со-держание прослушанного фрагмента. Расскажите о нём. Выскажите свое мнение относительно данных событий.
3. Обменяйтесь мнениями с учащимися вашей группы по поводу про-слушанного выступления. Какая тема из услышанных вызвала у вас наи-больший интерес и почему? С какими аргументами и по каким вопросам вы согласны, а с какими нет?
4. Посмотрите несколько новостных телепередач («Вести», «Время» и др.), выберите какое-либо событие, близкое по тематике к тем, которые прозвучали в выступлении. Подготовьте краткое сообщение.
В заключение заметим, что в условиях языковой среды, которая обеспечивает реальное иноязычное общение и эмоциональное удовлет-ворение учащихся, возможности организации нетрадиционных форм контроля по развитию навыков и умений, как понимания, так и вообще устного говорения, значительно расширяются. В естественных, реальных условиях коммуникации контролирующие задания предоставляют гово-рящему возможность любыми доступными ему средствами адекватно и эффективно решить поставленную перед ним речевую задачу, опираясь на естественную мотивацию. В данном случае открывается возможность проводить «скрытый» (по терминологии Л.В. Шипицо) контроль речевой деятельности, при котором учащийся не подозревает о том, что в этот момент его проверяют. В связи с этим особенно эффективны в условиях языковой среды задания типа:
– подготовьте и проведите беседу «за круглым столом» с русскими студентами с целью обмена мнениями по различным общественно-зна-чимым проблемам (или по одной проблеме);
– подготовьтесь к встрече с членами редакции одной из московских газет с целью обсуждения публикуемых в ней материалов.
73
Нацеливая учащихся на использование изучаемого материала как средства коммуникации, преподаватель дает ему возможность не только излагать свои мысли на русском языке, но и передавать свое отношение к сказанному.
Применение предложенной методики будет эффективнее, если до-биться более тесной взаимосвязи традиционных аудиторных занятий с внеаудиторными и, прежде всего, с новыми формами организации само-стоятельной работы, помогающими оптимально использовать в учебных целях разнообразные источники информации, в частности, видеоматери-алы, компьютер. Последние дают возможность повысить мотивацию са-мостоятельной работы учащихся и контролировать когнитивный процесс и его результаты в виде сообщений, докладов или творческих работ.
ЛИТЕРАТУРА:1. Богатурова Л.А., Колеватова М.И., Страмнова Т.В. Слушаем, пони-
маем, говорим… (Из опыта работы над информационными программами общественно-публицистического характера). – В сборнике материалов на-учно-практической конференции «Методика преподавания РКИ: традиция и современность» 8 апреля 2015 года. – М.: ГИРЯП, 2015. – 268 с.
2. Шилкина Л.В. Методические основы использования средств массо-вой коммуникации (радио) для обучения аудированию в языковом вузе: дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук – М., 1973. – 247 с.
Bogaturova Liliya Anatoljevna, Stramnova Tatyana Vladimirovna
TALKING ABOUT POLITICS. FROM THE EXPERIENCE WHILE WORKING OVER INFORMATION TV PROGRAMS
OF SOCIAL AND JORNALISTICS CHARACTER
Listening, apprehension, probabilistic forecasting, skills and habits, social and journalistic themes.
The article presents one possible method of incorporating texts with political vocabulary based on the example of President’s message to the Federal Assembly of the Russian Federation on 03.12.2015.
74
Ван Шупинаспирант Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. ТолстогоТула, Россия
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ «УДИВЛЕНИЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Эмоция «удивление», эмотивная лексика, выражение эмоций, лексика.
В данной статье рассматривается выражение эмоции «удивление» посредством эмотивной лексики. Детальному рассмотрению с элементами анализа подверга-ются три типа лексики, отражающей эмоции человека: лексика, называющая эмоции; лексика, описывающая эмоции; лексика, выражающая эмоции, когда чув-ство заложено в семантике слова.
Эмоции представляют сложность в изучении как у психологов, так и у лингвистов, являясь при этом неотъемлемой частью внутреннего мира человека, всегда интересовавшего ученых. Эмоции являются непосред-ственной формой выражения чувств, настроений, одним из регуляторов жизни человека, пронизывают всю его жизнь, сопутствуют любой его де-ятельности. И.Е. Герасименко отмечает: «... эмоции находят закономер-ное выражение в языковой системе в такой же степени, как и прочие объ-екты, включенные в сферу психической жизни человека» [4, c.41].
Для выражения эмоций человек использует различные средства, такие как лексика, мимика, жесты. Наиболее ярким и интересным средством выражения эмоций является эмотивная лексика. По мнению Л.Г. Бабен-ко, «во всем множестве эмотивной лексики можно выделить некоторое количество исходных эмотивных смыслов, соответствующих базовым эмоциям: удивление, страх, радость, интерес, горе, гнев, отвращение, презрение, стыд, вина» [1, с.31].
В данной статье рассматривается выражение эмоции «удивление» по-средством эмотивной лексики. Е.A. Брызгунов считает, что «удивление – это эмоциональная реакция говорящего на неожиданность несовпадения ожида-емого и реального» [2, с.16]. Е.М. Вольф утверждает, что «сфера удивления может быть и хорошей, и плохой, удивляются и радостным событиям, и го-рестным, а также нейтральным по знаку – неожиданным» [3, с.60].
В.И. Шаховский в своей работе «Категоризация эмоций в лексико-се-мантической системе языка» выделяет 3 типа лексики, отражающей эмо-ции человека [7]:
1) лексика, называющая эмоции (т.е. дающая им имя):а) – Знаю, что зовут его все Кирпич.
75
– Странный вы народ, жулики! Смотрю на вас и удивляюсь! Как со-баки-жучки: ни имени, ни роду – одни клички! [6];
б) – Да-а... Гильза наша. Хм... Удивительно! Ну что ж, запишем в за-гадки. Но все равно надо искать оружие! [5].
В данных примерах слова «удивляюсь» и «удивительно» называют, обозначают, точно передают эмоцию, испытываемую говорящим. В 1-ом примере Жеглов удивлен порядками, заведенными в среде жуликов, во 2-ом примере сыщик удивлен несоответствию иностранного оружия и от-ечественной пули, выпущенной из него.
2) лексика, описывающая эмоции (позы, особенности речи, взгляда). В данных группах лексики выражение эмоций в семантике слова являет-ся рациональным:
– Ты не должен был совать Кирпичу кошелек в карман, – тихо сказал Шарапов и отвернулся к окну.
– Ах!...Вот!!! – от прямоты Шарапова у Жеглова перехватило ды-хание, он широко раскрыл глаза, быстро посмотрел по сторонам, как-будто кого-то искал, и, пару секунд простоял с открытым ртом, не зная, что ответить.
– Ну что ж, сейчас еще не поздно! Давай вернемся в отделение и ска-жем, что ошибка вышла! [6]
В вышеописанном примере эмоции и чувства героя выражены по-средством описания особенностей речи и мимики.
3) лексика, выражающая эмоции (при этом сама эмоция не называется), когда чувство заложено в семантике слова, передающего через косвенное обозначение эмоциональное состояние говорящего, его переживание и чувственное отражение происходящего, увиденного или услышанного:
– Ну-ка, – из левого кармана жулика дежурный извлек кошелек, и, подняв его над головой, спросил: –Чей кошелек?
– Ой! Ой! – вскрикнула женщина, сложив ладони на груди. – Мой кошелек! [5]
Здесь мы видим, что междометие «Ой!» выражает удивление в соче-тании с радостью женщины, которая уже было отчаялась отыскать укра-денный кошелек.
Таким образом, можно утверждать, что существует три основных типа выражения эмоции «удивление» в русском языке, которые часто ис-пользуются в художественной литературе. Основываясь на проанализи-рованных примерах, можно дать следующее определение: эмоция «удив-ление» – это эмоция, возникающая в результате неожиданной ситуации и являющаяся реакцией, оценкой или отражением чувств говорящего.
ЛИТЕРАТУРА:1. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском
языке. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1989.
76
2. Брызгунова Е.А. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 166 с.
3. Вольф Е.М. Эмоциональные состояния и их представление в язы-ке // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагмати-ческих контекстов. М., 1989. С. 55–75.
4. Герасименко И.Е. Использование оценочной лексики во вторичной номинации: дис. … канд. филол. наук. М., 2002. – 189с.
5. Место Встречи Изменить Нельзя [Видеофильм] / реж. Станислав Говорухин; в ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юр-ский; Одесская киностудия, 1979. – серия 1.
6. Место Встречи Изменить Нельзя [Видеофильм] / реж. Станислав Говорухин; в ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юр-ский; Одесская киностудия, 1979. – серия 2.
7. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. 2-e изд., испр. и доп. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
Wang Shuping
EMOTION REPRESENTATION «SURPRISE» IN RUSSIAN
Emotion «surprise», emotive lexicon, expression of emotions, leхicon.
The abstract: In this article emotion expression «surprise» is considered by means of emotive lexicon. Three types of the lexicon reflecting emotions of the person are exposed to detailed consideration with the elements of the analysis: the lexicon calling emotions; the lexicon describing emotions; the lexicon expressing emotions when the feeling is in the semantics of the word.
Вахрушева Мария Александровнастудент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
[email protected]Нестерова Татьяна Вячеславовна
канд. филол. наук, профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
НЕОЛОГИЗМЫ В ТЕКСТАХ СМИ Неологизмы, неоморфемы, словообразовательные модели, СМИ, интернет, рус-ский язык.
В статье рассмотрены различные типы неологизмов в текстах СМИ (печатных и электронных) за 2015 г.
77
Язык как сложная динамическая система находится в постоянном движении и развитии. Наиболее значительным примером динамического характера языка является постоянное изменение его словарного состава. В данной статье мы остановимся на процессе появления новых слов (не-ологизмов), ранее отсутствовавших в языке. Стоит отметить, что появле-ние новых слов и словосочетаний, в которых находят отражение явления и события современной действительности, стимулирует и новые процес-сы в области словообразования, словоупотребления и словоизменения. В этой связи новые явления в лексике необходимо рассматривать с учетом новых словообразовательных моделей. Можно выделить как наиболее продуктивные способы словообразования, так и словообразовательные неоморфемы. Так, в текстах СМИ и Интернета за 2015 г. появилось боль-шое количество неологизмов, образованных с помощью сложения или сращения целых слов, основ слов, целого слова и части слова, а также с помощью аффиксальных способов словообразования. При этом, в ка-честве производных могут выступать как русские лексемы, так и заим-ствованные [2; 4]. Среди неологизмов можно выделить узуальные и ин-дивидуально-авторские, окказиональные. Последние связаны с языковой игрой и чаще всего содержат отрицательно-оценочные, иронические ха-рактеристики. Поскольку объем данной статьи не позволяет рассмотреть все выделенные нами неологизмы, мы приведем примеры некоторых из них. Материалом для исследования послужили статьи журналистов, опу-бликованные в печатных и электронных СМИ в 2015 году.
Отметим, что к продуктивным относятся неологизмы, составной ча-стью которых является заимствованное слово «селфи» (англ. selfie, от «self» – сам, лично). Статья в Оксфордском словаре, посвященная «сел-фи», дает такое толкование этому понятию: «Селфи, сущ., разг. – фото-графия самого себя, сделанная преимущественно с помощью смарт-фона или вебкамеры и размещенная в социальных сетях» [5]. Стоит отметить, что словообразовательное гнездо от слова «селфи» активно пополняется с каждым днем:
1. «Груфи» [24] (сложение усеченных основ английских слов Group – группа + Selfi) – панорамное групповое селфи.
2. «Фитнес-селфи» [24] (сложение слов «фитнес»+«селфи»). Обознача-ет фотографирование самого себя в зеркале спортзала на фоне тренажеров.
3. «Бифи» [24] (усечениe основ английских слов Bikinis – открытый женский купальный костюм, состоящий из двух отдельных элементов + Selfie) – селфи в бикини, чаще всего на пляже.
4. «Экстрим-селфи» [24] (сложение основ английских слов Extreme – экстрим + Selfie) – селфи экстремалов. Дается следующее определение понятия «экстрим»: (от англ. Extreme – крайний, крайность, крайняя сте-пень) 1) новые, нетрадиционные виды спорта, предполагающие не столь-ко достижение определенных результатов, сколько остроту ощущений,
78
«адреналин»; 2) жаргонное определение всякой острой ситуации либо сильного переживания [6].
5. «Селфицид» (сложение слова «selfie» и части слова «дефицит») [14]. Автором данного неологизма является психотерапевт М. Сандомирский (об этом также сообщается в источнике [14]). В его семантике – связь с целым рядом страшных и нелепых смертей, которые произошли в резуль-тате погони за необычными снимками.
Большой объем в текстах СМИ и интернета занимают индивидуально-авторские окказионализмы. Эти неологизмы имеют автора и, в большинстве случаев, существуют в единичном варианте. Так, в «Литературной газете» (выпуск №31) [10] вышла статья Г. Цаголова «Уроки грекопадения», по-священная экономической обстановке в Греции (этапы падения экономики страны). В названии статьи – окказионализм «грекопадение», мотивирован-ный существительном «грехопадение». Неологизм «Кикимры» (сложение усеченной основы слова «кикимора» и названия города Кимры Тверской об-ласти) зафиксирован нами в заголовке статьи «Кикимры небесные» в журна-ле «Русский репортер» [18]. Автор статьи пишет о том, что город находится не в лучшем состоянии: «обшарпанные» здания, безработица, отток насе-ления. Неологизм представляет собой ироническую номинацию, содержа-щую имплицитную негативную характеристику настоящего положения дел в городе. Неологизм «осытенели» (сложение части слова «сытый» и глагола «осатанеть» – «прийти в состояние крайней злобы и бешенства» – [3]) явля-ется названием статьи Ю. Латыниной на сайте novayagazeta.ru [23]. Статья является негативным откликом на события августа 2015 г., когда началось уничтожение продуктов, которые попали под эмбарго, однако были ввезе-ны в нашу страну. В лиде статьи написано: «Власти поставили рискованный эксперимент с публичным уничтожением еды в стране, население которой все еще поклоняется культу жрачки». Данный неологизм является отрица-тельно-оценочной номинацией, отражающей ироническое отношение авто-ра статьи к данным событиям. На фоне августовских событий возник еще один неологизм – «сыроцид», который можно истолковать как «уничтожение запрещенных партий сыра» (сложение слова «сыр» и «геноцид»; «геноцид – истребление отдельных групп населения, целых народов по расовым, наци-ональным или религиозным мотивам» [8]). Он упоминается в статье К. Тур-ковой «Словарный запас. Выпуск 24» на сайте Snob.ru [19].
Мы обнаружили, что и авторские неологизмы могут становиться «до-норами» словообразовательных парадигм. Так, придуманное в 2000-м году писателем В. Дороховым существительное «лжизнь» (так он на-звал свою повесть (http://samlib.ru/d/dorohow_wlad/lzhiznx.shtml) (сло-жение части корня «лживый» и слова «жизнь»; лжизнь – лживый или ложный способ существования) стало актуальным для обозначения реа-лий современной жизни, дало целый ряд неологизмов в интернет-среде. О них пишет А. Донецкий на сайте Псковской ленты новостей в статье
79
«Словарный запас. Всевластная ложь» [22] (приведенные ниже объясне-ния неологизмов принадлежат А. Донецкому): «лжитие – лживое жи-тие»; «лжизненнный – ложно жизненный, не жизненно важный»; «лжи-вьем – не живьем». Так, многие звезды шоу-бизнесса выступают на сцене «лживьем», то есть поют под фонограмму (прим. – авторов); «лжертва – ложная или лживая жертва»; «лживотрепещущий, то есть мнимо-акту-альный, для отвода глаз. Когда власть оказывается в тупике, она начинает ставить перед обществом лживотрепещущие вопросы».
Неологизм «шикономия» (сложение слова «шик» и усеченной основа слова «экономия») был введен известным политиком, экономистом и биз-нес-тренером Ириной Хакамадой [15]. Автор статьи призывает в кризис-ное время экономить на «шике», то есть дорогих продуктах и одежде. Не-ологизм «абсурдореальность» (сложение слов «абсурд» и «реальность») «символизирует торжество абсурда в политической жизни Украи ны» [11]. Данный неологизм отмечен нами в статье «Голубые ленты на носу» [11]. Неологизм «украинозаместительная экономика» появился в СМИ в свя-зи с наложением эмбарго на украинские товары [13] и создан по модели устойчивого выражения «импортозаместительная экономика». В газете «Московский комсомолец в Саратове» от 12–19 августа 2015 г. вышла статья «Капутальный ремонт» [16]. Неологизм «капутальный ремонт» представляет собой трансформацию устойчивого сочетания «капиталь-ный ремонт» («капут» – «все, конец») [1].
Появилось много неологизмов, образованных на базе фамилий извест-ных политиков. По аналогии с немецким разг. глаголом «merkeln», (образо-ван от фамилии Merkel) [9], употребляющимся в речи немецкой молодежи, на русской почве возникли неологизмы «меркельничать», «меркелить» («косить под Меркель» – жарг.). Об этом сообщают РИА Новости [20]. Так-же в источнике говорится: «Согласно определению, которое дает немец-кое издание словарей Langenscheidt, merkeln означает «ничего не делать, уклоняться от ответов и откладывать решения на потом»» [20]. Неологизм «псакинг» образован от фамилии официального представителя Госдепа США Джейн Псаки. Появился в 2014 году, но не перестает быть актуаль-ным и сегодня. «Псакинг» – это когда человек, не разобравшись, делает безапелляционные заявления, при этом путая факты, без последующих из-винений» [17]. Главный редактор портала «Словари XXI века» А. Михеев в одном интервью написал: «С позапрошлого года в ходу модель, когда к фамилии известного персонажа приделывают окончание -инг, и получает-ся новый термин. Особенно досталось депутатам: «мизулинг», «пехтинг». Некое высказывание переводилось в плоскость обобщенного понятия. К примеру, «мизулинг» – нечто, связанное с такой борьбой за нравствен-ность, которая иногда приобретает экстравагантные формы. Из более све-жего: «псакинг» (от фамилии официального представителя Госдепа США) – недостоверные или глупые утверждения. Появился и глагол «псакнуть»,
80
то есть что-то сболтнуть, и множественное существительное «псаки», то есть недостоверные новости, выдумки, мифы» [16]. Неологизм «сердюков-щина» (по аналогии с аракчеевщина, обломовщина, хлестаковщина и др.) создан во время службы А. Сердюкова на посту Министра Обороны РФ, имеет отрицательно-оценочную семантику. Член Общественной палаты Твери Александр Гвизда в своем блоге дает следующее толкование данного неологизма: «Думаю, что самая краткая (и в этом случае верная, хотя и до предела образная) дефиниция «сердюковщины» такая – напиться до кра-ев и выйти сухим из воды» [7]. По этой же словообразовательной модели образован неологизм «цукановщина» (от фамилии главы Калининградской области Н.Н. Цуканова) [21].
Таким образом, появление неологизмов в текстах СМИ является реак-цией на изменения в различных сферах жизни. Нам представляется инте-ресным дальнейшее наблюдение за развитием рассмотренных выше не-ологизмов: появятся ли у них различные грамматические категории, про-изойдет ли развитие словообразовательных гнезд, войдут ли они в актив-ный пласт лексики или, наоборот, уйдут на периферию. Перспективным направлением, с нашей точки зрения, является выявление новых словоо-бразовательных моделей и неоморфем в различных типах дискурса.
ЛИТЕРАТУРА:1. Альтернативная культура. Энциклопедия. – М.: Ультра. Культура.
Д. Десятерик, 2005.2. Блог Станислава Гвизды на сайте радио «Эхо-Москва». – URL:
http://echo.msk.ru/blog/stan8669tver/951938-echo/3. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообра-
зовательный. – М.: Русский язык, 2000.4. Нестерова Т.В. «Новое в лексике русского языка». Русский язык
за рубежом. Учебно-методический иллюстрированный журнал. – Выпуск №1/2015 (248).
5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского язы-ка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., допол-ненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
6. Петрухина Е.В. Новые явления в русском словообразовании. – URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/45939.php (дата обращения 11.12.15).
7. Сайт немецкого издания Die Welt. Статья от 31.10.15 «Merkeln» über alle Zweifel erhaben. – URL: http://www.welt.de/kultur/article148275072/Merkeln-ueber-alle-Zweifel-erhaben.html
8. Сайт Оксфордского словаря. Статья «Селфи». – URL: http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/english/selfie (дата обращения 13.12.15).
81
9. Сообщение «Глагол от фамилии Меркель стал синонимом бездей-ствия в ФРГ» на информационном портале РИА «Новости» от 03.08.15. – URL: http://ria.ru/world/20150803/1160260500.html
10. Статья Георгия Цаголова «Уроки грекопадения» в «Литературной газете». Выпуск № 31 (6519) от 29.07.15.
11. Статья Георгия Янса «Голубые ленты на носу» от 10.08.15. – URL: http://svpressa.ru/blogs/article/129238/
12. Статья Елены Новоселовой «Русский памфлет: что происходит с русским языком на фоне пропагандистской войны?» в «Российской газе-те». – Федеральный выпуск №6624 (53) от 16.03.15.
13. Статья Ивана Зацарина «Украинский дефолт: инструкция к пони-манию» от 19.10. 15 на сайте телеканала «112 Украина». – URL: http://112.ua/statji/ukrainskiy-defolt-instrukciya-k-ponimaniyu-265749.html
14. Статья Ирины Буркиной «Селфицид: стоит ли ваша жизнь мил-лиарда лайков?» от 21.09.15. – URL: http://top55.info/news/newsid/36048/
15. Статья Ирины Тумаковой «Пережить кризис красиво» от 26.08. 15 на сайте Петербургской интернет – газеты «Фантанка.ру». – URL: http://www.fontanka.ru/2015/08/26/189/
16. Статья «Капутальный ремонт» в газете «Московский комсомолец в Саратове» от 12–19 августа 2015 года.
17. Статья «Кикимры Небесные» в журнале «Русский репортер». Вы-пуск №24 (400) от 12-26 ноября 2015г.
18. Статья «Кох – Цуканову: Где у вас спрятана «дожималка?» от 30.07.2015 на Калининградском портале. – URL: http://rugrad.eu/public_news/793960/
19. Статья Ксении Турковой «Словарный запас. Выпуск 24» на сайте журнала «Сноб». URL: https://snob.ru/selected/entry/96346
20. Статья Максима Коломиеца «Пскакинг don’t stop» от 05.06.14. – URL: http://www.ridus.ru/news/161499
21. Статья «Релфи, груфи, лифтолук и другие виды селфи» от 18.03.15 на портале 36on.ru. – URL: http://36on.ru/magazine/society/52824-relfi-grufi-liftoluk-i-drugie-vidy-selfi
22. Статья «Словарный запас. Всевластная ложь» от 26.05.2015 на сайте Псковской ленты новостей. – URL: http://pln-pskov.ru/authors/adonetsky/205164.html
23. Статья Юлии Латыниной на сайте «Новой газеты». – URL: http://www.novayagazeta.ru/columns/69457.html
24. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)
82
Nesterova Tatyana Vyacheslavovna, Vakhrusheva Maria Aleksandrovna
NEOLOGISMS IN TEXTS OF MASS-MEDIA
Neologisms, neomorphus, derivational models, massmedia, Internet, russian language.
The article describes the different types of neologisms in texts of mass-media (printed and electronic) for 2015.
Врыганова Ксения Александровнаканд. филол. наук, доцент Ивановского государственного
химико-технологического университетаИваново, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕНРУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Прецедентный феномен, культура, гендер, ментальность, взаимодействие.
Прецедентные имена отражают культуру, ментальность, культурные ценно-сти общества, а также определяют языковое поведение коллектива и взаимо-действие с другими людьми. Прецедентные имена могут быть эмоционально окрашены и показывать отношение говорящего к объектам.
Прецедентные имена как одна из главных частей прецедентного фе-номена отражают фоновые культурные темы, связанные с традициями, привычками, идеями, верованиями и образом жизни, без которых невоз-можно общение России с миром и мира с Россией [1, с. 2]. Прецедентные имена (ПИ) отличаются тем, что все представители лингвокультурного общества понимают их сущность. Также данные имена имеют опреде-ленный ментальный образ, который ассоциируется с ними, и их исполь-зование придает дополнительную окраску высказыванию, поэтому они достаточно часто используются в речи [1].
Рассмотрим некоторые примеры ПИ. Леший (имеет следующие ва-рианты: Лесовик и Лешак) в соответствии с верованиями, является лес-ным духом, хозяином леса и животных, часто враждебен к человеку. У него есть рога и копыта, также он покрыт шерстью. Леший может напу-гать людей своим диким смехом или заставить их потеряться в лесу [2, с. 63]. Русские могут использовать данное ПИ для описания:
– нелюдимого и невеселого человека, как правило живущего одного;– человека, который внешне напоминает образ Лешего.
83
Следует отметить, что в русском языке существует ряд выражений с использованием данного ПИ (в данном случае Леший используется как синоним к слову «чёрт»). Например:
1) Иди к лешему (вариант – «Иди к чёрту», значение данного выраже-ния – «Я не хочу говорить об этом», «Я не хочу иметь дело с этим» и т.д.),
2) Какого лешего (в смысле «Почему, зачем?»),3) Леший попутал («Чёрт попутал» со значением «Я не специально
это сделал»),4) Леший его знает («Чёрт его знает» означает «Никто не знает, Я не
знаю»),5) Ни лешего («Ничего» в значении «Я ничего не вижу (слышу, на-
хожу)») [3].Необходимо отметить, что ПИ могут использоваться для выражения
отношения говорящего и соответственно они могут быть эмоционально окрашены. Например, мы можем говорить о Бабе-Яге как о негативно окрашенном и о Василисе Премудрой – положительно окрашенном ПИ.
Кроме того, ПИ могут иметь гендерную составляющую, и говорящий использует ПИ Кикимора для женского воплощения духа дома и ПИ До-мовой для мужской персонификации защитника домашнего очага. Одна-ко отметим, что Кикимора может использоваться для обозначения:
– непривлекательной, неприятной, часто очень худой женщины,– не очень приятного объекта, человека или чувства,– также может быть использован как оскорбительное имя для жен-
щины. ПИ Домовой используется для обозначения причины странного шума дома или пропажи каких-то вещей.
Иванушка-дурачок – традиционный положительный персонаж рус-ских народных сказок. Данное ПИ воплощает собирательный образ, от-ражает идею типичного героя сказочного эпоса.
Иван-Царевич представляет собой универсальное ПИ, отчасти бла-годаря тому, что имя Иван считается одним из самых популярных рус-ских имен. В начале своих приключений Иван-Царевич – один из млад-ших в семье, он не имеет успеха и не заслуживает уважения. Однако его отправляют либо на поиски некоторых магических объектов, например, Жар-птицу, либо спасти Василису Премудрую, или сразиться со Змеем Горынычем, и в конце концов он всегда одерживает победу над врагами.
Знание прецедентных имен поможет ориентироваться в особенностях ментальности русской культуры, познакомиться с особенностями реаль-ной жизни страны и народа и будет способствовать использованию эмо-ционально окрашенной речи в общении.
ЛИТЕРАТУРА:1. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность?
(Человек. Сознание. Коммуникация). – М.: Диалог-МГУ, 1998.
84
2. Россия. Русско-английский культурологический словарь / А.Л. Бу-рак, С.В.Тюленев, Е.Н. Вихрова; Под общ.рук. С.Г. Тер-Минасовой. – М.; ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.
3. Русское культурное пространство. Лингвокультурологический сло-варь. Под.ред. И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудков. – М., «Гнозис», 2004.
Vryganova Kseniya Aleksandrovna
SOME PECULARITIES OF PRECEDENT NAMES OF RUSSIAN CULTURE
Precedent phenomenon, culture, gender, mentality, interaction.
It should be noted that precedent names represent culture, mentality, cultural values of a society and determine people’s behaviour in the society and in interaction with other people. Precedent names can be used to show the speaker’s attitude and they can have emotional connotation.
Герасименко Ирина Евгеньевнад. филол. наук, профессор Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. ТолстогоТула, Россия
ГЕНДЕР В КОННОТАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЫГендер, коннотация, русская лингвокультура, гендерная модель.
В докладе речь идет о принципах описания гендера в коннотативном простран-стве русской лингвокультуры. Автор дает определения терминам «коннотация», «гендер», описывает основные факторы порождения коннотации и свойства, обусловливающие репрезентацию гендерно марикированной семантики.
1. Коннотация есть многомерный добавочный макрокомпонент значе-ния номинативных единиц, выражающий отношение говорящего к обо-значаемому, каузированный ассоциативным переосмыслением денота-тивного макрокомпонента значения, и/или интенцией говорящего, и/или коммуникативной ситуацией в целом, представленный совокупностью способных к модификации оценочных, эмотивных, экспрессивно-образ-
85
ных и функционально-стилистических сем, связанный с пространством данной культуры посредством ее единиц / знаков (концептов, стереоти-пов, символов и т.п.).
2. Основным фактором порождения коннотации является процесс вторичной номинации, который состоит в определенной знаковой фик-сации признаков, существенных для данной культуры, и их хранения в семантическом пространстве языка. Внутренняя форма знаков вторичной номинации как некий инвариантный смысл, смысловой ген культуры вы-полняет функцию интенсификатора культурного смысла единиц непря-мого именования.
3. Номинативные единицы, содержащие коннотативную семантику, способны к репрезенации гендера в пространстве национальной лингво-культуры. Помимо национально-культурной специфики, они обладают свойствами образности, оценочности, эмотивности, антропометричности, что делает их удобными для описания гендерно маркированной семантики.
4. Гендер – это «инвариантный конструкт, реализующийся в грани-цах определенного лингвокультурного пространства в маркированных по признаку пола:
1) вербально-семантическом ярусе языка;2) сфере когнитивных феноменов, представленных понятиями, кон-
цептами, идеями, стереотипами, складывающимися в гендерную картину мира, отражающую иерархию ценностей;
3) прагматической сфере, включающей цели, мотивы, интересы, уста-новки и интенции» [1, с. 379-380].
5. В сфере гендера пространство культуры формирует систему ценно-стей, запретов и правил, образцов поведения, вырабатывает определен-ные гендерные модели, пронизывающие семантическую сеть националь-ного языка.
6. Гендерные модели коррелируют со стандартами оценок, эталонами / квазиэталонами, символами, характерными для данной лингвокультурной общности. Патриархатная и матриархатная гендерные модели строятся на иерархическом принципе соотнесения оппозиции «мужское / женское».
7. Коннотативное пространство данной лингвокультуры есть совокуп-ность / форма хранения фиксированных в знаках вторичного семиози-са семантических признаков, существенных для представителей данной культуры и демонстрирующих представления, ею опосредованные.
8. «Узлами» коннотативного пространства являются коррелирующие с коннотативными семантическими признаками внутренние формы зна-ков вторичной номинации как ключевые символы данной лингвокультур-ной общности.
9. Коннотативные признаки, репрезентирующие гендерные стереоти-пы, свойственные русской культуре, демонстрируют, что коннотативное пространство русской лингвокультуры строится по патриархатной модели.
86
ЛИТЕРАТУРА:1. Герасименко И.Е. Коннотативная семантика единиц языка в аспекте
гендерной лингвистики: дисс. … докт. филол. наук: 10.02.01. – М., 2009. – 429 с.
Gerasimenko Irina Evgenyevna
GENDER IN THE CONNOTATIVE SPACE OF RUSSIAN LINGUO-CULTURE
Gender; connotation; Russian linguistic culture; gender model.
In the report we are talking about descriptive principles of the gender in the connotative space of Russian linguo-culture. The author gives definitions of the terms «gender», «connotation». The author describes the main factors of the generation of connotation and properties that contribute to the representation of gender semantics.
Дермановски Кирилласпирант Гданьского университета
Гданьск, Польша[email protected]
НЕДОСТАТОК ИНФОРМАТИВНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТАХ
Политическая лингвистика; манипуляция; теория кризисной коммуникации; де-мократия; медиатекст.
В данной статье рассматривается проблема информативности сообщений по-литического характера в сочетании с контекстом.
Умелое использование виртуального мира посредством мультимедий-ного пространства теми, кому необходима поддержка общественности, стало одной из причин политических дискуссий в XXI в. В первую оче-редь речь идет о политических силах, существующих и развивающихся благодаря сплочению вокруг себя круга единомышленников [6, c. 39]. Установлено, что главной функцией политического дискурса является борьба, агитация, захват и удержание власти, стремление к ее стабилиза-ции [5, c. 66]. В связи с этим электронные масс-медиа становятся главной площадкой для политического дискурса, способного активизировать наи-большее количество собственных возможностей в условиях современной коммуникации.
87
Интересным представляется мнение Т.Р. Красиковой, согласно которо-му «средства массовой информации конструируют новую реальность, а не отражают мир таким, каков он есть» [4, с. 29]. В продолжение данной темы в одной из своих работ российский ученый А.П. Чудинов обращает внимание на то, что «данные свойства политической коммуникации соз-дают необходимые условия для успешного манипулирования сознанием и деятельностью адресата» [8, с. 71]. Необходимо помнить о том, что целью представителей политических кругов становится создание необходимой картины мира в обществе, своего рода подъем сограждан, активизация данной аудитории, разделяющей определенную политическую позицию.
В свою очередь, по наблюдениям Е.И. Шейгал, можно сделать вывод, что немаловажным является способ общения политиков между собой, а также с журналистами. Осознание присутствия зрительской аудитории вынуждает непроизвольно лицедействовать, работать на публику, ста-раться произвести впечатление [9, с. 63].
В данном случае крайне важным становится выявление компонентов, информативность которых невелика, вследствие чего данные выражения исполняют роль отвлекающего элемента. Подобный маневр может ис-пользоваться в случае низкой информативности самого сообщения. Как отмечают в своей статье И.А. Серегина и А.П. Чудинов, «для каждой кризисной ситуации характерен особый, только ей присущий арсенал ме-тафорического представления действительности» [7, с. 90].
Возрастающее количество употребления словосочетаний принципы демократии, демократические принципы, мировые стандарты и т.д. в современном русскоязычном политическом дискурсе стало поводом для целого ряда исследований, частью которых является данная работа. Ее цель можно определить как выявление степени информационной загру-женности некоторых выражений, а также уместность или неуместность употребления их в конкретной дискурсивной ситуации [1, с. 100].
Несомненно, большое влияние на построение политического текста каждого типа оказывает выбранная стратегия и тактика [8, с. 76]. Особен-но важным видится конструктивный выбор языковых единиц в ситуации конфликта, в которой дипломатические практики дают возможность не столько смягчить эмоциональность вокруг спорной ситуации, сколько дать соответствующий языковой отпор сопернику.
Уместным будет выделение следующего приема: умение перефрази-ровать слова оппонента так, чтобы его же ценности выступили против него, указывая тем самым на несовершенство высказываемых им же те-зисов. Именно в оценке сограждан должна созреть идея неверного и не-последовательного употребления понятий [2, c. 150]:
«Считаем действия Варшавы, в результате которых был лишен аккре-дитации внештатный корреспондент МИА «Россия сегодня» вызывающи-ми. Такой ничем не мотивированный шаг польских властей нарушает один
88
из базовых принципов демократического общества, поборником кото-рого позиционирует себя Варшава, а именно – свободу слова» [МИД РФ].
Как уже было отмечено, данный пример характерен скорее для пери-ода информационного противостояния. Однако во времена политическо-го спокойствия задачи остаются прежними, что вынуждает сотрудников МИДа искать актуальные и неприметные возможности для достижения превосходства над конкурентами.
«Запад видит причину противоречий между нами в «конфликте цен-ностей». Когда мы защищаем международное право, протестуем про-тив вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нас упрекают в неприятии универсальных (т.е. западных) стандартов де-мократии, агрессивности, имперских амбициях и ревизионизме, в том, что мы зациклилиь на геополитике. В действительность геополитика никогда никуда не уходила, просто была попытка делать вид, что она является прерогативой лишь группы избранных государств» [МИД РФ].
А.А. Казаков в цитируемой работе замечает, что «комплексный подход к анализу распространенных сегодня способов воздействия на аудиторию масс-медиа важен не только в теоретическом плане, но и в сугубо практи-ческом смысле» [3, c. 87]. Официальное заявление высокопоставленных лиц данного государства может рассматриваться как один из способов управления сознанием общественности.
Также необходимо помнить о том, что только полное осмысление про-исходящего на политической арене позволит менее вовлеченным в по-литическую гонку согражданам быть более подготовленными и более защищенными в плане языковой манипуляции в ее политизированном виде – развитие «контрманипулятивных компетенций, базирующихся на знании основных технологий информационного воздействия, умение их распознавать, анализировать и интерпретировать» [3, c. 87].
Профессионализация процесса подготовки коммуникатов усложня-ет процесс выявления манипулятивных элементов. Именно данная «то-чечность» механизмов микроуровня позволяет необходимым способом скрыть элементы воздействия на потребителей информации. Каждый текст, в том числе политический, погружен в реальность и создается с учетом конкретных событий. Это касается всех типов рассматриваемых текстов, включая официальные заявления министерств иностранных дел. Как правило, данные сообщения носят реакционный характер, поэтому для тщательного изучения материала важно брать во внимание событий-ность происходящего.
«Однако важно напомнить, что Еврокомиссия уже предоставила Украине 55 млн евро (...) Надо понимать, что свободная торговля – это сложная задача. Но одновременно это и важная возможность для украинского бизнеса. Европейские стандарты качества – это мировые
89
стандарты качества. И выход на европейский рынок – это выход на мировой рынок» [Vesti.ru finance]
Еще одним критерием, также заслуживающим внимания, является индивидуальная характеристика автора текста или оратора, что в поли-тической коммуникации часто не является тождественным. Специфика построения речи, эрудированность, а также тематическое предпочтение – все это позволяет составить речевой портрет политика, на основе кото-рого возможно выявление идиостиля, в дальнейшем заметно облегчаю-щего работу с исследуемым материалом. Одним из примеров проявления инициативы высокопоставленным чиновником является запись министра иностранных дел Латвии:
«Очевидно, что Россия все больше удаляется от демократических европейских ценностей и общепринятых международных правовых принципов. Остаётся открытым лишь вопрос о том, какие именно ценности станут лейтмотивом внешней политики России в будущем» [МИД Латвийской Республики].
Обращает на себя внимание абстрактность фразеологизма, посколь-ку принципы демократии, а также мировые стандарты в демократи-ческом обществе представляются настолько очевидными и не нужда-ющимися в объяснении понятиями, что у большинства аудитории не возникает необходимости дополнительного осмысления. Политики, употребляющие такого рода словосочетания, зачастую имеют в виду не соблюдение конкретного правила, а скорее соответствие определенным нормам поведения.
Приведенные в данной статье примеры указывают на то, что исполь-зование таких выражений, как принципы демократии, демократические принципы распространено. Возможен процесс, в котором в укор другому ведомству ставятся провозглашаемые ценности. Дополнительно во мно-гих рассматриваемых вариантах преобладает ироничный тон высказыва-ния при соучастии формулы «свой-чужой», поскольку представленные ценности являются для русского общества заимствованными вследствие сложившегося стереотипа в мировой политике.
Однако не стоит недооценивать подобные тенденции, так как при ис-пользовании фраз в конкретном контексте определенная недосказанность способствует манипуляции аудиторией. В зависимости от поставленных задач, неполное определение смысловой нагрузки позволяет применять двойные стандарты при интерпретации развивающихся политических событий.
Изучение уровня информативной загруженности политических ме-диатекстов с учетом культурологических и социологических факторов является перспективным направлением в языкознании. Подобного рода разработки в состоянии предопределить повышение уровня развития общественного сознания.
90
ЛИТЕРАТУРА:1. Дермановски К. К вопросу о политических клише в СМИ – «де-
мократические принципы» воздействия // Пражская Русистика 2015. Ре-цензированный сборник статей конференции. – 2015. – С. 100–107, Дата обновления [2015.12.04].
2. Зверев А.И. Сопоставительное исследование метафорического упо-требления лексем «скоморох» и «шут» в современном российском по-литическом дискурсе // Политическая лингвистика. – 2014. – №1(47). – С. 149–156. Дата обновления [2015.12.04].
3. Казаков А.А. Способы языкового манипулирования в политическом медиадискурсе: попытка систематизации. // Политическая лингвистика. – 2013. – №3(45). – С. 87-90. Дата обновления [2015.12.04].
4. Красикова Т.Р. Проблема конструирования социальной реальнос-ти в теории массовой коммуникации // Современный дискурс-анализ. – 2013. – № 8. – С. 2745. Дата обновления [2015.12.04].
5. Манаенко Г.Н., Манаенко С.А. Дискурсивные слова и интенцио-нальность аналитического текста политического дискурса. // Политиче-ская лингвистика. – 2013. – № 2(44). – С. 65–71.
6. Рогачева Т.Н. Концепт «НАРОД» в политическом дискурсе web-пространства. // Современный дискурс-анализ. – 2015. – №12. – С. 39–44. Дата обновления [2015.12.04].
7. Серегина И.А., Чудинов А.П. Метафорические слоганы в дискурсе референдума о статусе Крыма. // Политическая лингвистика. – 2014. – №2(48). – С. 89–94. Дата обновления [2014.12.04].
8. Чудинов А.П. Политическая лингвистика: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с.
9. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис, 2004. – 324 с.
Dermanowski Kirill
INFORMATIVIT DEFICIT IN POLITICAL MEDIA TEXT
Political linguistic, manipulation, theory of crisis communication, democracy, official speech, media text.
The aim of this article is a political communication and discourse. Main objective is to describe the level of informativity in political media texts.
91
Жукова Арина Геннадьевнаканд. филол. наук, доцент
Государственного института русского языка имени А.С. ПушкинаМосква, Россия
ОБ ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЭРГОНИМОВ
Эвфемия, эргоним, «коммерческая» номинация, нейминг.
В статье на материале эргонимов – названий магазинов одежды больших разме-ров – анализируются особенности нейминговой практики в конкретном рыноч-ном сегменте. Особое внимание уделяется эвфемистической функции указанных наименований, средствам и способам камуфлирования «неудобного» смысла в со-четании со стремлением к информативности и выразительности.
Эргонимика несколько последних десятилетий является популярным разделом лингвистической науки, что в первую очередь связано с огром-ным количеством «коммерческих» онимов, ставших неотъемлемой частью нашего реального и виртуального коммуникативного пространства. Ком-мерческая эргонимия – маркетинговое явление, реализуемое средствами языка [Боброва 2014, 135]. В названных ономастических единицах органи-чески слиты собственно лингвистический и экстралингвистические (праг-матический, культурологический, эстетический) аспекты. Такие эргонимы являются одним из основных объектов нейминга – особой отрасли знания на стыке маркетинга и лингвистики, в задачи которого входит поиск спо-собов создания эффективного, удачного наименования коммерческих объ-ектов – фирм и предприятий, продуктов и услуг, товарных знаков и т.д.
Создавая эргоним, номинатор стремится выделить его на фоне названий однотипных объектов, показать потенциальному клиенту, что именно дан-ное предприятие достойно внимания и доверия [Шимкевич 2002]. Поэтому, помимо обязательных номинативной и дифференцирующей, эргоним вы-полняет также информативную, аттрактивную, эстетическую, суггестивную и др. функции. Среди множества коммерческих эргонимов можно выделить и такие, для которых существенной оказывается эвфемистическая функция, заключающаяся в камуфлировании «неудобных» понятий в случаях, когда именуемые объекты связаны с чувствительными сферами или сторонами че-ловеческой жизни. Подобными характеристиками обладает группа наимено-ваний специализированных магазинов одежды больших размеров.
Поиск в системе Yandex показал, что данный маркетинговый сегмент в России сегодня развивается очень активно: нами было обнаружено бо-лее 100 названий подобных магазинов. Большая часть из анализируемых
92
эргонимов обозначает объекты, существующие как в формате офлайн, так и в виртуальном формате (онлайн).
Собранные нами эргонимы можно разделить на две основные группы. В первую группу входят «неинформативные» названия, никак не связанные со спецификой продаваемого товара, например: Лидия, Джулия, Дайна, Да-рина, Лина, Людмила, Милада, Прима-Линия, Novita, Wisell, Lavira, Avrora, Svesta, Terra, Unigma, Ulla Popken, Elena Miro, Laura Lebek. Большинство таких эргонимов одновременно являются обозначениями специализирован-ных российских и зарубежных брендов – товарных знаков, под которыми производится одежда для полных. Образованы они в результате процесса трансонимизации – перехода онимов из одного разряда в другой: имя / звуч-ное слово – название бренда – название магазина. В эргонимах данной груп-пы явным образом преобладает эстетическая и воздействующая функции.
Вторая, более многочисленная группа эргонимов представляет наиболь-ший интерес с точки зрения темы, обсуждаемой в настоящей статье, посколь-ку входящие в нее наименования содержат прямое или косвенное указание на специфику товарной группы. Как только появляется потребность в обо-значении товара – одежды для полных и адресата – потенциальных клиентов таких магазинов, неизбежно возникает вопрос, как сделать это корректно, тактично, избегая ненужной прямолинейности. Таким образом, подобные названия стремятся к той или иной степени эвфемистичности.
В составе данной группы можно выделить подгруппы в соответствии с теми ключевыми компонентами, на основе которых они создаются. Отметим, что в написании подобных названий используются кирилли-ческий и латинский алфавиты, а также другие графические элементы. Рассмотрим наиболее распространенные семантические группы эвфеми-стических наименований.
• Эргонимы с ключевым компонентом размер Употребление лексемы «размер» в названии магазина одежды само
по себе содержит имплицитное указание на наличие в нем одежды не-стандартных размеров, чаще всего именно больших: Мода и размеры, Размерчик, Мой размер, Ваш размер, Любимый размер, Русский размер, Королевский размер, Шикарный размер. При этом лексема «размер» мо-жет сопровождаться различного рода положительно окрашенными опре-делениями: любимый, русский, шикарный, королевский (ср. англ. кingsize) или притяжательными местоимениями: ваш, мой,
Зафиксированные нами наименования с англоязычным компонентом size встречается в искусственно созданных российскими номинаторами названиях, не употребляющихся в языках-источниках, ср.: Воnsize (фран-цузско-английский гибрид, от франц. вon – ‘хороший’ и англ. size – ‘раз-мер’); Nicesize (от англ. nice – ‘хороший, милый’ и size – ‘размер’).
К указанной семантической группе принадлежат и названия, образо-ванные с использованием синтаксической конструкции c постпозитивным
93
элементом плюс (обозначаемым словесно или графически), , имеющей значение ‘старше, чем….’, ср.: категория 12+. Однако в рассматривае-мой группе эргонимов «возрастная» семантика конструкции заменяется «размерной»: Luxury plus / Лакшери-плюс, Леди Sizeplus, Леди+, Размер плюс, Красотка плюс (ср. англоязычный термин fashion-индустрии plus size / плюс сайз – употребляющийся по отношению к профессиональным моделям, чей размер – 48 и более).
В названиях типа XLtime, Стиль 5XL, 10XL, XL-butik, X-Lady, Мир ХХL, Леди Икс, naturaxl.ru, XLstore.ru, Италия XL обыгрывается являю-щееся результатом процесса аббревиации интернациональное обозначе-ние размеров одежды XL (еXstra-large) (в российской системе – одежда начиная с 50-го размера).
• Эргонимы с ключевым компонентом большой К данной группе в первую очередь относятся наименования, содержа-
щие лексему большой: Большая одежда, Большое платье, Большие люди, Одежда для больших людей, Мир больших людей, Большая красотка, Большие модницы, Большой город (магазин для больших людей), Большая мода, Большой (магазин большой одежды), Я Большой, Большой МЭН (bolman.ru) и т.д. Отметим использование номинаторами многозначности данной лексемы: это не только ‘значительный по размерам’, но и ‘вы-дающийся’ (ср.: Большие люди) или ‘обладающий в высокой степени тем качеством, которое заключено в значении определяемого существитель-ного’ (ср.: Большая модница), а также ‘взрослый, состоявшийся’ (ср.: Я Большой). В эргониме Большой МЭН компонент большой поддержива-ется на графическом уровне – при помощи написания варваризма МЭН прописными буквами.
Сюда же примыкают названия, содержащие иноязычные компоненты, передающие семантику ‘большой’: BigFashion, bigkrasotka.ru (интернет-сайт магазина «Большая красотка»), Big Size, а также Grande Moda, Гран-диоз Галерея, Great Fashion.ru (сайт магазина «Большая мода») и под.
Востребованным в данной группе оказывается и элемент макси, име-ющий словарное значение ‘маскимально длинный (о юбке, платье, паль-то)’. Номинаторы используют его в расширительном значении ‘большо-го размера’ (по аналогии с лексемой «максимальный»), игнорируя сему ‘длина’: Леди Макси, Макси-Стиль, Мини-макси (магазин очень больших и очень маленьких размеров), Maxxxi Мода. Обратим внимание, что в последнем названии использован графический прием «утроения» буквы «x», создающий семантический эффект «увеличения» размера.
К указанной группе следует также отнести эргонимы, выраженные существительными мужского рода с денотатом ‘человек громадных раз-меров, роста, силы’: Великан, Гулливер, Богатырь. Очевидно, что ука-занные названия, акцентирующие «богатырское телосложение», обычно не используются по отношению к женщинам и вряд ли могут считаться
94
адекватным именованием для магазинов, ориентированных на женскую аудиторию. Однако среди названных торговых предприятий специализи-рованным магазином для мужчин является только Великан, а Богатырь, Гулливер, как и магазин с явно «мужским» названием Три толстяка торгуют смешанным ассортиментом. Подобные эргонимы, очевидно, обладают незначительными камуфлирующими возможностями, а по от-ношению к покупателям-женщинам могут и вовсе восприниматься как дисфемистичные, создавая условия для коммуникативных неудач. Номи-наторы тоже могут чувствовать это: неслучайно, например, магазин Три толстяка недавно превратился в Три Тостяка и Леди Икс.
Возвращаясь к мужским магазинам, дополним ряд такими удачными, на наш взгляд, эргонимами, как Толстяк-имидж, Три богатыря, Портос.
• Эргонимы с ключевым компонентом полный В подобных наименованиях также эксплуатируется многозначность
лексемы «полный»: Полное счастье, Полный восторг, Полная гармония, в том числе за счет расширения сочетаемостных возможностей данной лексемы (Полный Fashion, Полный стиль, Бутик полной моды) и пере-осмысления значения производных (Полным-полно).
Интересны попытки некоторых номинаторов использовать англий-ский компонент full как аналог русского слова полный (применительно к телосложению), ср.: FullWoman.ru, Full-Style.ru, BeautyFull. При этом в языке-источнике лексема full ‹полный’ такого значения не имеет и в по-добных сочетаниях не используется.
• Эргонимы с ключевым компонентом женщина Это довольно большая и разнообразная группа онимов, поскольку в
основном магазины «большой» одежды ориентированы именно на пред-ставительниц прекрасного пола. Компонент женщина в разных наимено-ваниях может получать семантические конкретизаторы, подчеркивающие физическую красоту полной женщины (Пышка, Пышная красавица, Bella Donna, Большая красотка, bbwshop.ru – сайт интернет-магазина «Боль-шая красотка», построенное с использованием английской аббревиатуры bbw – big beautiful woman) или высокий социальный статус потенциаль-ной клиентки магазина (Знатная дама, Гранд-дама, Гранд-Персона, Ма-дам, Ваше величие). Часть «статусных» наименований обладает нацио-нально-специфическим русским колоритом: Барыня, Тверская боярыня.
Отдельно следует рассмотреть эргонимы, в основе которых лежат пре-цедентные феномены: Широкая натура (буквализация фразеологизма), Сладкая женщина (аллюзия на одноимённый кинофильм, главную роль в котором сыграла Наталья Гундарева, которая и сама принадлежала к целе-вой аудитории магазинов типа «Размер+»), Три толстушки (по аналогии с Тремя толстяками), ФрекенБок (имеется в виду героиня произведений А. Линдгрен о Малыше и Карлсоне, отличавшаяся монументальностью сложения) и даже Мадам Брошкина (героиня известной песни А. Пуга-
95
чевой, образ брошенной мужем немолодой, но «сильно об себе понима-ющей» «мадам»; внешность ее в тексте песни не описывается, но вообра-жение привычно рисует женщину, что называется, в теле). Очевидно, что большая часть приведенных «прецедентных» эргонимов характеризуются ироничностью. Возможно, в ряде случаев номинаторы иронизируют над самими собой, как это делают владелицы магазина «Три толстушки» – три «немаленькие» подруги. Потенциальные клиентки таких магазинов, оче-видно, должны обладать жизнерадостностью и здоровым чувством юмора.
Проведенный анализ показывает, что при номинации магазинов для полных прагматико-семантическая структура эргонима часто усложняет-ся, поскольку, помимо прочих, ониму придается эвфемистическая функ-ция. При этом номинатор стремится сочетать эвфемистичность с инфор-мативностью и выразительностью (аттрактивностью). В реализации эв-фемистической функции участвуют самые разные элементы, в том числе графические. Способы создания информативных, но в то же время эв-фемистических наименований разнообразны: опора на ключевое слово, использование иноязычных слов и элементов, синтаксических конструк-ций и графических средств, переосмысление устойчивых сочетаний, экс-плуатация многозначности, расширение сочетаемостных возможностей лексем, использование прецедентных феноменов и т.д.
Наблюдения над нейминговой практикой в подобных «деликатных» сферах могут являться ценным материалом как для лингвистов, изучаю-щих современную коммуникацию, в том числе в аспекте толерантности, так и для тех, кто профессионально занимается неймингом, в их поиске оптимальных номинаторских решений.
ЛИТЕРАТУРА:1. Боброва М.В. Принципы образования современных эргонимов г. Пер-
ми // Тр. Камской арх.-этн. экспедиции ПГГПУ. – Вып.9., 2014 – С.135–142.2. Шимкевич Б.Н. Русская коммерческая эргонимия: прагматический
и лингвокультурный аспекты: автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Ека-теринбург, 2002.
Zhukova Arina Gennadyevna
ABOUT EUPHEMISTIC FUNCTION OF ERGONYMS
Euphemism, ergonyms, «commercial» nomination, naming.
The article considers ergonyms – names of large clothing stores, and analyzed features of naming practices in this segment of market. Special attention was given to the function of euphemistic names, means and methods for camouflage «inconvenient» meaning in conjunction with the aspiration for informativeness and expressiveness.
96
Жуковская Лариса Игоревна канд. филол. наук, заместитель директора Медиа Центра Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Нижний Новгород, Россия[email protected]
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕКСЕМ МЕНТАЛИТЕТ И МЕНТАЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ ЯЗЫКОВОГО ОСВОЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОГО КОНЦЕПТАРусский язык, концепт, лексемы «менталитет» и «ментальность», граммати-ческие преобразования.
В работе анализируются морфологические и синтаксические инновации в употре-блении слов менталитет и ментальность в речевой практике современных носи-телей русского языка. Семантическое расширение этих лексем свидетельствует о языковом освоении выражаемых ими понятий в обыденном языковом сознании.
В настоящее время в национальной концептосфере отчетливо форми-руется тенденция к «новому осмыслению» основ традиционной русской культуры в связи с проблемой национальной идентичности этноса, с из-вечным поиском «национальной идеи».
Т.Б. Радбиль пишет, что «на уровне обыденного сознания то, что при-нято называть «менталитет» издревле ощущается как безусловная реаль-ность нашего экзистенциального опыта. В этом нас убеждают данные фольклора, в частности анекдотов на национальную тему, языковой ма-териал фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также почтенная фило-софская, культурная и литературная традиция (вспомним, например, спо-ры о народности русской литературы, противостояние славянофилов и западников в России XIX в.)» [8, с. 102].
Именно с этим связано активное вхождение в речевую практику но-сителей русского языка последних лет лексем менталитет и менталь-ность, что отражает тот факт, что они являются одной из удачных по-пыток в поиске обобщающего наименования для значимых обозначений важных духовных, культурных, этических ценностей этноса в плане его национального самоопределения.
Однако концепт менталитет (ментальность) и другие концепты та-кого типа (толерантность, культура и пр.) имеет существенные отличия в способах своего бытования в национальной концептосфере в сравнении
97
с традиционными русскими «знаками» культуры, такими как совесть, любовь, грех, судьба и т.п. Прежде всего это обусловлено его терминоло-гическим характером и иноязычным происхождением.
При этом необходимо теоретически разграничивать концептуальное содержание научного понятия и языковое значение соответствующего слова, как это последовательно осуществляется, например, в работах [8; 9]. Термины как элементы метаязыка науки не всегда остаются в рам-ках узкоспецифического научного дискурса. В общественном сознании существуют традиции освоения терминов, которые имеют повышенную значимость в плане выражения важных для этноса или социума идей или ценностей в тот или иной исторический период. Культурными ме-ханизмами внедрения научных понятий в массовый обиход является их повсеместное нетерминированное употребление в языке политических и общественных деятелей, в медийном дискурсе, откуда они проникают и в обыденную речевую практику носителей языка.
В работе Т.Б. Радбиля этот процесс именуется «популяризация»: «Од-нако сегодня мы можем наблюдать, что научное понятие менталитет (ментальность) проходит стадию «популяризации» (как это было в свое время с такими строгими научными понятиями, как «квант», «черная дыра» или, позднее, «виртуальная реальность» и т.п.), становясь обще-принятым и даже в чем-то «модным» обозначением всего, что так или иначе связано с нематериальной, духовной сферой деятельности челове-ка. При этом естественно, что, как и всякое престижное в речевой прак-тике людей слово или выражение, оно используется нетерминированно, а значит, при его употреблении неизбежен некоторый налет своего рода «мифологизации» этого понятия» [8, с. 36].
Кроме того, необходимо отметить особую семантическую природу этого концепта как смыслового образования, входящего в национальную концеп-тосферу на базе иноязычного источника. Иными словами, данный концепт обозначен в языке посредством заимствованного слова. Таким образом, мы имеем дело с явлением «импорта концепта» (В.И. Карасик), который по-нимается как «внедрение в иную культуру концепта – ментального образо-вания, опирающегося на многослойный культурный опыт, сконцентрирован-ный в индивидуальном и коллективном языковом сознании» [6, с. 253].
В.И. Карасик обращает внимание на то, что ряд подобных импорти-руемых концептов употребляются в современной русской речи просто как дань моде, без смысловой и коммуникативной мотивированности. Однако существуют и такие концепты, которые заполняют определенную лакуну в концептосфере как в номинативном, так и в ценностном плане, выделяя те явления и те ценностные ориентиры, которых до этого в на-шей культуре не было [6, с. 253].
Концепт менталитет / ментальность относится именно к таким кон-цептам. В плане его языкового освоения это означает внедрение в его
98
концептуальное содержание новых по отношению к существующей в языке-источнике лексико-семантической системе когнитивных призна-ков и переосмысление сложившегося оценочного потенциала.
В связи с вышеизложенным можно отметить, что лексемы – репрезен-танты указанного концепта, будучи иноязычными по происхождению и терминологическими по характеру, сначала были недостаточно освоены национальным языковым сознанием, что, в частности, выражалось в их смешении, в их неуместном употреблении и т.д. Но сегодня благодаря язы-ку СМИ, политическому дискурсу, даже рекламному дискурсу, эти лексемы обнаруживают большую популярность. В связи с этим неизбежно изменя-ются их семантические, морфологические и синтаксические особенности.
Слова менталитет и ментальность используются в разных типах дискурса: помимо ожидаемой частотности употребления этих слов в на-учной, учебной и справочной литературе, они активны также в политиче-ских и медийных текстах, в рекламе, в художественной литературе, в не-формальной Интернет-комуникации (чаты, блоги, форумы, конференции, твиты, социальные сети и пр.).
В наших предыдущих работах были описаны языковые преобразова-ния слов менталитет и ментальность как отражение изменения семан-тического наполнения и смыслового объема концепта, который нами был обозначен как «менталитет / ментальность» [3, с. 402-405; 2, с. 326-327]. Акцент, по понятным причинам, делался на лексико-семантические осо-бенности функционирования данных слов в современной русской речи. Главными из указанных особенностей являются процессы одушевления (персонификации) или овеществления (реификации).
Однако феномен семантического расширения иноязычного по проис-хождению концепта как отражение его языкового освоения носит, раз-умеется, синкретичный характер и не ограничивается лишь лексико-се-мантической сферой. В частности, мы выявили ряд морфологических и синтаксических явлений, которые также можно рассматривать в духе сформулированных выше тенденций овеществления и одушевления. Та-ким образом, непосредственным предметом исследования в настоящей работе являются грамматические преобразования лексем менталитет и ментальность в современной русской речи. Материалом для анализа вы-ступают данные Национального корпуса русского языка.
На морфологическом уровне это выражается, например, в приоб-ретении словом менталитет или ментальность ненормативного мно-жественного числа, которое как раз и свидетельствует об овеществлении абстрактного и безобразного понятия, о его представлении в конкретно-чувственном образе вещи (предмета) или субстанции (вещества) по мо-делям концептуальной метафоры, описанным Дж. Лакоффом и М. Джон-соном в их знаменитой книге «Метафоры, которыми мы живем» [6]. В результате этих грамматических преобразований лексем менталитет
99
и ментальность (изначально – Singularia Tantum) происходит семантиче-ский сдвиг – видовая конкретизация общего абстрактного понятия:
Однако я собираю свидетельства о русской ментальности и хотел бы выразить коренные ее особенности в наивозможно полном виде. А сравнения с ментальностями других покажет только, как близки мы друг другу и почему нам не нужно вздориться [5].
Впрочем, это же справедливо относительно наших соотечественников, занимающихся исследованиями менталитетов других народов и наций [1].
На синтаксическом уровне это выражается в возможности употре-бления данных лексем в позиции агенса – активного и целенаправленного производителя действия, которая в норме присуща только одушевленным существам (чаще всего эта позиция соответствует роли субъекта (подле-жащего) при контролируемых глаголах, но реже возможна и для объекта действия (дополнения)).
Примеры субъектной агентивной реализации, когда лексема ментали-тет реализует валентность, в норме заполняемую именами, называющи-ми человеческое или какое-либо иное живое существо:
Ментальность – чрезвычайно существенная характеристика лю-бого социума, поскольку в качестве социокультурного субъекта человек принадлежит не столько объективному миру, сколько интерсубъектив-ной картине мира, творимой тем или иным менталитетом [10].
Русский языковой менталитет не приемлет положительный образ того, кого на Западе как минимум нейтрально, а чаще – с положитель-ной коннотацией – называют «бизнесмен» [7].
В этом плане русский языковой менталитет, конечно, предпочита-ет волю как ничем не сдерживаемую силу, порыв души [7].
Она лучше образована. Ее менталитет исключительно гибок, изво-ротлив, приспособителен (Александр Зиновьев. Русская судьба, испо-ведь отщепенца (1988–1998) [4]).
Пример объектной агентивной реализации, когда менталитет высту-пает в роли объекта действия, в норме осуществляемого только с людьми:
Так что не будем хоронить русский языковой менталитет [7]Представляется, что все проанализированные явления в области мор-
фологии и синтаксиса можно рассматривать как признак успешного ос-воения сложного и абстрактного научного понятия в современной отече-ственной речевой практике, его постепенного упрочения в национальной концептосфере в качестве выразителя значимых для российского обще-ства идей и ценностей, даже, если можно так выразиться, определенного «обрусения» этого концепта в современном русском языковом сознании.
ЛИТЕРАТУРА:1. Григорьева А.А. Русский менталитет: сущность и структура (соци-
ально-философский анализ). – Томск, 2008.
100
2. Жуковская Л.И. Менталитет vs ментальность: особенности язы-ковой экспликации концепта в современной русской речи // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – №6 (49). – С. 326–327.
3. Жуковская Л.И. Языковая экспликация концепта «менталитет / мен-тальность» в русском языке последних лет (по данным национального корпуса русского языка) // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 2 (2). – С. 402–405.
4. Зиновьев А.А. Русская судьба, исповедь отщепенца. – 1988–1998.5. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. – СПб., 2006.6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с
англ. – М.: Едиториал, 2004. – 256 с.7. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: учебн. посо-
бие. 3-е изд. – М.: Флинта; Наука, 2013. – 328 с. 8. Радбиль Т.Б. Прагматические аномалии в среде языковых аномалий
русской речи // Русский язык в научном освещении. – 2006. – №12 (2). – С. 56–79.
9. Радбиль Т.Б. Языковые аномалии в художественном тексте: дисс. … докт. филол. наук: 10.02.01. – М., 2006. – 496 с.
10. Тюпа В.И. Диагностика ментального кризиса // Мир России. – 2002. – Т. 11. – № 1.
Zhukovskaya Larisa Igorevna
MORPHOLOGICAL AND SYNTAX TRANSFORMATIONS OF THE LEXEMES MENTALITET AND MENTAL’NOST’ (MENTALITY)
IN THE LIGHT OF LANGUAGE APPROPRIATION OF ALIEN CONCEPT
Russian language, concept, lexemes mentalitet and mental’nost’, grammatical trans-formations.
The work deals with morphological and syntax innovations in usage of the words men-talitet and mental’nost’ (mentality) in usus of modern Russian native speakers. Seman-tic extensions of the lexemes demonstrates certain language appropriation of respective concepts in ordinary language consciousness.
101
Картушина Елена Александровна канд. филол. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК, НАРУШЕНИЕ ТАБУ И ЯЗЫКОВАЯ ЭКСПРЕССИЯ КАК ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Глобализация, языковая норма, табу, языковая экспрессия, языковая личность, идиолект, коммуникативная практика.
Статья посвящена описанию изменений, произошедших в функционировании языков в период глобализации. Перемены связаны со степенью языковой лояль-ности к родному языку, с вариативностью и языковой экспрессией. Рассматри-вается соотношение индивидуального и социального в психолингвистике.
Изменения, которые повлекла за собой глобализация и которые могут и даже должны составлять предмет социолингвистики, касаются не только собственно изменений внутри языка (например, появление в повседнев-ной речи или в лексике, относящейся к определенной профессиональной сфере, заимствований из английского или других языков). Эти изменения, помимо всего прочего, касаются присутствия языков на определенной тер-ритории, появления новых особенностей функционирования языков и, в целом, изменения языкового ландшафта и языковой ситуации.
Еще одна видимая перемена в функционировании языков в период глобализации заключается в изменении степени языковой лояльности к своему родному языку, стремлении использовать или не использовать его в различных коммуникативных ситуациях.
Другим аспектом, на который обращают внимание не только лингви-сты, но и пользователи определенного языка – это большая степень ва-риативности языковой нормы. Это связано с быстротой социальных из-менений, происходящих в обществе, гипердинамикой социальной жизни.
Нельзя не упомянуть в связи с этим и большую, чем ранее, экспрес-сию языка (мы предпочитаем говорить именно о языковой экспрессии, как термине, который может быть измерен в лингвистическом описании). Заметим также, что в последнее время можно слышать о вульгаризации языка, агрессивном речевом поведении. Не стремясь умалить важность
102
этих понятий, мы считаем, что понятия «вульгаризации» и «агрессивно-сти» пока могут быть применены в (социо)лингвистическом описании с определенной долей субъективизма.
В начале рассмотрения данных тенденций в функционировании язы-ков, нами была выдвинута гипотеза, что и детабуляризация (нарушение языковой нормы) и языковая экспрессия обусловлены не только на ми-кроуровне (в рамках глобализации как идеологии), но и на макроуровне – на уровне языка социальных практик, на уровне переплетения «инди-видуального» и «социального».
Вопрос о соотношении социального и индивидуального в языке, в силу своей неоднозначности, размытости границ перехода из одного в другое, не вызывает единодушия среди лингвистов.
Несмотря на это, как в отечественной, так и в зарубежной лингвисти-ке можно говорить об осторожном интересе со стороны лингвистов к это-му вопросу. Но стоит отметить, что теории, так или иначе затрагивающие преломление социального и индивидуального в лингвистике, в большей степени касаются взаимосвязи разновидностей языка (нормированного словоупотребления, диалектных форм и других), чем собственно лингви-стических категорий.
Так, В.Б. Кашкин достаточно подробно представил соотношение диа-лектов и социолектов, преломляемых в «каждом факте лингвистической деятельности человека», в качестве модели языковых контрастов, в ко-торой диалекты и социолекты, наряду с пиджинами и литературными языками, предстают как настройка (общее койне) или общий прагматиче-ский код (подразумевающий и социально-исторические изменения язы-ков) над моноязычной коммуникацией и диапазоном языковых средств коммуникативной личности (в том числе и билингва) [5, с. 27–29 ].
Другой взгляд на примирение социального и индивидуального в опре-деленной форме существования языка можно найти в теории языковой личности, получившей значительное распространение в лингвистике. При этом, данное понятие – языковая личность – хотя и становится пред-метом изучения в социолингвистическом описании [например 8; 12], но не всегда признается социолингвистикой, а скорее является термином психолингвистики. В частности, в «Словаре социолингвистических тер-минов» [13] данное понятие отсутствует.
С другой стороны, в психолингвистике и социолингвистике более употребительным (и весьма конкретным) концептуальным инструментом является понятие идиолекта. Идиолект соотносится с языковыми харак-теристиками, используемыми одним человеком, в то время как языковая личность подразумевает некоторую совокупность обобщенных языковых характеристик (что обусловлено, скорее всего, экстраполированностью данного понятия из сходных междисциплинарных наук («этическая лич-ность», «юридическая личность», «экономическая личность» и другие).
103
Но, помимо обобщения, языковая личность подразумевает и некоторый «взгляд изнутри» на языковые проявления, заключающийся в их обосно-вании через призму трех уровней языковой личности (согласно концеп-ции Ю.Н. Караулова) – вербально-семантическом, когнитивном и моти-вационном.
Другая концепция, которая также в некоторой степени увязывает со-отношение социального и индивидуального, сводится к механизму пере-ключения кодов (code-switching), которая получила широкое применение в психолингвистике, и рассматривалась социолингвистикой как объясне-ние того, как носитель языка задействует разные регистры речи в зависи-мости от коммуникативной ситуации.
В американской лингвистике существовало понятие матрицы обще-ния, разработанное Дж. Гамперцом [2].
Согласно его идее, априори принимается тот факт, что вся совокуп-ность социальных различий строится на индивидуальных различиях. И Дж. Гамперц, говоря об их значимости, совершенно справедливо отме-чает: «Различие между единообразием и разнообразием диалектов или между одноязычием и двуязычием становится менее важным, чем раз-личие между индивидуальным и общественным» [2; 188].
На микроуровне, таким образом, соотношение «социального» и «ин-дивидуального» может учитываться при изучении языкового репертуара, а на макроуровне диалектика категорий социального и индивидуального позволяет учитывать влияние культурных, национальных, социальных и даже индивидуальных особенностей языкового употребления в более широком, глобальном контексте.
Именно эта взаимосвязь индивидуального и социального, наряду с их изменчивостью, придает значимость лингвистическому описанию. Как справедливо замечал У. Лабов: «…даже небольшое изменение независи-мой переменной регулярно сопровождается изменением зависимой пере-менной в предсказуемом направлении» [7, с 199]. Любое незначительно варьирование в языке, малейшее изменение в лексике (фонетике, орфо-эпии) не может игнорироваться в лингвистических исследованиях, по-скольку (за счет «цепной реакции») может привести к изменениям более высоко (языкового) уровня.
Помимо указания на индивидуальные словоупотребления, которые могут впоследствии закрепиться в языке, в теории У. Лабова содержит-ся и указание на практическую значимость учета индивидуального в со-циальном, а именно – рассмотрению направления языковых изменений. При этом данные изменения могут быть отнесены либо к единичным (индивидуальным), либо к повторяющимся (приобретающим характер социальных).
Соотношение «индивидуального» и «социального» в гуманитарном знании вообще и в психолингвистике в частности можно проследить в
104
теории социальных практик (в рамках теории социального конструиро-вания) П. Бергера и Т. Лукмана.
Действия индивида, согласно их точке зрения, выступают основой социальных процессов [1]. Категории социальных практик в их кон-цепции видятся как совокупность социальных действий, факторов. Однако индивидуальное действие (применимое в том числе и к языку) не ограничивается социальными действиями.
Закрепление социальных практик в повседневной жизни происходит за счет рутинизации социальных (языковых) действий. «Рутина обеспе-чивает целостность личности социального деятеля в процессе его (ее) по-вседневной деятельности, а также является важной составляющей инсти-тутов общества, которые являются таковыми лишь при условии своего непрерывного воспроизводства» [3, с. 111].
Согласно теории социальных практик, именно за счет опривычива-ния, ритуализации (в других концепциях можно встретить термины хаби-туализация (опривычивание), предусматривающего «стабильную основу для воспроизведения человеческой деятельности с минимизацией усилий и для ее институционализации» [1, с. 89–92], и происходит процесс по-ступательного перехода от индивидуального к социальному, обусловли-вающие взаимную обусловленность этих категорий.
Понятие ритаулизации, будучи заимствованным из гуманитарных наук, рассматривается в том числе и в рамках психолингвистики. В частности, в работе К.Ф. Седова ритуализация рассматривается как один из процессов формирования коммуникативной компетенции. В рамках ритуализирован-ных социальных практик происходит набор речевых тактик, формирова-ние коммуникативной стратегии, что, в конечном итоге, приводит к форми-рованию определенных коммуникативных черт характера [11].
Встречается и упоминание о ритуализации как о составляющей про-цесса речевой деятельности [4].
Также можно встретить и точку зрения, согласно которой ритуализа-ция социальных и языковых практик стоит в одном ряду с конвенцио-нальностью, стереотипностью, клишированностью [10].
Психологический смысл «опривычивания» состоит в том, что оно предопределяет набор действий и освобождает индивида от необходи-мости постоянного решения одних и тех же вопросов, тем самым давая ощущение стабильности жизненного мира.
Вместе с тем, можно также встретить и понятие коммуникативной практики, что тоже видится заимствованным понятием из социальных наук, и, возможно, по этой причине употребляется в описании теорети-ческих и практических исследований, рассматривающих его как инстру-ментальное понятие теории дискурса [6], относящихся преимущественно к сфере социальных и массовых коммуникаций, межкультурных исследо-ваний [9].
105
Рассмотренные выше теории, касающиеся преломления социального и индивидуального в психолингвистике, не являются полностью исчер-пывающими и полностью разграничивающими социальное и индивиду-альное в лингвистическом описании, но появление споров вокруг данно-го вопроса показывает значимость обусловленности категорий социаль-ного и индивидуального в рамках рассмотрения теоретических вопросов психолингвистики. Указанная значимость определяется, прежде всего,
а) воспроизводимостью индивидуальных речевых особенностей при реализации определенных социальных практик;
б) определением направления изменений языковых проявлений (из-менений на уровне социально-коммуникативных практик) при учете ин-дивидуальных речевых практик;
в) ритуализацией социальных и коммуникативных практик.
ЛИТЕРАТУРА:1. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности:
трактат по социологии знания. М. : МЕДИУМ, 1993. – 391 с.2. Гамперц Дж. Об этнографическом аспекте языковых изменений //
Новое в лингвистике. Выпуск 1975. Под редакцией Н.С. Чемоданова. – М. Прогресс, – C.297–318.
3. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М. : Академический проект, 2003 – 234 с.
4. Горошко Е.И. Языковое сознание: гендерная парадигма // Методо-логия современной психолингвистики. – М. – Барнаул: Изд-во Алтай-ского университета, 2003 – С. 99–102
5. Кашкин В.Б. Парадоксы границы в языке и коммуникации: серия мо-нографий «Аспекты языка и коммуникации», Вып.5/ Воронежский государ-ственный университет. – Воронеж: Издатель О.Ю. Алейников, 2010. – 382 с.
6. Коммуникативные практики речевой деятельности: Сборник науч-ных статей / Отв. ред. Е.Ю. Ильинова. – Волгоград: Волгоградское науч-ное издательство, 2013. – 222 с.
7. Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте// Новое в лингвистике. Выпуск 7 1975. Под редакцией Н.С. Чемоданова. – М. Про-гресс, 1975. – С. 95–180.
8. Леонтьева О.А. Языковая личность старшеклассника: онтологиче-ский аспект (на материале сочинений ЕГЭ). – Автореферат на соискание ученой степени канд. филол.наук. – Омск, 2010 . – 26 с.
9. Нестерова О.А. Современные коммуникативные практики в про-странстве российско-китайского межкультурного взаимодействия – ав-тореферат диссерт. на соискание ученой степени доктора философских наук. М., 2010 – 51 с.
10. Олешков М.Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсив-ный аспект. Нижний Тагил, 2006 – 146 с.
106
11. Седов К.Ф. Теоретическая модель психолингвоперсонологии // Во-просы психолингвистики., № 7, 2008. – С. 12–24
12. Силантьева М.С. Элитарная языковая личность. – Автореферат на соискание ученой степени канд. филол.наук… Пермь 2012 . – 28 с.
13. Словарь социолингвистических терминов (под редакцией В.Ю. Ми-хальченко). – М., 2006, 312 с.
Kartushina Elena Aleksandrovna
THE LANGUAGE OF SOCIAL PRACTICES, THE VIOLATION OF TABOOS AND THE LANGUAGE EXPRESSION AS THE
TENDENCIES OF LANGUAGE FUNCTIONING IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Globalization, language norm, taboos, language expression, language personality, idi-olect, communicative practice.
The article describes changes in the functioning of languages in the period of globali-zation. The changes relate to the degree of language loyalty to the native language, variation and linguistic expression. It addresses the relationship between individual and social in psycholinguistics.
Константинова Алла Юрьевна канд. филол. наук, профессор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Москва, Россия
[email protected]Купрещенко Ольга Фёдоровна
магистрант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
КОНЦЕПТЫ И МОДНЫЕ СЛОВАРУССКОГО ЛИБЕРАЛЬНОГО ДИСКУРСА
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫЛиберальный дискурс, информационная война, модные слова, объем семантики, референция, аксиология.
В статье рассматриваются ведущие концепты либерального дискурса, их язы-ковое выражение, а также модные слова, реализующие данные концепты в усло-виях информационной войны.
107
Либеральный дискурс чаще всего исследуется в сфере социальных наук, особенно как феномен самой социологии. Жанры политического дискурса, по мнению этнометодологов, являются одним из самых надеж-ных инструментов познания социальной действительности, в том числе идеологии отдельных социальных групп. Не менее важным является ис-следование аксиологической природы политического дискурса, его связи с национально-культурными традициями социума, типами культур, при-страстиями и ориентацией социальных, возрастных, гендерных групп [4].
Такое направление исследования относится к междисциплинарному уровню. Оно предполагает выделение значимых для жанров политиче-ского дискурса концептов, в основе которых лежит не просто культурное или иное понятие, ментальный образ, а понятие, прямо опирающееся на языковую единицу, прямо или опосредованно выражающую такие спец-ифические значения, которые не столько извлекаются как архетипы куль-туры, сколько рождаются в диалоге культур, сознаний, идеологических ценностей [6]. В этом смысле исследование, несмотря на статус междис-циплинарного, в значительной степени лингвистично. Само понятие по-литический дискурс понимается нами как актуализированный текст по-литика, созданный по образцу определенного коммуникативного жанра.
С точки зрения идеологии (господствующих идей) политический дис-курс может члениться по-разному. В то же время либеральный дискурс как одно из его проявлений всегда выделяется вполне определенно. Он маркируется по опоре на типы ценностных структур. Сами носители и идеологи либеральных ценностей имеют объединения, программы, в ко-торых они их представляют и комментируют. Репертуар доминирующих ценностей, прямые и метафорические именования, интерпретация фак-тов социальной действительности в дискурсах не вызывают сомнений относительно их либеральной идеологической принадлежности. Особая роль в либеральном дискурсе принадлежит модным словам [3]. Это не просто слова либералов. Мы имеем дело с особым типом референци-альных отношений. Это идентифицирующая референция, имеющая в ос-нове противопоставление «свой»-«чужой», с целым набором оппозитив-ных характеристик. «Свой» – это современный, умный, цивилизованный, уважающий международное право, европейский, гражданин мира и т.д. «Чужой» – это приверженец традиционной культуры, национальных тра-диций, патриот, агрессивный, не уважающий права и т.д.
Возьмем такой пример: Перспектива заключается в том, чтобы и Россия, и Украина становились современными правовыми государства-ми европейского типа. Г. Явлинский. Радио Свобода, 11.04.2014.
Сами по себе слова правовой и европейский не имеют того смыслового объема, который возникает в речи либерала Г. Явлинского и который по-нятен как его сторонникам, так и противникам. Здесь европейский по опре-делению правовой, высокоразвитый в общественном плане, задающий
108
стандарт, которому соответствуют государства европейского типа. Такие государства – реальность. Россия и Украина высоким правовым стандар-там государств европейского типа не соответствуют тоже по определению.
Таким образом, правовой и европейский как модные слова либераль-ного дискурса имеют не только модифицированный объем семантики, но и определенную, часто измененную, но при этом закрепленную референ-циальную отнесенность и типичную оценочность на шкале «хорошо»-«плохо». Типичным контекстом для модных слов либерального дискурса оказывается демагогический в одном из его вариантов чрезмерно обоб-щающего типа.
И в приведенном примере такой демагогический контекст есть. Это правовые государства европейского типа. С точки зрения самих евро-пейцев, они не образуют ни культурного, ни правового типа, а основаны на глубоких национальных традициях в этих сферах.
Качество политического дискурса и его либеральной части прямо свя-заны с политическими процессами в стране и в мире. В периоды напряже-ния, обострения конфликтов либеральный дискурс сужает свою концепту-альную базу и меняет стиль. В настоящее время Россия и мир включены не только в ряд международных конфликтов, но и в тот сложный процесс, который называют информационной войной. В условиях информационной войны либеральный дискурс становится элементом более общей стратегии мировой коммуникации. Идеологи информационных войн работают на пе-редних рубежах эффективной международной политики, но работают при этом в сфере науки. В США и Европе есть ряд исследовательских центров с данной тематикой [1; 2; 5; 7; 8]. Среди ведущих ученых этих центров есть высокопоставленные в прошлом военные, занимавшиеся стратегиями вли-яния на мировые процессы. Главную цель, по их мнению, представляют собой первые лица государства, а не социум. Иначе говоря, влияние на со-циум, в том числе с помощью СМК – не лучшая стратегия. Она затратна по времени и менее эффективна, чем сконцентрированное и мощное влияние на первых лиц государства. Информационные войны демонизируют и пер-сонифицируют государства, но это вовсе не значит, что информационная политика государств не опирается на большой идеологический потенциал СМК и лидеров близких им партий и определенные, в том числе трансна-циональные группы людей.
Анализ современного русскоязычного дискурса лидеров либерализма позволил нам выявить репертуар его ведущих концептов в условиях на-чала информационной войны.
Приведем этот список: свобода, достоинство, насилие, граждане, толерантность, миропорядок, международное право, легитимность, двойные стандарты, гражданские ценности, права человека, гласность, правовая позиция, семья цивилизованных народов, равноправие, граж-данская солидарность.
109
Содержание концепта, в данном случае имеющего культурный и иде-ологический компоненты, имеет языковое выражение с различной зна-чимостью элементов. Это может быть не слово в целом, а его опреде-ленная словоформа или словосочетание со значимыми в содержательном плане компонентами. Например, в словоформе может оказаться значи-мым число существительного, а словосочетание может оказаться типич-ной единицей концепта, опирающегося на метафорическое именование. Естественно, что это может быть и слово. Модные слова либерального дискурса могут повторять названия концептов или формировать поле их дискурсных номинаций вокруг основного именования.
В условиях информационной войны концепт Свобода явно сужает круг своих дискурсных реализаций от свободы выбора до свободы слова: Речь идет о серьезном, открытом фронтальном наступлении на свобо-ду слова в России. Н. Сванидзе. «Поединок». ТВ Россия, 22.03.2013.
Место свободы выбора занимает более узкое языковое выражение свободы: права и свободы человека. Появление, а затем укрепление в дискурсе словоформы мн. числа абстрактного существительного снача-ла подчеркивало считаемость проявлений свободы, а в настоящее время является показателем не его количества, а качества – «разнообразия». По-явился и укрепляется концепт Разнообразие, модным становится и само слово. При этом его либеральная маркированность проявляется в суже-нии его денотативного пространства. О социальном многообразии гово-рят, имея в виду прежде всего включение объекта в закрытое ранее со-циальное пространство. Например, требование принимать на службу во все структуры представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Концепт Достоинство в условиях информационной войны и экономи-ческого кризиса в России четко дифференцирует языковые выражения до-стоинство и достойный. Достоинство относится к политической сфере, а достойный – к экономической. Либеральный дискурс последовательно закрепляет эту отнесенность. Например, достоинство человека, револю-ция достоинства и достойная зарплата, достойное жилье. Нужно заме-тить, что употребления типа достойная зарплата возникли именно в ли-беральном дискурсе как эвфемизм для обозначения сверхвысоких доходов. Эвфемизация преследовала цель социального смягчения раздражающей общество информации о богатстве и сверхбогатстве представителей либе-ральных кругов российского общества, претендующих на власть. И сейчас эта номинация используется наряду с метафорической номинацией люди моего круга, люди вашего круга, т.е. богатые и очень богатые.
Концепт Насилие в большей степени реализуется в либеральных дис-курсах о военных конфликтах, в меньшей – об отношениях власти и оп-позиции. Некоторый сдвиг в семантике данного дискурса можно обнару-жить в делении на «свой»-«чужой» (источник насилия) по цивилизаци-онному принципу.
110
Концепт Граждане имеет не столько природу традиционной этно-культурной константы, сколько признаки идеологического конструкта с либеральным содержанием. Не случайно в данных дискурсах это слово употребляется в форме мн. числа. Это совокупность, противопоставлен-ная государству, носитель правовых норм. Это «свой». Государство же – масса чиновников, пренебрегающая интересами и правами сообщества. Это «чужой», с которым необходимо бороться. Именно поэтому правовое государство в России – только задача, а не реальность:
Многие люди согласились терпеть в 90-х г.г., чтобы жить в совре-менном правовом государстве. Г. Явлинский. Радио Свобода, 11.04.2014.
Главный принцип ( имеется в виду создаваемого в России государ-ства) – в непризнании прав человека. Н. Петров. «Процесс». ТВ 6, 10.2015.
Концепт Правовая позиция актуализирует семантику «неправового» поведения России в мире, попрания «моральных норм». Это концепт реа-лизуется с помощью многих модных слов осуждения: По Крыму у меня правовая позиция. Крым не наш. С. Митрохин. «Процесс», 6.10.2015.
В России тоталитарный режим. С помощью тоталитаризма уже в сегодняшнем мире нельзя решить тот уровень задач, который требу-ется для интеграции в мировое сообщество. Г. Сатаров. Радио Свобода, 3.06.2015.
Наша страна несет глобальную угрозу. С. Ковалев. Радио Свобода. 13.10.2015.
Концепт Семья цивилизованных народов, в основе которого лежит метафора, находится в центре поля таких же концептов, за которыми не стоят строго или хотя бы приблизительно очерченные понятия. Это ми-ровые правила, миропорядок, нормальные страны, мировая цивилизация, европейский путь, европейские ценности и т.д.
В условиях информационной войны именно это поле концептов с мяг-кими, диффузными границами реализуется в демагогических типах вы-сказываний либерального дискурса. Аксиология либерального дискурса здесь уже однозначна: Россия – изгой в семье цивилизованных народов. Ее нельзя сделать цивилизованной: Россия – страна, которая не поддер-живает сложившийся миропорядок. Путину не нравится украинский ев-ропейский выбор. Б. Немцов. Радио Свобода. 26.07.2014.
Остальные концепты в основном сохраняют свое либеральное содержа-ние. В целом же они группируются вокруг концептов метафорического типа.
ЛИТЕРАТУРА:1. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания / Пер. с
англ. А. Веретенникова; под общ. ред. Л.Б. Макеевой. – М.: Идея-Пресс, 2004. – 184 с.
2. Кларк Р. Кибервойна: новая угроза национальной безопасности и пути её преодоления / Cyberwar. The Next Threat to National Security
111
and What to Do About It. Richard A. Clarke, Robert K. Knake. – Ecco, HarperCollins – 2010. – 290 с.
3. Кронгауз М.А. Ключевые слова эпохи. Слово.ру: Балтийский ак-цент. – 2010. – №1-2. – С. 69–85.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
5. Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М.: Изд-во РАГС, 2001.
6. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 176 с. (2-е изд.)
7. Шафранский Р. Теория информационного оружия. Пер. В. Казен-нова. – М., 2002.
8. Arquilla J., Ronfeldt D. Looking ahead: preparing for information-age conflict // In Athena’s camp. Preparing for conflict in the information age. Ed. by J. Arquilla, D. Ronfeldt. – Santa Monica, 1997.
Konstantinova Alla Yuryevna, Kupreshchenko Olga Fedorovna
CONCEPTS AND FASHIONABLE WORDS OF RUSSION LIBERAL DISCOURSE IN THE CONDITIONS OF INFORMATIONAL WAR
Liberal discourse; informational war; fashionable words; semantics volume; refe-rence; axiology.
The leading concepts of liberal discourse and their linguistic expression as well as the fashionable words which are realize such concepts in the conditions of informational war are considered.
112
Котова Ирина Сергеевнастудент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
[email protected]Нестерова Татьяна Вячеславовна
канд. филол. наук, профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
«ЯЗЫКОВАЯ ИГРА» В КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИВЕТСТВИЯ И ЗНАКОМСТВАИгра, языковая игра, непрямая коммуникация, повседневное общение, коммуника-тивная ситуация, приветствие, знакомство.
В статье рассматривается языковая игра как явление непрямой коммуникации в коммуникативных ситуациях приветствия и знакомства (повседневное общение).
Феномен языковой игры рассматривается с различных позиций уче-ными-философами, культурологами, психологами, лингвистами, педаго-гами. Язык не только является средством общения, но может использо-ваться и как инструмент игры, как способ проявления творческой функ-ции языка, его креативного потенциала.
Для того чтобы определить сущность понятия «языковая игра», не-обходимо выяснить, что есть сама игра, какова семантика этого слова.
В философских и культурологических исследованиях игра анализи-руется с позиций ее роли в жизни человека и ее значения для культуры. Й. Хейзинга в работе «Homo ludens. Человек играющий» дает определе-ние игры как условно-реального вида деятельности. Игра рассматрива-ется им как некий символ, модель особого поведения и нестандартного отношения к происходящему [11].
В Толковом словаре русского языка В.И. Даля слово «игра» определяет-ся как «забава, установленная по правилам и вещи для того служащие (игра в горелки, в кости, в бабки, в карты...). Играть – шутить, тешиться, забав-ляться, веселиться от скуки, безделья» [3]. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение: «Игра – тот или иной вид, способ, каким играют, развлекаются. Играть – резвясь, забавляться, развлекаться, проводить время в каком-нибудь занятии, служащем для раз-влечения, отдыха» [7, с. 235]. Во всех приведенных определениях можно отчетливо выделить основной компонент значения слова «игра». Игра – деятельность, главной целью которой является получение удовольствия.
113
Итак, игра – условно-реальная деятельность, ограниченная временем и пространством, цель которой – получение удовольствия. Она предполага-ет набор определенных правил и некий инструментарий. Частным видом игры, проявляющейся в речевой деятельности, выступает языковая игра.
Среди исследователей нет однозначного взгляда на природу языковой игры и ее форм. Наиболее широкая трактовка этого явления восходит к концепции Л. Витгенштейна, согласно которой языковой игрой считается соединение речи и действия. Любое высказывание является осуществле-нием какого-либо действия, то есть определенной языковой игрой: «Язы-ковой игрой» я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [1].
Лингвисты по-разному определяют языковую игру. В понимании В.З. Санникова языковая игра представляет собой «сознательное мани-пулирование языком, построенное если не на аномальности, то, по край-ней мере, необычайности использования языковых средств» [8, с. 37]. Н.В. Данилевская также обращает внимание на осознанность, преднаме-ренность создания эффекта языковой игры: «Языковая игра – определен-ный тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с целью создания неканонических язы-ковых форм и структур, приобретающих в результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя / читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект» [9, с. 657]. Т.А. Гриди-на выдвигает гипотезу об определении языковой игры как приема соот-ношения «языкового стереотипа (стандарта) и намеренного (осознанно-го) отклонения от этого стандарта в речевом поведении личности», вы-деляя, таким образом, связь языковой игры с речетворчеством. [2, с. 3–7].
Наиболее фундаментальным нам представляется определение языко-вой игры, данное А.П. Сковородниковым: «Языковая игра – творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой/речевой, в том числе – стилистической/речеповеденческой/логической нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе – комического характера» [5, с. 802]. Языковая игра как явление непрямой коммуникации рассматри-вается в работах В.В. Дементьева [4], Т.В. Нестеровой [6] и др.
Таким образом, несмотря на разнообразие пониманий феномена язы-ковой игры, многие исследователи сходятся в том, что языковая игра свя-зана с речетворческой деятельностью, выражающейся в преднамеренном нарушении языковых и речевых норм и направленной на достижение ко-мического эффекта.
Следует отметить, что помимо основной цели (развеселить, развлечь, рассмешить слушателя, доставить ему удовольствие, развлечься самому), говорящий (пишущий), используя языковую игру, может преследовать и
114
иные цели: продемонстрировать адресату свои способности к языковому творчеству (самопрезентация личности), успокоить, утешить адресата, разрядить обстановку, предотвратить конфликтную ситуацию или, наобо-рот, уколоть, упрекнуть, унизить и т.д.
В то же время при анализе языковой игры следует учитывать контекст коммуникативной ситуации, в которой функционирует данное явление. Н.И. Формановская дает следующее определение коммуникативной ситу-ации: «сложный комплекс внешних условий общения и внутренних состо-яний общающихся, представленных в речевом произведении – высказы-вании, дискурсе» [10, с. 42]. Знание контекста коммуникативной ситуации обеспечивает понимание истинного смысла речевого акта, коммуникатив-ной установки говорящего. В рамках данной статьи мы рассмотрим языко-вую игру в коммуникативных ситуациях приветствия и знакомства, кото-рые объединены общей целью установления коммуникативного контакта. За основу анализа мы взяли классификацию средств и приемов языковой игры, представленную в работе Т.А. Гридиной «Языковая игра: стереотип и творчество» [2]. Данная классификация связана с ассоциативной интер-претацией природы языковой игры.
Языковая игра в ситуациях приветствия и знакомства может возникать на основе принципа ассоциативного отождествления (игровой идентифи-кации). Частным проявлением этого принципа является подмена компо-нентов в составе фразеологических оборотов, прецедентных текстов, их трансформация. На первоначальный смысл конструкции накладывается новая информация, в результате чего и возникает эффект языковой игры. Рассмотрим эти примеры:
(1) Диалог студентов-филологов:– Ну, здравствуй, племя молодых оболтусов! – И тебе привет, наш достойный представитель! (запись устной
речи) Комический эффект возникает в результате трансформации пре-цедентного текста. Сравним: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» (А.С. Пушкин «Вновь я посетил...») (торжественное приветствие, адре-сованное новому, молодому поколению, идущему на смену старшему). Лексема «оболтус» (прост.; «дурак, бездельник»; в данном контексте ак-туализирована сема «бездельник») [7, с. 434] меняет тональность торже-ственного приветствия на шутливо-ироническую. В ответной реплике коммуникантов также содержится шутливая ирония с импликацией отри-цательной оценки: «наш достойный представитель» – тоже «бездельник».
(2) – Я пришел к тебе со «здрасьте»!– Привет-привет (запись устной речи).В основе комического эффекта – трансформация прецедентного тек-
ста. Сравним: «Я пришел к тебе с приветом…» (А.А. Фет).(3) На улице идет сильный дождь. Звонок в дверь. Девушка (хозяйка
квартиры), открывает дверь и видит молодого человека, промокшего до нитки и дрожащего от холода:
115
– Цуцик к Вашим услугам!– Боже мой! Проходи скорее. Как ты так промокнуть умудрился?– Зонт забыл (запись устной речи)В данном контексте языковая игра возникает в результате обыгрыва-
ния устойчивых сочетаний «Замерз, как цуцик», «Дрожать, как цуцик». Лексема «цуцик» (прост. ласк.) в сочетании с РА «К Вашим услугам!» (вежливая реплика в знач. «готов вас выслушать, быть вам полезным»; устар.) создает комический эффект.
(4) – Алло, я Вам звоню – чего же боле? (Из передачи «КВН») Здесь представлена трансформация прецедентного текста. Сравним:
«Я к вам пишу – чего же боле?» (А.С. Пушкин. Евгений Онегин). Также возможно возникновение языковой игры на основе принципа
ассоциативного наложения, в частности, интерпретация семантики слова путем обыгрывания многозначности или омонимии лексических единиц.
(1) – Давайте познакомимся.– Аврора, – сказала она, протягивая липкую руку.– А я, – говорю, – танкер Дербент. Девушка не обиделась.– Над моим именем все смеются. Я привыкла... Что с вами? Вы красный.– Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я – конституционный де-
мократ (С.Д. Довлатов. Заповедник). В данном диалоге реализуется ситуация знакомства. В ответной репли-
ке молодой человек, представляясь, называет себя «Танкер “Дербент”»1, обыгрывая совпадение имени девушки «Аврора» и названия крейсера Балтийского флота «Аврора», ставшего символом Великой Октябрьской социалистической революции (холостой выстрел с «Авроры» явился сиг-налом к штурму Зимнего дворца). В этом примере мы также наблюдаем языковую игру, которая основана на сознательной подмене значения по-лисемичного слова «красный». Сравним: «красный» в значении «цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цветка мака» и «красный» в зна-чении «сторонник или представитель большевиков, их революционной диктатуры» [7, с. 303].
(2) – Девушка, у Вас есть часы?– Да. Сейчас пять минут четвёртого.– А свободные?– Нет. (запись устной речи)Здесь представлена ситуация «Включение контакта» во флиртовом
дискурсе. Языковая игра возникает в результате обыгрывания омонимов. Сравним: «часы» как «прибор, отсчитывающий время в пределах суток»
1 «Танкер „Дербент“» — советский чёрно-белый фильм 1941 года, снятый режиссёром А. Файнциммером по одноимённой повести Ю. Крымова «Танкер „Дербент“». Героико-приключенческая лента, рассказывающая о стахановском движении на танкерах Кас-пийского моря в конце 1930-х годов и о спасении моряками горящего судна.
116
и «часы» как «время, предназначенное для чего-нибудь (мн.ч. от слова «час»): часы досуга» [7, с. 877–878].
(3) – Привет, как лекция прошла?– Мимо. (запись устной речи)Ситуация приветствия и осведомления о делах (при встрече). Язы-
ковая игра в ответной реплике коммуниканта возникает на базе полисе-мии. Сравним: глагол «пройти» в значении «о времени, о чем-н. бывшем, длившемся» и в значении «идя, двигаясь, совершить путь; преодолеть какое-н. пространство» [7, с. 612]. Ответная реплика коммуниканта яв-ляется шутливо-иронической. В ней имплицируется невнимательное от-ношение студента к лекции преподавателя.
Принцип ассоциативного наложения может быть связан с обыгры-ванием фоновых знаний. Содержание фоновой информации охватывает социокультурные сведения, характерные для определенной нации и от-раженные в языке. В ситуациях приветствия и знакомства такой прием частотен при обыгрывании имен (см. рассмотренный выше пример с «Авророй» и «Танкером “Дербент”»).
Довольно распространенным приемом создания языковой игры в си-туациях приветствия и знакомства является прием ассоциативной прово-кации – намеренное столкновение прогнозируемого употребления слова или конструкции и актуальной семантики речевого высказывания.
(1) – Алло, здравствуйте! Это Василий!– Здравствуйте, Василий! Это алло! (анекдот) Ассоциативная провокация возникает в результате логического пара-
докса, нарушения стандартной синтаксической структуры конструкции. Слово «Алло» употребляется в телефонном разговоре в знач.: «слушаю, слушайте» (маркер включения контакта). Комический эффект возникает в результате неправильного употребления данной лексической единицы в функции представления (самоназывание): «Это алло!» (нарушение этикет-ных реализаций фрейма «Разговор по телефону»). Коммуникант интерпре-тировал лексему «алло» в РА «Алло, здравствуйте!» как обращение-антро-поним (ср.: Маша, здравствуйте! Анна Петровна, здравствуйте! и т.п.).
Возможны случаи возникновения языковой игры путем объединения разных языковых единиц в одну на основе совмещения значения и формы с учетом их реальной смысловой совместимости (принцип ассоциатив-ной интеграции). Наиболее продуктивным такой прием становится при создании различных окказиональных обращений, прозвищ; также воз-можна трансформация этикетных формул приветствия.
(1) Обращение отца к сыну-студенту:– Привет, дармоглот! Ну что, учишься? (запись устной речи).Сравним: «дармоед» в значении «тот, кто живет на чужой счет,
бездельник» [7, с. 152] и «бармаглот» как имя существа – персонажа сказки Льюиса Кэролла. В результате совмещаемые слова создают воз-
117
можность обыгрывания содержания сформированного ими гибрида. Так, слово «дармоглот» приобретает значение «бездельничающее существо, живущее на чужой счет» и употребляется в шутливо-ироническом кон-тексте.
(2) СМС-переписка:– Привет! Я похудела на 2 кг!– Привет, мое слонышко!– Подлец! Только не надо врать, что это опечатка! (анекдот)Эффект языковой игры создается в результате объединения слов
«слон» и «солнышко» в одну языковую единицу «слонышко» в функции обращения. В семантике данного гибрида имплицируется шутливо-иро-ническое отношение молодого человека к словам девушки.
(3) – Здравствуйте!– И вы не хворавствуйте! (запись устной речи).В данном примере происходит объединение форм повелительного на-
клонения глаголов «здравствовать» и «хворать» с отрицательной части-цей не. Данное объединение возможно за счет реальной смысловой со-вместимости глаголов. Сравним: «здравствовать» со значением «быть здоровым, благополучно существовать» [7, с. 228] в повелительном на-клонении образует стандартную этикетную формулу приветствия со зна-чением пожелания здоровья. Глагол «хворать» в значении «то же, что болеть», то есть «быть больным, переносить какую-н. болезнь» [7, с. 55, 861] с отрицанием, употребленный в форме повелительного наклонения, по аналогии с глаголом «здравствовать» приобретает похожий смысл – пожелание здоровья, а именно отсутствия болезней.
Языковая игра может возникать также при использовании принципа ассоциативной выводимости, который моделирует контекст восприятия слова на основе деривационно-мотивационной связи слов.
– Здрасьте, Дмитрий Алексеевич! – шумно поприветствовали сту-денты Залесова. – Какими судьбами к нам? Ищете хвостистов...? (А. Житков. Кафедра)
Ситуация приветствия-осведомления при встрече. Сравним: значение слова «хвост» как «остаток, невыполненная часть чего-н. (обычно об экзаменационной задолженности) (разг.)» [7, с. 861] и семантику суф-фикса -ист, который образует существительные со значением лица по принадлежности к учреждению, профессии, определенному обществен-ному направлению (связист, баянист, марксист). Таким образом, на ос-нове деривационно-мотивационной связи слов можно выявить значение слова «хвостист» – лицо, имеющее экзаменационную задолженность.
Наконец, в ситуациях приветствия и знакомства используется прием имитации – намеренно воспроизведенная речевая ошибка или пароди-рование национального колорита иностранной речи путем деформации русских слов.
118
(1) Разговор студентов:– Бонжур с пардоном... – Сколько можно ждать?! Уже все собрались. (запись устной речи).В данном диалоге представлена пародия на французскую манеру речи
с установкой на шутку. Французские слова (приветствие «бонжур» и из-винение «пардон») реализуют модель «что с чем» (ложка с вилкой, чаш-ка с чаем и т.п.), являясь «стяженным» шутливым эквивалентом русских формул приветствия и извинения за опоздание, которые обычно произ-носятся в таких ситуациях, при этом в данном контексте несклоняемое во французском языке слово «пардон» употреблено в падежной форме (Тв.п.). Все это способствует созданию комического эффекта.
(2) Разговор студентов:– Привет!– Ай, здраствуй, пэрсик, здраствуй, прынцесса моя! (запись устной речи).Ответная реплика коммуниканта содержит имитацию кавказской про-
износительной манеры речи с установкой на шутку.Как видим, в рассмотренных нами ситуациях приветствия и знаком-
ства языковая игра присутствует в разнообразных формах, построенных на основе следующих принципов: ассоциативная интеграция, ассоциа-тивное наложение, ассоциативное отождествление, имитация, ассоци-ативная выводимость, ассоциативная провокация. Перспективным на-правлением, на наш взгляд, является исследование феномена языковой игры в различных коммуникативных ситуациях повседневного общения не только в русской, но и других лингвокультурах.
ЛИТЕРАТУРА:1. Витгенштейн Л. Философские исследования [Электронный ре-
сурс]. URL: http://kant.narod.ru/witt.htm2. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатерин-
бург: Урал. гос. пед. ун-т, 1996. – 215 с.3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://slovardalja.net/4. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. – М: Гнозис, 2006. – 376 с.5. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник.
Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. – М.: Флинта, 2011. – 840 с.
6. Нестерова Т.В. Непрямая коммуникация в обиходной сфере (рус-скоязычное общение). – Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. I. – C. 156–162.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 994 с.
119
8. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: Яз. слав. культуры, 2002. – 552 с.
9. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Под ред. М.Н. Кожиной. – М.: 9. Флинта, Наука, 2006. – 696 с.
10. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагмати-ческий подход. – М.: Рус. яз., 2002. – 216 с.
11. Хейзинга Й. Homo ludens. [Электронный ресурс]. URL: http://fanread.ru/book/7622309/?page=1
Kotova Irina Sergeevna, Nesterova Tatyana Vyacheslavovna,
«LANGUAGE GAME» IN COMMUNICATIVE SITUATIONS OF GREETING AND ACQUAINTANCE
Play, language game, indirect communication, everyday communication, communica-tive situation, greeting, acquaintance.
The article deals with the language game as a kind of indirect communication in an everyday communicative situation of greeting and acquaintance.
Кошкарова Наталья Николаевнад. филол. наук, доцент Южно-Уральского государственного университета
Челябинск, Россия[email protected]
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ: РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ
КОНФЛИКТНОГО И КООПЕРАТИВНОГО ТИПОВ ДИСКУРСА
Конфликтный дискурс, кооперативный дискурс, политическая коммуникация, межкультурный политический комментарий, средства массовой информации.
Статья посвящена анализу реализации моделей конфликтного и кооперативно-го типов дискурса на материале межкультурного политического комментария. Комментарий как разновидность публицистического варианта данного жанра реализует указанные модели в редуцированном и нежестком виде.
В своих предыдущих работах [7; 6] мы уже обращались к проблеме трансформации жанра политического комментария в современной мас-совой коммуникации. При описании процесса реализации моделей кон-
120
фликтного и кооперативного типов дискурса на материале такого жанра, как межкультурный политический комментарий, исходной предпосыл-кой его изучения является утверждение о том, что комментарий как жанр представляет собой контаминацию двух форм коммуникации – моноло-гической и диалогической. Любой комментарий, являясь монологиче-ским по своей природе, может инициировать ответную реакцию автора комментируемого материала, героев комментируемого материала, целе-вой аудитории.
Напомним, что модели конфликтного и кооперативного типов дискур-са представляют собой комплексные образования, включающие аксиоло-гическую, жанрово-стилистическую и лингвопрагматическую составля-ющие [5]. Представленные модели являются модификацией последней, подробно описанной на материале различных видов дискурса В.И. Кара-сиком [3]. В предложенную нами модель конфликтного дискурса включе-ны также компоненты, выделенные Н.Б. Руженцевой и Ю.А. Антоновой [10]. Прагматическая направленность текстов комментария зависит от того, кто является его автором / группой авторов, стоящих за текстом.
1. Политики и представители властных структурКомментарии, входящие в эту группу, обладают наименьшим агрес-
сивным прагматическим потенциалом за исключением тех случаев, когда принадлежат оппонентам с противоположными взглядами. Примерами комментариев с наименьшей агрессией являются материалы, размещен-ные на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Так, 16 января 2016 года был размещен комментарий в связи с террористическим актами в Буркина Фасо: 15 января в столице Буркина Фасо г. Уагадугу произошла серия скоординированных терактов – во-оруженная атака на кафе и нападение на международную гостиницу «Сплендид», включая захват в заложники порядка 120 ее постояльцев. Более 20 человек – в основном иностранцы из 18 стран – погибли, око-ло 30 – ранены. В результате спасательной операции, проведенной си-лами безопасности Буркина Фасо, террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. По информации Посольства России в Кот-д’Ивуаре и по совместительству с Буркина Фасо, а также почетного консула России в Уагадугу, среди пострадавших российских граждан нет. В Москве решительно осуждают эту преступную вылазку, от-ветственность за которую взяла на себя экстремистская группировка «Аль-Мурабитун», аффилированная с известной террористической ор-ганизацией «Аль-Каида стран исламского Магриба» (АКИМ). Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорей-шего выздоровления всем получившим ранения [4]. В приведённом ма-териале наличествуют все признаки официально-делового стиля: клише (решительно осуждают, выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем получившим
121
ранения), синтаксическая организация предложений, отсутствие эмоцио-нально-экспрессивных речевых средств.
Однако подобные характеристики отсутствуют в комментариях, функ-ционирующих в рамках конфликтного дискурса. Так, в ответ на статью В.В. Путина «Россия призывает к осторожности» (12 сентября 2013 года) последовали комментарии противоположной стороны, в частности, экс-кандидат в президенты США Джон Маккейн назвал статью президента России «оскорблением интеллекта всех американцев». Реакция подоб-ного рода последовала и от спикера палаты представителей Конгресса США, конгрессмена-республиканца от штата Огайо Джона Бейнера (John Boehner). Политик заявил, что чувствует себя оскорбленным. Политики в выражении своего отношения к мнению оппонента не пренебрегают использованием дисфемизмов, которые в гиперболизированной форме передают образ денотата/ референта [1]. Так, сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес (Robert Menendez) в интервью CNN сказал, что его «едва не вырвало».
Поводом для межкультурного политического комментария может стать и интервью соответствующего уровня. 24 июля 2013 года премьер-министр России Д.А. Медведев ответил на вопросы корреспондента ан-глоязычного новостного канала Russia Today Оксаны Бойко о событиях августа 2008 года и последствиях грузино-югоосетинского конфликта. Во время этого интервью представитель нашей страны дал оценку бывшем президенту Грузии Михаилу Саакашвили, ещё раз подтвердил позицию России во время событий 2008 года, обрисовал отношение мирового со-общества к обсуждаемым событиям. Такое развернутое интервью, с та-ким количеством провокационных вопросов не могло не вызвать ответ-ной реакции со стороны грузинского правительства. Представитель пре-мьер-министра Грузии Зураб Абашидзе заявил, что в 2008 году Грузия стала «жертвой агрессии» [2]. Грузинский политик отметил, что «самые тяжёлые последствия августовских событий для Грузии заключаются в том, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии». Однако, по его словам, «в Тбилиси готовы признать, что допустили дра-матические ошибки».
2. Политические консультанты, политологи, эксперты в области по-литики
Комментарии, принадлежащие экспертам в области политики, зна-чительно расширяют жанровое пространство анализируемых текстов за счет такой составляющей комментария, как прогнозирование возмож-ного развития событий. Если комментарии политиков – это преимуще-ственно констатация фактов и (или) эмоциональная оценка действитель-ности, то комментарии, принадлежащие экспертам, могут реализовывать прогностическую функцию высказываний. Так, как прогностический мы можем идентифицировать комментарий Олега Горбунова «Неизбежная
122
экономия» [8]. Маркер прогностичности содержится уже в самом заго-ловке комментария (неизбежный – тот, который неминуемо вытекает из сложившихся обстоятельств). Заголовок контекстуально поддерживается текстом комментария, где дается прогноз возможного развития событий: Ни коллеги по коалиции, ни оппозиция не готовы взять на себя ответ-ственность за стремительное падение экономики, которое, вероятно, будет продолжать на протяжении всего 2015 года, также может за-тронуть и следующий 2016 год.
3. Рядовые гражданеКомментарии, принадлежащие рядовым гражданам, в последнее вре-
мя стали настолько популярны в интернет-пространстве, что на некото-рых сайтах такие высказывания группируются под заголовком Мнения читателей, в рубрике Мнения наряду с комментариями редакции, авто-ров и экспертов. Справедливости ради необходимо отметить, что иногда «рядовыми гражданами» могут выступать и специалисты в области по-литики, но в рамках дискурсивного поля определенного интернет-изда-ния они остаются читателями – теми, «чье мнение может не совпадать с позицией редакции». В такой роли, например, выступает Михаил Ко-ростиков, политолог, аналитик «Лаборатории Крыштановской» в своих размышлениях о попытках России сблизиться с азиатским миром. В свою очередь материал «Приоткрытое окно в Азию» [9] вызвал оживленные комментарии со стороны читателей. Несмотря на тот факт, что авторы комментариев дистанцированы друг от друга во времени и пространстве, между ними возникает диалог, иногда приобретающий конфликтный ха-рактер: * Надо попробовать сблизиться с Африкой, там богатые земли, большие возможности... Нет, правда, Азия России не по карману и не по уму, там всё сложно...* Попробуйте, Серёжа... У вас наверняка соседи-афорамериканцы имеются... Вот и сближайтесь... Это же Нью-Йорк...
В полемику могут вступать и сами авторы комментируемых матери-алов: *Зря, вы, Тео, меня всуе цитируете ... да ещё и перевираете... Я написал всего-навсего, что при Потёмкине, скорее всего, никаких по-тёмкинских деревень не строили... А вы на пустом месте целую концеп-цию наваяли... Обиделись, наверное... Ну, извините.
В интернет-комментариях широко используются косвенные (а иногда и прямые) негативные номинации: * Гражданин «Вопиющий», мне деби-лов и в реальной жизни хватает. Поэтому, пока ты со своими «мухами» не договоришься не трогать чьи-то «котлеты», пожалуйста, не надо ко мне приставать.
В целом необходимо отметить, что, несмотря на общую тенденцию к жаргонизации и даже криминализации языка (особенно в интернет-про-странстве), общий прагматический потенциал проанализированных нами комментариев, принадлежащих рядовым гражданам, можно оценить как вполне нейтральный, не лишенный некоторого агрессивного настроя, не-
123
смотря на то что: комментарии к любому материалу, опубликованному на том или ином сайте, проходят модерацию и проверку содержания на предмет оскорблений, угроз и нецензурной лексики; авторами коммен-тариев являются люди, имеющие обширные фоновые знания истори-ко-культурного характера, которые воспроизводятся и проецируются в текстах комментариев; материалами для анализа послужили коммента-рии, размещенные на сайтах общественно-политических изданий, а не экстремистских, националистических или иного маргинального толка сообществ.
Таким образом, комментарий как разновидность публицистического варианта данного жанра, но значительно модифицированный в современ-ных дискурсивных условиях, реализует модели конфликтного и коопера-тивного типов дискурса в редуцированном и нежёстком виде. Вариатив-ное наполнение компонентов моделей определяется индивидуально-лич-ностным компонентом и динамичностью развития жанра комментария. Фактором, обусловливающим возможное становление и упорядочивание элементов моделей конфликтного и кооперативного типов дискурса, яв-ляется взаимодействие комментария с другими, более «зрелыми» жанра-ми, а именно со статьей и интервью.
ЛИТЕРАТУРА:1. Беляева И.В. Манипулятивное искажение: лингвистический смысл
эвфемизмов / И. В. Беляева, Э. Г. Куликова // Вестник Челябинского госу-дарственного университета. – 2009. – № 22 (160). – С. 15–20.
2. Грузия признает «драматические ошибки» перед августовскими со-бытиями // URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1113706&cid=9.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Вол-гоград: Перемена, 2002. – 477 с.
4. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с террористическими актами в Буркина Фасо // URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/.
5. Кошкарова Н.Н. Конфликтный и кооперативный типы русскоязыч-ного дискурса в межкультурном политическом пространстве: дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2015. – 441 с.
6. Кошкарова Н.Н. Межкультурный политический комментарий // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. – 2014. – Т. 9. – №2. – б. – Нижний Новгород: Нижегородский государствен-ный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. – С. 121–125.
7. Кошкарова Н.Н. Трансформация жанра политического коммен-тария в современной массовой коммуникации // Вопросы когнитивной лингвистики. – № 3 (40). – 2014. – а. – Тамбов: Общероссийская обще-ственная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитоло-гов». – С. 98–103.
124
8. Неизбежная экономия // URL: http://www.politcom.ru/18434.html.9. Приоткрытое окно в Азию // URL: http://www.gazeta.ru/
comments/2014/10/09_e_6255265.shtml.10. Руженцева Н.Б. Межнациональный дискурс: модель в контексте
эпохи. – Екатеринбург: УрГПУ, 2013. – 292 с.
Koshkarova Natalya Nikolayevna
INTERCULTURAL POLITICAL COMMENTARY: CONFLICT AND CONGRUOUS DISCOURSE MODELS’ REALIZATION
Сonflict discourse; congruous discourse; political communication; intercultural political commentary; mass-media.
The paper is devoted to the analysis of conflict and congruous discourse models’ realization on the basis of the intercultural political commentary. The commentary as a kind of publicistic variant of this genre realizes the above-mentioned models in the reduced and flexible way.
Куликова Элла Германовнад. филол. наук, профессор Ростовского государственного
экономического университетаРостов-на-Дону, Россия[email protected]
ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И СУБСТАНДАРТ В СВЕТЕ ИДЕЙ
ЛИНГВОЭКОЛОГИИРечевое преступление, дискурс, иноязычное заимствование, обсценная лексика, экспрессивность.
Статья посвящена проблемам лингвоэкологии. Дестабилизирующими факторами в развитии современного русского языка являются избыточные иноязычные за-имствования и жаргонизмы, вытесняющие исконные слова литературного языка.
(Работа выполнена в рамках реализации проекта № 16-04-00037 Российского гуманитарного научного фонда.)
Сегодня в центре внимания лингвоэкологии стоит проблема избыточ-ных немотивированных заимствований. Иноязычная лексика в больших количествах фигурирует в текстах уличных вывесок, вследствие чего воз-
125
никает проблема русскоязычного облика российских городов. «Происхо-дит некая духовно-языковая оккупация нашего сознания – своеобразная америкомания» [6, с. 91]. Ср. заголовки статей, посвященных перена-сыщению русской речи англицизмами: «Непрезентабельная харизма», «Русский уходит по-английски», «Словесный суррогат». Однако, по наб-людениям А.Т. Аксеновой [1], резкие оценочные суждения на эту тему встречаются все реже: бывшие не так давно популярными слова и вы-ражения: «американобесие», «американомания», «экспансия американ-ской культуры», «всемирная агрессия английского языка», «иностранная атака на русский язык», «словесные примеси», «засилье иностранных терминов» употребляются все реже. Но и это утверждение не бесспорно.
При всем толерантном отношении к иноязычным элементам, характер-на обеспокоенность современными процессами в языках Европы, которые принимают лавинообразный поток англо-американских заимствований. Именно лингвоэкология обращает внимание на разрушительность засилья чужеземных слов. Причем наиболее радикальная точка зрения состоит в том, что для русского языка «точка невозврата» уже пройдена [2].
Принятым Думой Законом «О русском языке как государственном языке Российской Федерации» предусматривается административная от-ветственность за употребление иноязычных слов и словосочетаний, если имеются русские аналоги. Но, во-первых, неясно, что считать аналогом при наличии неизбежных прагматических различий между исконной и заимствованной единицами, а во-вторых – аналог нередко тоже оказыва-ется заимствованием, только ассимилированным.
Кроме того, как показывает практика, пуризм в отношении иноязыч-ных элементов успешно игнорируется узусом. В то же время ясно, что истоки англо-американского влияния на европейские языки слишком зна-чительны и вряд ли ситуация коренным образом может быть переломлена с помощью законодательных актов. «Свежие» англо-американизмы явля-ются трансляторами особой «прагматики глобализма», именно они вы-ступают в качестве знаков нового времени, а значит механическая замена их на исконные слова, не обладающие этой прагматикой, невозможна. Английский язык стал глобальным по причине признания его приоритет-ного статуса в государственной, правовой, академической и экономиче-ской сферах; имеет определенное значение и то, что английский изучает-ся как иностранный в большинстве стран мира, а значит – масштабно ис-пользуется «неносителями». С позиций экологии языка, угроза видится в иноязычных элементах, являющихся деструктивными, затрудняющими восприятие и понимание текста, делающих ущербной коммуникацию, создающих дискомфорт у носителей языка. Распространенным считается понимание англо-американизмов в качестве деструктивных элементов, безраздельно господствующих в таких значимых областях, как эконо-мическая или компьютерная терминология, спорт, искусство, мода и др.
126
Критерием экологичности иноязычия может стать только уместность, понимаемая как соответствие коммуникативным и эстетическим целям высказывания и текста. Давно известно, что с помощью заимствований нередко можно максимально точно детализировать обозначение.
В то же время иноязычные единицы могут связываться в сознании носителей языка с недопустимыми речевыми стратегиями. Так, Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибургская [5, с. 96] считают одним из проявлений вербальной агрессии «немотивированное использование иноязычных элементов, которые часто служат не целям номинации или уточнения существующих понятий, а используются чисто в рекламных целях, в це-лях агрессивного воздействия на читателя или слушателя». По мнению И.В. Некрасовой [4, с. 87–97], реклама «Вас ждет отличный шопинг» должна вообще рассматриваться в качестве нарушения пункта 1. ст. 5 Закона 2006 г. «О рекламе», закрепляющего правила о недопустимости использования в рекламе иноязычных слов и выражений, которые могут искажать смысл информации (но не относятся к таким нарушениям ино-странные наименования зарубежных рекламодателей, к примеру – SONY, Xerox). Однако судьба этого слова (и его производных) в русском языке последнего десятилетия ставит под сомнение такую квалификацию его роли в рекламе, особенно если учесть, что словесный колорит эпохи со-ставляют именно англицизмы. Ср. это слово в игровом тексте: Если муж-чина начал контролировать ваш шопинг, начните контролировать его саунинг (О. Кушанашвили «Я и Путьin»).
Вместе с тем сама проблема ясности в высшей степени актуальна в связи с использованием иноязычного материала в рекламе, ср.: «В рек-ламе раздражает эдакая тарабарщина, смесь русских и английских слов. Она превращается в какую-то «тайнопись». Попробуйте разобраться в таком объявлении: фирма предлагает антиграббер, антисканнер + спец. шоксенсор и антихайджек» [7, с. 166-167].
Русский язык ХХI в. характеризуется активизацией заимствований всех типов: собственно заимствований (то есть освоенных в системе и в норме единиц), экзотизмов и макаронизмов. Нередко речь идет о том, что нынешняя ситуация имеет сходство с культурным двуязычием XIX в., при том что новый тип билингвизма отражает не классовую, а более сложную социальную дифференциацию.
Очевидно, в ведение эколингвистики должны попадать заимствова-ния, которые нельзя охарактеризовать как необходимые: их можно было бы избежать при бережном отношении к родному языку. Не попадают под эту категорию многочисленные маркировочные обозначения. Так как маркировка, товарный знак юридически регистрируются, необхо-димо единообразие их представления в различных условиях. Поэто-му такой тип макаронических вкраплений не нарушает экологические принципы. Кроме того, как отмечает Н.Н. Фролова, нетраслитерирован-
127
ность маркировочного наименования бывает связана с эстетическими категориями [8, с. 33].
Угрожает безопасности русского языка на территории Российской Фе-дерации, помимо засилия в устной и письменной речи американизмов, гибридных англо-русских образований, семантических калек, которые используются в рекламе, в эргонимике, в бытовом и профессиональном общении, текстах СМИ и т.д., криминализация, перенасыщение речи жаргонными выражениями, в том числе – инвективами; снижается уро-вень грамотности и культуры речи населения, что связано с ухудшением преподавания русского языка в школах и уменьшением количества часов на его изучение. Такие процессы ведут к тому, что разрушается духовная культура и интеллектуальный потенциал страны. Таким образом, без-опасность языка становится условием национальной безопасности.
Отечественная лингвистическая наука в последние десятилетия обна-руживает повышенный интерес к каждой из перечисленных угроз: актив-но, как никогда прежде, изучаются субстандартные явления в языке – все типы жаргона и сленга, обсценная лексика. Им посвящена огромная, в том числе монографическая литература, а словари субстандарта, в том числе самого грубого, – самые популярные издания «золотого века рус-ской лексикографии». Результатом этих разработок стало распростране-ние мнения о том, что литературный язык и субстандарт связаны друг с другом и даже дополняют друг друга (причем субстандартные обра-зования – важный источник общеязыковых инноваций), что в современ-ных текстах, особенно – медийных, осуществляется «бесконфликтное» соединение этих языковых стихий. Сегодня делается акцент на игровой природе коммуникативного кода субъязыковых образований, а не на их противопоставленности норме. «Субстандарт как дестабилизирующее начало необходим для поддержания языковой системы как гомеостаза», – утверждает Т.А. Кудинова [3, с. 19].
Одним из дестабилизирующих факторов является то, что иноязычны-ми заимствованиями и жаргонизмами вытесняются исконные слова лите-ратурного языка, передающие этические представления, которые имеют огромный лингвокультурологический потенциал. Такие слова архаизиру-ются и уходят на периферию языка, и проблема состоит в том, чтобы не допустить их безвозвратного исчезновения. Обращение к актуальной в том или ином отношении, выразительной архаике – это один из самых действенных способов «раскрепощения» и дестандартизации языка. Именно поэтому к архаической лексике наиболее охотно прибегают те авторы, которые считают человека хранителем всеобщего культурного опыта.
Анализ процесса архаизации позволяет установить изменение значи-мости концепта в лингвокультуре нации, и оказывается, что на перифе-рию уходят слова, связанные с системой нравственных представлений,
128
которые не могут, не должны устареть. Такие архаизмы, неактуальные с точки зрения массового функционирования, остаются живыми в созна-нии только наиболее образованных носителей языка. Если в обществе сужается круг людей, знающих и ценящих такие слова, неизбежно про-исходит их переход из живого лексического запаса в область пассивного словаря.
Язык – единственное, что может сегодня объединить наше общество. Где выдвигается объединительная идея, то есть оценочное суждение с притязанием на всеобщность, там и начинается разделение. Единство дано нам не в идее, а в общем языке, при условии, конечно, что этот язык живет – развивается и обогащается в соответствии с лингвоэкологиче-скими принципами. Жизненные силы его не беспредельны. Сохранность и комфортность всего коммуникативного пространства зависит от общих усилий. Каждый язык нуждается в том, чтобы люди задумывались о его сбережении, сохранении, чтобы люди не только решали свои ближние коммуникативные задачи, но заботились о языке в целом. Сегодня это очень важно по отношению к русскому языку, который по многим при-чинам переживает не лучшие времена.
ЛИТЕРАТУРА:1. Аксенова А.Т. Образы американской лингвокультуры в современной
русской языковой среде: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. – М., 2011. – 22 с.
2. Карасик В.И. Ценностные параметры лингвоэкологического обще-ния // Эмотивная лингвоэкология в современной коммуникативном про-странстве. Коллективная монография. – Волгоград: Перемена, 2013.
3. Кудинова Т.А. Языковой субстандарт: социолингвистические, линг-вокультурологические и лингвопрагматические аспекты интерпретации: дисс. ... докт. филол. наук: 10.02.19. – Нальчик, 2011. – 400 с.
4. Некрасова И.В. Правовое регулирование рекламы // Адвокат. – 2007. – № 7. – С. 87–97.
5. Петрова Н.Е., Рацибургская Л.В. Язык современных СМИ: сред-ства речевой агрессии. – М.: Флинта: Наука, 2011.
6. Самсонов Н.Г. Глобализация и русский язык, культура // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2008. – № 1. – С.90–95.
7. Феофанова О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб.: Из-дательство «Питер», 2000. – 384 с.
8. Фролова Н.Н. Дискурсивные функции маркировочных наиме-нований (брендов): лингвокультурологический и лингвопрагматиче-ский аспекты (на материале русского языка): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Краснодар, 2011. – 184 с.
129
Kulikova Ella Germanovna
FOREIGN BORROWINGS AND SUBSTANDART IN THE LIGHT OF IDEAS OF LINGUOECOLOGY
Speech crime, discourse, foreign-language loan, obscene lexicon, expressivity.
Article is devoted to problems of linguoecology. The destabilizing factors in develop-ment of modern Russian are superfluous foreign-language borrowings and zhargoniza-tion (slanging) which force out primordial words of the literary language.
Лиеу Тхи Хонг Фукаспирант Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
ОТ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ К ЛОГОЭПИСТЕМЕ
Лингвокультурема, логоэпистема, единицы культурного знания.
В статье рассмотрим понятия – единицы культурного знания: лингвокультуре-ма и логоэпистема. Подчеркиваем особенности терминов и при этом выделяем различия между ними. Выходим на вывод о совместном использовании двух еди-ниц в описании языкового явления.
В поиске нового подхода к изучению и описанию отношения язык – культура ученные предлагают несколько терминов или единиц, относя-щихся к лингвокультурологии (лингвокультуроведению): концепт, линг-вокультурный концепт (Ю.С. Степанов), прецедентный текст (Ю.Н. Ка-раулов), лингвокультурема (В.В. Воробьев), национальный социокуль-турный стереотип (Ю.Е. Прохоров), логоэпистема (В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова), «ключевые слова культуры» (А. Вежбицкая) и др. В этой статье мы рассмотрим лингвокультурему и логоэпистему как наиболее удачные терминологические и методологические находки последних лет.
Понятие лингвокультуремы было введено В.В. Воробьевым как аналог фонеме, морфеме, т.е. в результате лингвистической интерполяции терми-нов. Лингвокультурема, включая в себя не только сегменты языка, но и сег-менты культуры, которые репрезентируются посредством соответствующе-го знака, определяется как «комплексная межуровневая единица», которая «представляет собой диалектическое единство лингвистического и экстра-лингвистического (понятийного или предметного) содержания» [1, c. 44–45].
130
Это единица более «глубокая» по своей сути, чем слово. Сравнивая лингвокультурему со словом, В.В. Воробьев заключает, что слово при-надлежит языку, а лингвокультурема – предметному миру; план содержа-ния лингвокультуремы, в отличие от слова, включает, помимо языкового значения, культурный смысл [1, c. 45].
Автор подчеркивает несколько признаков этого термина: 1) такие сло-ва выражают имя поля («красота», «соборность», «русская националь-ная личность» и т.д.); 2) имеют определённую структуру (от лексемы (маниловщина, обломовщина, хлестаковщина) до целого текста (рассказ А.Н. Толстого «Русский характер»); 3) объединяются и дифференциру-ются по характеру источников (народное поэтическое творчество, па-мятники истории и общественной мысли, литературные произведения, выдающиеся личности, мысли и суждения о нации и культуре в сопо-ставлении с другими) [1, c. 53].
В языке лингвокультурема может быть представлена:• одним словом: соборность – «всеобщность, объединенность»; об-
ломовщина – «безвольная бездеятельность, лень как общественные явле-ния»; хлестаковщина – «безудержное хвастовство, вранье, легкомыслие»;
• словосочетанием: русский человек (народ); русский характер; рус-ская печь (особая кирпичная печь для варки пищи, печения хлеба и ото-пления); русская рубашка (верхняя мужская рубашка навыпуск с застеги-вающимся сбоку воротом);
• абзацем или абзацами: описание всемирной русской отзывчивости в «Подростке» Ф.М. Достоевского;
• целым текстом: рассказ «Русский характер» А.Н. Толстого [1, c. 54–56].Также следует обратить внимание на характер самого источника линг-
вокультурем, которыми могут быть: 1) народное поэтическое творчество; 2) памятники истории и общественной мысли, специальные историче-ские, философские, социологические, литературоведческие, лингвисти-ческие, эстетические и другие исследования; 3) высказывания деятелей науки, искусства и литературы; 4) литературные произведения, в которых художественно отражается русская национальная личность и публици-стика; 5) персоналии как модели национальной личности; высказывания иностранцев о нации и культуры как сопоставительный фон [1, c. 54–56].
Логоэпистема считается многими исследователями как одна из самых адекватных единиц для описания явления на уровне языка и культуры.
Термин «логоэпистема» составлен из греческих лексем «логос» (язык, речь, учение, смысл) и «эпистема» (сочетание, система идей, ведущая к знанию, пониманию). Таким образом, речь идет о знании, сохраняющем-ся в языке. В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова заметили, что логоэписте-ма – это «языковое выражение закрепленного общественной памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в ре-зультате постижения (или создания) ими духовных ценностей отече-
131
ственной и мировой культур» [5, c. 39]. За логоэпистемой стоит некото-рый когнитивный смысл, некоторое знание, некоторая информация.
Следует добавить, что под логоэпистемой понимаются разноуровне-вые лингвострановедчески ценные единицы, смысл которых может выра-жаться в слове («Москва!»; «обломовщина»; «Авось»); в словосочетании («Говорит Москва!»; «Человек в футляре»; в крылатых выражениях и фразеологизмах («Москва слезам не верит»; «Ехать в Тулу с своим само-варом») и др. [5, c. 39]. Через эти языковые формы логоэпистемы выра-жают знания, мысли, традиции, обычаи, приметы, представления этноса, особенности его национального характера. Таким образом, логоэпистема богаче и шире по объему страноведческой информации, глубже и богаче по степени насыщенности ею, чем языковые единицы [2, c. 32].
Питательной средой семантики логоэпистем служит фольклор и на-родно-поэтические образы; быт, география, природа и история страны; античные и христианские выражения; зарубежные кальки – логоэписте-мы иных культурно-языковых миров; прецедентный текст художествен-ной литературы, тексты фильмов, рекламы; лозунги, призывы, политиче-ские мифы и т.д. [5, c. 48].
Выделяются следующие лингвистические признаки логоэпистемы: 1) имеет словесное выражение, причем она может быть выраженной не только в слове, но и в словосочетании, и в предложении, и в сверхфразо-вом единстве; 2) характеризуется отнесенностью к конкретному языку; 3) является указанием на породивший ее текст или ситуацию; 4) в процессе коммуникации не создается заново, но возобновляется как готовая линг-вистическая единица; 5) в процессе коммуникации может видоизменять-ся в пределах сохранения опознаваемости; в этом случае она приобре-тает текстообразующую силу. С точки зрения культуры В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова определили, что логоэпистема семиотичностна и сим-волична, герменевтична, дидактична и характеризуется наполненностью некоторым знанием культурного характера [4, c. 90-91].
Поскольку логоэпистема порождается текстом или ситуацией, то в ней закреплен «след отражения действительности в сознании носителей языка». Поэтому ее называют «носителем культурной памяти», «голосом прошлого, звучащим сегодня» [5, c. 48]. Логоэпистемы являются «симво-лами чего-то, стоящего за ними, сигналами, заставляющими вспомнить определенное фоновое знание, некоторый текст, сама же логоэпистема представляется эмблемой, сверткой символики текста, единицей описа-ния текста в лингвокультурном аспекте» [5, c. 34].
Из всех вышесказанных особенностей двух терминов можно выде-лить некоторые различии между ними.
Во-первых, по сути лингвокультурема определяется как комплексная межуровневая единица – диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) содержания, тем
132
временем логоэпистема – это разноуровневые лингвострановедчески ценностные единицы – стандартный тип языковой реакции носителя язы-ка на внешние стимулы [3, c. 8].
Во-вторых, по смыслу логоэпистема связана с исходным текстом, так «за каждой логоэпистемой, если проследить ее происхождение, обнару-живается текст или ситуация» [3, c. 16]. Хотя живость такой связи от-носительна, так как при использовании логоэпистем очень часто люди не задумываются об исходном тексте, иной раз даже и не знакомы с ним или знакомы только поверхностно, понаслышке [5, c. 47]. В то же время лингвокультурема отсылает не к тексту или ситуации, а к более общему базовому понятию. Лингвокультурема – частное понятие, это пример, ре-ализация культуры.
Исходя из такого мнения, можно заметить временное существование логогоэпистемы, так как она «рождается, живет; бывает, что и умира-ет…» [3, c. 30], а также постоянную живость лингвокультуремы, смыл которой находится в фоновом знании народа – носителя языка.
Во-четвертых, «Лингвокультурема… аккумулирует в себе как соб-ственно языковое представление («форму мысли»), так и тесно и нераз-рывно связанную с ним «внеязыковую, культурную среду (ситуацию, ре-алию)… . Поэтому слово-сигнал неизбежно будит в человеке, знающем язык, особую культурную коммуникацию, не только значение как намек, но и всю совокупность «культурного ореола» [1, c. 48]. Не зная «культур-ный ореол», адресат не может воспринять сообщение только на языковом уровне, не может «проникнуть в глубокую сеть культурных ассоциаций, то есть в смысл высказывания … текста как отражения культурного фе-номена» [1, с. 48]. Между прочим, используя логоэпистему, говорящий может «ярко, образно, с опорой на исторический опыт народа и … кратко, одним намеком, «свернуто» выразить мысли и чувство» [5, c. 48]. Поэто-му логоэпистемы не только облегчают процесс общения, «подтверждая закон экономии речевых усилий» [3, с. 30], но и помогают понять ин-формацию, содержащуюся в высказывании. Не владея логоэпистемами, человеку трудно знакомиться с новым текстом, так как ему неизвестны пресуппозиции, т.е. информация и смысл, которые «не всегда выводится из суммы смыслов составляющих … слов» [3, c. 20].
Последнее и самое важное различие между сопоставляемыми еди-ницами заключается в том, что главной идеей лингвокультуремы яв-ляется тот факт, как культура отражается в языке, например: слово хо-ровод приводит к определенной картине, гештальту. При этом авторов термина логоэпистема не интересует отражение национальной культу-ры в языке, а важным оказывается другое явление, когда есть языковые единицы, которые вдруг пересматриваются в своем содержании и при-обретают новый смысл. Например: суженый – жених. Обобщим данные в таблице ниже:
133
Таблица 1: Различия между лингвокультуремой и логоэпистемойАСПЕКТЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА ЛОГОЭПИСТЕМА
По сущности Комплексные межуровневые единицы
Разноуровневые лингвострано-ведчески ценные единицы
По смыслу Общее понятие Связана с исходным текстомПо живости Постоянно ВременноПо средствам выражения Частные примеры Богаче и шире
По главной идеи создания термина
Отражение культуры в языке
Дополнительные культурные значения к первичному собст-венному значению, которое может меняться с течением времени.
Выяснение различий между двумя единицами способствует их изуче-нию и также совместному использованию этих единиц в описании языко-вого явления в отношении язык – культура. Мы считаем, что следует от-носиться к логоэпистемному анализу как новому эффективному подходу к изучению семантики фразеологизма и преподаванию РКИ.
ЛИТЕРАТУРА:1. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 331 c.2. Кольцова, Ю.И. Логоэпистемы как ключевые слова фольклорной кар-
тины мира // Ученые зап. Тавричес. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Фи-лология. Социальные коммуникации. – 2011. – Т. 24 (63), № 2. – С. 31–36.
3. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Жизнь в мимолетных мелочах. – СПб: Златоуст, 2006. – 68 с.
4. Костомаров В.Г, Бурвикова Н.Д. Логоэпистема как категория линг-вокультурологического поиска. // Лингводидактический поиск на рубеже веков. Юбилейный сборник. – М., 2000. – С. 88-96.
5. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX века. – СПб.: Златоуст, 2001. – 72 с.
Lieu Thi Hong Phuc
FROM LINGUOCULTUREME TO LOGOEPISTEMA
Linguocultureme, logoepistema, units of cultural knowledge.
In this article we consider concepts and units of cultural knowledge: linguocultureme and logoepistema. Describing main characteristics of the two concepts, at the same time we try to highlight the differences between them. In conclusion, the two concepts are suggested to be jointly used in dealing with linguistic phenomena.
134
Лужная Мария Михайловнастудент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
[email protected]Нестерова Татьяна Вячеславовна
канд. филол. наук, профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
КОСВЕННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИИ УПРЕКА В ОБИХОДНОМ ОБЩЕНИИ
Упрек, непрямая коммуникация, категория косвенности, косвенный речевой акт, иллокутивное самоубийство.
В статье рассмотрены косвенные реализации интенции упрека в обиходном об-щении русских. Показано транспонированное употребление речевого акта упре-ка и сочетание упрека с другими интенциями в рамках полиинтенционального речевого акта.
В настоящее время в коммуникативной лингвистике наблюдается ин-терес к изучению явлений, связанных с непрямой коммуникацией, праг-малингвистической категорией косвенности (косвенные речевые акты и жанры, имплицитные коммуникативные смыслы в ситуациях гармонич-ного и дисгармоничного общения). В данной статье мы рассмотрим раз-личные реализации интенции упрека в обиходном общении русских. Как правило, это ситуации, связанные с выяснением отношений между ком-муникантами.
При анализе разнообразных способов выражения упрека было заме-чено, что упрек может выражаться как вербальными, так и невербальны-ми средствами. Например: «Ты такой же, как и все!» – с упреком сказала она (запись устной речи); «Бабушка спокойно сдвинула брови, вздохнула и с упрёком взглянула на меня» (Ф. Гладков. Повесть о детстве [9]).
Упрек, наряду с такими РА, как похвала, осуждение, порицание, выго-вор и т.д. относится к оценочными РА и выражает «неодобрение по отно-шению к действиям и поступкам собеседника с целью воздействия на его эмоциональную сферу и стимулирования чувства вины/стыда» [8, с. 77]. Упрек основывается на негативной оценке сложившейся ситуации. Оцен-ка складывается «из субъективных (нравится/не нравится) и объектив-ных (соответствие/несоответствие общественным нормам) факторов» [10, с. 39]. По мнению исследователей, «особенностью выражения упре-ка является то, что оценочный смысл не содержится в собственно вы-сказывании, а выводится из элементов пропозиции или извлекается из
135
предложения на основании последующего контекста…» [10, с. 41]. Его необходимо отграничивать от таких близких ему РА, как осуждение, вы-говор, порицание, обвинение, однако это не всегда удается, поскольку в речи данные интенции могут накладываться друг на друга (см. ниже).
В словарях упрек толкуется следующим образом:«УПРЁК, упрёка, муж. Высказанное кому-нибудь или обращенное к
кому-чему-нибудь неудовольствие, неодобрение, обвинение, укоризна. Гневный упрёк. Дружеский упрёк. Осыпать кого-нибудь упреками» [19].
Таким образом, мы видим, что РА упрека реализуется на фоне отрица-тельных эмоций (неудовольствие, неодобрение) и связан с дисгармонич-ной ситуацией общения. Надо отметить, что иллюстративные контексты в словарных статьях на слово «упрек» практически не дают нам приме-ров речевых реализаций этой интенции, поскольку представлены в нар-ративном режиме: «Услышит он упрек жестокий.» (А.С. Пушкин); «И всё заговорило вдруг, посыпались упреки.» (Н.А. Некрасов); «Записка эта перетревожила Нежданова: упрек его бездействию послышался ему в ней.» (И.С. Тургенев); «Она увидела его в опере, призвала в ложу, осыпа-ла его упреками за то, что он забывает ее». (Н.Г. Чернышевский. Про-лог) и др. [Там же]. Эта ситуация была одним из мотивов выбора данной темы для нашей научной работы. Другими мотивами послужили отсут-ствие работ, содержащих полную характеристику РА упрека в обиходном русскоязычном общении, а также возможность исследовать это явление в сопоставительном аспекте (в других лингвокультурах).
С позиций принципа вежливости, упрек относится к «ликоущемляю-щим» РА, которые могут нанести ущерб как образу адресата («упрекая, говорящий дает отрицательную оценку поведения партнера и тем самым вредит имиджу собеседника» [14]), так и образу самого говорящего («втор-гаясь в сферу существования адресата, говорящий рискует потерять лицо в силу того, что его компетентность не всегда очевидна: слушающий мо-жет счесть отрицательную оценку необъективной и не согласиться с ней. В таком случае говорящий сам рискует оказаться в положении обвиняе-мого» [14]). Чтобы избежать этой ситуации, говорящий косвенно реали-зует интенцию упрека. Прямое выражение упрека невозможно, т.к. пер-формативное употребление глагола «упрекать» («Я упрекаю») приводит к иллокутивному самоубийству [7]. Интенция упрека выражается средства-ми других РА (косвенный способ выражения). При ее декодировании не-обходимо учитывать параметры коммуникативной ситуации (пол, возраст, отношения между коммуникантами и т.п.), а также интонацию и невер-бальные средства коммуникации. В художественных текстах о реализации интенции упрека мы можем судить по авторским ремаркам к прямой речи коммуникантов: «упрекнула она», «сказал он с упреком» и др.
В ситуации упрека говорящий «убежден в том, что его собеседник действует неподобающим образом либо совершил неподобающий по-
136
ступок, который нежелателен для упрекающего. Говорящий основывает-ся на пресуппозиции, что соответствующая ситуация имеет место и она противоречит его собственной оценке или восприятию определенного события, не соответствует его ожиданиям, представлениям о мире» [11]:
«… Катрин не замечает ее страданий. – Почему ты так громко разговариваешь? Все время кричишь как в поле, – упрекает она Валю» (В. Токарева. Мой мастер [18]).
Как видно из приведенного примера, доминирующая интенция упре-кающего – изменить поведение собеседника.
Для выражения интенции упрека говорящий может использовать как единичное высказывание, так и последовательность РА. В этом случае мы можем говорить о формировании микрожанра.
Интенция упрека может реализовываться формами разных РА (транс-понированное употребление). Наиболее частотными являются:
1. Упреки-репрезентативы (констатация факта): «Ты забыл купить хлеб. Ну что ж, сегодня придется обойтись без него»; «Для тебя ребенок не су-ществует»; «Ты ни разу за этот месяц не сказал мне доброго слова» и др.
2. Упреки-директивы (запреты):– Карлсон, перестань… – сказал Малыш с упрёком, потому что счи-
тал, что Карлсон и в самом деле ведёт себя безобразно (А. Линдгрен. Малыш и Карлсон [16]).
При этом нужно различать РА типа: «Помоги мне, пожалуйста!» (ди-ректив; просьба) и «Ты не хочешь мне помочь!» (упрек).
3. Упреки-обвинения:— Ты заставляешь меня так долго ждать! Меня, такого больно-
го и несчастного, — с упрёком сказал Карлсон (А. Линдгрен. Малыш и Карлсон [16]).
4. Упреки-вопросы: «Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний шаг бо-ялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять … Колька ис-казился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул её: «Мам, ты чо это? Чо?» (В. Шукшин. Жена мужа в Париж провожала [20]).
5. Упреки-риторические вопросы:— Разве кто-нибудь позаботился о друге? — заключил свою тира-
ду Карлсон и с упрёком посмотрел на Малыша (А. Линдгрен. Малыш и Карлсон [16]).
6. Упреки-одобрения, комплименты, похвала: – Доброе утро, Юра.– Оленька, я очень тронут... Но ты должна понять. Так уж сложи-
лась жизнь. Я тебе признателен и ценю твое отношение,...но прошу тебя, не мучь ни меня, ни себя. Ты же умница.
– Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она круглая дура?
137
– Ну, это уж чересчур. Я этого не сказал.– Какой же ты стал вежливый, Юра (Э. Брагинский, Э. Рязанов.
Служебный роман [5]). В рассматриваемом фрагменте использование имплицитно выражен-
ного упрека в форме комплимента приводит к образованию иронического упрека. Обычно, говоря комплимент, адресант «положительно оценивает внешность или итоги деятельности адресата, трактуя их как достиже-ния» [4]. В данном случае «вежливость» Юры истолковывается как от-рицательное качество.
Аналогичная ситуация происходит и с упреком в форме похвалы:– Стыдно, батюшка! Вы просто вор!– Я у вас ничего не украл!– Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну
исповеди? Очень хорошо! Очень красиво! (И.А. Ильф, Е.П. Петров. Две-надцать стульев [13, с. 59])
Выражая похвалу, говорящий «констатирует правильность, ценность, своевременность сделанной кем-то работы, полученных результатов» [4]. Прямые РА похвалы в данном контексте употреблены транспонированно и выражают отрицательную оценку действий коммуниканта.
7. Упрек-благодарность:Было заметно, что она прилагает все усилия, чтобы сдержать этот
нервический смех.– Простите. Я не должна была. Я знаю, я не должна была.– Что, надо мной смеешься? Ну, спасибо, – упрекнул он [17].В рассматриваемом фрагменте прямой РА благодарности также упо-
треблен транспонированно. В сочетании с частицей «ну» он представля-ет собой «ответ равному или младшему, кто своим поведением, поступ-ком, словом, доставил говорящему неприятность, огорчение» [3, с. 496].
8. Упреки-намеки:«Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-
таки сочла нужным сообщить:– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство,
что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наго-ворил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят...) и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локо-нах, то так смотрел на меня... (А. Аверченко. Поэт [1, с. 35]).
В этом фрагменте жена упрекает мужа в недостатке внимания к себе, имплицитно выражая интенцию упрека через сравнение с другим муж-чиной.
9. Упрек может реализоваться в шутливо-иронической форме: «Ну, от внимания ко мне с твоей стороны я точно не погибну!» (запись устной речи)
138
В обиходном общении русских достаточно часто употребляются по-лиинтенциональные РА, в которых интенция упрека сочетается с други-ми интенциями. Приведем примеры:
1. Упрек+несогласие+возражение. Ситуация: Сын жалуется отцу на родителей жены. Упрек отца представ-
ляет собой одновременно возражение сыну и несогласие с его мнением:– Это кошмар какой-то! Лезут во всё, особенно теща! Самая умная!– Она, между прочим, ваших детей вырастила. Смогли бы Вы ез-
дить в свои экспедиции, если бы не она? (запись устной речи)2. Упрёк+насмешка+издевка: «Ваня, ты у нас такой честный. Хорошо, что ты сказал Елене
Ивановне, что она задавала домашку. И весь класс заслуженно полу-чил двойки».
3. Упрёк+предположение: «Сколько ты мог бы написать, если бы не ходил на ваши митинги, съезды и прочие тусовки» (Е. Евтушенко. Волчий паспорт [12])
4. Упрек+советы+пожелания: «Лучше бы ты на завод пошел! От тебя больше бы пользы было» (запись устной речи)
5. Упрёк+угроза: «Ты доведешь меня до сердечного приступа, а сам простудишься насмерть» (В.П. Крапивин. Болтик [15])
6. Упрек+негодование+возмущение+обвинение:– Как ты смеешь презирать мою жизнь? Как ты смеешь говорить,
что я всю жизнь жил по чужой указке? Был бы ты постарше, я бы уда-рил тебя тогда. Трепач! Все вы трепачи! (В. Аксенов. Звездный билет [2]).
Упреки могут употребляться в обиходном дискурсе с целью манипу-ляции. Здесь достаточно частотным является РА «Ты меня (совсем) не лю-бишь!». Приведем пример.
Ситуация: Муж и жена – в магазине. Жена набрала много вещей и просит мужа оплатить дорогую покупку. Он отказывает.
Жена (плачет): Ты меня не любишь! Ты меня совсем не любишь! Муж: Ладно, ладно... (Обращаясь к продавцу): Мы берем всё! (из пе-
редачи «6 кадров»)В данном диалоге манипуляция жены имеет перлокутивный эффект:
муж уступает и оплачивает дорогую покупку.Упрек может употребляться и в ситуации флирта, заигрывания, уха-
живания. В этом случае мы, скорее, имеем дело с кокетливым, шутливым укором. Например:
Филя, вы меня совсем забыли, гадкий! – тихо восклицала дама. – Нон, мадам, энпоссибль! – рявкал Филя. – Мэ ле заффер тужур! Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке (М. Булгаков. Театральный роман [6]).
Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассмотреть все косвен-ные реализации интенции упрека в обиходном общении русских, а также
139
различные реакции коммуникантов на РА упрека. Работа в этом направ-лении будет продолжена в рамках дипломной работы.
Перспективным направлением в области непрямой коммуникации является исследование косвенных реализаций речевых интенций группы «иллокутивных самоубийств» как в обиходном, так и в других типах дис-курса.
ЛИТЕРАТУРА:1. Аверченко А. Поэт // Московское гостеприимство: Рассказы. – Спб.:
Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. – 320 с. 2. Аксенов В. Звездный билет [электронный ресурс] URL: http://
modernlib.ru/books/aksenov_vasiliy_pavlovich/zvezdniy_bilet/read. 3. Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета: 2-ое изд., испр. и
доп. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 672 с. 4. Бигунова Н.А. Объект оценки в положительно-оценочных речевых
актах (на материале современного английского языка) [электронный ре-сурс] URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43690/05-Bigunova.pdf?sequence=1.
5. Брагинский Э., Рязанов Э. Служебный роман [электронный ресурс] URL: http://www.vothouse.ru/films/sluzhebnyj_roman.html.
6. Булгаков М.А. Театральный роман [электронный ресурс] URL: http://lib.ru/BULGAKOW/teatral.txt.
7. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. 16. Лингвистическая прагма-тика. – С. 238–250.
8. Винантова И.В. Структурные и прагматические особенности кос-венных речевых актов со значением упрека, выраженных в форме вопро-са. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Гра-мота, 2009. – № 2 (4). – C. 77–79.
9. Гладков Ф.В. Повесть о детстве [электронный ресурс] URL: http://modernlib.ru/books/gladkov_fedor/povest_o_detstve/read/.
10. Давыдова Т.А. Речевой акт упрека в английском языке: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Иркутск, 2003. – 161 c.
11. Джандалиева Е.Ю. Кооперативность/конфликтность вербально-го поведения немецкоязычного адресата в коммуникативной ситуации неодобрения [электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kooperativnost-konfliktnost-verbalnogo-povedeniya-nemetskoyazychnogo-adresata-v-kommunikativnoy-situatsii-neodobreniya.
12. Евтушенко Е. Волчий паспорт [электронный ресурс] URL: http://e-libra.ru/read/335958-volchij-pasport.html.
13. Ильф И.А., Петров Е.П. Двенадцать стульев. Золотой телёнок: Ро-маны. – М.: Известия, 1994. – 614 с.
140
14. Каразия Н.А. Лингвопрагматическое исследование конфликтно-го дискурса [электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lingvopragmaticheskoe-issledovanie-konfliktnogo-diskursa.
15. Крапивин В.П. Болтик [электронный ресурс] URL: http://bookz.ru/authors/krapivin-vladislav/boltik_894/1-boltik_894.html.
16. Линдгрен А. Малыш и Карлсон / перевод Л. Лунгиной [электрон-ный ресурс] URL: http://lib.ru/LINDGREN/malysh.txt.
17. Ориак Альбан Невыразимый эфир [электронный ресурс] URL: http://samlib.ru/a/alxban_o/les_ethers_indicibles.shtml.
18. Токарева В. Мой мастер [электронный ресурс] URL: http://www.litmir.co/br/?b=42900.
19. Ушаков Д.Н. Толковый словарь [электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1069302.
20. Шукшин В. Жена мужа в Париж провожала [электронный ресурс] URL: http://lib.ru/SHUKSHIN/zhena_mu.txt.
Luzhnaya Maria Mikhailovna, Nesterova Tatyana Vyacheslavovna
THE IMPLEMENTATION OF INDIRECT REPROACH INTENTIONS IN EVERYDAY COMMUNICATION
Reproach, indirect communication, indirection category, indirect speech act, illocutio-nary suicide.The article is devoted to the implementation of indirect reproach intentions in everyday communication of the Russians. The use of the transposed speech act of reproach and the combination with other intentions in the framework polyintentional speech act are being considered.
Мануйлова Инесса Владимировнаканд. филол. наук, доцент Государственного института русского языка
им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
Речевой этикет, паралингвистический этикет, конгруэнтность.
В статье рассматривается невербальный речевой этикет, а также необходи-мые паралингвистические знаки, сопровождающие его использование. Описыва-ется явление конгруэнтности как важной составляющей процесса общения.
141
Люди, заинтересованные в том, чтобы их взаимодействие с другими людьми было успешным, уделяют большое внимание не только тому, что они говорят, но и тому, как они говорят и как ведут себя во время обще-ния. Общая тональность беседы, поведение собеседников, знание культур-ных традиций и общественных норм, личных вкусов и привычек и многое другое – все это обуславливает гладкость общения и направлено на до-стижение определенных коммуникативных целей. Разработкой этикетных правил занимались и продолжают заниматься люди самых разных профес-сий и интересов – философы, писатели, лингвисты, психологи, культуро-логи, специалисты в области теории и практики коммуникации, педагоги и даже представители власти. Известный исследователь речевого этикета Н.И. Формановская дает такое определение: «Под речевым этикетом пони-маются регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, под-держания и прерывания контакта в избранной тональности» [2, с. 14].
Обучение нормативному, правильному, или, как иногда говорят, при-личному, поведению, происходит не только в детстве, оно протекает на протяжении всей жизни человека. Это связано с тем, что человек посто-янно вовлекается в новые жизненные ситуации, расширяет круг прежних связей и вступает в коммуникацию с новыми людьми. Так, попадая в дру-гую страну с совсем другой культурой или просто знакомясь с текстами другой культуры, человек осознает, что нормы, законы и правила этикет-ного коммуникативного поведения в ней могут быть совсем другими, чем в его родной культуре. И если он хочет глубже понять эту чужую для него культуру и особенности коммуникации в ней, ему необходимо овладеть существующими в этой культуре нормами и правилами поведения.
Наряду с вербальным, или речевым, этикетом, требуется изучать и другой вид этикета, ничуть не менее важный для коммуникации. Это – паралингвистический (невербальный) этикет, под которым понимает-ся функционирующая в культуре и обществе система, состоящая из не-вербальных знаков, отношений между ними и невербальных этикетных правил. Выделение в качестве особого объекта для анализа системы не-вербального этикета является необходимым этапом на пути построения общей теории этикета. С точки зрения речевого этикета различаются сле-дующие паралингвистические знаки:
– не несущие специфической этикетной нагрузки (дублирующие или заменяющие собой сегменты речи – указующие, выражающие согласие и отрицание, эмоции и пр.);
– требуемые этикетными правилами (поклоны, рукопожатия и пр.);– имеющие инвективное, оскорбительное значение [2, с. 25]. При этом регламентация жестикуляции и мимики охватывает не толь-
ко две последние категории знаков, но и знаки неэтикетного характера
142
– вплоть до чисто информативных; ср., например, этикетный запрет по-казывать на предмет речи пальцем.
Кроме того, требования речевого этикета могут распространяться на паралингвистический уровень общения в целом. Например, в русском речевом этикете предписывается воздерживаться от слишком оживлен-ной мимики и жестикуляции, а также от жестов и мимических движений, имитирующих элементарные физиологические реакции.
При этом существенно, что одни и те же жесты и мимические движе-ния могут иметь разное значение в разных языковых культурах. Это ста-вит перед методистами и преподавателями иностранных языков актуаль-ную задачу описания особенностей жестикуляции и мимики в изучаемой языковой культуре. Речь идет не только о том, чтобы описать некоторый объект, каковым является невербальный этикет, в рамках какой-то одной научной дисциплины, а описать его с разных точек зрения, и в результате представить невербальный этикет как систему, состоящую из качественно разнородных единиц и отношений между ними. По мнению многих уче-ных, успех процесса коммуникации зависит как от навыков вербального, так и навыков невербального общения. Невербальное сопровождение речи играет вспомогательную роль в процессе общения, делая речь более выра-зительной и убедительной, а поведение конгруэнтным. Под конгруэнтно-стью понимается степень совпадения жестов с речевыми высказываниями, когда невербальные сигналы и вербальные утверждения соответствуют друг другу [1, с. 67]. Поскольку этикетные формулы присутствуют на всех этапах коммуникации между адресантом и адресатом, правильное пони-мание и восприятие информации оказываются важными составляющими коммуникации. Непонимание или недопонимание только высказывания, но и невербального поведения участника коммуникации может привести к непредвиденным результатам и неудаче в переговорах.
Таким образом, паралингвистическое этикетное поведение в рече-вом общении представляет собой следование правилам этикета согласно сложно организованному невербальному и вербальному взаимодействию участников коммуникации.
ЛИТЕРАТУРА:1. Аминов И.И. Психология делового общения: учеб. пособие/ И.И. Ами-
нов. – 4-е изд., стер. – М: Омега-Л, 2007. – 416 с.2. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и ме-
тодический аспекты. М.: Рус. яз., 1982. – 126 с.
143
Manuilova Inessa Vladimirovna
PARALINGUISTIC ASPECTS OF SPEECH ETIQUETTE
Speech etiquette, etiquette paralinguistic, congruence.
The article examines nonverbal speech etiquette, as well as necessary paralinguistic signs that accompany its use. It describes the phenomenon of congruence as an impor-tant component of the communication process.
Матвеева Елена Олеговнаканд. пед. наук, профессор Московского государственного
института культурыМосква, Россия
СЕМИОТИКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА:ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫСемиотика, лингвокультурология, рекламный текст, рекламная коммуникация, интертекстуальность.
Статья посвящена семиотическим аспектам текстов современной российской рекламы, которые рассматриваются в контексте научной концепции лингво-культурологии. Особое внимание уделяется способам актуализации семиотиче-ского кода рекламного послания, влиянию прецедентных текстов на выбор линг-вистической модели рекламы.
С начала нового века в России активно развивается концепция меди-атекста, в рамках которой рассматриваются основные лингвистические характеристики текстов, функционирующих в средствах массовой ин-формации. Главные сферы бытования медиатекста – это журналистика, связи с общественностью и реклама. Рассматривая сущностные особен-ности медиатекста, Н.А. Кузьмина справедливо подчеркивает его инте-гративность и нарастающую тенденцию к имплицитной трансляции ре-кламной информации: «Существует ряд изданий, мимикрирующих под журналистские, но по сути являющихся рекламными. Исследователи предупреждают о непредсказуемых социальных последствиях сращения текстов журналистики и PR («пиарналистики», в обозначении А.П. Коро-ченского), влияющих как на структуру и коммуникативные процессы, так и на поведение и мировоззрение массовой аудитории в целом. А размеже-
144
вание рекламного и PR-текстов до сих пор вызывает разногласия в науч-ных кругах, что неудивительно, поскольку специфика самого PR-текста заключается в том, что он по функциям продвижения и позиционирова-ния сближается с рекламными текстом, но для того, чтобы его размести-ли в СМИ – и, желательно, бесплатно, – он вынужден маскироваться под журналистский материал» [4, с. 7].
Значительно увеличившееся за два последних десятилетия количе-ство текстов, прямо либо косвенно транслирующих рекламную информа-цию, постепенный выход рекламы за рамки изначально предписанной ей роли регулятора экономических отношений в обществе, развитие языка рекламы как языка для специальных целей, определенное влияние его на культуру общества и становление языковой личности – все это создает предпосылки для лингвистического изучения рекламной коммуникации и разработки научной концепции рекламного текста.
Изучение лингвистических особенностей рекламных посланий долж-но, на наш взгляд, проводиться с позиций лингвокультурологического подхода, с учетом культурного контекста развития современного русско-го языка и особой семиотической природы рекламы.
Е.В. Медведева, рассматривая семиотику рекламной коммуникации, делает особый акцент на ее эстетическом коде, понятном для реципиен-та: «Все структурные компоненты рекламного сообщения представляют собой по сути тексты, написанные на разных «семиотических языках»... . При взаимодействии этих текстов возникают образы, выраженные вер-бально, визуально и акустически, которые, дополняя и расширяя друг друга, создают единый образный ряд и ритм рекламного сообщения, к основным функциям которого относится привлечение внимания потре-бителя, обеспечение понимания всего объема информации, внушение желания приобрести товар» [3, с. 39].
Семиотический, иначе говоря, знаковый характер рекламы отражает-ся в трансляции социальных ценностей, значимых для конкретного исто-рического периода развития общества, мотивационного аспекта поведе-ния человека. Среди популярных мотивов российской рекламы следует выделить мотив преодоления сущностных законов бытия, сохранения вечной молодости, вечной красоты, возможности преодоления послед-ствий старения. Социально-психологическая установка на неприятие процесса старения находит отражение в рекламной коммуникации. Мно-гие из таких текстов имеют псевдонаучный характер и перенасыщены окказиональной лексикой, призванной, вероятно, актуализировать связь рекламного предложения с последними достижениями науки. Сегодня в рекламных статьях и слоганах часто мелькают такие названия лекарств и клиник, как «Витанол», «Витамед», «Витанорма», «Витамедикус» и окка-зионализмы, отражающие якобы особые возможности объекта рекламы: нанопротектор, наноэффектор, наноэффект. Например, один из текстов
145
российской рекламы оптимистически заявляет: «Каждый наноэффектор несет клеткам от двухсот до трехсот различных полезных растений».
Семиотическая функция рекламного текста актуализируется также при использовании окказиональных инноваций, воспроизводящих стиль общения определенной социальной группы, чаще всего молодежи. Мо-лодежная целевая аудитория – наименее консервативная часть любого общества, она открыта новому, склонна к созданию субкультуры, соб-ственного языка, понятного лишь ровесникам. Именно этими чертами психологической характеристики юношества определяется большое ко-личество окказиональных обращений к нему. Вот некоторые примеры: «Не тормози – сникерсни», «Приколись по- скелетонски», «Крашные апельсины», «Решительно! Освежительно», «Пепсиний день календаря».
Используя окказиональные инновации в рекламных текстах, адресо-ванных юным, их авторы не только успешно психологически подстраива-ются под эту целевую аудиторию, но и дают понять реципиентам, что по-нимают и разделяют систему их ценностей, знаков, культурных смыслов.
Семиотичность рекламного послания можно проследить в выборе мо-дели текста, как правило, мотивированным уже существующими в куль-туре текстами и сопряженными с ними ассоциациями.
Размышляя о связи языка и культуры, В.А. Маслова справедливо под-черкивает: «Согласно нашей концепции языка, поскольку каждый но-ситель языка одновременно является носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять функцию знаков культуры. Именно поэтому язык способен отображать культурно-национальную ментальность его носителей. Культура соотносится с языком через кон-цепт пространства. Языковые нормы соотносятся с установками культу-ры, которые, правда, не столь же облигаторны (обязательны) как нормы языка: за носителем культуры, распределенным по разным социумам, остается право на более широкий выбор [2, с. 63].
Одной из ведущих характеристик общества постмодернизма, оказы-вающих существенное влияние на становление семиотической симво-лики, является установка на мифологичность восприятия действитель-ности и человеческих отношений. Воспринимая жизнь подобным обра-зом, человек пытается объяснить все происходящее с ним и вокруг него с иррациональной точки зрения: и удачи, и поражения трактуются как результат вмешательства сказочных, чудесных сил, фактов, находящих-ся за гранью формальной логики. В этом случае человек подсознатель-но пытается уподобить свою жизнь сказке, где в самый опасный мо-мент на помощь придут всесильные друзья-волшебники. Сказки, много тысячелетий бытующие во всех мировых культурах, порождая систе-му бродячих сюжетов, оказывают существенное влияние на фоновые знания поколений, на восприятие медиатекстов, к которым относятся рекламные послания. Закономерно, что все больше авторов рекламных
146
текстов выбирают сказку в качестве художественной модели для своих произведений.
Семиотическая составляющая рекламной коммуникации, тесно свя-занная со сказочным, мифологическим аспектом культуры, порождает необходимость обращения к таким понятиям, как «прецедентный текст», «фоновые знания», «интертекстуальность», поскольку они связывают во-едино представления о языке и культуре.
Рассматривая явление интертекстуальности, А.К. Устин отмечает: «Возникшее в 20 столетии понятие интертекстуального диалога, услов-но названного интертекстом, условно используемого нами в качестве передающего звена между виртуальной культурой и актуальным текстом, имеет право на жизнь по той причине, что оно является формальным и специфическим выражением тех операциональностей, которые происхо-дят на территории между культурой и осуществляемым текстом в виде интерпроективного передаточного механизма» [5, с. 100].
Рекламные тексты, в которых явно заметно сказочное начало, отно-сятся по классификации, предложенной В.П. Беляниным, к простым тек-стам: в них четко прослеживается оппозиция добра и зла, хорошего и плохого, опасного для людей [1]. В рекламной коммуникации опасность может быть персонифицирована как в виде антропоморфных персона-жей, так и в виде неприятностей, опасностей, подстерегающих человека (болезни, потеря финансового благополучия, ссоры с близкими). Отсюда частая актуализация в рекламных посланиях мифологем борьбы и побе-ды. При этом победа может быть одержана не столько над конкретным человеком (как это бывает в сказках), сколько над тяжелой жизненной ситуацией, из которой герой выходит с помощью объекта рекламы. При-ведем пример: «Моя проблема знакома многим женщинам. Пьющий муж – горе для любой семьи. В попытках избавить мужа от тяжкого недуга, от его пагубного пристрастия я испробовала, наверное, все средства: об-ращалась в дорогие клиники, кодировала его, ездила к экстрасенсам, но все было напрасно. Я уже совсем отчаялась, опустила руки, но тут знако-мая посоветовала обратиться в клинику доктора А.П. Тихонова, где мужу действительно смогли помочь».
Нередко, воспроизводя модель сказки, рекламный текст актуализи-рует и другие популярные в мировой культуре мифологемы, имеющие значительную семиотическую нагрузку, вызывающие у реципиентов позитивные ассоциации, а следовательно, обладающие высокой суг-гестивностью. Среди них особо следует выделить календарные мифо-логемы, где закодирован менталитет, традиции, эстетические идеалы народа, словом, семиотический код, хорошо понятный носителям язы-ка и культуры. Весьма показательна в этом контексте определенная модификация мифологемы новогодних праздников. Теперь благодаря рекламе новогодние праздники ассоциируются не только с возможно-
147
стью весело и интересно провести время, но и покупками, выбором по-дарком, распродажами, специальными акциями торговых домов. Среди лингвистических приемов, помогающих актуализации семиотической составляющей этой мифологемы необходимо выделить использование устойчивых сочетаний, придающих тексту образность, художествен-ную выразительность. Вот пример подобного рекламного обращения: «Праздник придет – гостей приведет» гласит народная мудрость. Одна-ко новогодние дни, долгожданные встречи с родными и друзьями всег-да сопряжены с поиском подарков. Где купить подарки, которые по-настоящему порадуют и принесут пользу? Ответ один. Только в торго-вом центре «Атлантида».
Лингвистическая реализация семиотической функции рекламы, со-пряженная с актуализацией фоновых знаний целевой аудитории, еще раз убедительно доказывает закономерность и обоснованность изучения ре-кламной коммуникация в рамках лингвокультурологии.
ЛИТЕРАТУРА:1. Белянин В.П. Психологические аспекты художественного текста. –
М.:МГУ, 1988. – 125 с.2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Флинта,2001. – 264 с.3. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. – М.: URSS, 2016. – 280 с.4. Современный медиатекст: Учебное пособие / Отв. ред. Н.А. Кузь-
мина. – М.: Флинта, 2014. – 416 с.5. Устин А.К. Текст. Интертекст. Культура. – СПб, 1995. – 125 с.
Matveeva Elena Olegovna
SEMIOTICS OF ADVERTISING TEXT: LINGVOKULTUROLOGICHESKIE ASPECTS
Semiotics, cultural linguistics, advertising text, advertising communication, intertex-tuality.
The article is devoted to the semiotic aspects of modern Russian advertising texts, which are discussed in the context of the scientific concept of cultural linguistics. Par-ticular attention is paid to ways of updating the semiotic code of advertising messages, the influence of precedent texts to choose from a linguistic model of advertising.
148
Пожидаева Елена Валерьевнаканд. филол. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
ГЛЮТТОНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ
Дискурс, глюттонический, глюттоним, пища, продукты питания, гастрономия, хлеб, каша.
В данной статье рассматривается глюттонический дискурс на уровне номина-тивного фонда на материале культурно-значимых глюттонимов в русской и бри-танской лингвокультурах. В этнокультурном ракурсе описана коммуникативная ситуация потребления пищи/продуктов питания, определена соответствующая терминология. В пословицах и поговорках как языковой квинтэссенции нацио-нальной специфики выявлены определяющие менталитетные признаки русских и британцев.
История человеческой цивилизации неразрывно связана с пищевыми ресурсами. Человек не может существовать без пищи. Пища входит в ба-зовый уровень физиологической конституции человека [9].
Пищевые традиции нации формируются под влиянием исторических условий, основной религии, зависят от взаимоотношений с другими культурами и определяются другими социально-экономическими и по-литическими факторами.
Специфическое глюттоническое поведение формируется в рамках любой национальной культуры, прежде всего, средой обитания того или иного этноса, обуславливающей размеры и количество земельных и во-дных ресурсов, состав и вид флоры и фауны [2].
Комплекс вышеперечисленных факторов формирует потребительские стандарты, которые приобретают устойчивый, фиксированный характер для той или иной нации. Сформированные стандарты добычи пищи, ее приготовления и потребления находят отражение в глюттоническом дис-курсе.
По мнению автора термина А.В. Олянича, глюттонический дискурс – это «особыи вид коммуникации, связанныи с состоянием пищевых ре-сурсов и процессами их обработки и потребления» [5, с. 168]. В совре-менном обществе представления о пище образуют когнитивную систему, которая состоит из этно-ориентированных ценностных и культурных до-минант, связанных между собои общей идеей глюттонии – потребления и поддержания жизни человека [5].
149
Следует отметить, что в работах отечественных авторов для описания одной и той же коммуникативной ситуации приготовления и потребления пищи используются разные термины «глюттонический», «гастрономиче-ский» и «кулинарный дискурс»: Э.А. Гашимов (2005 г.), Д.Ю. Гулинова (2004 г.), Н.Н. Данилова (2005 г.), Н.П. Головницкая (2007 г.), А.В. Занад-ворова (2003 г.), Н.А. Земскова (2008 г.), А.В. Олянич (2008 г.), Е.В. Плет-нева (2006 г.), П.П. Банман (2009 г.).
В работах зарубежных ученых используются термины restaurant discourse – M. Davis (2009), gastronomic discourse – V.D. Berghe (2010), culinary discourse – Rossato (2009).
Такая кажущаяся синонимичность терминов «глюттонический», «ку-линарный» и «гастрономический» вызывает путаницу, так как все они объединены одной тематической группой – пища / продукты питания. В результате, в современных исследованиях прослеживаются подмены по-нятий при описании дискурсивных практик.
С целью их дифференциации при описании дискурсивных практик следует учитывать условия коммуникативной ситуации и ее участников.
Случаи акцентирования внимания на процессе приготовления, техно-логии приготовления – кулинарный дискурс (culinary disсourse).
Участниками гастрономического дискурса (gastronomic discourse) могут быть узко профессиональные представители гастрономическо-го сообщества, которые обладают специальными навыками отбора и приготовления пищи или люди, имеющие знания в области кулина-рии, способные профессионально оценить блюдо на вкус, например, гурма ны [4].
Если участниками коммуникации выступают специалисты, экспер-ты – шеф-повара, а с другой стороны – потребители, то есть посетите-ли кафе или ресторана – следует рассматривать ресторанный дискурс (restaurant discourse).
На наш взгляд, термин глюттонический как всеобъемлющий может быть использован для описания сразу нескольких практик: добычи пищи, ее приготовления, потребления и описания вкуcовых характеристик, иными словами для всех вышеперечисленных дискурсивных практик.
В английском языке лексема gluttony, действительно, имеет отри-цательную коннотацию, так как в дефиниции актуализируется значе-ние excess(ive) – чрезмерный, избыточный 1) excess in eating or drinking 2) greedy or excessive indulgence [10]. По этой причине употребление вари-анта gluttonic discourse не уместно в английском языке. Более предпочти-тельны – gastronomic (как наука / искусство приготовления вкусной пищи и ее потребления) и culinary discourse (как процесс / технология приготов-ления пищи). В данной статье акцент сделан на эмоционально-оценочной составляющей, поэтому предпочтение отдано комбинированному терми-ну – gastro-culinary discourse.
150
В русскоязычных словарях термин «глюттоним» не зафиксирован, а значит, является неологизмом, что позволят использовать его в том значе-нии, которое было ему присвоено автором – А.В. Оляничем.
Глюттонический дискурс, по мнению А.В. Олянича, коррелирует с понятием гастрономии – поваренного искусства и умения пользоваться его производными, соотносится с когнитивной системой глюттонии лю-бой этнокультуры [5].
Глюттонический дискурс базируется на глюттонической лексике как на базовом материале для выявления признаков национального характера.
В глюттонических системах русских и британцев прослеживается яв-ная этнокультурная специфика, которая проявляется в гастрономических пристрастиях представителей этих лингвокультур.
В рамках данного исследования в качестве ключевых составляющих рассматриваемой концептосферы «продукты питания» (англ. food(stuff)), имеющей полевую структуру, выбраны ядерные культурно-маркирован-ные семы обозначенной когнитивной среды [1]. В качестве отправной точки выбраны символы ценности в русском языке – хлеб и каша. Эти образы прочно зафиксированы в этническом менталитете как господству-ющие архетипы.
Для русской культуры важнейшим архетипом, связанным с культурой питания, выступает мифологема «хлеб». Действительно, символическую значимость данного продукта питания для русской нации трудно пере-оценить.
Наиболее показательным иллюстративным материалом для формули-рования оценочных суждений в рассматриваемых лингвокультурах яв-ляются пословицы и поговорки как особые жанры фольклора. В основе оценки – ценностный аспект сознания, с которым связан менталитет. Он оценивает воспринимаемое как хорошее или плохое, как представляю-щее ценность или не соответствующее им. Первостепенную роль в рус-ской лингвокультуре играет метафора «хлебосольные хозяева».
Пословичный фонд русского языка насчитывает множество пословиц про ценность хлеба – это символ существования, основная пища: хлеб всему голова, хлеб да вода – богатырская еда, хлеб сердце человеку укре-пит; сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь, хлеб хлебу брат (о хлебосольстве), за хлебом все добро и др.
В английском языке выражения с лексемой «bread» актуализируют значение – пища, поддержка, средства к существованию: bread is the staff of life (хлеб насущный), to earn one’s bread and butter – зарабатывать на жизнь, to be on the breadline – жить в нужде, bread-winner – человек, кото-рый зарабатывает деньги в семье и др.
При рассмотрении гюттонимов хлеб / bread обнаруживаются корре-ляции с менталитетными признаками российской и британской лингво-культур. В русской лингвокультуре выявлены семы «родственные отно-
151
шения», «божественный дар» и позитивная аксиология. Менталитетный коррелят – «соборность». Английские номинанты вербализуют характе-рологический эквивалент – «сдержанность» [3].
Исторически сложилось, что и русские, и англичане употребляют кашу. Знаменитая «овсянка» – испокон веку одно из любимых блюд ан-гличан на завтрак. Но семиотика данной пищи представлена дифферен-цированно в двух лингвокультурах.
Русская языковая картина мира манифестирует позитивную оценоч-ную составляющую. Каша – неотъемлемая часть русских традиций и обычаев. Каша была обязательным угощением на свадебном пиру, была символом плодородия и достатка. Для русской культуры каша – своео-бразная визитная карточка и знаковый продукт питания. Каша – источник силы и здоровья, ценный продукт и др.
В английской лингвокультуре экзистенциальная функция отражена кратко и не выявляет оценочной составляющей [3].
Следует отметить, что в паре глюттонимов каша / porridge выявле-на неполная эквивалентность, дифференцируется вариант глюттонима – жидкая (овсяная) каша на молоке или воде – англ. gruel [7], что не со-впадает с русским значением «каша как кушанье из крупы, сваренной до густоты на воде или молоке» [6, c. 389].
В следующих русских пословицах общим оказывается значение «каша» – свое, родное, питательное блюдо: щи да каша, еда наша. Щи да каша – кормилицы наши. Русского человека без каши не накормишь. Где каша, там и наши. Где щи да каша, там и место наше.
Поговорка «мы с ним из одной каши» актуализирует значимость со-вместной работы для русского коллективного сознания. Причем взаимо-помощь и равенство необходимы для успешного выполнения любой за-дачи – от жатвы до строительства дома [8].
Находит отражение в пословичном ряде как в русском, так и в ан-глийском языке значимость каши в социальной стратификации. Каша – для простых, не знатных сословий, для крестьян. Каша наша, а щи попо-вы. Наших да ваших, а боярских взашей. Журавль не каша, еда не наша. В анг лийском языке: poor folks are glad of porridge (бедняки и каше рады). If there is no caviar one eats porridge (если нет икры, ешь кашу).
Анализ пословиц и поговорок о каше / porridge в русском и англий-ском языках показал, что в русском языке преобладает эмоциональный компонент, преимущественно положительный, за исключением отрица-тельной коннотации в значении – мешанина, неразбериха («каша в голо-ве», «превратить что-либо в кашу»). В английской лингвокультуре – ней-трально-прагматический аспект.
Поколения сменяют друг друга, а культурные ценности, модифициру-ясь в частностях, остаются неизменными с точки зрения интегративных признаков нации. Так, анализ пищевых традиций в британской и русской
152
лингвокультурах на базе основополагающих архетипов – каша / porridge и хлеб / bread показал, что в русском глюттоническом дискурсе прева-лирует эмоциональный аспект, преимущественно положительный, в бри-танской – нейтральный, прагматический.
Глюттония – неотъемлемая часть национальной культуры. Глюттонический дискурс как одна из форм отражения национальной
лингвокультуры отражает самобытность этнокультуры. Глюттонический дискурс – неисчерпаемый источник для выделения
способов вербализации доминантных черт национального характера.
ЛИТЕРАТУРА:1. Беленко Е.В. Концептосфера «продукты питания» в национальной
языковой картине мира: автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Челябинск, 2006. – 20 с.
2. Гашимов Э.А. Структурно-семантические и прагматические ха-рактеристики английского лингвокультурного кода: на материале лекси-ко-фразеологического поля «продукты питания»: дисс. … канд. филол. наук. – Самара, 2005. – 189 c.
3. Ермакова Л.Р. Глюттонические прагматонимы и национальный характер: автореф. дисс. … канд. филол. наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/glyuttonicheskie-pragmatonimy-i-natsionalnyy-harakter#ixzz41MhNVsid.
4. Кацунова Н.Н. К вопросу о «синонимизации» диксурсов [Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta.
5. Олянич А.В. Гастрономический дискурс в системе массовой ком-муникации: семантико-семиот. характеристики // Массовая культура на рубеже XX-XXI веков: человек и его дискурс: сб. науч. тр. / РАН Ин-т языкознания. – М., 2003. – С. 167-201.
6. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – М.: Рус. яз., 1993. – Т. 1–2.
7. Сollins English Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gruel.
8. List of Proverbs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.listofproverbs.com/keywords/porridge/.
9. Maslow A.H. Motivation and Personality. – New York: 3d edition, Harper and Row, 1987. – 293 p.
10. Merriam Webster’s Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим до-ступа: http://www.merriam-webster.com/dictionary/gluttony.
153
Pozhidaeva Elena Valeryevna
GASTRO-CULINARY DISCOURSE IN ETHNOCULTURAL PERSPECTIVE
Discourse; gluttonic; gluttony lexis; food; foodstuff; gastronomy; bread; porridge
This article is devoted to the specificity of gastro-culinary vocabulary as naming units on the basis of nationally significant lexis in Russian and British lingvoculture. The communicative situation of food / foodstuff consumption is described in ethno-cultural perspective. The appropriate terminology is determined. Particular ethnic marks of the Russians and the British are defined in a linguistic quintessence of national specifi city – proverbs and sayings.
Радбиль Тимур Беньюминович д. фил. наук, профессор Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. ЛобачевскогоНижний Новгород, Россия
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ «ДВОЕМИРИЕ» КАК ОСНОВА РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО
МЕНТАЛИТЕТАРусский язык, менталитет, языковая концептуализация мира, лингвокультурология.
В работе рассматривается проблема двойственной номинации лиц, существ, объектов, абстрактных понятий, свойств и процессов в русском языке в свете столкновения идеально-возвышенного и обыденного, приземленного планов в язы-ковой концептуализации явлений психической и физической реальности.
Многие явления в семантической сфере современного русского язы-ка отражают мировоззренческую и культурную уникальность стоящей за языком языковой модели мира, языковой картины мира, или, как это именуется в нашей работе [5], языкового менталитета. В настоящей ра-боте речь идет лишь об одной из сущностных черт национальной мен-тальности, отложившейся в семантике русского языка и имеющей, на наш взгляд, особую важность, а именно – о возможности двойственной номинации лиц, существ, объектов, абстрактных понятий, свойств и про-цессов в русском языке. Эту черту мы условно именуем концептуальным «двоемирием», которое выступает в качестве культурно-специфического результата языковой концептуализации мира этносом.
154
В качестве концептуальных истоков указанного «двоемирия» вы-ступает двоеверие – противостояние язычества и христианства как двух разных форм мировоззрения и типов культур. Как формы мировоззрения язычество и христианство противопоставлены как мифологическое и ре-лигиозное мировоззрения в своей основе. Как типы культур они противо-поставлены, соответственно, как народная, неофициальная, массовая и официальная, книжная, элитарная культуры – о типах культур см., напри-мер [6, с. 16-17].
Отмеченное сосуществование в национальном менталитете двух пла-стов – идеального, возвышенного и обыденного, приземленного – про-низывает, в сущности, все его постулируемые нами в работе «Основы изучения языкового менталитета» четыре уровня: вербально-семантиче-ский (собственно языковой), лингвокогнитивный (собственно концепту-альный, мыслительный), аксиологический (ценностный) и речеповеден-ческий (мотивационно-прагматический) [5].
Сама возможность параллельной номинации лиц, существ, объектов, абстрактных понятий, свойств и процессов изначально была обуслов-лена феноменом диглоссии на ранних этапах языка русской культуры, в среде которого функции официального языка и соответственно – книж-ной культуры обслуживал церковнославянский язык, а в устной сфере бытовал исконно русский язык. До сих пор в русском языке существует система дублетных наименований одного и того же понятия – церковнос-лавянизмов и русизмов, отличных лишь функционально-стилистической маркированностью.
Отметим, что с точки зрения национальной специфики языковой кон-цептуализации мира наличие двойного наименования предмета или по-нятия обеспечивает русскому человеку уникальную возможность «двой-ного видения» одной и той же реалии: один и тот же объект для русских как бы живет в двух ипостасях – как феномен высшей, духовной реаль-ности и как явление обычной, земной жизни. Каждый русский понимает и чувствует, что град и город – не просто разные, но в чем-то даже проти-воположные сущности, хотя и могут быть приложимы к наименованию одного и того же объекта. Таким образом, объект словно раздваивается в процессе его субъективного восприятия. Эта двойственность представля-ет собой продукт особого, одухотворенного и очеловеченного отношения к объективной реальности, явления которой подлежат обязательной субъ-ективно-оценочной апроприации.
Противостояние язычества и христианства актуализуется и в харак-тере лексического и грамматического значения слова как противопостав-ление конкретного и абстрактного типа отображения действительности в слове или грамматической форме. В.В. Колесов говорит о том, что язы-ческое словесное мышление не знает абстрактно-логического понятия, для него слово сохраняет образность, конкретно-чувственное представ-
155
ление, по сути, проявляя «спаянность имени и вещи». Дохристианское языковое сознание имеет обычно дело не с понятием, а с представлением о предмете, сохраняя живую образность, вещественность материальных признаков. Только с христианством в язык приходит сама идея отчуж-дения имени от слова, сама возможность абстрактного обобщения ряда сходных предметов, отчуждения признака от его носителя, действия от предмета. С этим связан тот факт, что в русском языке словообразова-тельные показатели абстрактной лексики (типа суффиксов -ти(е), -и(е), -ни(е), -тви(е) и пр.) – церковнославянизмы [4].
Отметим, что импульс, изначально заложенный взаимоотражением двух сущностно противопоставленных способов языковой концептуа-лизации мира – церковно-славянским и исконно-русским типом номина-ции – скоро выходит за пределы противостояния собственно церковнос-лавянизмов и «русизмов». Линия на параллельную номинацию на концеп-туальном уровне языковой ментальности продолжается и в обозначении так называемых ключевых концептов культуры, «культурных концептов» [1, с. 3-6], отнюдь не всегда этимологически связанном с антиномией цер-ковно-славянских и исконно-русских по происхождению слов.
Так, в уже цитировавшейся нашей работе [5] наличие концептуаль-ных связок, т.е. двойственного обозначения одной и той же «ключевой идеи русской языковой картины мира» [3], вообще рассматривается как одна из уникальных черт именно русского типа языковой концептуализа-ции мира, которая не фиксируется, например, в западных языках. Одно и то же концептуальное пространство, представленное одним нерасчле-ненным понятием, к примеру, в английском языке (mind, truth, freedom, consciousness и пр.), в русском языке последовательно поляризуется по-средством двух во многом антиномичных обозначений – ум / разум, прав-да / истина, воля / свобода, совесть / сознание и пр.
Специфика подобного дуалистического представления однородного концептуального пространства заключается в так называемой «концеп-туальной квазисинономимии», согласно которой на концептуальном уровне антонимически противопоставляются понятия, на уровне соб-ственно языковом выступающие как семантически сходные, сопостави-мые, даже синонимичные, зачастую в силу их однокоренного характера (как для дух / душа, ум / разум) или общности происхождения (как для совесть / сознание, являющихся разными способами словообразователь-ного калькирования одного и того же греческого слова, или для нрав / норов, которые являются параллельными рефлексами общего праславян-ского корня, соответственно, в церковно-славянской и исконно-русской огласовке). Поэтому, с одной стороны, эти номинации характеризуются как «квазисинонимы», а с другой – как «квазиантонимы».
Концептуальное расхождение между этими дублетами также вписы-вается в отмеченную выше тенденцию концептуального «двоемирия»,
156
согласно которой одна и та же сущность может быть представлена в двух ипостасях – как феномен высшей, духовной реальности и как явление обычной, земной жизни.
Это общее противопоставление конкретно реализовано в нескольких линиях смысловых оппозиций:
1) оппозиция «земное» – «небесное»: например, ум как «земное» свойство человека, способность к рациональному мышлению, и разум как феномен «возвышенный», как сущность вне человека, ниспосылае-мая ему Богом; то же – для душа и дух;
2) оппозиция «мир человека» – «мир вне человека»: например, прав-да – как норма в мире человеческих отношений, а истина – как отра-жение некоего трансцендентного закона, независимого от человека; ср. аналогично – житье и житие;
3) оппозиция «конкретное» – «абстрактное»: например, норов – это конкретная совокупность отрицательных черт характера, а нрав (отсюда нравственность) – это характер вообще (абстрактное значение); ср. ана-логично – добро (изначально – физическое здоровье, богатство) и благо;
4) оппозиция «природное, стихийное» – «социальное, упорядочен-ное»: например, воля как стихийное, природное, ничем не сдерживаемое начало и свобода как социализированная категория, понимаемая в грани-цах личной ответственности перед социумом; то же стыд (первоначаль-но холод, ср. стужа, потом нагота) и совесть.
Другой стороной отмеченного концептуального «двоемирия» в русском языковом менталитете является своеобразная «концептуальная квазиэнан-тиосемия», когда двойное видение сталкивается в пределах разных смыслов, стоящих за одной и той же лексемой, так сказать, спускается внутрь слова. Ряд ключевых слов – репрезентантов значимых культурных концептов – в русском языке могут иметь в разных функциональных сферах и культурных стратах не просто разное, но и порой – противоположное значение.
Так, исконно-русское, приземленно-бытовое значение слова страсть – это конкретное чувство страха, ужаса: оно сохранилось в просторечии и по сей день (страсти-мордасти); христианство добавило в семантику этого слова нравственную идею страдания, менее конкретную, имеющую «не-бесную» проекцию, трансцендентное измерение (страсти по Матфею), а развитие книжной культуры усилило абстрактную семантику, и слово стало обозначать просто любое сильное проявление любого чувства, а в романтизме по умолчанию – сильного любовного чувства.
Слово прелесть – в светском, внерелигиозном узусе значит ‛очаро-вание, обаяние, привлекательность’, т.е. исключительно положительное свойство (ср. Чистейшей прелести чистейший образец), тогда как в ре-лигиозно-православной среде оно обозначает совсем иное: ср. прельще-ние – искушение, заблуждение (впасть в прелесть – подвергнуться ис-кушению дьявола).
157
Аналогично слово благодать в светских типах дискурса означает не-что физически и душевно приятное, связанное с земными удовольствия-ми человека: состояние удовлетворенности, душевного покоя; состояние природы, окружающего мира, вызывающее у человека чувство покоя, умиротворенности, блаженства; вообще исключительно благоприятные условия жизни, деятельности. В религиозно-православном понимании это слово понимается совсем иначе – это божественная сила, даруемая от Бога человеку для спасения, избавления от греха.; в такой трактовке все, что перечислено выше, в светском варианте толкования значения, явля-ется, скорее, источником греха, т.е. по значению прямо противоположно православному пониманию.
Проанализированные языковые рефлексы концептуального «двое-мирия», на наш взгляд, выступают как проявления более общей черты «семантического универсума» русской языковой картины мира, которая в работах А. Вежбицкой трактуется как «практический идеализм» рус-ского национального характера, «русской души» [2]. Как нам видится, именно это составляет мировоззренческую основу культурной уникаль-ности того исключительно своеобразного взгляда на действительность, представленного в русском языковом менталитете, который во многом определяет существо национальной идентичности.
ЛИТЕРАТУРА:1. Арутюнова Н.Д. Введение // Логический анализ языка: Культурные
концепты: Сб. научн. трудов / Отв.ред. Н.Д. Арутюнова; ИЯ АН СССР. – М.: Наука, 1991. – С. 3–6.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Отв. ред.и сост. М.А. Кронгауз. – М.: Русские словари, 1997. – 412 с.
3. Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи рус-ской языковой картины мира: Сб. ст. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 544 с.
4. Колесов В.В. Мир человека в слове древней Руси. – Л.: Изд-во Ле-нинградского ун-та, 1986. – 312 с.
5. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебн. по-собие. 3-е изд. – М.: Флинта; Наука, 2010. – 328 с.
6. Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской ми-фологии и этнолингвистике. – М.: Индрик, 1995. – 509 с.
158
Radbil Timur Benyuminovich
CONCEPTUAL «WORLD DUALITY» AS THE FOUNDATION OF RUSSIAN LANGUAGE MENTALITY
Russian language, mentality, language conceptualization of the world, linguoculturology.
The work considers problem of dual nomination of persons, creatures, objects, proper-ties and processes in Russian in the aspect of controversy of ideal- sublime and com-monplace, down-to-earth plans in language conceptualization of phenomena of psychi-cal and physical reality.
Сайгин Вадим Викторович канд. филол. наук,
Первый проректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Нижний Новгород, Россия[email protected]
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ КОНЦЕПТА
«ГРЕХ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕРусский язык, грамматика, концепт «грех», языковая экспликация концепта.
В работе освещены некоторые грамматические репрезентанты концепта «грех» в русском языке, а именно конверсия существительного грех в слово категории со-стояния, при которой погашаются религиозные смыслы и актуализуются быто-вые представления о грехе в рамках тенденции к десакрализации концепта.
Сформировавшись в русле религиозно-христианского, православного мировоззрения, концепт «грех» относится к числу наиболее значимых в русской культуре, он во многом определяет специфику отношения рус-ских людей к миру, их системы ценностей и жизненных установок. Не-сомненно, на первый план в содержании этого концепта в рамках тради-ционной русской культуры выходит религиозный компонент, что показал анализ внеязыкового религиозного, философского и морально-этическо-го содержания этого понятия в религиозно-христианском мировоззрении и в светской культуре [7]. Однако на уровне обыденного употребления языка непосредственно религиозный смысл этого понятия зачастую усту-пал место совсем иным семантическим компонентам, отражающим уже
159
особенности быта и нравов народа, его ценностей и предпочтений, ли-шенных христианской окраски.
Итак, изначально для функционирования этого концепта в народном сознании была характерна определенная двойственность в плане проти-востояния религиозного и светского восприятия греха. При этом языко-вое воплощение этого концепта обнаруживает тенденцию к преоблада-нию именно внерелигиозной трактовки греха, что в наших предыдущих работах, вслед за Л.Г. Пановой [2, с. 167–177], обозначается как «десак-рализация» концепта «грех» [5; 6].
Под десакрализацией греха мы понимаем разного рода когнитивные, семантические и прагматические явления в языковой объективации кон-цепта, общей чертой которых является тот факт, что на уровне обыденно-го употребления языка непосредственно религиозный смысл какого-либо концепта зачастую уступает место совсем иным семантическим компо-нентам, отражающим уже особенности быта и нравов народа, его цен-ностей и предпочтений, лишенных христианской окраски.
Суть десакрализации применительно к концепту «грех» заключается в том, что грех осмысляется, вопреки христианскому вероучению, как любое нарушение какой-либо нормы, как ошибочных или неправильных действий в любой сфере – социальной, политической, идеологической, этической, эстетической, культурной, при этом не обязательно в плане отношений человека и Бога. Кроме этого, грех понимается как невинная человеческая слабость, как простительная ошибка, т.е. язык отражает не-серьезное, порою даже облегченное и юмористическое, отношение к гре-ху, что никак не соответствует православной традиции.
Десакрализация греха в народном сознании имеет тотальный харак-тер и отмечается на всех уровнях функционирования языковой системы и речевой реализации. В этом плане интересно присмотреться к ряду грамматических реализаций в языковой объективации данного концепта, т.е. к случаям употребления слова грех не в исконно присущей ему роли субстантива, а в предикативных функциях.
Наш анализ показал, что использование слова грех в контекстах вто-ричной предикативной актуализации, когда можно говорить о конвер-сии существительного в слово категории состояния без изменения его морфемной структуры, отражает явно десакрализованный характер его семантики. Это позволяет сформулировать цель настоящего исследо-вания – рассмотреть явление грамматической омонимии слова грех как слова категории состояния в функции главного члена безлично-предика-тивной конструкции в свете указанного выше процесса десакрализации данного концепта в языковом сознании современных носителей русского языка. Теоретической основой исследования стала идея о принципиаль-ном разграничении экстралингвистического содержания концепта (его онтологические, мыслительные, аксиологические и прагматические ком-
160
поненты) и толкования собственно языковой семантики слов – репрезен-тантов концепта, реализованной в парадигматических, синтагматических и деривационных особенностях их функционирования, как это последо-вательно проводится, например, в работах [3; 4]. Материалом исследо-вания являются основные русские толковые словари и данные Нацио-нального корпуса русского языка.
В центре нашего исследования – два типа предикативного употребле-ния: грех и не грех, при этом данные употребления обнаруживают опре-деленную смысловую асимметрию, т.е. находятся в «квази-антонимиче-ских отношениях».
Для слова грех как категории состояния характерны следующие зна-чения:
– в знач. сказ., с неопред. Грешно, нехорошо (разг.). Над старостью смеяться грех. Грех обижаться (нельзя, не стоит обижаться, быть недо-вольным) [1]; Разг. Предосудительно, нехорошо, грешно [8]; Грех (кому) в сочетании с неопределенной формой глагол – не должно, несправедли-во, предосудительно [9].
Этот тип употребления широко представлен в Национальном корпусе русского языка в самых разных контекстах:
• Муж два раза с работы звонил, справлялся, как дела. Вроде грех жаловаться.
– А вообще, на аппетит грех жаловаться – наоборот, лучше бы чуть-чуть поменьше ела, а то пузико-то, пузико… а наследственность плохая – мама сама не худенькая.
• И в общем-то как-то грех требовать от наших лекарей этакого прекраснодушия и бессребрености.
• Ты что, стал «великим», Женя? Обижать Володю – грех. У Жени был шок, он подавился омаром.
• Поэтому грех было не воспользоваться возможностью и не обсу-дить ситуацию в стране.
• Тут такой выгодный случай: есть возможность организовать в Ев-ропе совместный германо-советский научный центр. Грех не восполь-зоваться. – Да, да, надо думать не только о своём научном интересе, – поддержал его Кольцов.
Грех не погреть на этом руки при нашей-то коррупцииНетрудно видеть, что данные словоупотребления выражают понятия
народной морали, особенности светского облегченного отношения к гре-ху, который здесь уж никак не может трактоваться в традиционном право-славном духе как тягчайшее повреждение души, отпадения от жизни в Боге, требующее покаяния.
С этим связана возможность разного рода юмористического обыгры-вания данного понятия: В такую хорошую погоду грех работать.
Для конструкции не грех словари дают следующие толкования:
161
– Не грех (бы), с неопред. (разг.) хорошо бы, можно, нужно было бы. Не грех бы отдохнуть [1]; (с отрицанием: не грех). Позволительно, можно, следует [8]; Не грех сделать что-нибудь – хорошо, можно, следует [9].
Данный тип употребления также широко представлен в Националь-ном корпусе русского языка:
• После такой развязки и взрослому не грех поверить в сказку! • Но, во-первых, не грех накануне профессионального праздника пора-
доваться тому, что газета по-прежнему востребована большой частью жителей республики....
• Все в трактире заговорили громче, задвигали над столом кружка-ми – за такое важное дело не грех было хорошо выпить.
• И всё ж не грех было бы и пожалеть м-ль Жорж! • К 120-летию Михаила Булгакова, отметить которое не грех 15 мая,
«Комсомолка» предлагает читателям выбрать среди 12 афоризмов из его книг самый актуальный.
• Так как Женя дружил с барменом (а именно ему несут изначально весь «чай»), то они: в суете рабочего дня официанткам не до высчиты-вания чаевых, так что не грех их и надуть.
В данном типе употребления, на наш взгляд, проявляется еще боль-шая десакрализация концепта грех, так как не грех не является подлин-ным отрицанием греха, а, напротив, наполняется вполне положительным модальным или оценочным содержанием (хорошо, можно, следует).
С отмеченным обстоятельством также связана широкая распростра-ненность контекстов, отражающих несерьезное отношение к греху как к простительной человеческой слабости, которая не осуждается, а напро-тив, желательна, которые недопустимы, к примеру, в конфессиолекте: Не грех бы выпить; С такой красавицей не грех и жене изменить и пр.
Не случайно обе анализируемые конструкции помечены как разго-ворные; они недопустимы в высокой книжной речи, которая хранит па-мять о возвышенном толковании греха как чего-то крайне серьезного, для которого недопустимы карнавальное обыгрывание или снижающая ирония.
Анализ некоторых грамматических языковых реализаций концепта «грех» в целом подтверждает отмеченную нами ранее тенденцию сосу-ществования в его концептуальном содержании двух пластов – религи-озного и внерелигиозного. При этом именно в рефлексах языковой экс-пликации этого концепта данных нет полного параллелизма между двумя этими пластами. Сохраняя в общем двойственность религиозного и свет-ского восприятия греха, русский язык все же более тяготеет к его внере-лигиозной трактовке, что находит свое выражение в десакрализации кон-цепта «грех», в стремлении к шутливому, обытовленному, сниженному его истолкованию.
162
ЛИТЕРАТУРА:1. Ожегов C.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
14-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1993. – 955 с.2. Панова Л.Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского
слова «грех» и итальянского «рессато») // Логический анализ языка: Язы-ки этики / Отв. ред.: Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко, Н.К. Рябцева. – М.: Язы-ки русской культуры, 2000. – С. 167–177.
3. Радбиль Т.Б. Прагматические аномалии в среде языковых аномалий русской речи // Русский язык в научном освещении. – 2006. – №12 (2). – С. 56–79.
4. Радбиль Т.Б. Языковые аномалии в художественном тексте: дисс. … докт. филол. наук. – М., 2006. – 496 с.
5. Сайгин В.В. Концепт «грех» в свете антиномии религиозного и светского содержания ключевых концептов русской культуры // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного уни-верситета. – 2014. – № 2 (30). – С. 88–93.
6. Сайгин В.В. О понятии «десакрализация концепта» (на примере концепта «грех» в современном русском языке) // Современные пробле-мы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 555–563
7. Сайгин В.В. Смысловое наполнение и семантическая структура концепта «грех» в современном русском языке (по данным толковых и этимологических словарей) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 3. – Ч.1. – С. 421–426.
8. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985. – Т.1. – 696 с.
9. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950-1965. – Т. 8. – 924 с.
Saygin Vadim Victotovich
GRAMMATICAL PROPERTIES OF LANGUAGE EXPLICATION OF THE CONCEPT «GREKH» («SIN») IN RUSSIAN LANGUAGE
Russian language, grammar, concept «grekh» («sin»), language explication of con-cept.
The work deals with some grammar representations of the concept «grekh» («sin») in Russian language as well as conversion of the noun «grekh» to predicative as a result of which religious components of its sense are eliminated and secular meanings are actualized within the framework of tendency to desacralization of the concept.
163
Скорикова Татьяна Петровнад. филол. наук, профессор
Российского экономического университета им. Г.В. ПлехановаМосква, Россия
ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Межкультурная коммуникация, международные связи с общественностью.
Обучение навыкам межкультурного общения рассматривается на примере пре-подавания магистрам-лингвистам теории и практики межкультурной комму-никации в сфере подготовки специалистов по международным связям с обще-ственностью и описывается в контексте формирования коммуникативной и профессиональной компетенции студентов.
Повышение интереса к проблемам иноязычной коммуникации в со-временном мире связано с глобализацией, выражающейся не только в процессах бизнес-интеграции, но и в расширении информационного про-странства, развитии новых информационных технологий, укреплении де-ловых и личных контактов. Современная эпоха отмечается постепенным вхождением России в мировое сообщество, что обусловливает необхо-димость концептуальных подходов при обучении иностранному языку студентов, для которых иностранный язык используется как инструмент будущей профессиональной деятельности. Целью обучения иностран-ным языкам, в связи с этим, становится формирование такой языковой личности, которой иностранный язык будет нужен для жизни, для обще-ния в реальных ситуациях и которая будет в состоянии осуществлять эф-фективное общение с представителями других культур.
В современном обществе, для которого характерно расширение меж-государственных отношений, торгово-экономических связей с зарубеж-ными странами, развитие науки и техники, постоянный обмен научно-технической информацией, увеличивается значение иностранного языка как действенного фактора социально-экономического, научно-техниче-ского и общекультурного прогресса, как средства устного и письменного общения между представителями разных народов и культур.
Формирование навыков межкультурной коммуникации как методоло-гической основы обучения языку в вузе представляется особенно оправ-данным для студентов гуманитарного профиля – экономистов, юристов,
164
менеджеров, будущих специалистов по связям с общественностью и др. Экономика, право, юриспруденция, «паблик рилейшнз» – это профессио-нальные области, где такие элементы культуры, как морально-этические ценности, нормы социального поведения людей, представления о прави-лах взаимоотношений между личностью и государством вырабатывались веками. Понимание культуры другого человека, уважение к этой культуре и адаптация к этой культуре – ключевые моменты для успешных комму-никаций. Изучение иностранной культуры помогает студентам-гумани-тариям осознать не только культурные различия, но и сходства, а также лучше понять самих себя.
Базовыми навыками межкультурной коммуникации является мини-мально необходимый и достаточный набор знаний и умений студентов успешно пользоваться иностранным языком в знакомых ситуациях по-вседневного и профессионального общения в среде иноязычной культуры. Критерием сформированности базовых навыков межкультурной комму-никации следует считать не языковую, а коммуникативную компетенцию, которая предполагает способность говорящего: эффективно общаться на иностранном языке с наименьшими искажениями и потерей смысла; уста-навливать и поддерживать положительные отношения с собеседником; до-стигать нужного уровня взаимопонимания и сотрудничества.
Межкультурное обучение охватывает целый ряд отдельных аспектов, начиная от лингвистических (изучение безэквивалентной лексики и др.), прагматических (как правильно вести себя в конкретной ситуации), эсте-тических (что считается красивым или отталкивающим в иной культуре) и заканчивая этическими (что представляют собой моральные ценности) проблемами. Задача формирования готовности к межкультурной комму-никации выходит за пределы лингвистики и преподавания иностранного языка. Она находится на стыке нескольких научных дисциплин (психо-логии, теории коммуникации, этнографии, культурологии, социологии, политологии, семиотики и др.) и должна осуществляться в их тесном вза-имодействии
Соответствующие открытия и положения из разных сфер познания нужно не только особо учитывать при изучении целевой культуры (и язы-ка), но также важно знать их в своей культуре (в своем языке). Реальная межкультурная коммуникация как форма общения представителей раз-личных языков и культур реализуется с наибольшей полнотой и эффек-тивностью в том случае, когда в процессе подготовки к ней значительное место отводится родной национальной культуре [2; 5]. Овладение об-учающимися ценностями родной культуры делает их восприятие иных культур более точным, глубоким и всесторонним. «Ноша культурных ценностей, – писал академик Д.С. Лихачев, – ноша особого рода. Она не утяжеляет шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы ов-ладеем, тем более изощренным и острым становится наше восприятие
165
иностранных культур – культур, удаленных от нас во времени и в про-странстве» [1, с. 231].
Постановка вопроса о межкультурной коммуникации в вузовском об-учении особенно актуальна, в частности, в сфере международного менед-жмента, международного права, а также в сфере подготовки лингвистов по профилю «Теория коммуникации и международные связи с обще-ственностью». Помимо обучения иностранному языку, в рамках которого затрагиваются вопросы страноведения, речевого этикета и правил по-ведения в той или иной изучаемой культурной среде, проводятся также анализ и изучение особенностей культуры, в том числе межкультурных аспектов международного делового общения.
Одной из функций языковой компетенции является, как известно, профессионально-культурная, обеспечивающая становление личности как носителя коммуникативной и профессиональной культур [6].
Формирование иноязычной коммуникативной компетентности – важ-нейший аспект подготовки студентов к межкультурной коммуникации. Профессиональная коммуникативная компетентность, реализуемая в условиях иноязычной коммуникации, определяется как способность ре-шать коммуникативные задачи в определенных коммуникативных ситу-ациях. В условиях бизнес-общения иноязычную коммуникативную ком-петентность можно определить как способность решать бизнес-задачи для достижения определенного результата в контексте другой бизнес-ре-альности и культуры.
Таким образом, еще одним звеном в этой системе является изучение таких типичных ситуаций, в которых будущие специалисты (в нашем случае – в сфере PR) часто будут встречаться с носителями той или иной культуры. Следовательно, становление специалиста за годы обучения в бакалавриате и магистратуре предполагает формирование у него готов-ности к межкультурной коммуникации. В свете вышесказанного вполне очевидна необходимость выявить закономерности формирования этой готовности у будущих специалистов по связям с общественностью, что полностью согласуется с объективными потребностями общественной практики PR.
Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» [2; 3] относится к одному из важнейших аспектов подготовки магистров для про-филя «Теория коммуникации и международные связи с общественностью». Ведущая цель данной дисциплины в подготовке магистров заключается в том, что она способствует развитию профессиональной компетент-ности магистранта в результате овладения навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими эффективность социальных и профессиональных контактов. В связи с этим основную задачу курса можно обозначить как обучение студентов теоретическим основам межкультурного взаимодействия, формирование межкультурной
166
компетентности, позволяющей обучающимся осуществлять адекватную коммуникативно-языковую деятельность в условиях вхождения в чужие культурные группы.
Рабочей программой дисциплины «Теория и практика межкультурной коммуникации» [4] предусмотрено: знакомство с основными теорети-ческими подходами к анализу межкультурного общения; приобретение знаний о специфике культур изучаемых языков, системах их ценностей и норм, определяющих правила вербального (речевого) и невербального поведения носителей этих культур; формирование культурной воспри-имчивости как в отношении собственных культурных особенностей, так и по отношению к специфике других культур; развитие способности к анализу и адекватной интерпретации процессов и результатов взаимодей-ствия представителей различных культур и культурных групп (субкуль-тур) в конкретных условиях интеракции.
Изучение курса строится как совместная исследовательская деятель-ность преподавателя и обучающихся, ищущих ответы на актуальные про-блемные вопросы межкультурной коммуникации. В процессе изучения курса магистранты самостоятельно выполняют такие задания, как: по-иск материалов по проблемным вопросам, формулирование собственных ответов в ходе дискуссий (форумов), выполнение тестов и контрольных работ по темам курса, написание и защита курсового проекта, подготов-ленного в результате лингвистического исследования, изучения научной литературы, на основе анализа и оценки электронных ресурсов по теории и практике межкультурной коммуникации и др.
Вся самостоятельная работа слушателей магистратуры осуществляет-ся в электронной образовательной среде – виртуальном кампусе (на базе информационных технологий, разработанных в МЭСИ), позволяющем поддерживать постоянный учебный контакт с преподавателем, контроли-ровать выполнение тестов и других самостоятельных заданий в ходе изу-чения дисциплины, создавать, открывать, использовать, сохранять, пере-сылать сообщения и файлы различных форматов, выполнять необходи-мые действия в стандартных учебных ситуациях, находить информацию о своей успеваемости по балльно-рейтинговой системе оценки знаний.
В процессе освоения содержания дисциплины «Теория и прак-тика межкультурной коммуникации» использование новейших информа-ционных технологий и работа учащихся в виртуальной образовательной среде способствуют эффективному формированию всего комплекса ба-зисных общенаучных, научно-исследовательских, лингвистических, ком-муникативных, прагматических и специальных компетенций магистран-тов, определяемых учебной программой курса.
ЛИТЕРАТУРА:1. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М., 1989.
167
2. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / А.П. Садохин. – М: Альфа-М, 2011. – 288 с.
3. Cкорикова Т.П. Обучение теории и практике межкультурной ком-муникации (с использованием виртуальной образовательной среды) / Вестник РУДН. Сер. «Русский и иностранный языки и методика их пре-подавания». – 2013/ – № 2. – С. 136–143.
4. Скорикова Т.П. Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика межкультурной коммуникации» для направления «Лингви-стика». Профиль подготовки «Теория коммуникации и международные связи с общественностью». – М.: МЭСИ, 2012. – 20 с.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: СЛОВO/SLOVO, 2000. – 262 с.
6. Халеева И.И. Вторичная языковая личность как реципиент инофон-ного текста. Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. – М., 1995. – 160 с.
Skorikova Tatyana Petrovna
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION TRAINING IN THE FIELD OF PUBLIC RELATIONS
Cross-cultural communication, international public relations.
Formation of intercultural skills is seen as an example of teaching masters-linguists theory and practice of intercultural communication in the training of specialists in in-ternational public relations and described in the context of formation of communicative and professional competence of students.
Смирнова Валентина Григорьевнаканд. филол. наук, профессор Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. СкрябинаМосква, Россия
СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Лексическое значение слова, семантическая структура слова, коннотация, сти-листическая природа, контекст.
В статье рассматривается понятие лексического значения слова в свете раз-личных трактовок в зарубежной и отечественной лингвистике. Утверждается,
168
что анализ семантической структуры слова, изучение различных признаков зна-чения, в том числе с учетом коннотаций, позволяет точнее осознать стилисти-ческую природу структурных изменений значения слова в контексте.
В современной лингвистике более или менее определилось несколько направлений в трактовке природы лексического значения слова.
В рамках логико-психологического направления лексическое зна-чение слова приравнивается к совокупности представлений о предмете (Г. Пауль, Ж. Марузо) или к понятию (Ф.И. Буслаев, Р. Карнап, Г. Клаус). Исходя из того, что понятие − это форма мышления, любому понятию можно дать логическую характеристику, т.е. разобрать его по объему и содержанию. Однако «слово выражает понятие, но понятия … вырабо-таны познанием человека далеко не для всех явлений действительности, обозначаемых с помощью слов. Появление понятий связано с научным познанием действительности, словами же обозначается все то, что важно и в научной, и в обиходной жизни людей» [7, с. 149–151].
К работам С.К. Огдена и Дж. Ричардса, к А.И. Смирницкому и его школе восходит трактовка значения как интеллектуальной, психической сущности. В известном треугольнике Огдена и Ричардса (symbol-thought-referent) явно проступает условный характер связи формы, значения и объекта. Связь фор-мы знака с его содержанием интерпретируется ими как чисто внешняя, ассо-циативная, а значение слова − как исключительно психическое образование, независимое от степени его обобщенности и всеобщности.
С возникновением знаковой теории языка, восходящей к Ф. де Сос-сюру, значение слова стало рассматриваться преимущественно как отно-шение. В зарубежной лингвистике особенно распространена тенденция определять значение через отношение различных элементов знаковой си-туации к контекстам ситуации (Ч. Фриз), к моделям социального и куль-турного поведения (Е. Найда, Дж. Фёрс, Л. Блумфильд и др.).
Структурализм стал основой формально-логической теории значе-ния, в которой элементы языка рассматриваются как пучки отношений, а значение − как структура этих отношений. Язык при этом предстает как автономная, имманентная система абстрактных, дематериализованных знаков без связи с мышлением и обществом (Л. Ельмслев).
В отечественном языкознании имела место тенденция синтезировать в понятии лексического значения и интеллектуальное значение слова, и его предметную отнесенность, и его релятивные свойства, т.е. свойства, обусловленные отношением данного слова к другим единицам знака. По-добный подход к значению нашел наиболее полное отражение в трудах А.И. Смирницкого, В.В. Виноградова, В.И. Звегинцева, А.А. Уфимцевой. А.И. Смирницкий определял значение слова как «известное отображение предмета, явления или отношения в сознании…, входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней стороны, по отношению к
169
которой значение слова выступает как материальная оболочка» [6, с. 152]. А.А. Уфимцева подчеркивала три фактора, обусловливающие лексиче-ское значение: понятийно-предметную отнесенность слова как единицы номинативной системы; парадигматическую системную противопостав-ленность («значимость», «внутрисистемный валер»); синтагматическую сочетаемость словесного знака [9, с. 118–119].
Принципиальным в этих определениях является утверждение поня-тийно-предметной отнесенности слова, означающее признание того фак-та, что слово не прямо, а опосредованно отражает то, что дано непосред-ственно в опыте, являясь такой формой отражения действительности, в которой заключено отвлечение или обобщение того, что дано в ощуще-нии, восприятии и представлении. Объективная действительность отра-жается человеком в ощущениях, представлениях, понятиях и выражается в словах. Поэтому слово с самого начала выступает «сигналом сигналов», обобщенным отражением действительности, за которым кроется система непосредственных воздействий предметного мира.
Функционирование языка в художественной литературе в этом плане ничем не отличается от обычного употребления языка, так как тоже опи-рается не непосредственно на чувственные, наглядные представления, а на уже обобщенное в рамках общественного сознания отражение предметов в форме языковых значений. Однако в художественной литературе значи-тельно расширена возможность переосмысления лексических значений в системе эстетического целого. Основой переосмысления лексических зна-чений, т.е. тех «приращений» смысла, по В.В. Виноградову, которые харак-терны для стиля того или иного писателя, является изменение в понимании природы объекта, или денотата. Отношение значения (сигнификата, десиг-ната, интенсионала) и объекта (денотата) строится на базе фиксирования в семантике слова различных признаков предметов, свойств и отношений в многосторонних связях значений слов и обозначенных объектов.
Соответственно содержание слова разлагается на отдельные элемен-ты, становится нецельным и, по словам А.М. Пешковского, эти части «по аналогии с материальным миром и соответствующими звуковыми отрез-ками слова приходится назвать «частями значения слова» [4, с. 7]. В этом плане чрезвычайно плодотворна идея компонентного анализа, перене-сенная в лексическую семантику из фонологии и грамматики, где издавна практиковался анализ по дифференциальным признакам.
Предполагается, что, несмотря на признание объективной целостности и практической нерасчлененности значимой стороны языкового знака, воз-можно искусственное расчленение смыслового содержания слова на от-дельные компоненты, или семы [1, с. 7–9]. В лексической семантике в 60-е годы 20 века сформировалось представление о иерархической структуре значения. Наряду с существенными семантическими признаками значений (дифференциальными и интегральными) было признано необходимым в
170
ряде случаев рассматривать несущественные признаки, называемые «ассо-циативными» (Д.Н. Шмелев), или «потенциальными» (В.Г. Гак).
По мнению В.Г. Гака, ядром значения лексемы является сема родового значения («архисема»), а дополнительным элементом − «дифференциаль-ные семы видового значения» [2]. Архисемы и дифференциальные семы наиболее частотны, но они не исчерпывают всех признаков денотата, неко-торые из которых не учитываются при его назывании. Эти дополнительные черты денотата, не обязательные для отличия одного видового понятия от другого, различные ассоциации, с которыми данный элемент действитель-ности связан в сознании говорящих, представляют потенциальные семы. Они потенциальны в том плане, что в обычном, прямом употреблении сло-ва они отходят на задний план, но могут актуализироваться контекстом. Потенциальные семы играют большую роль в речи, с их функционирова-нием связано появление переносных значений у слова, на их основе слово регулярно метафоризуется, включается в сравнения, участвует в словоо-бразовании и других языковых процессах. Терминологическое выражение «потенциальные семы», предложенное В.Г. Гаком, уступает таким обозна-чениям, как семантические ассоциации, ассоциативные признаки, конно-тации − последние в большей степени передают природу описываемого явления. В целом несущественные признаки семантической структуры слова в отличие от собственно информации языкового знака передают со-провождающие эту информацию различные эмоционально-экспрессивные и оценочные моменты, которые в разное время и разными авторами на-зывались по-разному. Все эти признаки обладают тем общим свойством, что характеризуют отношение к описываемой знаком действительности. В силу этого именно они являются основой стилистики языка писателя.
Термин «стилистика» в нашем случае употребляется как теоретико-лингвистическое понятие, т.е. как «такое явление в использовании языка, когда в языке имеется несколько разных способов для выражения одной и той же мысли, а говорящий выбирает один из них. При этом начинает значить нечто и сам факт его выбора» [8, с. 94–95]. Язык в целом, со всей его лексикой и грамматикой, служит планом выражения для стилистики. С точки зрения семиотики, подобная стилистическая информация условно определяется знаковостью второй ступени или тем, что Э. Бенвенист назы-вал символикой подсознания. На этом уровне употребления языка большое значение приобретают не только экспрессивно-эмоциональные оттенки, но и всякого рода со-значения, ассоциативные признаки, или коннотации.
В отличие от других людей писатель создает свою стилистику осоз-нанно, поэтому коннотативная характеристика слова представляется осо-бенно важной: ею в значительной степени руководствуется художник при выборе и сочетании языковых средств для достижения стилистического эффекта, передачи того или иного смысла. Идеальным для стилистики художественного слова было бы наличие особой коннотативной зоны в
171
словарной статье, на что указывал еще Л.В. Щерба. Это прояснило бы эстетическую функцию слова в художественном тексте, поскольку имен-но ассоциативность коннотаций способствует расширению лексико-се-мантической сочетаемости, а в силу этого предопределяет различного рода контекстуальные семантические сдвиги, смещения, в конечном сче-те многозначность художественного текста. В настоящее время уже из-вестна ассоциативно-вербальная сеть, построенная по результатам ассо-циативного эксперимента. Она представлена в «Русском ассоциативном словаре» [5]. Однако материал для данного эксперимента ориентирован на среднего носителя языка-культуры и на обыденное употребление язы-ка [3, с. 150], тогда как в художественном тексте ассоциативный фон рож-дается в сознании писателя-творца.
ЛИТЕРАТУРА:1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. − М.: Наука, 1974. − 366 с. 2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. − М.: Международные от-
ношения, 1977.− 259 с. 3. Караулов Ю.Н., Филиппович Ю.Н. Лингвокультурное сознание рус-
ской языковой личности. − М.: «Азбуковник», 2009. − 336 с. 4. Пешковский А.М. Сборник статей. Методика родного языка, линг-
вистика, стилистика, поэтика. − Л.-М..: Госиздат, 1925. − 192 с.5. Русский ассоциативный словарь. В 2-х т. От стимула к реакции:
7000 стимулов / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева… − М.: АСТ-Астраль, 2002.
6. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. − М.: Изд. лит-ры на иностр. яз., 1956. − 260 с.
7. Степанов Ю.С. Основы языкознания. − М.: Просвещение, 1966. − 271 с.
8. Степанов Ю.С. Семиотика. − М.: Наука, 1971. − 167 с. 9. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка− М.:
Наука, 1968. − 272 с.
Smirnova Valentina Grigoryevna
STRUCTURE OF LEXICAL WORD MEANING IN STYLISTIC ASPECT
Lexical word meaning, semantic structure of words, connotation, stylistic nature, context.
The article describes the concept of a lexical word meaning in the light of different interpretation in foreign and native linguistics. It is stated that the analysis of the se-mantic structure of words, study on different features of meaning, including taking into account the connotations, makes it possible for you to understand more exactly stylistic nature of structural changes of the word meaning in context.
172
Шестёркина Наталья Викторовнаканд. филол. наук, доцент
Мордовского государственного университета им. Н.П. ОгареваСаранск, Россия[email protected]
МИФОЛОГЕМА «НЕБО»: ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ
КОД КУЛЬТУРЫМифологема «небо», народная загадка, культурные коды, культурные смыслы.
В статье речь идет о текстах народных загадок, где на основании природно-ланд-шафтного кода определяются культурные смыслы мифологического общества.
Невыделение древнего человека из природы тесно связано с неразли-чением природы и культуры. Само происхождение культурных объектов в мифе связано с природой. Они либо творятся, либо появляются в ре-зультате трансформации из явлений природы. Весь мир воспринимался как собрание культурных ценностей. К ним относились огонь, полезные в хозяйстве животные и птицы, растения, орудия труда, охоты или войны, одежда, жилища, ритуальные предметы и т. д. Культура мифологического общества была природоподобна. Культурное творчество помогало преодо-лению страха человека перед Вселенной, Вечностью и Природой. Мы при-знаем, что непосредственно выходящая из природы культура являлась ее осознанием и освоением, способствовала установлению гармоничных от-ношений между человеком и природой [10, с. 6–7]. Природа предстает как образ иерофании, проявление божественного начала: таковыми являлись и отдельные ее формы. Аналогия микрокосма и макрокосма, человека и природы универсальна для человеческой культуры на всех этапах. В рам-ках противопоставления природы культуре природа рассматривалась как позитивно (образ естественного существования, неиспорченности), так и негативно (средоточие хаотических, враждебных человеку сил) [9, с. 157].
Анализируемый код выражает совокупность имен и /или их сочета-ний, обозначающих природные объекты или их части, элементы ланд-шафта, в т. ч. – освоенные человеком в их отдельном бытии или взаимо-расположении [4, с. 97]. По Д.Б. Гудкову и М.Л. Ковшовой, в природно-ландшафтном коде весьма наглядно проявляется национальная специфи-ка [4, с. 41], что отражается в таких национально-окрашенных единицах, как «лес», «поле», «луг», «река» и др.
Материалом исследования является народная русская загадка с отгад-кой «небо». Среди анализируемых загадок встречаются явления живой и
173
неживой природы. Во многих загадках небо сравнивается с полем, лугом: Голубое поле серебром усыпано (звезды на небе); Поле не меряно, семя не сеяно (небо, звезды, месяц); Рассыпался горох на двенадцать лугов (звезды на небе); Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат (небо, звезды, месяц); Раскинулась долонюшка, постелен там посадушек,.. (небо и звезды); Велико поле романовское, /Много скотины фараонов-ския, /Один пастух патриарховский (небо, звезды, месяц); Велико поле Романово, /Много скота рогатого, /Пас пастух, /Спрятался за ракитов куст (небо, звезды, месяц). С этими загадками соседствует следующая: На поле Романовом много всего: и скота рогатого; один пастушок ровно жемчужок с отгадкой «Русь и царь» [17, с. 83]. О подобных загадках из сборника Д. Садовникова [7] В.П. Аникин писал: «Под полем Романовым разумеется Россия… Это соображение подкрепляется загадкой о Руси и царе, в которой начальная строка прямо говорит о Руси как о поле Рома-новом с пастырем царем» [1, с. 264]. В ряде обозначений видами земной поверхности доминирующим признаком выступает признак неизмеримос-ти, бескрайности: поле не меряно [3, с. 254]. В мифологии и фольклоре поле – локус, наделяемый признаком бесконечности, безграничности, по-тому трактуемый как культурная периферия, граница «своего» и «чужо-го» мира. В русском фольклоре поле имеет постоянный эпитет чистое, что свидетельствует как о бесконечности и открытости, так и о пустоте и незаполненности. Ср. поле как метафору неба, а также фольклорно-ли-тературный образ «русского поля» как символ русской земли и русско-го национального характера (взаимное символическое и семантическое приближение поля (как бесконечного и недискретного пространства) и воли (как ничем не ограниченной свободы) [8, с. 132–133].
В былинах поле – место, где герой сражается, защищая родину, и гиб-нет. Гибель – непременное условие чистого поля, его важный признак. Ге-рой и богатырь рождены для битвы, поле – естественная их среда. Смысл поэтики поля – раздолье и бескрайняя ширь. Поле противопоставлено горам и лесам. Для поэтического образа послужило реальное поле, отли-чающееся от луга, где до боя стоит в траве конь богатыря. Поле – преж де всего простор (слово поле родственно прилагательному полый ‘свобод-ный’, ‘открытый’ или ‘явный’). В. Колесов выявил, что в слове поле со-держится древний корень со значением ‘серый, светлый’. Значит, поле – это свет и вселенная для людей первобытного общества. Со временем слово сужает свое значение: бескрайний мир сжимается до небольшого участка земли возле родной деревни [5, с. 213-214].
Есть ряд загадок о ночном небе, заместительные номинации из ко-торых сравниваются в словаре [17, с. 58] в таблице. Все номинации А.В. Юдин взял из загадок из сборника под ред. Д. Садовникова [7]. При всем разнообразии представленных номинаций все они вполне традици-онно-фольклорны. Автор отмечает, что темные полуономастические но-
174
минации в загадках вообще представляют собой наиболее фонетически динамические элементы, не требующие прозрачности внутренней формы /мотивации. Они строятся в своеобразные ряды /поля, напоминающие по разнообразию элементов и движущим силам их изменения поля имен пер-сонифицированных лихорадок и им подобных персонажей в заговорах, а также мифотопонимов в былинах, духовных стихах и т. п. Это может быть небо в виде поля: поле Поликанско – Чемоханско – Полянско(е) – Си-янско – Карагайское – Колыбанское – Итальянское – Романовско, а также город Городчанский, море Коробанское, (где присутствует аллитерация).
Ландшафт дорога, путь (освоенный человеком объект) – это универ-сальный образ связи между двумя точками пространства. По Н. Кринич-ной, лексема дорога имеет ту же основу, что и глагол дёргать. Ее первона-чальное значение по этимологическому словарю [14, с. 530] – «расчищен-ное (для прохода, проезда) пространство», «где выдернули лес». Представ-ления о дороге тесно связаны с ландшафтом, а тот – с космологическими воззрениями, их характер определяют различные модели Вселенной. То-пограммы семантического спектра дороги – символы нижнего мира (овраг, ложбина, впадина и пр.), пустынного (свободного от леса) места, а также некоего предела (подрагъ – «край»). Дорога в мифологическом восприя-тии – граница между мирами. По «правую руку» от нее обычно локализо-ван «этот» мир, по «левую» – потусторонний [6, с. 149, 157].
Путь – прежде всего символ образа жизни и судьбы человека. Сим-волический путь наделяется пространственным и временным измерением. Путь также символ учения, закона. В Библии говорится о торном пути как пути соблазна и греха, тогда как к спасению ведет узкая тропа, усеянная тер-ниями [9, с. 162]. По В.Н. Топорову, само освоение пространства – путь – в случае опасной альтернативной неопределенности как бы сжимается в ни-чтожный по протяженности, но важнейший по значению участок, – в мост. Отсюда нередки обозначения моста как пути [13, с. 263].
Небо часто олицетворяет образ нехоженой пути-дороги: Нехоже-на дорожка посыпана горошком (звезды на небе); Рассыпался горох по сту дорог,… (звезды на небе); Рассыпался корабль по мхам, по морям, по всем городам,.. (звезды на небе); Около города городчанского /Много скота литвянского, /Один пастух, как ягодка (небо, звезды, месяц); На городе на Сияне /Стоит дуб с вихеями,.. (небо и солнце) – в последней загадке антропоним «Сиян» (ср. выше поле Сиянско) обозначает небо [17, с. 57]. В результате народной этимологизации фонетической замене подвергся топоним Святой земли «Сион» (Сионская гора /горы, Сион). Могут встречаться и подобные явления: «Сiяньская», «Восiяньская», «Сiянь-гора», «Усiяньская», «Висолянська гора» – в них подчеркивается признак сияния божественной природы [2, с. 18]. (См. также: [11]).
Мох часто связан с низиной, водой, болотом. Некогда болото осмысля-лось как сакральное пространство. Связанное с ним слово первоначаль-
175
но – «белое» [16, с. 52]. Имея родственные слова в славянских и индоев-ропейских языках, где болото обозначает «грязь, тина», «глина, земля», «трясина», «заболоченный лес», это слово соотносится и с понятиями «сияние», «блеск», «свет», «явление» [14, с. 149, 190]. «Блеск» и «сия-ние» служат «формой выражения святости в оптической визуальной сфе-ре» [12, с. 215]. Поэтому вначале болото не населялось враждебными ми-фологическими существами (ср. царевну-лягушку на болоте, ожидавшую своего суженого). Но по мере негативного переосмысления сакральных локусов сформировались представления о болоте, где водятся черти [6, с. 91]. Болото предстает символом стагнации, распада и гибели. Ассоци-ируемое с болотом физическое разложение становится олицетворением разложения духовного. В славянской мифологии болото – символ смерти (туда в заговорах «ссылаются» все болезни и смерть) [9, с. 13].
Море – образ нижних вод, для древних греков море – воплощение ма-теринского начала. Но это образ несущей бедствия и смерть стихии. Море связано с символикой волн – пульсацией космоса. В славянской мифоло-гии море связано с женскими персонажами и становится символом смерти, обителью зла [9, с. 117–118]. Вода – знак земли. В дихотомии небо – земля земля оценивается отрицательно. Природа связана со стихиями, где вода противопоставляется огню и сближается с землей, противопоставленной небу. Выступая первоосновой мира, вода символизирует возможности, смешение элементов, предшествующее всем формам и творению. Во мно-гих традициях вода – проводник воли богов, посредник в общении с небом, глашатай судьбы. Вода в целом амбивалентный образ: воплощает и начало, и конец мира (мировой потоп). Вода рассматривается и как поддержива-ющая жизнь (и рождающая ее), и как опасная, враждебная стихия [9, с. 21-23]: Золотая кубышка на воде не тонет (небо и солнце); Бежали овцы по калиновому мосту. /Увидали зорю, пометались в воду (звезды на небе); Посередине моря стоит золотая камора (небо и солнце).
Гора связывается с мировой осью, древом жизни, лестницей. В кос-могонических мифах горы предстают как первозданная суша, явившаяся из воды. Высоты – места преклонения языческим божествам. Психологи-ческие корни культа гор связаны с представлением о близости их к небу (гора предстает как лестница в небо). Поэтому горы считаются местожи-тельством богов, входом в верхний или нижний мир, местом обитания мертвых. Самым известным в этом контексте является библейский сюжет о получении Моисеем скрижалей завета на горе Синай. Самое важное в образе горы то, что она выступает в качестве структуры, соединяющей различные сферы бытия (небо, землю и подземный мир). Священная гора в разных традициях рассматривается как центр мира и представляет мировую ось трехчастной структуры: подземный мир – гора – Полярная звезда. Мировая гора – место, где сходятся небо и земля [9, с. 35]: Взой-дет Егор на бугор – выше леса, выше гор,.. (небо и солнце) (Солнце в
176
данной загадке выражено антропонимом Егор); Встану я рано, бела да румяна,.., как взойду на гору в венце золотом да гляну светлыми очами – и человек и зверь возрадуются (небо и солнце).
По О. Черепановой, связь с горой, возвышенностью, идеей высоты в целом являлась самым актуальным мифологическим признаком богини Перегини. Это говорит о большой древности данной мифологемы, ее от-ношении к доанимистическому периоду в религиозных представлениях, когда предметами поклонения были природные объекты – горы, камни, водные объекты и стихийные явления – молния, гром и т. п. (фетишизм). Мифологизация горы у славян проявляется отчетливо. Один из самых ар-хаичных богатырей былинного эпоса – Святогор, фантастическая птица – Вострогор. История культуры знает много сакрализаций гор: Арарат, Си-най, Фавор, Афон и др. В каждой местности есть своя Святая, Лысая или иная отмеченная традицией гора. Гора – распространенная деталь пейзажа на иконах, но это также прибежище всякой нечисти, темных сил потусто-роннего мира. Шабаш ведьм совершается на Лысой горе, на горе соверша-ются магические действия. Тоску, болезни отсылают «на высокую гору». Все это – свидетельство большой древности, широкого ареала распростра-нения и актуальности мифологии горы в славянском мире [15, с. 36–38].
Итак, наш анализ свидетельствует о многочисленных мифологиче-ских образах неба, воплощенных в положительных и отрицательных ха-рактеристиках данной мифологемы.
ЛИТЕРАТУРА:1. Аникин В.П. Д.Н. Садовников и его сборник загадок // Загадки рус-
ского народа: сб. загадок, вопросов, притч и задач /сост. Д.Н. Садовни-ков. – М.: Моск. ун-т, 1959. – С. 3–30.
2. Бондарец Е.А. Лексико-семантическая структура мифологизмов в восточно-славянском фольклоре: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Тюмень, 2004.– 21 с.
3. Волоцкая З.М. Элементы космоса в фольклорной модели мира // Ис-следования по структуре текста. – М.: Наука, 1987. – С. 250–266.
4. Гудков Д.Б., Ковшова М.Л. Телесный код русской культуры: матери-алы к словарю. – М.: Гнозис, 2007. – 288 с.
5. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: ЛГУ, 1986. – 312 с.
6. Криничная Н.А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тек-сты. Комментарии. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и На-уке, 2011. – 632 с.
7. Садовников Д.Н. Загадки русского народа: сб. загадок, вопросов, притч и задач / предисл. и коммент. В.П. Аникина. – М.: Изд-во МГУ, 1959. – 335 с.
177
8. Славянские древности: Этнолингв. словарь: в 5т. / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 4. П – С. – М.: Междунар. отношения, 2009. – 656 с.
9. Словарь символов и знаков / авт.-сост. В.В. Адамчик. – М. : АСТ ; Мн., 2006. – 240 с.
10. Телегин С.М. Словарь мифологических терминов: учебн. пос. – М.: УРАО, 2004. – 100 с.
11. Толстая С.М. Город Иерусалим, гора Сион и царь Давид // Об-раз мира в тексте и ритуале. – М.: Рус. фонд содейст. образован. и науке, 2015. – С.138-150.
12. Топоров В.Н. Модель мира (мифопоэтическая) // Мифы народов мира: энциклопедия. – Т.2. – М.: Сов. энцикл., 1987. – С. 161–163.
13. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структу-ра. – М.: Наука, 1983. – С. 227–284.
14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Про-гресс, 1986. – Т. 1 – 573 с.
15. Черепанова О.А. Культурная память в древнем и новом слове. – СПб., 2005. – 331 с.
16. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологиче-ский словарь русского языка. – 2-е изд. – М., 1975.
17. Юдин А.В. Ономастикон восточнославянских загадок. – М.: ОГИ, 2007.
Shesterkina Natalia Victorovna
THE MYTHOLOGEME «SKY»: NATURAL-LANDSCAPE CODE OF CULTURE
Mythologeme «sky», folk riddle, cultural codes, cultural senses.
In the article it is said about the texts of folk riddles in which the cultural senses of mythological society are defined on the basis of natural-landscape code.
178
ЯЗЫК – МЫШЛЕНИЕ – ЛИЧНОСТЬ
Байрамукова Аджуа Измаиловнаканд. филол. наук, доцент Карачаево-Черкесского государственного
университета имени У.Д. Алиева Карачаевск, Россия
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Д.И. ФОНВИЗИНА
Писательская лексикография, словарное дело, лексикографическая программа, дефиниция, синонимический ряд.
В статье анализируется феномен лексикографической практики Д.И. Фонвизи-на, исследуются закономерности лексикографических штудий писателя: имен-но писательская деятельность привела Д.И. Фонвизина к составлению «Опыта Российского сословника» (1783) и другим лексикографическим действиям.
К писателям, занимающимся продуктивной писательской лексико-
графией, относятся М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, А.Х. Востоков, В.И. Даль, Н.В. Гоголь, Н.Г. Чернышевский и др.
Деятельность писателей-лексикографов осмысляется нами в русле на-учной концепции М. Фуко («Слова и вещи»). «Язык с полным правом, – приходит к выводу М. Фуко, – является универсальным элементом в той мере, в какой он может представлять все представления. Должен суще-ствовать язык (или по крайней мере может), который собирает в своих словах тотальность мира, и наоборот, мир, как тотальность представи-мого, должен обладать способностью стать в своей совокупности Эн-циклопедией» [4, с. 119]. В парадигме «писатели и словарное дело» нас интересует проблема взаимосвязи языка и процесса познания. Писатели-лексикографы смотрят на мир как на объект интерпретации.
В ходе изучения писательской лексикографии становится очевидным факт продуктивной лексикографической работы писателей, с их удиви-тельными познаниями в области слова и мироустройства. Так, знамени-тый «Словарь Академии Российской» (1789–1894) был не только тру-дом ученых-гуманитариев Императорской Российской Академии, но и писателей. В предисловии ко второму тому Словаря указаны фамилии писателей-составителей. Так, Я.Б. Княжнин собирал слова на букву «в»,
179
Д.И. Фонвизин – на букву «к» и «л», поэт и переводчик О.П. Козодав-лев – на букву «с», Г.Р. Державин – на букву «т», писатель-беллетрист В.А. Ушаков – на букву «я». П.А. Вяземский планировал составить сло-варь: «Мне часто приходило на ум написать свою Россияду… домаш-нюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, не только словесных, но и умственных и нравных… В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдо-ты, изречения… Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразились бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной» [2, с. 119].
Автором словаря синонимов «Опыт Российского сословника» (1783) был Д.И. Фонвизин (1744–1792). Творческая практика Д.И. Фонвизина относится к современной эпистеме с установкой на понимание языка как «самозамкнутого бытия» (М. Фуко). Писатель приходит к проблеме создания синонимического словаря на пике своего творчества, уже после создания комедий «Бригадир» (1768), «Недоросль» (1781) и др.
Приведем некоторые словарные данные из «Опыта Российского со-словника» для представления взглядов писателя-лексикографа. При тол-ковании синонимического ряда «Понятие, мысль, мнение» мы видим четкие лексикографические границы, которые проводит Д.И. Фонвизин: «Понятие есть то опознание, которое разум имеет о какой-нибудь вещи или деле. Мысль есть действие существа разумного. Мнение есть след-ствие размышлений» [3, с. 225]. После процедуры истолкования автор словаря приводит лингвофилософские рассуждения по поводу этих слов: «Нельзя иметь понятия о вещи, если не обратишь к ней мыслей своих; поняв же ее ясным образом, нельзя ошибиться в своем об ней мнении» (там же: 225). В качестве словарной иллюстрации автор приводит ут-верждение, демонстрирующее семантические обертоны синонимическо-го ряда: «Сколько судей, которые, не имев о делах ясного понятия, пода-вали на своем роду весьма много мнений, в которых весьма мало мыслей» [3, с. 225]. Словарь Д.И. Фонвизина даёт обобщенное представление об этих понятиях, формируя понятийную сферу вокруг слов.
Следует отметить, что в качестве слов, входящих в предполагаемые синонимические ряды, Д.И. Фонвизин включает концептуально значи-мые для человека понятия. Приведем некоторые примеры синонимиче-ских рядов из «Опыта»: «Обида, притеснение», «Несчастие, напасть, беда, бедствие», «Проступок, вина, преступление, злодеяние, грех», «Помогать, пособлять, вспомоществовать, давать помочь», «Ленивый, праздный», «Правота, правосудие» и т.д.
Художник слова Д.И. Фонвизин в своих дефинициях поднимается до глубоких лексикографических обобщений, например: «Суевер есть тот, которого вера противна рассудку и здравым понятиям о вышнем суще-стве. Ханжа считает в душе своей угодить богу наблюдением всех ме-
180
лочей, изобретенных суеверием. Пустосвят полагает святость в одной пустоте, то есть в действиях, не составляющих никакого истинного богу угождения. Святоша выдает себя всенародно за человека, прилепленного к единой святости. Притворно набожный называется лицемер» [3, с. 230].
Дефиниции характеризуется мастерством Д.И. Фонвизина-драматур-га, знатока человеческих душ. Лексикограф расширяет границы толкова-ния примером и одновременно характеристикой подобных типов: «Хан-жа таскается вседневно по церквам, поет молебны не святым, но обра-зам, ибо к одному образу святого имеет всю теплую веру, а к другому того же святого никакой. Пустосвят почти никогда к обедне не поспевает. Он бежит в церковь отнюдь не затем, чтоб с умилением сердечным богу по-молиться, но чтоб перецеловать все иконы, которые губами достать мо-жет. Святоша бродит босиком, в волосяной рубашке, иногда и в веригах. Суевер есть несчастнейшее создание. Он всеминутно боится бога, не как судию праведного, но как судию грозного. Все кажется ему предвещани-ем божеского гнева. Он трепещет днем от примет, ночью от сновидений. Он считает себя всегда пред богом без вины виноватым. Подкреплять и распространять суеверие есть ремесло лицемеров» [3, с. 230]. Как видно из примеров, иллюстративный материал служит для демонстрации ню-ансов семантики слов, входящих в синонимический ряд. Д.И. Фонвизина как писателя и впоследствии лексикографа интересовала проблема точ-ного облечения мысли в конкретную соответствующую словесную ткань.
Словарь Д.И. Фонвизина по своей лексикографической идее напо-минает современные толково-понятийные словари (например, «Толково-понятийный словарь русского языка» А.А. Шушкова), в которых «весь лексикографический материал словаря представлен в виде семантиче-ских групп» [5, с. 7]. В предисловии к словарю А.А. Шушков оговаривает понятие семантическая группа – «ряд слов и устойчивых сочетаний, ко-торые тесно связаны по смыслу и в целом представляют фрагмент «се-мантической» карты реального мира. Вычленяемые в Словаре группы представляют систему основных концептов русского языка» [5, с. 7]. Та-ким образом, Словарь Д.И. Фонвизина характеризуется проспективным способом описания лексикографического материала.
В своей лексикографической практике Д.И. Фонвизин приходит к интересному лексикографическому замыслу – пишет «Начертание для составления Толкового словаря славяно-российского языка» (1783). В «Начертании» Д.И. Фонвизин пишет об этом словаре: «Толковый словарь славяно-российского языка должен содержать в себе по алфавиту, поряд-ком этимологическим, все известные славяно-российского языка слова и речении, с истолкованием оных употребления и знаменования» [3, с. 240]. «Из сего явствует, – продолжает писатель-лексикограф, – что в со-ставлении Толкового словаря надлежит принять во уважение: 1-е, выбор слов и речений; 2-е, грамматическое оных употребление; 3-е, объяснение
181
их знаменования; 4-е, порядок алфавитный» [3, с. 240]. Свой лексико-графический проект такого словаря автор проясняет в четырех статьях «Начертания»: «Статья 1-я. О выборе слов и речений, долженствующих войти в толковый словарь славяно-российского языка», «Статья 2-я. О грамматическом словоупотреблении», «Статья 3-я. О знаменовании слов и речений», «Статья 4-я. О порядке алфавитном».
Как видно из анализа лексикографической программы Д.И. Фонвизи-на, разработанной для составления «Толкового словаря славяно-россий-ского языка», писатель обладает комплексным мышлением лексикографа. Д.И. Фонвизин очерчивает весь лексикографический план для состави-телей «Толкового словаря славяно-российского языка». Впоследствии Д.И. Фонвизин уточнит для ученых конкретные лексикографические действия в «Способе, коим работа Толкового словаря славяно-российско-го языка скорее и удобнее производиться может».
Таким образом, можно сказать, что именно писательская деятельность привела Д.И. Фонвизина к составлению «Опыта Российского сослов-ника» и другим лексикографическим действиям. Лексикографическая практика стала следствием писательской деятельности Д.И. Фонвизина – работа с художественным словом перешла в сознательную лингвистиче-скую (лексикографическую) работу.
Н.С. Автономова, обобщая идеи М. Фуко, приходит к выводу, что «язык в эпистеме XIX века превращается из прозрачного посредника мышления и представления в объект познания, обладающий собственным бытием и историей. Эта потеря языком привилегированного места в пространстве мышления восполняется несколькими способами. Во-первых, пафосом позитивистской мечты об идеальном, логичном, очищенном от случай-ностей повседневного употребления языке науки; во-вторых, восстанов-лением «критической» ценности изучения языка, его особой роли в ис-кусстве понимания текстов; в-третьих, появлением литературы в узком и собственном смысле слова, возрождающей язык в его «непереходном», самозамкнутом бытии» [1, с. 17]. Данная эпистемологическая ситуация отображается в лексикографической деятельности русских писателей.
ЛИТЕРАТУРА:1. Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи» //
М. Фуко Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – С. 7–27.
2. Русские писатели о языке: хрестоматия / Под ред. Н.А. Николиной; [Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.]. – М.: Просвещение, 2004. – 268 с.
3. Фонвизин Д.И. Собрание сочинений в 2-х т. – М.-Л.: Государствен-ное Издательство Художественной Литературы, 1959. Т. 1.
4. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-cad, 1994.
182
5. Шушков А.А. Толково-понятийный словарь русского языка: 600 се-мантических групп: ок. 16 500 слов и устойчивых выражений / ИЛИ РАН; А.А. Шушков. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008.
Bairamukova Adzhua Izmailovna
LEXICOGRAPHIC PRACTICE OF D.I. FONVIZIN
Literary lexicography, dictionary business, lexicographic program, definition, syno-nymic row.
In article the phenomenon of lexicographic practice of D.I. Fonvizin is analyzed, regu-larities of lexicographic studies of the writer are investigated: literary activity led D.I. Fonvizin to drawing up «Experience of the Russian soslovnik» (1783) and to other lexicographic actions.
Волкова Мария Игоревна аспирант Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина Москва, Россия
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ РЕЖИССЕРА М.А. ЗАХАРОВА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РУССКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ЛИНГВО-КУЛЬТУРНОГО СООБЩЕСТВА
Языковая личность, лингвокультурное сообщество, режиссер.
На примере анализа языковой личности известного российского режиссера М.А. Захарова как представителя театральной профессиональной сферы на-стоящая статья продолжает ряд прагмалингвистических исследований, посвя-щенных рассмотрению языковых личностей представителей различных лингво-культурных сообществ.
Лингвистика XX – начала XXI вв. характеризуется тенденцией к ан-тропоцентризму: речь и язык рассматриваются как произведение челове-ка, и отражение его мышления, опыта профессиональной деятельности. В центре научного внимания многих исследователей – языковая личность, т.е. совокупность способностей и характеристик человека, обусловлива-ющих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), кото-
183
рые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глуби-ной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью [6, с. 3].
Возрастает интерес ученых к анализу языковых личностей предста-вителей различных социальных групп и профессий (бизнес-элита, жур-налисты, политики). Активно исследуется зависимость речевой комму-никации от социально-профессиональной принадлежности человека, так как в каждой профессиональной среде существуют присущие ей особен-ности деловых отношений, образа жизни, организационной культуры, этикета, языка.
Театр как социальный феномен имеет множество культурологиче-ских, семиотических, психологических, философских и других описа-ний, проанализирован как особый язык и «коммуникативная система». Однако профессиональная коммуникация театрального лингвокультур-ного сообщества, а также языковые личности его представителей остают-ся малоизученными.
В связи с этим представляется важным рассмотреть языковую лич-ность М.А. Захарова как яркого представителя русского профессиональ-ного театрального лингвокультурного сообщества. Марк Анатольевич Захаров – советский и российский актер, режиссер театра и кино, сце-нарист, педагог [7, с. 119]. Его фильмы и спектакли по праву входят в золотой фонд русской культуры.
Проанализируем языковую личность М.А. Захарова согласно трех-уровневой модели, разработанной Ю.Н. Карауловым (нулевой уровень – вербально-семантический, первый уровень – лингво-когнитивный, тре-тий – мотивационный).
Нулевой уровень языковой личности – вербально-семантический (или лексикон) – предполагает для носителя нормальное владение есте-ственным языком и является базой для языкового общения. Рассмотрим лексикон М.А. Захарова на материале стенограмм репетиций [3]. Для него характерно сочетание терминов психологии (биологическая нервная энергия, зона шокового состояния, психологическая метаморфоза, ком-плекс неполноценности, отрицательная энергия) с театральными терми-нами (сценическая работа, репетиционный зал, сценический процесс, ак-терская мимика, актерское сознание, сценографические импровизации, реплика, мизансцена), что свидетельствует о многогранности и синкре-тичности его языковой личности.
В лексиконе М.А. Захарова как режиссера с классическим театраль-ным образованием достаточно частотными являются термины «системы Станиславского»: обаяние, сценическая заразительность, правда жизни, событие, сверхзадача.
Просторечная лексика используется М.А. Захаровым крайне ограни-ченно, как прием объяснения в тех случаях, когда в его видении непри-
184
меним термин: люди «вырубались» из системы привычных оценок и реф-лексов; пространственные выкрутасы элементарных частиц.
Обилие так называемых окказиональных терминов в лексиконе М.А. Захарова отражает специфику его индивидуальной гипотетической деятельности по объяснению мира: кардиограмма сценического процес-са, гипнотический контакт, энергетические мощности, выброс нервной актерской энергии, совместный энергетический экстаз актера и зрите-ля, «голодный информационный паек».
Частотными в лексиконе М.А. Захарова являются и слова театраль-ного жаргона: массовка, мастерство (вместо актерское мастерство), черновой прогон, аварийный спектакль, аварийный ввод, снять спек-такль, хлопотать мордой, давать тонкача, музыкальная отбивка.
Использование метафор как средства описания актерской игры и ре-жиссерских действий свидетельствует о развитом образном мышлении М.А. Захарова: актерский организм выстрелил, спружинить сцениче-ские акции, актерский пилотаж, самая подлая лошадка в нашем нескон-чаемом беге к сценической истине, зрительское преследование, жонгляж терминологией.
Сам М.А. Захаров так говорит о важных словах своего лексикона: «Среди живых, работающих со мной слов самые жизненно важные для меня вдруг обретают самостоятельное движение, их хочется выделить, может быть, повторить, но, скорее всего, – проверить: „гипнотический контакт“, „энергетический мост“, „нервная температура“, „режиссура зигзагов“, „позиция дилетанта“, „монтаж экстремальных ситуаций“, „ко-ридор поиска“» [4, с. 315].
Единицами первого, лингвокогнитивного уровня языковой лично-сти, (или тезауруса), являются понятия, идеи, концепты, складывающи-еся у каждой языковой индивидуальности в <…> «картину мира», от-ражающую иерархию ценностей личности. На лингвокогнитивном уров-не М.А. Захаров обладает специфической и в то же время типичной для режиссера «картиной мира». Особенностью М.А. Захарова является не-однократное обращение к теме сверхсознательного, проблеме энергии и энергетики, «энергетической коммуникации между сценой и зрительным залом» применительно к театру.
У него и его труппы наблюдается общность понятий, ассоциативных полей и когнитивной базы. «Непосвященному» человеку невозможно понять следующий комментарий М.А. Захарова к одной из мизансцен: М. Захаров: «Не, не, на полу было лучше. На полу был “царевич Федор“… Чуть-чуть вертикальней... Вот так вот…» [3].
Человек, не входящий в коммуникативное сообщество творческого коллектива театра «Ленком», благодаря своим фоновым знаниям по изо-бразительному искусству может догадаться, что М.А. Захаров выстраи-вает мизансцену, которая будет ассоциироваться с картиной К.Е. Маков-
185
ского «Убийство царевича Федора». Но художественная задача данной мизансцены будет понята только участниками репетиции.
Второй уровень языковой личности – мотивационный (или прагма-тикон), представлен коммуникативно-деятельностными потребностями личности и включает в себя выявление, характеристику мотивов и целей, движущих развитием личности. Особенностью профессиональной комму-никативной деятельности режиссера является стремление воздействовать на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферы театрального коллектива с целью реализации своего творческого замысла. Режиссер – это организатор и руководитель репетиций, результат которых (создание спектакля) зависит от его компетенции как коммуниканта и ритора. «Если Слово Божие есть инструмент творения мира, то слово человеческое есть инструмент организации любой совместной деятельности» [1, с. 26]. Кон-тактоустанавливающие коммуникативно-деятельностные потребности режиссера М.А. Захарова проявляются, на наш взгляд, в поддержке поло-жительной эмоциональной атмосферы на репетициях. Данный вид комму-никативно-деятельностных потребностей может быть реализован посред-ством шуток, неформальных моментов общения в процессе работы.
«Язык режиссерских заданий – действия» [2, с. 103], а истинным мате-риалом режиссуры, с точки зрения К.С. Станиславского является творче-ство актера. Таким образом, воздейственные коммуникативно-деятель-ностные потребности режиссера заключаются в следующем: 1) вызвать в актере творческий процесс; 2) непрерывно поддерживать и направлять его к определенной цели в соответствии с общим идейно-художествен-ным замыслом спектакля; 3) согласовывать результат творчества каждого актера с результатом творчества остальных исполнителей для создания гармонически целостного единства спектакля.
Для объяснения творческой задачи режиссер часто применяет па-ралингвистические средства: мимику, жестикуляцию, позы, взгляд. М.А. Захаров эффективно использует жесты оценки, размышления, ука-зания, убеждения. Сочетаясь с набором междометий и звукоподражаний, они способны вызвать у актеров точную реакцию и внести корректиров-ку в сценическое действие.
Общий принцип режиссуры по В.И. Немировичу-Данченко гласит: «режиссер – существо трехликое: режиссер-толкователь, он же показы-вающий, как играть, так что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом, режиссер-зеркало, отражающее индивидуаль-ные качества актера, и режиссер-организатор всего спектакля» [8, с.126].
Как «режиссер-толкователь» М.А. Захаров должен владеть полно-функциональным типом речевой культуры, максимально полным знани-ем языковой системы, ее возможностей и правил использования, иметь богатый лексикон. В качестве «режиссера-педагога» его задача – быть Учителем-лидером и уметь повести за собой. «Режиссер-организатор»
186
в лице М.А. Захарова должен способствовать формированию здоровой творческой атмосферы в театральном коллективе, пресекать нарушения дисциплины, решать конфликтные ситуации, соблюдать коммуникатив-ные, этикетные и этические нормы общения.
«Если слесарь-сантехник или уборщица, дворник являются носителями обиходного типа речевой культуры и не умеют написать простейшее объ-явление, заявление или жалобу, – это их беда (возможно, и вина), но их прямой профессиональной деятельности она не повредит» [9, с. 5]. Однако для подавляющего большинства профессий, в том числе и режиссерской, требуется высокий уровень речевой и общечеловеческой культуры.
Попытка анализа языковой личности М.А. Захарова, как и другие по-добные исследования, доказывает, что «за каждым текстом стоит языко-вая личность» [5, с. 27], то есть, особенность языковой личности зависит от особенностей порождаемых ею текстов.
Проведенное в рамках данной статьи исследование может послу-жить отправной точкой для подробного анализа языковой личности как М.А. Захарова, так и других режиссеров.
ЛИТЕРАТУРА:1. Аннушкин В.И. Язык и жизнь. – М., Русская школа, 2009. – 319 с.2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение,
1973. – 278 с.3. Захаров М.А. Репетиции в Ленкоме (видеофайл) // Mark.Zaharov.
Repeticiia.v.Lenkome. 2006. (TVrip.Xvid.Rus). fenixclub.com.avi.4. Захаров М.А. Театр без вранья. – М.: АСТ: Зебра Е, 2008. – 606 с.5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: ЛКИ,
2010. – 264 с. 6. Караулов Ю.Н. Язык и личность. – М.,1989. – 123 с.7. Мусский И.А. Сто великих режиссеров. – М.: Вече, 2008 г. – 475 с.8. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. – М.: Правда. 1989.– 584 с.9. Сиротинина О.Б. Типы речевых культур в профессиональной дея-
тельности человека// Язык и власть. – Саратов, 2003. – С.3–12.
Volkova Mariya Igorevna THE LANGUAGE IDENTITY OF M.A. ZAKHAROV
AS A REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN THEATRICAL LINGUA-CULTURAL COMMUNITY
Language identity, lingua-cultural community, director.
This article is a case study of the famous russian director M.A. Zakharov as a rep-resentative of the professional theatrical community. It goes along in the research in pragmatic linguistics dedicated to the analyses of the language personality of the rep-resentatives of the various lingua-cultural communities.
187
Коноваленко Ирина Владимировнаканд. филол. наук, доцент
Омского автобронетанкового инженерного института [email protected]
Петренко Елена Евгениевнаканд. филол. наук, доцент
Омского автобронетанкового инженерного института Омск, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА, ВЕРБАЛИЗУЕМЫЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Языковая картина мира, концепт, фразеологические единицы, национально-куль-турная специфика.
В статье рассматриваются основные концепты и микроконцепты языковой картины мира, вербализуемые фразеологическими единицами русского языка. Анализируя фразеологический материал, автор определяет, какие концепты наи-вной языковой картины мира наиболее широко в ней представлены, способствуя осознанию носителями языка особенностей национального языка и культуры.
В связи с внедрением в гуманитарные науки антропоцентрической па-радигмы, языковые явления рассматриваются в тесной взаимосвязи с че-ловеком, его сознанием и миропониманием: «В лингвистике, избравшей в качестве своей методологической основы антропологический принцип, в центре внимания оказываются два круга проблем: 1) определение того, как человек влияет на язык; 2) определение того, как язык влияет на че-ловека» [2, c. 78]. Исследованию языковой картины мира посвящены тру-ды таких ученых, как Ю.Д. Апресян, В.В. Красных, Б.А. Серебренников, А.А. Залевская, А. Вежбицкая, В.Н. Телия, В.И. Постовалова, Е.С. Куб-рякова, и др. Воссозданием комплексной языковой картины мира на основе анализа концептов занимались Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, А.Н. Зализняк, А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева и др.
Согласно взглядам Ю.С. Степанова, концепт существует объективно, т.е. рассматривается как явление коллективного сознания. Если концепт существует постоянно и долгое время, он приобретает статус константы (мир, душа, закон, тоска, вечность, правда…), т.е. играет роль принципа культуры. Репрезентациями концепта являются все средства культуры и языка как ее части [3, с. 131]. Согласно определению С.Г. Воркачёва, кон-цепт представляет собой «единицу коллективного знания/сознания (от-
188
правляющую к высшим духовным ценностям), имеющую языковое вы-ражение и отмеченную этнокультурной спецификой». [1, с.48].
Как показывает анализ теоретических исследований, одним из пер-вых признаков, положенных в основу построения картины мира, является субъект, творящий картину мира, т.е. человек как носитель индивидуаль-ного сознания. Материалом для данного исследования послужили фразе-ологизмы, взятые из произведений детской литературы. Анализ семан-тики фразеологических единиц, представленных в литературе для детей, позволяет выделить целый ряд устойчиво повторяющихся мотивов, кото-рые представляются специфичными именно для русского видения мира и русской культуры.
В качестве главного критерия соотнесения фразеологической едини-цы с тем или иным концептом при построении образа наивной языковой картины мира мы избрали семантику фразеологизма. «Показательными для языковой картины мира являются неявные смыслы, их обнаружение, как правило, требует детального семантического анализа», – пишет А.Д. Шмелев, по мнению которого особый интерес представляют конфигу-рации смыслов, которые повторяются в качестве фоновых в целом ряде языковых единиц [5].
Семантический анализ 643 фразеологических единиц, отобранных методом сплошной выборки из литературы для детей, показал, что осо-бое место в построении наивной картины мира, создаваемой средствами фразеологии, занимают такие концепты, как «время», «пространство» и «человек». Концепт «человек» репрезентируется фразеологическими единицами с различных сторон: внешность, умственные, психические и психологические особенности, внутренние качества, чувства, эмоции, от-ношения между людьми и др.
Тема пространственной беспредельности является общим местом всех представлений о России и русском национальном характере. При этом «про-стор в русской языковой картине мира может противопоставляться как тесноте, так и уюту; в одном случае большие пространства (когда ничто не давит, не стесняет) представляются как большая ценность, в другом ассоции-руются с опасностями и дискомфортом» [4]. С.Д. Лихачев писал: «Широкое пространство всегда владело сердцем русским» [5, с. 38]. Пространствен-ные представления в наивной языковой картине мира создаются с помощью таких единиц, как белый свет, за тридевять земель, куда Макар телят не гонял, вдоль и поперек и др. Из приведенных примеров видно, что для рус-ского национально-специфичного представления, характерно видение про-странства как чего-то необъятного, масштабного, просторного. В концепте «пространство» мы выделяем несколько микроконцептов, вербализуемых фразеологизмами, содержащимися в произведениях детской литературы:
1) безграничность: конца (и) краю не видно, свет Божий, белый свет и др.;
189
2) близость и удаленность: в двух (нескольких) шагах, под носом, к самому носу, перед лицом, за тридевять земель, на краю земли (света), куда Макар телят не гонял и др.;
3) расположение в пространстве: над головой, под ногами, со всех сто-рон, куда ни глянь и др.;
4) направление движения: взад и вперед, из угла в угол, из стороны в сторону, туда-сюда, то тут, то там, вдоль и поперек и др.;
5) неопределенное направление: на все четыре стороны, куда глаза глядят и др.
Как составляющие концепта «время» в русской языковой картине мира выделяются группы понятий: время суток, календарь, этикетные формулы. В наивной языковой картине мира ребенка концепт «время», согласно нашим исследованиям, репрезентируется средствами фразеоло-гии наиболее широко. Выбранные нами фразеологические единицы так-же представляют несколько микроконцептов:
• Скорость выполнения действий, течения процессов: в два счета, в две минуты, в одну секунду, в одну минуту, в мгновение ока, в несколько минут, не по дням, а по часам, оглянуться не успела, ахнуть не успела, не теряя времени, одна нога здесь, другая там и др.;
• Продолжительность: битый час, весь век, всю жизнь, во веки веков, до скончания века, несколько минут (секунд), от зари до зари, долго ли, коротко ли, день и ночь и др.;
• Последовательность: год за годом, век за веком, с каждой минутой, к тому времени и др.;
• Периодичность, частота: все время, всякий час, время от времени, то и дело, изо дня в день, каждую минуту и др.;
• Указание на давность: в старые годы, давным-давно, в прежние вре-мена, в ту пору, седая древность и др.;
• Указание на время суток или дни недели: на ночь глядя, с солнцем, на днях, со дня на день, чуть свет и др.
Языковая модель человека включает в себя множество составляющих, которые условно можно разделить на две группы: первая группа вклю-чает концепты, которые характеризуют человека с физической (внешней стороны), вторая – с психической (внутренней) стороны.
Фразеологические единицы, характеризующие внешность человека, как правило, не содержат прямого указания на те или иные внешние при-знаки: радовать глаз, к лицу, с виду, как на подбор, затрапезный вид и др. Однако встречаются и такие единицы, которые дают представление о конкретных чертах внешнего облика человека – писаная красавица, крас-ная девица, грудь колесом и др. К физическим характеристикам человека можно отнести также и указание на возраст: войти в силу, в первой моло-дости, не первой молодости и др.
190
Психическая сторона связывается нами с такими фразеологическими единицами, которые характеризуют умственные способности человека, его внутренние качества, такие, как доброта, гуманизм и другие, психологиче-ские особенности, такие, как воля, память, темперамент и т.д., а также чув-ства и эмоции человека. Соответственно можно выделить микроконцепты:
Ум (с положительной коннотацией): семи пядей во лбу, взять в толк, с головой, голова на плечах и др.
Ум (с отрицательной коннотацией): белены объелся, не в своем уме, выжить из ума, остаться в дураках, каша в голове, без головы, с пыльцой в голове, пружина в мозгу лопнула, без царя в голове и др.
Характер: в ус не дуть, выкинуть штуку, была не была и др.Внутренние качества: Положительные• Душевность: душа нараспашку, от души, всей душой;• Терпимость: никто слова не скажет;• Старание: из кожи лезть вон;• Внимание: держать ухо востро, ловить каждое слово, не спускать
глаз, не смыкать глаз, раскрыть рот и др.;• Самостоятельность: становиться на крыло, сам по себе; • Смелость: собраться с духом, иметь присутствие духа, постоять
за себя, держать оружие, держать ответ и др.;Отрицательные:• Любопытство: совать нос;• Бесшабашность: без царя в голове, ветер в голове, витать в облаках;• Зазнайство: задирать голову, воротить нос, задирать нос, плевать
на всех и др.;• Лень: считать ворон, гонять лодыря, бить баклуши и др.;Большой и разнообразной по семантике и структуре группой фразео-
логизмов представлены микроконцепты чувств и эмоций человека: • Волнение: вздрогнуло/ дрогнуло сердце, в горле пересохло, как на
иголках, кусок в горло не лезет, холодок под сердцем, удар (чуть не ) хва-тил и др.;
• Страх: душа в пятки ушла, колени дрожат, ни жив, ни мертв, серд-це упало, страх нашел, чуть (еле) живой, чуть (еле) дышит, язык при-мерз, язык заплетается.
• Удивление: глаза на лоб полезли, кто бы мог подумать, не верить собственным глазам, раскрыть рот и др.;
• Счастье: не помнить себя от счастья, на радостях, на счастье, рот до ушей, сердце прыгает и др.;
• Восхищение: глаз не оторвать, голову вскружило, глаз не сводить, дух захватывает, и сказать нельзя и др.;
• Печаль, огорчение, обида: в слезах, в три ручья, голову повесить, дать реву, закусить губы, обливаться горючими слезами, слезы градом и др.;
191
• Растерянность: голова (идет) кругом; потерять голову;• Сожаление: к сожалению, на ту беду, хоть плачь и др.;• Недоверие, сомнение: бабушка надвое сказала, вилами на (по) воде
писано, не верить собственным ушам, не верить (собственным) глазам, на поверку, где уж там, где тебе и др.;
• Доверие: принимать на веру;• Любовь: потерять голову, предложить руку и сердце, просить руки
и др.;• Жалость: сердце сжалось (сжимается);• Стыд: совесть грызет;• Недовольство, возмущение: до белого каления, ни дна, ни покрышки,
поди-ка ты, что ты будешь делать и др.Фразеологизмы, содержащиеся в произведениях для детей, дают ши-
рокие возможности для формирования картины мира в сознании носите-лей языка, позволяют глубже осознать его национальную специфику. В языке, в системе характерных для него образов, эталонов, стереотипов, символов, опредмечено мировидение народа и его миропонимание, осоз-наваемые в контексте культурных традиций. Язык не только отображает действительность, но и выражает отношение к ее фрагментам с позиций ценностной картины мира, воспроизводит из поколения в поколение культурно-национальные установки и традиции народа.
ЛИТЕРАТУРА:1. Воркачёв С.Г. Методологические основания лингвоконцептоло-
гии // Теоретическая и прикладная лингвистика: Межвузовский сборник науч. трудов. Вып. 3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. – Во-ронеж, 2002. – С. 79–95.
2. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. Под. ред. Б.А. Серебренникова. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
3. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М.: Акаде-мический Проект, 2001. – 990 с.
4. Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира и межкультурная коммуникация: Тезисы пленарного доклада на II Между-народной конференции РКА «Коммуникация: концептуальные и при-кладные аспекты» («Коммуникация – 2004») URL: www.russcomm.ru.
5. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к слова-рю. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 224 с.
Konovalenko Irina Vladimirovna, Petrenko Elena Evgeniyevna
KEY CONCEPTS OF THE LINGUISTIC WORLD-IMAGE VERBILIZED WITH THE USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE
192
A linguistic world-image, a concept, phraseological units, national and cultural speci-ficity.
The article considers the concepts and micro concepts of the linguistic world-image that are verbalized with the help of phraseological units of the Russian language. Ana-lyzing the phraseological material, the author defines the concepts that arewidely pre-sented in the naive linguistic world-image, enabling native speakers to understandthe features of a national language and culture.
Сунь Чжэньцянаспирант Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина Москва, Россия
ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КИТАЙСКИХ ГИДОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРБИЗНЕСЕ
Дискурс, дискурсные маркеры, гид, дискурсивная компетенция.
В статье рассматривается содержание формирования дискурсивной компетен-ции в курсе обучения РКИ. Основным способом является преобразование письмен-ного текста в устный дискурс. Формируются умения уместно использовать дис-курсные маркеры в следующих функциях: структурирование и интерпретация.
Формирование дискурсивной компетенции китайских гидов входит составной частью в проблематику «международный турбизнес в Китае». С этой целью мы представляем следующую информацию:
• современное состояние турбизнеса в Китае; • государственная политика развития международного туризма; • растущая потребность в кадрах квалифицированных гидов;• подготовка специалистов по РКИ в китайских вузах;• учебники по РКИ для гидов;• устный дискурс и дискурсные маркеры в профессиональной речи гида; • формирование дискурсивной компетенции.
Современное состояние турбизнеса в КитаеВ последние годы в Китае бурно развивается туризм. Китай превра-
щается в одну из самых мощных туристских держав мира. Китай при-
193
влекает своей древнейшей историей, богатыми природными красотами, и главное, стабильной политикой и экономикой. Известно также, что Китай является безопасной страной для иностранцев. Китайский народ, по своей природе, радушный и гостеприимный, к россиянам относится особенно дружелюбно.
В развитии инфраструктуры туризма китайское правительство вкла-дывает большие средства, в результате появилось много новых мест от-дыха, построили новые отели, открылись новые авиалинии. Для России и многих других стран – безвизовый режим.
Показателем посещения Китая иностранными туристами является их всевозрастающее количество. Согласно статистике Государственного Управления по делам Туризма КНР, в 2015 году Китай принял 25.98 млн. иностранных туристов, в том числе 1.6 млн. русских [6], [3, с. 1].
Государственная политика КНР в развитии международного туризмаПосле китайских реформ 90-х гг. и политики «открытых дверей», коли-
чество иностранных туристов увеличивается с каждым годом. Этому спо-собствовало также проведение массовых международных мероприятий: Пекинская летняя Олимпиада, Шанхайское международное Экспо и др.
В российско-китайских отношениях развитию международного ту-ризма в Китае уделяется большое внимание на самом высоком государ-ственном уровне. Об этом свидетельствует заключение целого ряда меж-государственных соглашений.
Было заключено «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безви-зовых групповых туристических поездках [5, с. 3].
Кроме того, было еще два события, которые позитивно повлияли на развитие международных обменов между Россией и Китаем в сфере ту-ризма: «Соглашение КНР и РФ о предоставлении России статуса «Офи-циального Туристского Направления» (ОТН)»; «Меморандум о сотруд-ничестве между некоммерческим партнерством «Объединение междуна-родной интеграции в туризме «Мир без границ» и Китайской ассоциаци-ей туристских компаний» [5, с. 3].
Растущая потребность в кадрах квалифицированных гидовВ связи с ростом числа русскоязычных туристов в китайской туринду-
стрии возникло много проблем, и главная среди них – недостаток кадров со знанием русского языка. Однако, известно требование ЮН ВТО о том, что во всех странах обслуживание в туркомплексах должно осущест-вляться на языке клиентов.
Для качественного обслуживания в Китае 1,6 млн. русских туристов в настоящее время ощущается недостаток квалифицированных кадров в частности русскоговорящих гидов.
194
Подготовка специалистов по РКИ в китайских вузахВ Китае подготовка студентов по специальности «русский язык» ве-
дется в 120 вузах, где обучается более 25 тысяч студентов.В настоящее время в некоторых вузах открыта специализация для
подготовки гидов по РКИ.Приведем для примера учебные программы нескольких китайских
вузов:Чанчуньский университет (http://www.cctourcollege.com)
1 грамматика русского языка2 фонетика русского языка3 чтение4 говорение5 страноведение (РФ)6 теория перевода7 перевод8 политика и законодательство в туризме9 русский язык в туризме10 международные коммерческие переговоры
Перечень предметов позволяет сделать вывод, что в данном случае ведется подготовка сотрудников турбизнеса для работы переводчика на международных коммерческих переговорах в сфере туризма.
Маньчжурский институт русского языка (http://ey.mzlxy.cn/articleinfo/detail_7_19_212.aspx)
1 наука о туризме2 политика и законодательство в туризме3 экономика в туризме4 география туризма5 менеджмент6 управление турфирмой7 управление гостиницей8 функция гида9 психология в туризме10 русский язык основной курс (4 года)
В данном вузе готовят управленцев для работы в турбизнесе.На основе вышесказанного можно сделать вывод, что подготовке ги-
дов пока уделяется недостаточно внимания.
Учебники по РКИ для гидовВ последние годы в Китае вышло несколько учебников по РКИ для
гидов: «Курс для гидов» Чжан Хуэйцинь, 2007г.; «Аудиолингвальный
195
курс русского языка для гидов-переводчиков», Дяо Кэмань, Сунь Да-мань, 2009г.; «Экскурсия по острову Хайнань» Е. Цинлин, Сюй Ланьчжы, 2010г.; «Русский язык основной курс – туризм 1, 2, 3», Жун Цзе, Чжао Вэй, 2010г. [4, с. 2].
Следует подчеркнуть, что эти учебники написаны специалистами, от-лично владеющими русским языком. Они отражают реальную деятель-ность гидов с диалогами, которые можно использовать в работе с тури-стами. Для проведения экскурсий имеются описательные тексты стра-новедческого характера. Кроме этого, гиды также пользуются текстами путеводителей, материалами из научной литературы и Интернета.
Таким образом, можно сделать вывод, что эти учебники формируют следующие компетенции: языковую, социокультурную, социолингвистиче-скую, однако, среди них отсутствуют дискурсивная, социальная и компен-саторная, которые в сумме составляют коммуникативную компетенцию [2].
Устный дискурс и дискурсные маркеры в профессиональной речи гидаАнализ деятельности гидов на объекте показал, что заучивая наизусть
страноведческие тексты, гиды представляют их в таком виде группе ту-ристов, не умея преобразовать в устное высказывание.
Опыт подтверждает, что письменный текст с трудом воспринимается на слух, следовательно, эффективность экскурсии резко снижается.
Задача гида – развить свои умения устного дискурса, что должно стать специальной задачей в обучающих материалах.
Дискурсные маркеры – это специальные единицы в дискурсе, которые регулируют процесс общения, обеспечивают связность речи и выражают отношение говорящего к адресату или к ситуации, о которой идет речь, его намерения, предположения и эмоции. Иначе говоря, дискурсные мар-керы выполняют функции структурирования и интерпретации [1, с. 7].
Они являются сигналами для слушателей, облегчающими восприятие информации.
Сложность их в употреблении состоит в том, что это слова в неиз-меняемой форме, которые не образуют единый лексико-грамматический класс слов, относятся к разным частям речи.
Приведем несколько примеров. Структурирование:
1. Начало рассказа• начнем…• с самого начала…• хотелось бы начать с того, что…
2. Последовательность • мы уже говорили о…, а сегодня мы будем говорить о…• сначала…, затем…, потом…
3. Завершение
• вот и всё…• к сожалению, наша прогулка подошла к концу.• мне было приятно с вами пообщаться.• на этом наша экскурсия закончена.
196
Интерпретация:1. Акцентирование/ подчёркивание • А именно;
• особенно;• особое внимание при этом уделяется; • не исключено, что;
2. Вывод • в (конечном ) итоге;• в конце концов; • в результате;
3. Добавление • а ещё; • кроме того,что; • кстати;
4. Комментирование • при этом нельзя не;• нельзя не отметить; • хотелось бы отметить;• нет сомнения в том, что;
Обучение, связанное с формированием умений вести устный дискурс, включает в себя несколько аспектов:
• овладение необходимым набором дискурсных маркеров;• преобразование письменного текста в устный дискурс с использова-
нием дискурсных маркеров.
ЛИТЕРАТУРА:1. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискур-
сивным словам русского языка. М., 1993. – С. 7.2. Волкова Т.Г., Корчагина Е.Л., Кузнецов А.Л., Орлова Е.М., Самуйло-
ва Н.И., Степанова Е.М., Трушина Л.Б., Чеботарев П.Г. Пороговый уро-вень русский язык том I повседневное общение / – Совет Европы Пресс, 1996. – С. 20, С. 40–42.
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-вительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках. – URL: http://visit-russia.ru/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-pravitelstvom-kitayskoy-narodnoy-respubliki.
4. Чжэньцян С. Преобразование письменного текста в устный дис-курс в курсе обучения РКИ для китайских гидов (постановка проблемы), 2014. – С. 1.
5. Чжэньцян С. Формирование коммуникативной компетенции в рус-ском языке как иностранном для работы гидом в сфере турбизнеса Китая (магистерская диссертация), 2012. – С. 3.
6. China National Tourism Administration. – URL: http://www.cnta.gov.cn/zwgk/lysj/201601/t20160118_758408.shtml.
197
Sun Zhenqiang
DISCURSIVE COMPETENCE OF CHINESE TOUR GUIDES IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES
IN THE TOURIST BUSINESS
Discourse, discourse markers, guide, discursive competence.
The article discusses the content of the discourse competence formation in the course of training Russian language like a foreign language. The main method is to convert written text in oral discourse. Formed the ability to use appropriate discourse markers in the following functions: structuring and interpretation.
Цалко Татьяна Васильевна канд. филол. наук, доцент
Южного федерального университета Ростов-на-Дону, Россия
ОБ ОСНОВНЫХ ЧЕРТАХ ИДИОСТИЛЯ ЖУРНАЛИСТА ИРИНЫ ПЕТРОВСКОЙ
Идиостиль, Ирина Петровская, прецедентные тексты, средства создания иро-нии, оценочная лексика.
В статье рассматриваются особенности идиостиля Ирины Петровской, жур-налиста «Новой газеты».
Интерес лингвистов к изучению идиостиля журналистов наблюдается сравнительно недавно, он вызван все возрастающей ролью в обществе средств массовой коммуникации и их влиянием на речевое поведение ре-ципиентов СМК. Под идиостилем журналиста мы понимаем не только индивидуальный отбор и особенности употребления автором языковых средств, но и взгляды, мировосприятие журналиста, отношение его к миру, его эстетические принципы, которые находят отражение в публи-цистических текстах. Безусловно, анализируя идиостиль журналиста, нельзя не учитывать и редакционную политику издания, в котором рабо-тает автор текстов, но у ярких публицистов индивидуальный стиль всегда можно увидеть [1].
Материалом нашего исследования послужили тексты журналиста и телекритика Ирины Петровской, опубликованные в «Новой газете» с 2011 по февраль 2016 года включительно. В телеобозрениях Петровская
198
не только затрагивает частные проблемы современного российского ТВ, но и акцентирует внимание читателей на социальных и политических проблемах нашей страны в целом. Журналист открыто выражает свою гражданскую позицию и пытается заставить читателя/зрителя критиче-ски посмотреть на политическую, социальную жизнь в стране, показать, какими грязными методами «укрепляют государственность» с помощью телевидения. И.Е. Петровская доказывает, что нередко СМК манипулиру-ют аудиторией, в результате страдает не только имидж профессии, репу-тация журналиста, но и зритель, которому предлагают необъективную и одностороннюю информацию. Без сомнения, доминирующее личностное начало, открытая социальная оценочность, субъективизм текстов про-является в языке материалов, отражает специфику языковой личности И. Петровской.
Какие специфические черты идиостиля проявляются в публикациях И. Петровской в «Новой газете»? Доминирующей чертой индивидуально-го стиля журналиста является ироничность, которая создается с помощью различных приемов: стилистического контраста (использования разно-стилевой лексики в одном контексте: постигая пофигизм, скукоживает-ся это могущество), различных тропов и фигур. Столкновение в тексте устаревшей и новой, в том числе окказиональной, лексики также является средством создания иронии: «А наш «премьерзидент» – парень хоть куда. Веселый, находчивый. Хохочет вместе с подданными». Нередко Петров-ская наделяет и героев своих публикаций ироничными характеристиками, например, Бабкина и Кадышева у нее – поборницы русской духовности, а Виталий Алексеев – весь светится от снизошедшей на стольный град благодати. Ироничность как стилеобразующая черта всех текстов И. Пет-ровской подчеркивает критичность мышления автора и позволяет журна-листу дать максимально объективную оценку всему происходящему на от-ечественном ТВ, приобщить адресата к собственному видению мира: «Ах какой яркий, какой выдающийся креатив продемонстрировали в главных государственных телеитогах страны. Ах какой титанический труд про-делали, раскопав в архивах публикацию десятилетней почти давности, тогда, между прочим, мало кем замеченную» [3].
Еще одна характерная черта идиостиля журналиста – прецедентность. Во всех телеобозрениях И. Петровская использует прецедентные тексты (например, цитаты из кинофильмов: «А теперь – Горбатый! Горбатый, я сказал!» Грозный рык майора Жеглова в исполнении Владимира Высоцко-го из сериала «Место встречи изменить нельзя» помнят в нашей стране все – от мала до велика». Чаще всего публицист использует фразеологи-ческие единицы, пословицы, поговорки, причем как в исходном, так и в переработанном виде: «Чья бы корова мычала, а Развозжаева бы молча-ла», «Свинья, как говорится, грязи найдет», «Для дам постарше важно, чтоб не пил, не курил, чтоб цветы всегда дарил. А с лица воду не пить».
199
Умело обыгрывает строчки из художественных произведений: «Слона на ходу остановит и хобот ему оторвет». Конечно, такие тексты рассчи-таны на подготовленную аудиторию, которая прекрасно владеет русским языком, знает оригинальные тексты. Основная цель журналиста – вы-звать у адресата нужные ассоциации и убедить его в своей правоте.
Доминирование личностного начала в публицистике Ирины Петров-ской приводит к использованию большого количества экспрессивной и оценочной лексики: зловредный Запад, горестный день, ликующий го-лос из телевизора, звероподобное телевидение, помоечное ток-шоу. Или: «Это кровавый шоколад», – завывал метафоричный Проханов. «Тимо-шенко – змеюка подколодная» – рычал темпераментный Доренко. «Нет никакой Украины – есть бывшая Украина», – подвякивал им некий никому не известный «политический консультант» [4]. Однако эмоциональность и субъективная оценочность в текстах Петровской нередко превалирует над логичностью и рассудительностью, в том числе и в аргументации.
Во всех текстах автор использует разговорную тональность, чтобы создать доверительные отношения с читателями, поэтому частотны вво-дные и вставные конструкции, восклицательные предложения, вопро-сно-ответные комплексы, обильное цитирование: Отвечая на вопрос Прилепина об отношении к Макаревичу и другим коллегам по цеху, заняв-шим проукраинскую позицию, лидер группы «Любэ» рубит по-простому: «Меня иногда раздражает, почему у людей не хватает мозгов понять? Тупые, что ли?» При этом он «по нашему телевидению не слышал каких-либо злобных фраз об украинцах… Мы, наоборот, болеем за то, что там происходит… Есть ощущение заговора против нашей страны». Однако ж, оправдывая звание самой патриотичной группы, резюмирует: «Наше дело правое, победа будет за нами» [2].
Своеобразна и композиция телеобозрений. Нередко они обрываются, остаются как бы незавершенными. Этот прием журналист использует для того, чтобы читатель смог подумать над прочитанным, сформулировать свое отношение к происходящему в жизни и на телеэкране.
Все названные языковые и неязыковые особенности характерны для всех текстов Ирины Петровской, что позволяет рассматривать их в каче-стве идиостилевых.
ЛИТЕРАТУРА:1. Кормилицына М.А., Сиротинина О.Б. (Саратов, Россия). Идио-
стиль публициста. Статья первая. Медиалингвистика. 2014. Междуна-родный научный журнал. № 2(5). С. 40–48.
2. Петровская И. Любимая группа Путина назначена на РЕН ТВ от-ветственной за патриотизм // Новая газета. № 20 от 26.02.2016. URL: http://http://www.novayagazeta.ru/columns/71994.html. Дата обращения – 27.02.2016.
200
3. Петровская И. Российские телеканалы, видимо, не намерены скла-дывать оружие // Новая газета. № 125. от 02.11.2012. URL: http://www.novayagazeta.ru/columns/55247. Дата обращения – 27.02.2016.
4. Петровская И. Российские телеканалы, видимо, не намерены скла-дывать оружие // Новая газета. № 58. от 30.05.2014. URL: http://www.novayagazeta.ru/columns/63810. Дата обращения – 27.02.2016.
5. Сиротинина О.Б., Кормилицына М.А. (Саратов, Россия). Идио-стиль журналиста. Статья 2. 25 Медиалингвистика. 2015. Международ-ный научный журнал. № 1(6). С. 25–33.
Tsalko Tatyana Vasilyevna
MAIN PECULARITIES OF INDIVIDUAL STYLE OF THE JOURNALIST IRINA PETROVSKAYA
Individual style, Irina Petrovskaya, precedent texts, irony creation tools, evaluative vo-cabulary.
The article describes the individual style pecularities of Irina Petrovskaya, a journalist from the Novaya Gazeta newspaper.
201
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПУБЛИЦИСТИКИ
Земляник Татьяна Валерьевна аспирант Белорусского государственного университета
Минск, Белоруссия [email protected]
РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ АВТОРА В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ
Б. ПАСТЕРНАКА К М. ЦВЕТАЕВОЙРечевой портрет, эпистолярный текст, автор, адресат, коммуникативные тактики.
В статье представлен фрагмент речевого портрета Б. Пастернака с точки зрения использования типичных для речи поэта коммуникативных тактик воз-действия на адресата, формирующих образ автора и отражающих его отноше-ние к собеседнику. Материалом исследования послужили эпистолярные тексты Б. Пастернака к М. Цветаевой.
Поведение человека, направляющего свои действия на взаимодей-ствие с миром, породило антропоцентризм в современной науке, что в свою очередь вызвало необходимость изучения лингвистами языковой личности. Г.В. Ейгер утверждает, что «введение понятия личности в лингвистику означает возможность говорить о том, что язык принадле-жит, прежде всего, личности, осознающей себя и свое место в мире, свою роль в практической деятельности и языковом общении, свое отношение к принятым принципам и конвенциям видения дискурса, творчески ис-пользуя их в своих предметных и речевых действиях» [1, с. 56].
Данное исследование посвящено воссозданию фрагмента речевого портрета Б. Пастернака, гениального поэта, переводчика, лауреата Но-белевской премии в области литературы, с точки зрения использования типичных для речи Б. Пастернака коммуникативных тактик воздействия на адресата, формирующих образ автора и отражающих его отношение к собеседнику. Материалом исследования послужили эпистолярные тек-сты Б. Пастернака к М. Цветаевой. Языковое своеобразие писем Бориса Пастернака не раз отмечалось, но до сих пор не было глубоко изучено. В этом заключается актуальность нашего исследования.
Довольно часто в эпистолярных текстах Бориса Пастернака исполь-зуется тактика самоуничижения. В большинстве случаев в эпистолярии
202
Б. Пастернака тактика самоуничижения служит для создания несимме-тричного положения коммуникантов. Автор не только признает свою по-зицию слабой, но и использует различные коммуникативные ходы для создания такой позиции для себя и сильной для адресата. Цель подобного коммуникативного поведения, как мы считаем, заключается в желании автора создать наиболее успешные условия для восприятия предоставля-емой им информации, при этом следует учитывать специфику эпистоляр-ной коммуникации, одна из особенностей которой – дистантность обще-ния. Неуспешность использованной тактики может привести к тому, что письмо не будет прочитано или же переписка будет прервана вовсе.
Угнетала она [статья Цветаевой о Пастернаке] меня тем, что хо-рошо зная за собой полную мою неспособность быть или только вообра-жать себя человеком всегда и во всякое время, я справедливо боялся, что долго еще моя благодарность, родясь в неблагодарную для меня пору, останется моей тайной и дойдет до Вас с таким запозданьем, что ни-чего уже Вам не скажет и не даст [3, с. 409].
В данном контексте представлено несколько типов тактик, первая из которых, самоуничижение, реализуется посредством предваряющего ком-муникативного хода «указание на нестабильное эмоциональное состояние автора», а затем употребляется высказывание со значением несостоятель-ности адресанта, полностью приводящее тактику в исполнение. Вслед за этим автор имплицитно выражает благодарность адресату за совершенное действие: он не высказывается прямо, а говорит как о событии должном со-стояться в будущем (в следующей части письма). В высказывании импли-цитно выражается оправдание за позднюю реакцию на статью. Маркерами названной тактики являются следующие конструкции: я справедливо боялся; в неблагодарную для меня пору; дойдет до Вас с таким запозданьем.
Тактика самоуничижения в письмах Б. Пастернака нередко сочетается с тактикой самообвинения.
Я во многом перед Вами виноват. И запоздалость ответов против других грехов еще вина последняя. Но как-то странно, как раз в тех слу-чаях, когда ответ на многое в Ваших письмах вырывается за их чтени-ем безотчетно, восклицаньями, – ответные письма залеживаются и не удаются [3, с. 569].
Письмо от 16 августа 1925 года начинается с простой конструкции эксплицитно выражающей значение самообвинения. Автор обвиня-ет себя в ответе на письма адресата с опозданием, но смягчает степень вины, указывая на существование более серьезных провинностей перед адресатом. Тактика самообвинения сменяется тактикой похвалы письмам адресата, вызывающим сильные и искренние эмоции, иллокутивная сила которых смягчает самообвинение. Далее автор переходит к тактике само-уничижения в сочетании с приемом контраста: письма автора не удаются в отличие от писем адресата.
203
Просьба о прощении (извинение) – тактика, при которой позиции автора и адресата являются несимметричными, при этом слабую пози-цию занимает автор. Он представляется виновным в каком-либо проступ-ке и находится в значительно более низком положении, нежели адресат. Автор избирает такие коммуникативные ходы и речевые средства для их реализации, которые позволят получить прощение и занять симметрич-ную относительно адресата позицию.
Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем ря-дом иду. Как могло случиться, что, слушав и слышав Вас неоднократно, я сплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой… [3, с. 389].
Следующая тактика – тактика жалобы, как и в предыдущем случае, выражается прямо.
Я жалуюсь всеми сердечными мышцами, я жалуюсь так полно, что если бы, купаясь, я бы когда-нибудь утонул, ко дну пошла бы трехпудо-вая жалоба о двух вытянутых руках, – я жалуюсь на то, что никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя, ни, значит, и себя, и жизни, если бы вы были единственными женщинами мира, т.е. если бы не было вашей сестры миллионов; я жалуюсь на то, что Адама в Бытии не чувствую и не понимаю: что я не знаю, как у него было устроено сердце, как он чувствовал и за что жалел [43, с. 719].
Данный контекст предваряет информация о вынужденном пребыва-нии в городе, что вызывает отрицательные эмоции адресанта (недаром автор пишет об этом летом 1926 г. в нескольких письмах). Иллокутивная сила данной ментальной интенции заключается в сообщении адресату собственного эмоционального состояния, для чего автор употребляет анафоричную конструкцию, состоящую из личного местоимения в 1 л., ед.ч. и глагола жаловаться в форме настоящего времени (повторяется че-тыре раза). Также адресант использует различные модификации лексем со значением жалобы: жалуюсь, жалоба (существительное приобретает еще более высокую степень проявления, т.к. определено эпитетом трех-пудовый), жалел. Неодушевленное существительное жалоба переходит в разряд одушевленных по причине отождествления ‘я = жалоба’ и на-деления значения лексемы дополнительными антропоморфными призна-ками: трехпудовая жалоба о двух вытянутых руках. В значении жалобы употреблен глагол жалеть. С целью подчеркнуть превалирование чувства жалобы над другими для себя автор наделяет этим же чувством третье лицо (мифический персонаж, отсюда такое вольное обращение: наделяет выгодным для себя в данной ситуации эмоциональным состоянием).
Весьма частотным в письмах Б. Пастернака к М. Цветаевой является и такой прием воздействия на адресата, как признание в любви к гени-альному поэту и великой личности.
204
Стоит одному из них [рассказу] точно по недосмотру рассвета сле-теть и лечь на страницу, как тотчас же просыпается страшная сво-лочь, – письмо. Оно ничего не видит и не знает, у него свое возбужденье, оно сыплет своими запятыми. Только отвернулся, глядишь, а уж оно и любит, любит, – а я не хочу, чтобы письма любили Вас. Вы не поверите, сколько я их написал и уничтожил! Их было больше десятка. Но это, по-следнее, я отошлю и в том случае, если засамовольничает и оно. Пока же это еще мой голос [3, с. 481].
Для тактики «признание в любви» характерной является несимметрич-ность позиций автора и адресата. В слабой – находится первый, поэтому он стремится использовать коммуникативные ходы на повышение собствен-ной позиции. Так, в вышеприведенном контексте неодушевленное суще-ствительное письмо приобретает семантические признаки одушевлен-ности и выполняет функцию субъекта. Вводя нового субъекта действия, автор, можно сказать, «передает ему свои полномочия»: письмо просыпа-ется, не видит, не знает, у него свое возбужденье, оно сыплет своими за-пятыми, любит. Для автора эксплицитное выражение признания в любви – поведение неодобряемое, осуждаемое самим собой. На это указывают следующие маркеры: использование для характеристики субъекта-письма лексемы с грубо-просторечным значением в сочетании с определением, усиливающим это значение интенсивностью степени проявления призна-ка (страшная сволочь); сложноподчиненной изъяснительной конструкции, главная часть которой прямо выражает нежелательность осуществляемо-го действия, а подчинительная – указывает на действие (а я не хочу, что-бы письма любили Вас); восклицательной конструкции, указывающей на предполагаемый перлокутивный эффект от полученной информации о ко-личестве уничтоженных писем с признанием в любви к адресату (Вы не поверите, сколько я их написал и уничтожил! Их было больше десятка).
О письмо, письмо, добалтывайся. Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! [43, с. 483].
В заключительной части того же эпистолярного текста письмо не утрачивает грамматическое значение одушевленности, но обретает дру-гую функцию – адресата: автор использует повторное обращение, личное местоимение ты в винительном падеже. Далее происходит смена комму-никативного хода посредством смены субъекта действия: адресант хочет сказать несколько слов от себя (раньше говорило письмо). Эксплицитно выраженное признание в любви с обращением к адресату по имени пред-варяет неопределенно-личная конструкция, имеющее значение невоз-можности реализации данного чувства в связи с воздействием третьих лиц или обстоятельств (мне не дадут).
205
В данном исследовании нами был представлен фрагмент речево-го портрета автора с точки зрения характеристики наиболее частотных коммуникативных тактик воздействия на адресата. Полное исследование включает в себя следующие тактики, встречающиеся в эпистолярных текстах Б. Пастернака: приветствие, характеристика адресата, просьба о прощении (извинение), упрек, шутка, похвала, сверхпохвала, самоуничи-жение, благодарность, оправдание, самообвинение, выражение огорче-ния, пожелание, совет, признание в любви, мольба, признание во лжи, описание собственного эмоционального состояния, моделирование ситу-ации, осуждение, сравнение себя с адресатом, обещание, сожаление, вы-ражение чувства страха, жалоба, сочувствие, утешение, подбадривание, обида, выражение недоверия.
ЛИТЕРАТУРА:1. Ейгер Г.В. Язык и личность / Г.В. Ейгер, И.А. Раппорт. – Кострома:
К-Пресс, 1991. – 138 с.2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М. 2010. – 264 с.3. Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями в
одиннадцати томах. Том VII. Письма 1905 – 1926 / Б. Л. Пастернак. – Мо-сква: Слово / Slovo, 2005. – 824 с.
Zemlyanik Tatyana Valeryevna
SPEECH PORTRAIT OF AUTHOR IN EPISTOLARY TEXTS OF B. PASTERNAK TO M. TSVETAEVA
Speech portrait, epistolary text, author, addressee, communicative tactics.
The fragment of a speech portrait of Boris Pasternak will be submitted in this article. Speech portrait of poet is constructed on a typical speech tactics impact on the ad-dressee. Communication tactics form the image of the author and reflect his attitude to the interlocutor. Epistolary texts of Boris Pasternak to Marina Tsvetaeva are the material of the research.
206
Калугина Татьяна Васильевна канд. филол. наук, доцент Крымского инженерно-педагогического
университетаСимферополь, Россия
ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙВ ПОЭЗИИ Б.Л. ПАСТЕРНАКА
Ономасиология, внутренняя форма, цветообозначения, Б.Л. Пастернак.
В статье рассматривается роль внутренней формы слова в поэтическом твор-честве Б.Л. Пастернака.
Изучение языковой личности, которая стоит за текстом, позволяет по-новому посмотреть на внутренние взаимосвязи слов в поэтическом тексте. Согласимся с мнением Ю.Н. Караулова: «…Нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [1, с. 7].
Важным для исследователя представляется то, что в художественном тексте раскрывается ономасиологический и семасиологический потен-циал слова, актуализируются связи во внутренней форме слова, словам придаются новые смыслы.
В статье поставлена цель – изучить роль внутренней формы цветоо-бозначений в создании образа Борисом Леонидовичем Пастернаком.
Объектом рассмотрения являются единицы именования, во внутрен-ней форме которых содержится колоративный компонент.
Каждая ономасиологическая единица отражает какой-либо языковой смысл с помощью собственного ресурса именования. В русском языке Е.Н. Сидоренко выделяет 5 типов ономасиологических единиц, вербализу-ющих языковые смыслы: 1) слово; 2) предложно-падежную форму; 3) сло-восочетание особого типа, семантически эквивалентное слову; 4) лексию; 5) фразовый номинант [4]. Слово можно назвать синтетической ономасио-логической единицей; остальные единицы именования – расчлененными.
Каждый языковой смысл обладает собственной семантикой и мо-жет быть выражен рядом единиц именования, как однословных, так и расчлененных. В современной лингвистике отсутствует научно обосно-ванная теория ономасиологических единиц. В.М. Никитевич, который работал в области словообразования, осознавал важность учета «лекси-ческого значения» и говорил не только о «деривационном поле», но и о «номинативном поле». Как языковое явление, номинативное поле обра-зует номинативный ряд. Номинативный ряд – система единиц, которые, различаясь своей образующей структурой, соотносимы с одним и тем же
207
денотатом, поэтому могут служить названием одного и того же предмета, явления и, следовательно, способны замещать друг друга, выступая как коммуникативные эквиваленты» [2, с. 116].
Единицы именования цвета могут входить в состав нерасчлененных или расчлененных именований. По признаку производности они делятся на непроизводные и производные.
Цветообозначения мы делим по частеречной принадлежности базовой лексемы – начала деривационной парадигмы: 1) имена существительные; 2) имена прилагательные.
Цветообозначения на базе имен существительных далее делим на груп-пы: а) камень – цвет камня; б) металл – цвет металла; в) фитоним – цвет фи-тонима; г) вещество – цвет вещества, д) понятие – цвет, е) краситель – цвет.
Группа цветообозначений на базе названий камней у Б.Л. Пастернака включает ряды: агат – агатовый, алмаз – алмазный, жемчуг – жемчуж-ный, коралл – коралловый, лазурь – лазурный, рубин – рубиновый, сма-рагд – смарагдовый, янтарь – янтарный, яшма – яшмовый и др. В осно-ву номинации положен цвет камня: На чашечку с чашечки скатываясь, Скользнула по двум, – и в обеих Огромною каплей агатовою Повисла, сверкает, робеет [3, с. 34].
Номинация может быть прямой в значении «сделанный из камня» и переносной в значении «цвет камня». Для поэтической речи Б.Л. Пастер-нака характерно переносное использование в метафорах и эпитетах: Се-режек аметистовых И шишек из сапфира Нельзя и было выставить, Из-под земли не вырыв [3, с. 190]. Например, в метафорах «алмазы – роса», «брильянты – роса» актуализируются семы «ценность», «про-зрачность», «чистота»: Как полное слез Горло – глубокие розы, в жгучих, Влажных алмазах [3, с. 34]. В траве, на кислице, меж бус Брильянты, хмурясь, висли, По захладелости на вкус Напоминая рислинг [3, с. 61]. На этих же семах строится эпитет алмазный хмель: Но даже зяблик не спешит Стряхнуть алмазный хмель с души [3, с. 40].
Как мы видим, Б.Л. Пастернак не только активно использует прила-гательные со значением «цвет камня», но и сами названия камней у него предстают в значении «цвет». Происходит метонимическое развитие лек-сического значения по типу «камень» – «цвет».
Группа цветообозначений на базе металлов включает ряды: бронза – бронзовый, золото – золотой – золотить, медь – медный – медяшка, свинец – свинцовый, серебро – серебряный – серебря – засребриться и др. Формирование значения включает существительное «металл» – относи-тельное прилагательное «сделанный из металла» – качественное прила-гательное «цвет металла»: И хором, в ответ незнакомцу, Стотысячной бронзой о бронзу: Клянитесь! Клянемся! [3, с. 136]. Лексема бронзовый имеет значение золотисто-коричневый, цвет бронзы. Как бронзовой зо-лой жаровень, Жуками сыплет сонный сад [3, с. 166].
208
Свинцовый цвет у поэта использует при описании ненастья: Оконце и зерна лиловой слюды В свинцовых ободьях. То, застя двор, водой с вин-цом Желтил песок и лужи, То с неба спринцевал свинцом Оконниц полу-кружья [3, с. 61]. Ненастье, дымясь, как обоз, Задерживается по знаку, И месит шоссейный кисель, Готовое снова по взмаху Рвануться, осев до осей Свинцовою всей колымагой [3, с. 211].
На базе фитонимов образуются ряды лимон – лимонный, роза – ро-зан – розовый, кора – корица – коричневый, табак – табачный, шафран – шафранный и др.: …Сиренью моет подоконник Продрогший абрис лед-ника [3, с. 204]. Это ведь значит – пепел сиреневый, Роскошь крошеной ромашки в росе, Губы и губы на звезды выменивать! [3, с. 34]. Швыряя шафранные факелы С дворцовых пьедесталов, Она горящею паклею Се-дое ненастье хлестала [3, с. 178].
В эту же группу входят заимствования оранжевый, пунцовый, у ко-торых базовый фитоним лежал в основе номинации в языке-источнике.
Цветообозначения на базе веществ включают лексемы бордо (мест-ность – вино, произведенное в этой местности) – бордовый, гипс – гип-совый, кровь – кровавый – кровавиться, огонь – огненный, пепел – пепель-ный, перламутр – перламутровый, румяный – румянец – румяниться, са-хар – сахарный и др.: Впервые луна эти цепи и трепет Платьев и власть восхищенных уст Гипсовою эпопеею лепит, Лепит никем не лепленный бюст [3, с. 35].
С понятием связана уникальная этимология слова красный. Значение развивалось не традиционным путем из относительного прилагательного в качественное, а переходом из одного подразряда качественных прилага-тельных в другой. Коробка с красным померанцем – Моя каморка [3, с. 30]. Сквозь блузу заронить нарыв И сняться красной балериной? [3, с. 40]. И голая ненависть листьев и лоз Краснеет до корней волос [3, с. 138].
Перенос по модели «краситель – цвет» характерен для лексем пурпур-ный, червонный: Этот пурпур червца от меня независим [3, с. 63].
Б.Л. Пастернак в своем творчестве часто использовал слова со значе-нием «светло-синий, цвета незабудки», например: Лбы голубее олив [3, с. 75]. Нет сил никаких у вечерних стрижей Сдержать голубую прохладу [3, с. 190]. Оглянись и ты увидишь До зари, весь день, везде, С головой Москва, как Китеж, – В светло-голубой воде [3, с. 189].
Цветообозначения на базе имен прилагательных включают ядерную лексему, обозначающую цвет, и лексемы с семой `имеющий цвет чего-то`, `быть, становиться какого-либо цвета`, `покрывать цветом`. Напри-мер, багровый – багрянец – обагрить: И клевер бурен и багров В бордовых брызгах маляров [3, с. 40]. Это – запад, карбункулом вам в волоса За-летев и гудя, угасал в полчаса, Осыпая багрянец с малины и бархатцев [3, с. 64]. Того счастливейшего всхлипа, Что хлынул вон и создал риф, Кораллам губы обагрив И замер на устах полипа [3, с. 74].
209
На базе лексемы белый образуется ряд белый – белеть – белила – бе-лок – белокурый – белошвейка. Эта группа наиболее употребительна в лирике Б. Пастернака, внутренне ему близка, что доказывается частот-ностью лексем, включающих компонент бел-. В значении «цвета снега или мела» лексема белый сочетается с лексемами пламя, облако, отруби, бездна, вопли. В значении «светлый» со словом утро: И ночь побеждает, фигуры сторонятся, Я белое утро в лицо узнаю [3, с. 207].
На внутренней форме цвета строится игра слов: связанное сочетание белый свет трансформируется в сравнительную степень белей, которая превращается в название белой краски: Я больше всех удач и бед За то тебя любил, Что пожелтелый белый свет С тобой белей белил [3, с. 30].
В стихотворении «Анне Ахматовой» Б.Л. Пастернак вводит белый цвет сначала компонентом сложного слова, а далее развернет в образе бе-лой ночи и поэтессы: По ним ныряет, как пустой орех, Горячий ветер и колышет веки Ветвей и звезд, и фонарей, и вех, И с моста вдаль глядящей белошвейки [3, с. 208].
Так же активно Б.Л. Пастернак использует белый цвет как компонент связанных сочетаний: белый ключ, белая ночь, белый свет. Белая ночь является символом Петербурга, поэтому без этого образа нельзя описать город и поэтессу, связанную с ним – Анну Ахматову: Но самой страшной крепости раствор – Ночная даль под взглядом белой ночи [3, с. 208].
Компонент сизый входит в два окказиональных имени прилагатель-ных со значением оттенка цвета, образованных путем сложения, причем слово северный является относительным прилагательным и не может обозначать оттенок цвета. Однако у поэта соединяется его качественное значение – холодный и цвет: Они узнают тот, сиротский, Северно-си-зый, сорный дождь, Тот горизонт горнозаводский Театров, башен, боен, почт… [3, с. 170]. Осень. Изжелта-сизый бисер нижется [3, с. 64].
Как антоним к лексеме белый широко используется черный. Слово черный употребляется в поэзии Б.Л. Пастернака как в свободных, так и связанных словосочетаниях. Первичным, ядерным является значение, которое непосредственно отражает цветовую окраску в окружающем мире. Черными по цвету могут быть только конкретные предметы. Вто-рое значение вводит антонимию понятий черный как воплощение тьмы, мрака, смерти и белый как воплощение света, чистоты, жизни. Противо-поставление черного и белого в этих значениях характерно для поэта. Третье значение связано с темпоральным изменением цвета. То, что для Б.Л. Пас тернака характерно такое противопоставление черный – свет-лый, мы можем подтвердить примером, где черные котлы противопо-ставлены светоносному облаку: Летами тишь гробовая Стояла, и поле отхлебывало Из черных котлов, забываясь, Лапшу светоносного облака [3, с. 196]. Булки фонарей и пышки крыш, и черным по белу в снегу – ко-сяк особняка… [3, с. 174].
210
Еще одна антонимическая пара связана с противопоставлением чер-ного как дурного – хорошему. Так как в значения слова черный входит переносное значение «преступный, злостный», то и дурное окрашивает-ся в черный цвет. А зимы другую основу Сновали, и вот в этом крошеве Я – черная точка дурного В валящихся хлопьях хорошего. Черных имен духоты Не исчерпать [3, с. 55].
Производные глаголы со значением цвета формируются на базе ядер-ной семы цвета в окружающем пространстве: быть/становиться какого-ли-бо цвета, приобретать окраску какого-либо цвета. Они используются для обозначения языкового смысла «процесс»: Под ней проталины чернеют, И ветер криками изрыт, И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд. Из снега выкатив кадык, Он берегом речным чернеет [3, с. 187].
Связанные сочетания представлены словосочетаниями черный день, черная сотня, черный чай: Когда случилось петь Дездемоне И голос за-вела, крепясь, Про черный день чернейший демон ей Псалом плакучих русл припас [3, с. 37].
Можно сделать вывод о том, что внутренняя форма цветообозначений играет большую роль в поэтическом творчестве. Она позволяет описать ко-лоративный спектр языковой личности и ассоциативные связи, возникаю-щие в сознании Б.Л. Пастернака при создании образа. Эти связи охватыва-ют словообразовательный (узуальный и окказиональный), грамматический (морфологический – образование краткой формы и форм степеней срав-нения имен прилагательных, в том числе с нарушением грамматических норм; синтаксический – связанные словосочетания) и лексический (обра-зование метафор, связанные значения) уровни языковой системы. Таким образом, внутренняя форма позволяет связать их в единый узел.
ЛИТЕРАТУРА:1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. – 264 с.2. Никитевич В.М. Основы номинативной деривации. Минск, 1985. –
158 с.3. Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Переводы. М., 1990. – 544 с.4. Сидоренко Е.Н. Введение в теорию языковых смыслов : учебное
пособие. Симферополь, 2014. – 162 с.
Kalugina Tatyana Vasilyevna
THE INTERNAL FORM OF COLOR-NAMINGS IN POETRY OF B.L. PASTERNAK
Onomasiology, internal form, color names, B. L. Pasternak.
The article discusses the role of the inner form of the word in poetry of B. L. Pasternak.
211
Мартынюк Ольга Александровнааспирант Тольяттинского государственного университета
Тольятти, Россия[email protected]
РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРЦА ЗОСИМЫ КАК «ВНЕКОНФЛИКТНОГО»
ГЕРОЯ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Ф.М. Достоевский, роман, стилистика, конфликт, манипуляция, тактика, эмотив.
В статье автором выделен особый тип героя – «внеконфликтный», выявлены его речевая специфика и особенности поведения в конфликтной ситуации.
В художественном мире Ф.М. Достоевского нет цельности, гармо-нии, эпического спокойствия, его персонажи – бунтари, находящиеся в эпицентре хаоса и конфликта. Писатель изображает героев в кризисный момент их жизни, чтобы постичь все глубины человеческой души, найти ответ на вечные вопросы. Погружая персонажей (а с ними и читателя) в особые жизненные обстоятельства, Ф.М. Достоевский является одновре-менно и творцом, и созерцателем.
В романе «Братья Карамазовы» герои окружены конфликтами: семей-ным, внутриличностным, любовным, интеллектуальным и др. Причем сама среда конфликта становится для них жизненно необходимым усло-вием существования. Герои романа используют конфликтные ситуации не для поиска истины и справедливости, как может показаться вначале, а для осуществления давления на собеседника, поиска более слабого со-знания, которое можно подчинить и даже уничтожить. Таким образом, конфликт можно назвать естественным отбором, в ходе которого более «сильный» противник с помощью манипулятивных приёмов уничтожает более «слабого». Особенность данного явления в том, что побеждённый не всегда догадывается о своём поражении.
Однако истинным откровением Ф.М. Достоевского можно назвать создание «внеконфликтного» героя – борца с конфликтом, манипуляцией и демагогией. Причем его особенность не в том, что его сущность лишена конфликтного начала, а в том, что он способен удержаться от искушения вступить в конфликтную ситуацию. Таким героем в романе «Братья Ка-рамазовы» является старец Зосима. Чтобы постичь тайну бесконфликт-ности, вложенную в него Ф.М. Достоевским, читателю необходимо об-ратиться к языку самого романа и выявить специфические черты речи старца Зосимы и его речевому поведению.
212
1. Тактика молчания. Преподобный Серафим Саровский говорил: «…без нужды не говорить, разве бежит кто за тобою, чтобы услышать от тебя полезное», «…ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание…», «когда мы в молчании пребываем, тогда враг-диавол ничего не успеет относительно к потаенному сердца человеку…». В романе старец Зосима часто использует молчание в сложные и проти-воречивые моменты, когда небрежно сказанное слово может спровоциро-вать новую волну скандала и усугубить ситуацию: «молча разглядывал того и другого» [3, с. 41], «молчу я» [3, с. 323], «молча про себя молитву шепчу» [3, с. 323], «мыслю про себя» [3, с. 324].
2. Отсутствие лексики с отрицательной оценкой по отношению к участникам конфликта, к их действиям и словам. Известно, что по-добные лексемы пагубно влияют на характер ведения спора. «Не судите, да не судимы будете» – сказано в Писании, но, как можно заметить, в тек-сте романа даже монахи не всегда могут подавить в себе желание дать от-рицательную оценку происходящему: «Недостойнейшая игра слов для духовного лица! – не вытерпел и прервал опять отец Паисий» [3, с. 63], «Стыдно! – вырвалось вдруг у отца Иосифа» [3, с. 63]. В речи старца Зосимы читатель не найдёт коннотативов с отрицательным значением, каким бы провокациям он ни подвергался.
3. Уверенная интонация. Уверенный человек обладает авторитетом у окружающих. В речи старца Зосимы нет лексики с семантикой неуверен-ности. Отвечая на вопрос или советуя что-либо, он говорит четко, ясно, без колебаний и двусмысленности. «Идите и объявите, – прошептал я ему. Голосу во мне не хватало, но прошептал я твёрдо» [3, с. 324].
4. Контекстуальные эмотивы любви. У старца Зосимы особое от-ношение к всеобщей любви и ответственности людей друг за друга. Он говорит: «Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего», «любите человека и во грехе его» [3, с. 365]. Человек с больным самолюбием всегда ставит себя выше других, вследствие чего легко выходит на конфликт. Но тот, кто ставит своего со-беседника наравне с собой и даже выше себя, никогда не станет объектом конфликтной ситуации. Старец Зосима сводит столкновения на нет, про-ся прощения у своего слуги, у противника перед дуэлью, у враждующих между собой родственниками «одной семейки», сопровождая свои слова поклоном до земли, символизирующим, что каждый из нас «за всех и вся виноват»: «Простите, господа» [3, с. 46], «Простите! Простите все! – проговорил он» [3, с. 77], «…и вижу я, что этого мало…да вдруг, так как был, в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли: «Прости меня!» – говорю» [3, с. 313], «Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека» [3, с. 313], «Сам я хуже вас в десять крат» [3, с. 313], «старец поклонился…в ноги полным, отчётливым, со-знательным поклоном» [3, с. 77], «и с поклоном, повернувшись, сел…»
213
[3, с. 43]. Герой романа никогда не скрывает слёз, он всегда искренен и чуток: «…и заплакал я тогда, облобызал его» [3, с. 323], «душа моя была полна слёз» [3, с. 324], «и до того жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его» [3, с. 324], «хотел было я обнять и облобызать его, да не посмел» [3, с. 325], «бросился я тут на колени пред иконой и заплакал о нём» [3, с. 325]. Вы-деленные слова в контексте данного романа можно назвать эмотивами любви, которые являются средством завершения конфликта (это лексемы с семантикой прощения, а также слова «поклон», «облобызать», «пла-кать», «слёзы», «жалость», местоимения «вы», «он» в разных формах и их производные, а также коннотативная лексика с отрицательным значе-нием по отношению к себе в сравнении с собеседником).
Также к контекстуальным эмотивам любви можно отнести умышлен-ные лексические повторы «прошу вас», «не беспокойтесь», «будьте спо-койны», «не стесняйтесь» с семантикой заботы, нацеленные на создание спокойной обстановки через убеждение. Конфликт рождается из враж-дебной обстановки, чем больше разгорячаются и распаляются оппонен-ты, тем сложнее остановить конфликт. Именно поэтому старец Зосима старается внушить спокойствие всем нуждающимся.
5. Улыбка и эмотивы радости. С уверенностью можно сказать, что улыбка – лучшее оружие в конфликте. Старец Зосима всегда приветлив, весел, от него всегда исходит радость. «Алёшу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении» [3, с. 29]. В тексте эта особенность героя романа показа-на следующим образом: «с улыбкой произнёс» [3, с. 44], «обратившись к Фёдору Павловичу с весёлым лицом» [3, с. 46], «старец не обижен и весел» [3, с. 46], «приветливо вызывая продолжать» [3, с. 61], «слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах» [3, с. 77], «развеселила ты моё сердце» [3, с. 53], «улыбаясь и с нежностью благословил» [3, с. 60], «шутливо произнёс» [3, с. 60], «весело поглядел» [3, с. 53], «тихо и ра-достно отдал душу Богу» [3, с. 340].
Поведение старца Зосимы и его слова в романе оказывают положи-тельное воздействие на различных героев, так или иначе задействован-ных в конфликте: и на интеллектуала-атеиста Ивана Карамазова («тот вдруг встал со стула…принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на своё место» [3, с. 73]), и на несдержанного Дмитрия Фёдоровича («стоял несколько мгновений как поражённый: ему поклон в ноги – что такое? Наконец вдруг вскрикнул: «О Боже!» – и, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты» [3, с. 77]), и на «старого шута» Федора Павловича Карамазова (Это что же он в ноги-то, это эмблема какая-нибудь? – попробовал было разговор начать вдруг почему-то при-смиревший Фёдор Павлович, ни к кому, впрочем, не осмеливаясь обра-титься лично [3, с. 78]), и на денщика Афанасия (тут уж он и совсем
214
обомлел…и заплакал вдруг сам» [3, с. 313]), и на противника во время дуэли («Благоразумно всё это и благочестиво…извольте, я протяну вам руку…» [3, с. 314]).
Более того, беседы со старцем Зосимой оказывают действие на всех, кому удаётся с ним поговорить: «Входили в страхе и беспокойстве, а вы-ходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое» [3, с. 29].
Эпиграф романа об умершем зерне, приносящем плоды, отсылает нас к брату старца Маркелу, эпизодическому герою, который передал идею о всеобщей любви и ответственности каждого за грехи другого юному Зи-новию перед своей смертью: «Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!» [3, с. 303]. Так и потом старец Зосима, чувствуя скорый конец жизни, передаёт названному сыну Алексею «зерно бесконфликтности», благословляя его на служение вне монастыря: «Ты там нужнее. Там миру нет» [3, с. 79]. Таким образом, в глазах писателя старец Зосима (да и во-обще инок) – борец за мир, способный победить любой конфликт смире-нием, молчанием и всеобщею любовью. Неслучайно лексема «мир» име-ет два значения: первое относится к космическому пространству и всем формам жизни, а вот второе подразумевает отсутствие вражды, ссоры, войны (то есть любой формы проявления конфликта). Как гласит восточ-ная мудрость: «Идеальный бой – это тот бой, которого не было».
Зарождение идеи бесконфликтности в романе находим в поэме «Ве-ликий инквизитор» Ивана Карамазова: «Когда инквизитор умолк, то не-которое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник всё время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Ста-рику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его… Вот и весь ответ…» [3, с. 275]. Поведение Христа в поэме – образец для всех вовлечённых в конфликт. Старец Зосима, жизненным стремлени-ем которого является приближение к образу Христа, избирает для себя путь к бесконфликтной жизни, показанный Богочеловеком. Именно поэтому чи-татель видит сходные языковые единицы в поведении двух героев: лексе-мы «молчание», «тишина» и его однокоренные варианты, а также слова с семантикой поцелуя как средство выражения высшей формы любви.
Таким образом, причины успешного завершения разного уровня стол-кновений «внеконфликтного» героя состоят в уместном использовании тактики молчания, отсутствии лексики с отрицательной оценкой по от-ношению к собеседнику, уверенной и спокойной интонации, сохранении радостного настроения и улыбки на лице в течение всей конфликтной ситуации, равном отношении ко всем участникам конфликта, а также в появлении в речи эмотивов любви, с помощью которых писатель переда-ёт идею о всеобщем братстве, исключающем наличие конфликтов.
215
ЛИТЕРАТУРА:1. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском
языке / Л.Г. Бабенко. — Свердловск, 1989. — 184 с.2. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Тео-
рия и практика / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М., 2008. – 495 с. 3. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: Роман в четырёх частях с
эпилогом: Ч.1 и 2. – М., 1987. – 352 с.
Martyniuk Olga Aleksandrovna
THE SPEECH CHARACTERISTIC OF THE ELDER ZOSIMA AS «OUT OF CONFLICT» CHARACTER IN THE F.M. DOSTOEVSKY’S
NOVEL «THE BROTHERS KARAMAZOV»
F.M. Dostoevsky, novel, stylistics, conflict, manipulation, tactics, emotiv.
In article the author has allocated special type of the character – «out of conflict», its speech specifics and features of behavior in a conflict situation are revealed.
Шелкова Ирина Александровнаканд. филол. наук, старший преподаватель
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
ЗООНИМЫ В ПРОЗЕ А.Г. АЛЕКСИНАЗооним, мотивация, характеристика.
Зоонимы в повестях и рассказах А.Г. Алексина немногочисленны, но разнообраз-ны по структуре и мотивации; являются средством характеристики не только животных, но и людей, употребляющих эти клички.
Так как в произведениях А.Г. Алексина изображается преимуществен-но частная жизнь людей, живущих в городе, зоонимы немногочисленны и представляют собой в основном клички домашних (кошки, собаки) и го-раздо реже диких (еж, чайка) животных, находящихся в личном владении людей или временно живущих у них. Исключением является имя Миш-ка, ситуативно употребленное героем рассказа «Письма и телеграммы» применительно к дикому медведю в соответствии с традицией русского фольклора: «Но тайга отступила недалеко: прошлой ночью захмелевший от меда великан Мишка обознался адресом и улегся в неглубоком котло-
216
ване» [4, т. 2, с. 223]. Хотя считается, что «кличка – ...то же, что зооним» [7, с. 65], в данном случае имя Мишка нельзя считать кличкой, посколь-ку оно не закреплено за конкретным медведем; по своим функциям оно здесь ближе к имени нарицательному.
В ряде случаев животные имеют по нескольку кличек (или вариантов клички; далее в тексте разные имена одного животного даются через на-клонную черту). Впрочем, есть среди персонажей и животные, у которых нет имен по разным причинам: 1) имя не дано животному хозяином (при-меры тому – два попугая в рассказе «Страдания молодого Виктора» и аквариумные рыбки в том же рассказе и повести «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле»); 2) имя животного неизвестно рассказчику (например, в по-вести «Необычайные похождения Севы Котлова» упоминается «огром-ная серо-белая овчарка» [4, т. 3, с. 450], привязанная у дома Володи Ка-талкина, а также другая овчарка, укусившая Севу, когда он был в детском саду; они вполне могли иметь клички, которых Сева не знает).
По характеру номината выделяются следующие группы зоонимов: 1) кинонимы (Лучший друг человека / ЛДЧ, Берген, Рената / Рысь, Вик-тория, Гоша); 2) каттонимы – от лат. cattus ʻкотʼ [6, с. 127] (Паразит, Львица, Тигрица, Фальстаф, Мурка, Машенька, Дуня, Сарра, Петр); 3) орнитонимы (чайка Черная Спинка); 4) эхинонимы – от греч. ἐχῖνος ʻежʼ [7, с. 726] (Нигилист / Севка номер два / Борька); 5) урсонимы (Мишка). По структуре зоонимы классифицируются следующим обра-зом: 1) однословные: а) апеллятивы (Паразит, Нигилист, Рысь, Льви-ца, Тигрица), б) имена собственные (Борька, Рената, Фальстаф, Гоша, Машенька, Дуня, Мурка, Сарра, Петр), в том числе аббревиатура (ЛДЧ), в) части слов (шпиц Берген – из Шпицберген); 2) омонимичные слово-сочетаниям – простым (Черная Спинка) и сложным (Лучший друг че-ловека, Севка номер два).
Примечательно, что для произведений А.Г. Алексина не характерны традиционные собачьи и кошачьи клички типа Шарик, Бобик, Тузик, Жуч-ка, Васька, Муська, Мурка, Мурзик и т. п. Исключение составляет кличка кошки из повести «Необычайные похождения Севы Котлова»: «Посмотрел [в бинокль. – И.Ш.] на рыжую кошку Мурку, прикорнувшую на табуре-те, и она показалась мне настоящим тигром, усатым и страшным» [4, т. 3, с. 420]. В большинстве своем зоонимы оригинальны и свидетельствуют о творческом подходе к номинации животных, об отражении в этом про-цессе индивидуальности самих животных и / или их хозяев. В связи с этим уместно вспомнить реакцию героя повести «Саша и Шура» на кличку шпица Бéрген: «А что это значит – Берген?.. Уж лучше бы назвали просто Бобиком или Тузиком. А то Берген какой-то... Чуть ли не “гут морген”!» [4, т. 2, с. 303]. Кошку в рассказе «Страдания молодого Виктора» зовут Ма-шенькой, что необычно, хотя это не первый в реальной действительности и литературе случай присвоения кошке клички, производной от женского
217
имени Мария: сравним традиционное Муся / Муська. Имя Машенька под-черкивает доброту кошки и привязанность к ней хозяина: «Любил я также свою кошку Машеньку с ее глазами, похожими на маленькие, добрые све-тофоры – круглые и зеленые: “Дорога открыта!”» [1, с. 214].
Различна мотивация зоонимов: 1) внешний вид (Черная Спинка); 2) поведение (Нигилист); 3) поступок, событие (Паразит); 4) распро-страненная языковая формула, связанная с данным видом животных (Лучший друг человека); 5) оттопонимические (Берген); 6) отантро-понимические (Борька, Рената, Машенька, Гоша, Виктория, Дуня, Мур-ка, Сарра, Петр, сюда же Фальстаф); 7) сходство с неким человеком (Севка номер два); 8) особый принцип номинации животных (Рысь, Львица, Тигрица).
Возможно, что, давая животным отантропонимические клички, хозяева подсознательно стремятся обрести в них членов семьи, друзей. Почти все такие клички, употребленные в произведениях Алексина, в той или иной мере подтверждают это предположение. Такса Рената из сказочной повести «В Стране Вечных Каникул» практически заменяет ребенка своим хозяе-вам (соседям героя). Королевский пудель Виктория из рассказа «Виктория» защищает хозяйку от навязчивых мужчин, служит поводом для знакомства с тем, кто понравился молодой женщине, хотя выясняется, что его интерес был сосредоточен исключительно на собаке, лапу которой он называет но-гой, а морду хозяйка вслед за ним мысленно обозначает как лицо. Кошка Машенька и терьер Гоша в рассказе «Страдания молодого Виктора», при-вязанные к своему хозяину и хорошо им воспитанные (они даже «не враж-дуют, как кошка с собакой, а живут душа в душу» [1, с. 215]), глубоко со-чувствуют ему и его маме: когда приходит заниматься с Витей учительница математики Виолетта Григорьевна, которой увлекся отец героя, животные ведут себя агрессивно, словно желая предостеречь мать Вити. Дома у героя рассказа «Холостяк» (1994) живет красивая рыжая кошка Дуня, которая за-полняет пустоту в жизни эгоистичного хозяина – движется, подает голос и даже, как ему кажется, охраняет квартиру: «Кто-то был рядом. Это ему все-таки было нужно» [1, с. 266]. Узнав, что у него микроинфаркт, Станислав Спиридонович ощущает свое одиночество и беспомощность; обнаружив исчезновение кошки, зовет ее Дунечкой, Дуняшей – но выясняется, что как раз в тот день она выпрыгнула из окна и полезла вниз по балконам, поскольку хозяин плохо ее кормил. Отношения героя с кошкой являются очередным примером безразличия Станислава Спиридоновича к другим и их отчуждения от него. Мотивация клички не вполне ясна – возможно, вы-бор обусловлен малой употребительностью имени Евдокия в конце ХХ в.; невестка героя говорит: «У кого-то были донжуанские списки, а у тебя – донжуанские “графики”» [1, с. 279] – при таком образе жизни Станислав Спиридонович мог стремиться к тому, чтобы имя кошки не совпало с име-нем какой-либо женщины.
218
В сказочной повести «В Стране Вечных Каникул» члены кружка юных укротителей выбирают животным клички по определенному принципу: «Юнукры называли мирных домашних животных грозными именами хищников: рыжих кошек – Львицами, пятнистых – Тигрицами. Я назвал свою таксу Рысью» [4, т. 2, с. 425]. Есть случай, когда неясно, употреблен ли в тексте зооним: «Увидев, что Мишка-будильник тащит на руках пят-нистого щенка, я высунулся на лестницу: – Леопарда несешь?» [4, т. 2, с. 435]. Слово леопард / Леопард находится в позиции нейтрализации: в начале предложения невозможно определить, должно ли оно писаться с заглавной или строчной буквы, а значит, оно может трактоваться как на-рицательное существительное в переносном значении ‘любое пятнистое животное’ либо как кличка щенка (известная герою или предполагаемая), данная по изложенному выше принципу.
Само происхождение слова кличка от глагола кликать подчеркива-ет назначение этого типа наименований: животное должно осознавать кличку как свое имя и реагировать на нее. Вокативную функцию клич-ки выполняют не всегда, чему служит ярким примером еж из повести «Необычайные похождения Севы Котлова». Брат Севы Дима назвал ежа Нигилистом («За то, что он никого не признает и всех подкалывает!» [4, т. 3, с. 417]), мама – «Севкой номер два» (потому что Сева «тоже бывает колючим» [4, т. 3, с. 417]), а Сева с другом Витиком-Нытиком – просто Борькой: «Одним словом, у ежа было целых три имени, и он ни на одно из них не откликался» [4, т. 3, с. 417]. Имя, данное ежу матерью героя, от-ражает особенности ее речи: «Мама считала меня растяпой номер один. Но были еще растяпы номер два и номер три – Дима и папа» [4, т. 3, с. 385-386]. Борькой зовут сына соседки Котловых: «Лидия Архиповна просто не нашла для своего трехлетнего Борьки подходящего номера...» [4, т. 3, с. 412]. Обнаружив в своем портфеле ежа, которого подложил в портфель девочке, Сева думает: «Прав был наш Дима, когда назвал его Нигилистом. Типичнейший нигилист!» [4, т. 3, с. 419]. Далее в тексте рассказчик называет ежа либо Нигилистом («А за колючего Нигилиста просто со свету меня сживет...» [4, т. 3, с. 430]; «Пытался рассказать про истории с “ТСБ”, с ежиком Нигилистом и с полевым биноклем...» [4, т. 3, с. 457]), либо Борькой («Или, может, этот ýж к концу перемены окажется вновь в моей собственной парте, как и еж Борька?» [4, т. 3, с. 432]), либо Борькой(-)Нигилистом («Неужели наш Борька Нигилист оставил в парте свою иголку?» [4, 433]; «Ведь это он... переложил колючего Борьку-Ниги-листа из мухинской парты обратно в мою собственную» [4, т. 3, с. 453]).
Отношение к животным, обращение с ними всегда служит сильным средством характеристики персонажей (это одна из составляющих отно-шения ко всему живому). Поэтому выбор клички и особенности ее упо-требления способствуют раскрытию не только образа животного, нося-щего ее, но и образа человека, дающего и употребляющего эту кличку.
219
Применительно к произведениям А.Г. Алексина это тем более верно, что в них животные не выступают в качестве центральных персонажей. На-пример, кот Паразит из повести «Саша и Шура» назван так бабушкой Шуры за то, что однажды съел целую миску куриных котлет, однако хо-зяева, увековечив этот поступок кличкой, стараются смягчить ее отрица-тельную коннотацию при помощи ласкательных суффиксов, называя кота «Паразитиком или даже Паразитушкой» [4, т. 2, с. 311]. Это подчеркивает, что члены Шуриной семьи – добрые, незлопамятные люди. С этой же точки зрения можно рассмотреть три уже упомянутых эхинонима: стар-шеклассник Дима зовет ежа Нигилистом, находясь под впечатлением из-учаемого в школе; мама – Севкой номер два, потому что в центре ее вни-мания находится семья; Сева и Витик, называя ежа Борькой, видят в нем нечто вроде приятеля, товарища для игр.
Порой зоонимы приобретают большую семантическую нагрузку. На-пример, в финале повести «Семейный совет», после ухода матери из се-мьи, Саня упоминает о том, что расставшаяся с ним Ирина незаслуженно била своего пса по кличке Лучший друг человека, а отец произносит: «Но всё-таки, Санечка, лучшим другом человека... должен быть человек. Если я, конечно, не заблуждаюсь» [4, т. 2, с. 42]. Героиня рассказа «Виктория» назвала пуделя именем древнеримской богини победы, спутницы Марса [8, с. 362]; однако победа собаки на выставке оборачивается поражени-ем хозяйки: понравившийся молодой женщине ветеринар исчезает из ее жизни, вылечив Викторию. Кошку в доме Певзнеров зовут Саррой: «...так именовал ее Еврейский Анекдот: “Кошке это не повредит!”» [3, с. 84]; но Абрам Абрамович отговорил родителей давать детям имена дедушек и бабушки: «Не обременяйте их понапрасну, если бремени можно избе-жать» [3, с. 26].
Служат клички и для достижения комического эффекта. Например, при первом чтении повести «В Стране Вечных Каникул» название главы «В меня влюбляется Рената» может ввести читателя в заблуждение: лишь в начале этой главы объясняется, что имя Рената принадлежит соседской таксе, а не человеку. Позже Петя называет таксу Рысью, а потом решает от нее избавиться: «Рысь, брысь! – отогнал я ее» [4, т. 2, с. 429].
Кроме имен персонажей-животных, придуманных самим А.Г. Алек-синым, в его прозе встречаются зоонимы из русской классической лите-ратуры. В рассказе «Отец и дети» они используются как средство харак-теристики персонажа: «Гришин сосед по парте путал Муму с Каштанкой, а наизусть запоминал исключительно частушки из подворотни. “Всю злость и всю досаду” он излил на учительницу литературы, а заодно – и на ее “любимчика”, который от рождения был Антоном, а по прозвищу – Антоном Павловичем. В честь автора той самой “Каштанки”. И потому еще, что сам сочинял» [3]. В повести «Саша и Шура» оним Каштанка функционирует только как название рассказа: «Мы “Каштанку” показы-
220
вали» [4, т. 2, с. 300]; «Он [шпиц Берген. – И.Ш.] у нас в “Каштанке” главную роль исполнял» [4, т. 2, с. 300].
Итак, в прозе Алексина зоонимы выполняют разнообразные функции: номинативную, характеристическую, эстетическую.
ЛИТЕРАТУРА:1. Алексин А.Г. О любви. Сборник. – М.: АСТ: Астрель: АСТ МО-
СКВА, 2009. – 317,[3] с. 2. Алексин А.Г. Отец и дети. – URL: http://romanbook.ru/book/41451/.3. Алексин А.Г. Сага о Певзнерах / Анатолий Алексин. – М.: Астрель,
2012. – 320 с.4. Алексин А.Г. Собрание сочинений в 3 т. – М.: Детская литература, 1980.5. Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х. Дворецкий. Т. 1. – М.,
1957. – 1044 с. 6. Латинско-русский словарь. Сост. И.Х. Дворецкий. – М.: Русский
язык – Медиа, 2008. – 843, [5] с.7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. –
М.: Наука, 1978. – 200 с.8. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. – М.: ООО «Фир-
ма “Издательство АСТ”», 1998. – 528 с.
Shelkovа Irina Аlexandrovna
ZOONYMS IN THE PROSE BY A.G. ALEXIN
Zoonym, motivation, characteristics.
Zoonyms in the narratives and short stories by А.G. Alexin are not numerous, but vari-ous by their structure and motivation; they serve as the meaning of characteristics not only of animals, but also of the people who use these names.
221
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫМЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Горбич Ольга Ивановнаканд. пед. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Москва, Россия
ДИАЛОГ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕДиалог; методика преподавания русского языка в вузе; учебно-коммуникативные умения; уровни диалогического общения.
В статье говорится об использовании диалоговых методов обучения студентов в курсе методики преподавания русского языка, о диалогичности как универсаль-ном принципе организации общения человека, о коммуникативной грамотности, коммуникативных умениях, звеньях акта диалогического учебного общения.
В последние десятилетия вопрос о диалогичности как свойстве гума-нитарного мышления очень широко обсуждается в научном мире. Диа-логичность рассматривается как универсальный принцип организации общения человека, в том числе учебного, который придает содержанию изучаемого предмета личностно-значимый смысл.
Занятия по методике преподавания русского языка в современном вузе не могут быть организованы без использования диалоговых методов, так как профессиональные требования постоянно предлагают студенту (бу-дущему преподавателю русского языка) вступать в межличностный кон-такт, искать и находить различные способы для выражения собственных мыслей, утверждения своей позиции, в том числе педагогической. В связи с этим очень важной является проблема обучения студентов доказатель-ному, всестороннему обсуждению учебных вопросов с привлечением личного опыта, научных знаний, с отстаиванием собственной точки зре-ния. Чаще всего неумение вести учебный диалог не связано с плохой эру-дицией, нехваткой знаний по предмету или бедным словарным запасом
222
студентов, причина в том, что у студентов как правило нет специального (учебного, научного) диалогического коммуникативного опыта. На наш взгляд, суть проблемы заключается в том, что специальная профессио-нальная коммуникативная компетентность не может быть сформирована сама по себе, для ее формирования необходима теоретико-практическая работа в вузовской аудитории.
Общение как особая среда, создающая благоприятные условия для интеллектуального взаимодействия, для приобретения нового опыта и утверждения собственных идей, играет одну из основополагающих ролей в дидактике, при этом необходимым условием возникновения и развития учебного диалога в студенческой аудитории является гумани-зация образования. При соблюдении данного условия процесс обучения переходит на новую качественную ступень, когда в ходе взаимодействия «моего» и «чужого» мнения рождается истина, складывается новое по-нимание предмета, происходит становление методических убеждений, развивается теоретическая и практическая созидательная мысль будущих педагогов, формируется коммуникативная культура и компетентность.
Что же такое коммуникативная культура и компетентность? По мне-нию ряда ученых, «это система качеств, включающая:
– творческое мышление;– культуру речевого действия;– культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуля-
ции своего состояния;– культуру жестов и пластики движений;– культуру восприятия коммуникативных действий партнёра по обще-
нию;– культуру эмоций» [5].Коммуникативная грамотность дает возможность представителям
целых педагогических систем, знатокам народной и профессиональной культуры, носителям личного педагогического опыта на каждом занятии по методике преподавания русского языка опосредованно, через мнения студентов, вступать в учебный диалог на профессиональные темы.
Таким образом, любое грамотное учебно-научное обсуждение должно быть построено на диалогических отношениях, «ведь диалогические отно-шения – явление гораздо более широкое, чем отношения между репликами композиционно выраженного диалога, это – почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления че-ловеческой жизни, вообще всё, что имеет смысл и значение» [2, с. 49].
Именно поэтому теорией диалога занимаются исследователи разных областей науки: философии, психологии, лингвистики, лингводидактики, лингвостилистики, культуры речи, методики и др. Это свидетельствует об универсальности диалога как культурного явления, следовательно о глобальности внутренних истоков возникновения учебного диалога,
223
параллельности путей развития, взаимовлияния, взаимообогащения ди-дактического диалога и диалога общефилософского, общекультурного. Опыт, накопленный разными областями знания, влияет на технику совре-менного диалогического общения студентов, в условиях которого фор-мируется, с одной стороны, свобода и независимость высказывания, а с другой, уважение к точке зрения партнёра.
Активное развитие диалоговых практик в обучении происходит в на-стоящее время и, совершенно точно, будет происходить позднее. Диалог в дидактике совершенствуется, опираясь на достижения философской, социологической, психологической, культурологической мыслей. Проис-ходит взаимообогащение содержания и формы диалога, а диалогичность как явление различных областей знания, как широкое коммуникативное явление, основанное на отношении к чужому мнению как самоценному, становится основным принципом современного образования.
Очевидна опора современных учёных в исследовании проблемы диа-логового обучения в студенческой аудитории на предшествующие пред-ставления об этом методе обучения: о его целях, содержании, организа-ции, протекании. Под учебным диалогом мы понимаем педагогическое общение, реализуемое на основе учебной ситуации в форме речи. Это общение происходит между преподавателем и студентами, кроме того на занятии студенты в учебных целях общаются между собой; также диа-логическое профессиональное общение осуществляется студентами на педагогической практике. В ходе такого общения происходит обмен ин-формацией и решаются учебные задачи.
Межсубъектное общение в данном случае важно с точки зрения рас-крытия личностных смыслов, находящихся в учебном материале ауди-торного занятия. Эти смыслы скорее раскроются в диалоге, чем в моно-логе, ещё и потому, что «диалог первичная форма речи по отношению к монологу» [3, с. 215].
Вести диалог значит превращать свою мысль в слова, материализовы-вать её и объективировать, приобщать других людей к своей проблеме. В процессе учебного диалога рождаются реальные связи, в которые вступа-ют единицы речи с многообразием целей, мотивов и переживаний субъ-ектов речи. Потребность в диалоге – это духовная потребность любого человека, реализуемая в необходимых для полноценного диалогического общения коммуникативных умениях. «Традиционно коммуникативные умения – это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснять свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по обще-нию. Коммуникативные умения – это комплекс осознанных коммуни-кативных действий, основанных на высокой теоретической и практиче-ской подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием личностных новообразований,
224
как в сфере интеллекта, так и в сфере доминирующих профессионально значимых характеристик [1].
Обычно под коммуникативными умениями понимают умения ясно и доходчиво растолковывать свою мысль и адекватно воспринимать ин-формацию от партнеров по общению. Однако считаем необходимым до-бавить информацию о важных для полноценного диалога более частных умениях устной и письменной речи, а именно:
– быстро и правильно ориентироваться в условиях общения;– грамотно ставить свои вопросы и отвечать на чужие;– планировать свою речь сообразно целям и условиям, времени и си-
туации;– конспектировать, излагать в сжатой форме свою и чужую мысль;– верно выбирать содержание акта общения;– находить соответствующие средства для передачи содержания;– правильно оформлять мысль;– обеспечивать обратную связь.Если какое-то из звеньев акта диалогического общения будет наруше-
но, то вступившему в диалог вряд ли удастся добиться результатов. По-этому преподаватель должен учить студентов правильно входить в ком-муникативный диалогический контакт, совершенствовать собственную диалогическую и монологическую устную и письменную речь.
Заметим также, что диалог, начатый на первом занятии по методиче-ской теме, не может быть завершён на том же занятии. Происходит это потому, что диалоговая духовная потребность студента, как всякая духов-ная потребность, не может быть полностью насыщена на одном занятии, тем более что цикл занятий по методике преподавания русского языка подразумевает постоянную преемственность тем.
Важным для ведения учебного диалога является и то, на каком уровне диалогического общения будет осуществляться контакт между партнё-рами на занятии. Интересна классификация уровней общения, которую даёт А.Б. Добрович, в ней представлено семь уровней: примитивный, манипулятивный, стандартизированный, конвенциональный, игровой, деловой и духовный [4, с.13-14].
Примитивный уровень – собеседник не партнёр, а предмет. Манипу-лятивный уровень – партнёр – это соперник в игре, которую непремен-но надо выиграть. Стандартизированный уровень – общение происхо-дит на основе нескольких стандартов. Конвенциональный уровень – это полноценное человеческое общение. Партнёры считаются друг с другом и с ситуацией в целом. Игровой уровень превосходит конвенциональный тонкостью содержания и богатством оттенков. Деловой уровень – партнёр вызывает особый интерес как участник коллективной деятельности. Ду-ховный уровень – партнёр воспринимается как носитель духовного на-чала. Собеседник стремится приблизиться в беседе к постижению вы-
225
сочайших человеческих ценностей. Духовность общения обеспечивается не отбором тем, а глубиной диалогического проникновения.
Очевидно, что для результативного занятия по методике преподава-ния русского языка могут быть выбраны четыре последних уровня диа-логического общения. Лишь в результате такого общения в студенческой аудитории сложится особое межличностное взаимодействие, лишённое условностей и способствующее проявлению себя на личностном и меж-личностном уровнях.
При этом нужно помнить, что любой из видов общения может быть эффективным лишь тогда, когда не возникает коммуникативных барье-ров. Конечно, в реальности их очень трудно избежать. Но все барьеры преодолимы, если в аудитории идёт процесс диалогического творческого мироосмысления и реального учебно-научного поиска.
ЛИТЕРАТУРА:1. Алиризаева Р.З. Коммуникативные навыки как фактор успешности
учебной деятельности студентов. VI Международная студенческая элек-тронная научная конференция «Студенческий научный форум». 15 фев-раля – 31 марта 2014 года – http://www.scienceforum.ru/2014/671/4431.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. Т.2.– М.: Педагоги-ка, 1982. – 361с.
4. Добрович А.Б. Общение – наука и искусство. – М.: Знание,1987. – 144 с.
5. Ермолинская Е.В. Тренинг формирования коммуникативных уме-ний и навыков для студентов психологических факультетов высших учебных заведений. – С.-Пб.: Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии, 2011. – http://www.allbest.ru/.
Gorbich Olga Ivanovna
DIALOGUE AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL-COMMUNICATIVE SKILLS
IN THE CLASSROOM ON TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY
Dialogue; methods of teaching Russian language at the University; teaching communi-cation skills; levels of Dialogic communication.
The article talks about using dialog methods of instruction students in the course of methodology of teaching Russian language, dialogicality as a universal principle of organization of human communication, communicative literacy, communicative skills, levels of training of dialogical act of communication.
226
Далян Наира Ервандовнаканд. филол. наук,
доцент Армянского государственного педагогического университета
имени Хачатура АбовянаЕреван, Армения
ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОФОНОВ
РУССКОМУ ЯЗЫКУЛингвокультурные языковые единицы, этнокультурный компонент, этническое своеобразие.
Статья посвящена важности учета феномена национальной культуры в процессе обучения иностранцев русскому языку и специфике восприятия концептов и линг-вокультурных языковых единиц русского национального сознания иностранными студентами как важному аспекту формирования кросскультурной компетенции.
О важности учета феномена национальной культуры в процессе обу-чения инофонов русскому языку сказано уже достаточно много. Однако, по мысли С.И. Селивановой, «неразработанность вопросов стратификации русской культуры, фрагментарность имеющихся описаний, «размытость» культурологических терминов, разное отношение к культурно-языково-му содержанию предметов и явлений иной культуры заставляет вновь и вновь возвращаться к этнопсихологическим проблемам формирования культурно-эстетического двуязычия у контактирующих сторон» [1, с.119]. «Даже поверхностное рассмотрение некоторых составляющих понятийно-го аппарата разных народов, – пишет данный методист, – обнаруживает несходство той информации, которую несут в себе первичные оппозиции человеческого общества и породившая его среда. При этом острота вопро-са частично может быть снята путем формирования биэтнокультурного восприятия важной художественно-образной информации» [1, с.119].
Значимость культурной компетенции особенно наглядно проявляется при встрече инофонов с иной моделью мировосприятия, иным способом художественно-эстетического осмысления мира. Так, при столкновении с образным сравнением девушки с лисой: «лиса, ну, лиса», «вот хитрень-кая лисичка», юго-восточная азиатская аудитория (Корея, Китай) не улав-ливает русской позитивной ассоциативно-коннотативной окрашенности метафоры, замещая эмоциональный компонент национальным, резко не-гативным по смыслу.
227
Русское сознание более полифонично. Коварство популярной фоль-клорной героини (пришла птичница в рыжей шубке – кур посчитать) частично нейтрализуется восхищением ее очаровательной внешностью, умением изящно выйти из острой ситуации, подольститься к влиятельной персоне или опасному врагу. Кроме того, в некоторых случаях сравнение с лисой звучит одобрительно – говорящий признает свою слабость перед ласковой обольстительницей. Не случайно в русском фольклоре лисичка- «сестричка» – член семьи, а стало быть, нанесенный ею ущерб не может быть катастрофичным для существования рода, и её можно «простить» за то, что красотой и хитрыми проказами она разнообразит крестьянскую жизнь.
В культуре других народов мира образ лисы не столь позитивен, хотя в некоторых странах лисе не чужды понятия благодарности, верности обещанию и даже бескорыстия. Так, в сказках разных народов встречает-ся сюжет, согласно которому Лиса (или Лис) помогает ребенку вернуться домой.
Например, в немецкой сказке, обработанной братьями Гримм и оза-главленной «Странствия Мальчика-с-пальчик», Лис относит главного ге-роя в дом его родителей за заранее оговоренное вознаграждение (всех кур со двора) (сказалась немецкая ментальность). Во многих западноев-ропейских сказках лисы выступают в роли провожатого, чудесного по-мощника героя.
Но лиса может быть символом вероломства и жестокости. В англий-ском фольклоре есть сказка “Mr Fox” (fox – англ. «лиса»). Главный герой этой сказки, Mr. Fox, на всем протяжении повествования появляется пе-ред другими действующими лицами в облике человека. Происхождение имени Fox мотивировано такой чертой персонажа, как хитрость (в ан-глийской лингвокультуре лиса является достаточно хитрым и эгоистич-ным животным), хотя перед всеми, в том числе и перед девушкой Мэри, мистер Фокс предстает в образе галантного кавалера (недаром ведь он – мистер: “But off them all, the bravest and most gallant, was Mr. Fox” [2, с. 94]. – «Но из всех ее поклонников самым мужественным и в высшей степени любезным был, конечно же, мистер Фокс» (перевод наш).
Полный смысл имени, неспроста данный этому персонажу неизвест-ным автором-сказочником, раскрывается только в конце сказки, когда становится ясно, что мистер Фокс решил хитростью и обманом заманить к себе домой Мэри, где ее ожидала бы та же страшная участь, как и дру-гих девушек, изуродованные и окровавленные тела которых она увидела совершенно случайно. Таким образом, можно сделать вывод, что в бри-танском фольклоре лиса ассоциируется не только с хитростью и ковар-ством, но и жестокостью и вероломством.
В китайской картине мира лиса издревле воспринималась как пред-вестник судьбы. Встреча с лисой считалась счастливым предзнаменова-
228
нием. Однако, в китайских народных сказках существует такой образ как фея-лиса, которая способна приносить людям не только добро, но и беду. Хотя, если ей приносить жертвы, то она может помочь и отблагодарить за справедливое к ней отношение. Фея-лиса обладает значительной волшеб-ной силой, далеко превосходящей возможности человека.
Она, с одной стороны, знает будущее, широко эрудирована, но с дру-гой – умеет обольщать, заставив при этом человека потерять разум (к ге-рою китайских народных сказок часто приходит лиса из потустороннего мира в облике прекрасной девушки). Противоречивость образа лисы в китайской народной культуре не всегда позволяет адекватно восприни-мать этот персонаж с точки зрения русского языкового сознания, в кото-ром лиса, несмотря на ее «мелкие пакости») обладает более позитивны-ми, чем негативными характеристиками.
Таким же образом отличается эмоциональное восприятие образов птиц, запечатленных на страницах художественных и фольклорных про-изведений русского народа. В качестве примера рассмотрим образ соро-ки. У русского народа сорока – это символ болтливости в худшем смысле этого слова. Однако, если мы сравним двух болтающих кореянок с со-роками, то мы этим сделаем им комплимент, поскольку корейский народ почитает образ этой птицы в высшей степени. Некоторые корейские горо-да, к примеру, украшены ее гигантскими скульптурными изваяниями. Со-рока в корейской культуре является вестницей счастья. Услышать с утра сорочий гомон – к большой удаче, как считают корейцы.
В представлении русского народа сорока является самой большой сплетницей с крайне неприятным голосом: сорока не поет, она «стреко-чет»; «верещит», «щекочет». Нелестные характеристики птицы, зафикси-рованные в произведениях русской литературы [«Сорока-воровка» (А.И. Герцен), «Сорока в чужих перьях» (М. Херасков), «Сорок-наушница» (С. Михалков)], вызывают у корейцев недоумение, непонимание и даже оби-ду. Из фразы «наша родственница, сорока, ужасная сплетница, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте» (Е. Шварц «Снежная королева»), корейские учащиеся воспринимают только слова «сорока знает все, что делается на свете» и совершенно с этим утвержде-нием согласны, пропуская весь негатив фразы.
Столь же избирательно внимание иностранцев и по отношению к другим компонентам с национально-культурной семантикой. Например, многие иностранные студенты не воспринимают загорелое лицо девушки как признак ее красоты и здоровья. С точки зрения многих из них загоре-лость есть признак низкого происхождения, ведь стать таковой девушка может только тогда, когда она все дни напролет проводит на солнце, ра-ботая на своих хозяев.
Сопоставление моделей национального восприятия картины мира на-чинается с осмысления, восприятия, освоения и конструирования этни-
229
ческого пространства, отраженного в языке. Так, в Западной Европе, как и в России, молоко издревле было священным. Молочные реки и кисель-ные берега из русских сказок являются символом процветающего цар-ства, выражение как сыр в масле означает богатую, обеспеченную жизнь. В связи с этим в славянской культуре, особенно в древних ее пластах, можно наблюдать своего рода обожествление коровы. Например, во мно-гих славянских мифах фигурирует небесная корова Земун, являющаяся олицетворением материнства, из переполненного вымени которой течет по небосводу длинный молочный след. Отсюда и появилось выражение – млечный путь (млеко = молоко).
А вот в корейской культуре отношение к молоку принципиально иное. Закон запрещает пить молоко. Даже младенцу не дают первого молока, когда материнское пропадает. Такое отношение к молоку объясняется в первую очередь особенностями физиологии этноса – непереносимостью лактозы (молочного сахара), обусловленной генетическим строением корейского этноса. Отсюда – белый цвет в корейской культуре является траурным, выполняя роль черного цвета у большинства других народов, в том числе и у русского.
Символом богатства во многих культурах является серебро (особенно в культурах стран Азии и Африки). В корейской и китайской культурах серебро – высшая ценность. У женьшеня – корня жизни – серебряный оттенок, рис на полях в урожайный год течет серебряным потоком, дождь струится серебром, а роль золотой рыбки в корейских и китайских сказ-ках играет серебряный карась, широко распространенный в водоемах Ки-тая и Кореи. Собрание популярнейших корейских сказок носит название «Феи Серебряных гор». Наверное поэтому название романа А. Белого «Серебряный голубь» заставляет корейских филологов искать особый глубинный смысл в тексте художественного произведения. И в то же вре-мя им непонятно слово бессребреник – «бескорыстный человек».
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что каждый этнос по-своему уникален и самобытен, в результате чего существует разница в восприятии универсальных, даже в какой-то степени аналогичных явле-ний и предметов. И, привнося в мир свою собственную культуру, каждый этнос старается подчинить ее «правилам» иные языковые сообщества. Но преподавателю РКИ необходимо прививать своим студентам стремление к тому, чтобы русская природа и русский быт, видимые и воображаемые предметы и явления русской культуры воспринимались ими с позиций художественно-образного мышления российского народа. В то же время он сам все артефакты и явления собственной культуры обязан пропустить сквозь призму иного национального сознания, предварительно изучив культурную специфику тех лингвоментальных сообществ, откуда при-были в Россию его воспитанники. Только в этом случае может произойти кросскультурный диалог, в ходе которого преподаватель и студенты на-
230
учатся гармонично дополнять друг друга, тщательно изучая и описывая те культуроносные пласты языка, которые необходимы для адекватной коммуникации.
ЛИТЕРАТУРА:1. English Fairy Tales / Collected by Joseph Jacobs. – USA: The Penn-
sylvania State University, 2005. – 169 р.2. Селиванова С.И. Специфика восприятия художественных образов
русской литературы (в том числе фольклорных) корейскими студента-ми // Национально-культурное пространство и проблемы коммуника-ции: Материалы международной научно-практической конференции. 25–26 октяб ря 2007. – Ч. 1. – СПб, 2007. –119 c.
Dalyan Naira Ervandovna
THE PHENOMENON OF NATIONAL CULTURE IN THE COURSE OF TRAINING RUSSIAN TO THE FOREIGNERS
Linguocultural language units, ethno cultural component, ethnic originality.
Article is devoted to importance of the accounting of a phenomenon of national culture in the course of teaching Russian to foreigners and specifics of perception of concepts and linguocultural language units of the Russian national consciousness by foreign students as to an important aspect of formation of cross- cultural competence.
Ерошевич Анна Викторовна преподаватель Минского суворовского военного училища
Минск, Беларусь [email protected]
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
УЧАЩИХСЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Грамматический строй речи; формирование и обогащение; коммуникативные задачи; система развития связной речи.
Рассматривается актуальность проблемы формирования грамматического строя речи обучающихся русскому языку в Республике Беларусь. Анализируются предпосылки для работы над заявленной методической проблемой.
231
Богатство речи отдельного человека определяется тем, каким арсеналом языковых средств он владеет и насколько умело в соответствии с содержа-нием, темой и задачей высказывания пользуется ими в конкретной ситуации.
Лингвисты, противопоставляя понятия «язык» и «речь», считают их составляющими единого целого: «Если язык – это орудие (средство) об-щения, то речь есть производимый этим орудием способ (вид) общения… Речеведческий аспект наиболее близок методике преподавания языка», поскольку «язык – это не просто система знаков, но функционирующая система». [1, с. 7]
Главная цель обучения русскому языку в Республике Беларусь – сво-бодное владение русским языком во всех видах речевой деятельности, развитие коммуникативной культуры современной языковой личности.
На пути совершенствования речевого развития учащихся и коммуника-тивной культуры современной языковой личности достигнуты значитель-ные успехи, особенно в последние годы. Новые программы и учебники, из-данные в Республике Беларусь, создают благоприятные возможности для овладения лексикой, грамматикой, стилистикой русского языка; успешно внедряется в школах научно обоснованная система развития связной речи учащихся, совершенствуются критерии ее оценки. Следует отметить, что функциональный подход к изучению языка, представленный в новом поко-лении белорусских учебников по русскому языку, ориентирует учителей на формирование лингвальной и коммуникативной компетенции учащихся. «Умение сознательно выбирать в определенных коммуникативных задачах оптимальный вариант и определяет лингвальную и коммуникативную ком-петенцию учащегося. А сам курс грамматики будет нацелен не на анализ, а на продуцирование и перефразировку речевых построений, то есть на активные действия с живой речью». [2, с. 5–6]
В русле изучения грамматики в школе как основы формирования на-ходится проблема формирования и обогащения грамматического строя речи школьников. Основой для работы над этой проблемой можно счи-тать изучение школьниками грамматического строя языка, который пред-ставляет собой сложную организацию, сочленяющую в себе словообра-зования, морфологию и синтаксис (некоторые исследователи выделяют только морфологию и синтаксис). Эти подсистемы находятся в самом тесном взаимодействии и взаимосвязи. Учащиеся знакомятся с важней-шими грамматическими правилами об изменении слов и сочетании их в предложении. А одним из важных показателей усвоения грамматическо-го строя языка, можно считать сформированный и богатый грамматиче-ский строй речи отдельного школьника.
Надо отметить, что анализ процесса формирования грамматического строя речи как основы формирования современной языковой личности на разных этапах обучения неоднократно становился объектом исследо-ваний ученых-методистов и психологов, которые напрямую связывали
232
строй речи ребенка с психологическими и мыслительными процессами происходящими в его сознании.
Собственно лингвометодический аспект анализа устной речи учащих-ся рассматривался в 60-е годы Т.А. Ладыженской в работе «Анализ уст-ной речи учащихся 5–7 классов», где был сопоставлен синтаксический строй устной и письменной речи школьников. Целью своих исследований Т. А. Ладыженская ставила выяснение условий, обеспечивающих развитие навыков письменной и устной речи, а также условий их наибольшего вза-имовлияния друг на друга. [3, с. 251]
В результате эксперимента Т. А. Ладыженская сделала вывод о прямом влиянии синтаксического строя речи на правильность и содержание уст-ных и письменных высказываний ученика. Т. А. Ладыженская стремилась найти ответ, что же следует считать показателем уровня развития речи, ее синтаксического строя, в частности. Исследователь останавливается на не-которых, на ее взгляд, очевидных фактах данного процесса.
1. О «развитости» синтаксиса устной (а также письменной) речи сви-детельствует разнообразие употребленных школьниками синтаксических конструкций. Так, если устные высказывания учащихся становятся бо-гаче с точки зрения используемых ими конструкции, если учащиеся на-чинают, например, употреблять предложения с однородными членами и вводными словами, – это свидетельство продвижения школьников в овладении ими синтаксическим строем речи.
2. Вместе с тем важно не только наличие в речи учащихся разнообразных синтаксических конструкций, но и правильное их употребление. Овладение соответствующими умениями также говорит о росте речевых навыков школь-ников. Следовательно, показателем уровня культуры речи может быть нали-чие или отсутствие в ней так называемых речевых недочетов, в том числе син-таксических. Поэтому существует необходимость проследить за тем, как из-меняется их количество и характер в высказываниях учащихся на различных этапах обучения. Обе эти тенденции легли в основу современного поня-тия «коммуникативная компетенция языковой личности», являющегося базовым в современной концепции преподавания русского языка в респу-блике Беларусь.
В 70-е годы XX века проблема изучения грамматического строя речи языковой личности обучающегося поднималась в исследованиях М.Р. Львова. Анализ и статистическая обработка большого количества школьных сочинений, написанных самостоятельно учениками различ-ных классов, позволили М.Р. Львову сделать вывод о том, что форми-рование грамматического строя является сложным противоречивым про-цессом, в котором действуют «законы структурного усложнения единиц речи и роста их разнообразия». [4, с. 260–269]
М. Р. Львов приходит к выводу, что в рамках средней школы фор-мирование грамматического строя речи учащихся отнюдь не завершается,
233
оно находится в активном состоянии более чем на 50%, что многие про-цессы будут продолжаться и после окончания школы.
М. Р. Львов выделяет три тенденции общего направления речевого развития школьников.
Во-первых, это рост объема /размеров/ и структурное усложнение еди-ниц речи, выражающееся во все более частом употреблении крупных синтаксических единиц, в увеличении внутренней сложности конструкций, а также в расширении использования слов, имеющих сложную морфоло-гическую структуру. Во-вторых, это рост разнообразия используемых грамматических средств, выравнивание соотношений между сопостави-мыми грамматическими единицами.
Эти две тенденции ведут к обогащению речи школьников, к увеличению ее разнообразия, к активизации всех грамматических ресурсов языка.
Третья тенденция – унификация грамматических средств речи: быстрый рост использования какой-то одной /или нескольких/ формы при сниже-нии других сопоставимых форм. Практическая суть унификации состоит в том, что в ситуациях, в которых на более ранних ступенях учащиеся ис-пользовали две разные формы /параллельные, вариантные, синонимичные/, в старших классах они начинают применять одну и ту же форму, которая им представляется более удобной, более привычной, более соответствующей задачам выражения мысли.
В 80-е годы Г.А. Фомичева разрабатывает методику формирования син-таксического строя речи младших школьников. Тем самым, подтвержда-ется утверждение М.Р. Львова о необходимости организации работы над грамматическим строем речи в раннем и среднем школьном возрасте. Г.А. Фомичева создает собственную дефиницию синтаксического строя речи. Под ним она понимает «интегральное качество речи, в котором про-является уровень общеобразованности и культуры личности, ее своеобра-зие, способности овладевать знаниями, воплощать полученные знания в своем мировоззрении и деятельности». [5, с. 6–7] Основная гипотеза, вы-двинутая лингводидактом, заключается в том, что целенаправленная си-стематическая работа над словоформой, словосочетанием и предложением при определенных условиях управляет процессом формирования синтак-сического строя речи младших школьников, что в свою очередь обеспечи-вает «достаточно высокие результаты речевого развития». [6, с. 9]
В 90-е годы новое осмысление проблема формирования и обогащения грамматического строя речи современной языковой личности получила в свете теории развивающего обучения. По мнению многих лингводидактов, сторонников этой теории, синтаксический, а следовательно, и грамма-тический строй речи является одним из важнейших показателей уровня осмысления человеком связей и отношений, существующих в мире.
Надо отметить, что все исследования, касающиеся грамматического (синтаксического) строя речи, выполненные за последние десятилетия, но-
234
сили узкопрофильный методический или развивающий характер. Лингво-дидакты так и не предложили научно-обоснованных методик, позволяющих формировать, обогащать и преодолевать некоторые негативные тенденции в работе над грамматическим строем речи и формированием языковой лич-ности. В частности не существует научно-обоснованных методик, позволя-ющих преодолеть так называемые процессы унификации в речи старших школьников, несмотря на то, что именно в 9-11 классах, согласно существу-ющим программам по русскому языку, приходится пик изучения основных синтаксических единиц и пик формирования языковой личности.
Следует отметить, что проблема формирования и обогащения грамма-тического строя речи как составляющая работы педагога по совершенство-ванию речи современных школьников и формированию их языковой ком-петенции нашла свое отражение в некоторых работах белорусских ученых-лингводидактов. (Л.А. Мурина, Ф.М. Литвинко и др.) «Опора на семантику языковых единиц становится базой для целенаправленного и систематиче-ского обогащения грамматического строя речи (курсив автора) учащихся, чтобы они имели возможность в зависимости от характера решаемых ком-муникативных задач свободно использовать в речи синонимичные способы обозначения тех или иных понятийных категорий». [7, с. 133] Это объясня-ется концепцией современного языкового образования в Республике Бела-русь и коммуникативной направленностью обучения языкам в белорусской школе.
Рассмотрев проблему методического обоснования работы над формиро-ванием и обогащением грамматического строя речи, с исторической точки зрения мы пришли к выводу, остроты и насущности она не потеряла. Наобо-рот, существует объективная потребность в разработке методик, позволяю-щих современному учителю целенаправленно решать эту проблему в сред-ней школе и особенно в старших классах средней школы. Так как именно этот период подготавливает современных молодых людей к последующей плодотворной социальной жизни, а развитая и богатая речь является неотъ-емлемой составляющей личностного ориентирования в социуме.
ЛИТЕРАТУРА:1. Всеволодова М.В. Функционально-коммуникативная грамматика и
учебные грамматики родного языка // Учебные грамматики национальных языков: Материалы 1-й конф. / Мин. Гос. – Лингвист. Ун-т. Мн., 1997. – С.5–6.
2. Г.А. Фомичева. Формирование синтаксического строя речи млад-ших школьников. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук – М., 1984. – С. 6–7.
3. Г.А. Фомичева. Формирование синтаксического строя речи млад-ших школьников. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М., 1984 – С. 9.
235
4. Кожина М.Н. К проблеме речевой системности и функционально-стилистических норм в связи с описанием и изучением русского языка // Международная конференция преподавателей русского языка и литера-туры. – М., 1969.
5. Ладыженская Т.А. «Анализ устной речи учащихся 5–7 классов». 1963 г.
6. Литвинко Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русско-го языка (функциональный подход): Курс лекций для студентов филологиче-ского факультета – Мн.: БГУ, 2001, – С.133.
7. Львов М.Р. Развитие грамматического строя речи учащихся // Ос-новы методики русского языка в IV-VII классах. – М., 1978. – С.260–269.
Yerashevich Hanna Viktorovna
IMPROVING GRAMMATICAL STRUCTURE OF SPEECH: CURRENT ISSUES
Grammatical structure of speech; formation and enrichment; communication prob-lems; the development of coherent speech.
View on the importance problem of formation grammatical structure of speech pupils studies Russian language in the Republic of Belarus. Analyzes the background to work on the stated methodological problem.
Загрядская Вера Ивановнаканд. филол. наук, преподаватель Колледжа сферы услуг №10
Москва, Россия[email protected]
КАК ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕНИЯ НА УРОКЕ
Русский язык; профессиональное образование; методика преподавания; систем-но-деятельностный подход.
В статье с позиций системно-деятельностного подхода рассматривается урок русского языка для студентов специальности 260807 Технология продукции об-щественного питания. Предлагается один из возможных путей достижения эф-фективности общения на уроке современного типа.
«Альфой и омегой школы должно быть изыскание и открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учились».
Ян Амос Коменский, «Великая дидактика»
236
«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» – слова К.Д. Ушинского отражают суть урока вообще, в том числе и урока современного типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода.
Современные государственные образовательные стандарты не отри-цают ценностей традиционного урока. Неизменно, как любой текст (дис-курс), урок имеет трехчастную структуру (введение, основная часть, за-ключение) и ограничение во времени (45 минут).
Рассмотрим урок с позиции основных дидактических требований, а также раскроем суть изменений, связанных с проведением урока совре-менного типа [1]:
Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа
Объявление темы урока Учитель сообщает учащимся Формулируют сами
учащиеся
Сообщение целей и задач
Учитель формулирует и сообщает учащимся, чему должны научиться
Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания
Планирование
Учитель сообщает учащимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели
Планирование учащимися способов достижения намеченной цели
Практическая деятельность учащихся
Под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических задач (чаще применяется фронтальный метод организации деятельности)
Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы)
Осуществление контроля
Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практической работы
Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы самоконтроля, взаимоконтроля)
Осуществление коррекции
Учитель в ходе выполнения и по итогам выполненной работы учащимися осуществляет коррекцию
Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно
Оценивание учащихся
Учитель осуществляет оценивание учащихся за работу на уроке
Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам (самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей)
237
Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что они запомнили Проводится рефлексия
Домашнее задание
Учитель объявляет и комментирует (чаще – задание одно для всех)
Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с учётом индивидуальных возможностей
Изменения касаются того, как мы (преподаватель — ученики) реа-лизуем содержание урока, то есть, насколько эффективно складывается наше общение.
Известно, что эффективным является такое общение, при котором происходит достижение поставленной цели, реализация коммуникатив-ного намерения говорящего и слушающего, в нашем случае – учителя, преподавателя и учеников.
Одной из целей обучения русскому языку в образовательных учреж-дениях профессионального образования является дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности обучающихся к рече-вому взаимодействию и социальной адаптации. И, как следствие, в ка-честве требования к умениям обучающихся называется эффективность достижения поставленных коммуникативных задач.
Современный мир предъявляет к будущим специалистам более жест-кие требования, несоответствие которым будет отмечаться не наличием хороших или плохих оценок по предмету или дисциплине, а наличием востребованности – как личной, так и профессиональной. Учитывая со-временные социально-экономические особенности развития общества, необходимо формирование нового типа личности – мобильного, способ-ного ориентироваться в информационном потоке, способного к адекват-ной самооценке и умению переучиваться при необходимости.
Как урок русского языка помогает обучающемуся, будущему техно-логу, решать эти задачи? Насколько способствует формированию «общей культуры, развитию, воспитанию и социализации личности»?
Несомненно, русский язык как средство познания действительности обладает огромным потенциалом в обеспечении развития интеллекту-альных и творческих способностей обучающихся. Задача преподавате-ля – выстроить траекторию освоения учебной дисциплины так, чтобы обучающийся не просто запоминал, каково строение словосочетания, например, а учился логически мыслить, задавать вопросы (определять границы знания-незнания), взаимодействовать с другими в поиске ин-формации и решении учебных и профессиональных задач. Другими сло-вами, говоря языком современных образовательных стандартов, «студент должен овладеть учебно-организационными, учебно-информационными, учебно-логическими, учебно-коммуникативными общеучебными компе-
238
тенциями, а также общими компетенциями...» [8,9]. Роль преподавателя сводится к тому, о чем говорил ещё Я.Коменский: меньше учить, больше направлять, консультировать, наставлять.
Один из возможных путей достижения эффективности общения на уроке представлен в технологической карте урока русского языка для студенотов специальности 260807 Технология продукции общественного питания (тема: Синтаксис. Строение словосочетания).
Результаты освоения основной образовательной программы по учеб-ному предмету «Русский язык», в соответствии с ФГОС среднего (полно-го) общего образования, должны быть представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов, где ключевым понятием является самостоятельность обучающегося. Особое внимание в новых ФГОС уделяется метапредметным результатам обучения, отражаю-щим формирование так называемых универсальных учебных действий, обобщенных способов деятельности, применимых как в рамках образо-вательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях [3].
В соответствии с требованиями к результатам освоения образователь-ной программы по учебному предмету «Русский язык» ФГОС среднего (полного) общего образования, а также ФГОС по специальности 260807 Технология продукции общественного питания данный урок нацелен на достижение:
– личностных результатов, отражающих патриотизм, толерантное со-знание и поведение в поликультурном мире, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей (аналитиче-ская работа с текстами нравственной проблематики писателей и поэтов, юбиляров марта 2014 года);
– метапредметных результатов: умение самостоятельно определять цели деятельности (формулирование темы урока на основе аналитиче-ский работы со слайдами преподавателя); самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; владеть навыками позна-вательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности (работа с технологической картой обучающегося; внеаудиторная самостоятель-ная работа: проект «Еда и культура», слайд-шоу); умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; навыки са-мостоятельной работы с информацией (учебник, словарь, в т.ч. професси-ональной лексики, интернет-источники);
– предметных результатов: сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе; владение знаниями о языковой норме, владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов (таблицы, кластер «Синтаксис. Словосочетание»), владение умением анализировать единицы различных языковых уровней (слово – словосочетание – предложение), сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процес-
239
се практической речевой деятельности (слайд-шоу «Синтаксис и обще-ние»).
Так, одним из главных результатов взаимодействия преподаватель-об-учающийся и овладения компетенциями на уроке русского языка долж-ны стать способность и готовность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, выражающиеся в эффективном достижении поставленных коммуникативных задач в различных сферах жизни (самопрезентация, общение с коллегами-профессионалами, клиентами, руководством, личное общение).
ЛИТЕРАТУРА:1. Абдрахманова Р.Р. Типы и виды современного урока в условиях вве-
дения ФГОС II поколения / http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/tipy-i-vidy-sovremennogo-uroka-v-usloviyah-vvedeniya-fgos-ii
2. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассни-ков. 9-11 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.В.Абрамова. – М.: Просвещение, 2012. – 176 с.
3. Волщукова А.Г. Современный урок как средство реализации ме-тапредметных результатов обучения в рамках фгос нового поколения / http://be.convdocs.org/docs/index-70300.html.
4. Иваненко Л.В. Самостоятельная познавательная деятельность уча-щихся и развитие их творческих способностей / http://festival.1september.ru/articles/586689/
5. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагоги-ческое наследие / Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. – М.: Педагогика, 1989. – 416 с.
6. Нарушевич А.Г. Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5–11 классы : учебно-методическое пособие / А.Г.Нарушевич / Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 78 с.
7. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.-Л.: Изд-во АПН, 1950. – 384 с.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-него (полного) общего образования http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=457
9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего среднего профессионального образования по специальности 260807 Тех-нология продукции общественного питания http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm675-1.pdf
240
Zagryadskaya Vera Ivanovna
HOW TO ACHIEVE AN EFFECTIVE COMMUNICATION AN THE LESSON
The Russian language; professional education; Method of teaching; system-activity approach.
The article is about a system-activity approach to the lesson of the Russian language for students of specialty 260807 Technology of catering products.They suggest one of the possible ways of achievement an effective communication at the lesson of a modern type.
Кузьмина Ольга Владимировналектор русского языка Таллинской высшей технической школы,
Таллинн, Эстония [email protected]
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В КУРСЕ РУССКОГО
ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯРусский язык профессионально общения, предметная компетенция
В данной статье анализируются различные подходы к формированию предмет-ной компетенции при обучении русскому языку профессионального общения
При разработки курса русского языка профессионального общения нам необходимо определить, что является содержанием предметной ком-петенции и каким образом она будет формироваться в процессе обучения. Поясним, что мы имеем в виду. В ситуации, когда иностранный студент обучается в вузе на русском языке, с уверенностью можно сказать, что практически весь объем необходимых знаний, умений и навыков по вы-бранной им специальности он получает посредством русского языка. То есть РЯ является средством получения специальности. Иная ситуация складывается при обучении русскому языку профессионального обще-ния. Здесь возможны два варианта. Первый – предметная компетенция практически в полном объеме уже сформирована средствами родного языка, то есть мы обучаем РЯ иностранного специалиста в какой-либо области. Второй вариант – она еще формируется – мы обучаем учащих-ся вузов. Но и в этом случае формирование основного объема предмет-ной компетенции происходит посредством родного языка (реже языка-посредника) студента. Таким образом, возникают следующие вопросы:
241
формируем ли мы вообще предметную компетенцию в процессе обуче-ния РЯ профессионального общения; если да, то что мы подразумеваем под этим понятием и каким образом мы это делаем.
Очевидно, что ответ на первый вопрос зависит и от того содержания, которое вкладывается в термин «предметная компетенция», и от конкрет-ной ситуации. Этот ответ может быть и положительным (см., например: [2 и 3]), и отрицательным – как, например, в чрезвычайно интересной работе А.В.Стефанской, в которой автор предлагает оригинальную ме-тодику обучения профессиональному общению на русском языке ино-странных инженеров в процессе их производственной деятельности [5] .
Кроме того, ответ зависит и от толкования понятия «профессиональ-ное общение». Так, анализируя работу С.Борзенко «Обучение иностран-ных студентов-медиков профессиональному общению на русском язы-ке», А.В.Стефанская пишет: «Поскольку общение врача и пациента не предполагает равной степени компетенции участников общения в пред-мете речи, соответственно, чисто профессиональная речемыслительная деятельность специалиста не отражается напрямую в коммуникативном плане диалога с пациентом, оно скорее является профессиональным по роду деятельности, нежели по сути» [5, с. 47]. И далее: «Мы полагаем, что о профессиональном общении можно говорить только применитель-но к общению специалистов» [там же, с. 48].
На наш взгляд, такое утверждение слишком категорично. Похоже, оно вытекает из желания автора разграничить учебно-профессиональное и собственно профессиональное общение. При этом А.В.Стефанская убеди-тельно доказывает его релевантность по отношению к конкретной целевой группе, изучающей русский язык для профессиональных целей. Действи-тельно, трудно представить себе инженера на производстве, монтирующе-го новую автоматическую линию совместно с людьми, в этом деле ничего не понимающими. Инженер по роду своей деятельности общается с «рав-ными» себе специалистами, обладающими высоким уровнем предметной компетенции. Это, безусловно, общение равного с равным. Однако, автор учитывает специфику одной целевой группы и не принимает во внимание все «специальное» – от «специальность» – многообразие контингента, из-учающего русский язык профессионального общения.
Нам ближе концепция, представленное в работах И.В.Михалкиной. Исследуя деловое общение, автор отмечает, что данный феномен чаще всего рассматривается как общение в сфере коммерции, как «бизнес-ком-муникация». При этом слово «бизнес» используется как синоним «ком-мерции». В то же время в английском языке это слово имеет несколько значений, и в качестве первого обычно приводится «дело, занятие». Уче-ный делает вывод: «Думается, что термин «деловое общение» следует соотносить с делом в широком смысле этого слова, с профессиональной деятельностью» [3, с. 30].
242
Мы также принимаем во внимание точку зрения В.П.Ивбуле, изло-женную в диссертации по методике обучения профессиональному обще-нию на русском языке в социокультурных условиях Латвии студентов юридического профиля. Автор отмечает, что особая важность коммуни-кативного аспекта профессиональной деятельности юриста обусловлена тем, что она в значительной своей части протекает в условиях общения, которое нередко составляет основное содержание его деятельности, ста-новясь особым видом труда – профессиональным общением. Кроме того, «коммуникативная компетентность специалистов юридического профиля проявляется…в способности выполнять надлежащие социально-комму-никативные роли в ситуациях профессионального общения независимо от используемого языка. Во многих случаях общение для юриста при-обретает самостоятельный характер как особый вид профессиональной деятельности» [1, с. 72]. Юрист – не единственная специальность, где обязанности работника напрямую связаны с общением, то же можно ска-зать о целом ряде профессий. Для некоторых из них разработаны совре-менные учебные материалы по РКИ, в которых по-разному реализуется подход к формированию предметной компетенции в процессе обучения РЯ профессионального общения.
В качестве примера комплексного, целостного подхода к данному во-просу нами будет рассмотрен учебный комплекс «Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ 2», адресатом которого является менеджер по туризму, чья должностная позиция предполагает общение на русском языке как по линии «менеджер – клиент», так и по линии «менеджер-менеджер» [4].
Вопрос о возможности и необходимости формирования предметной компетенции (ПК) авторами данного учебного курса по РКИ в сфере международного турбизнеса решается положительно. Содержание ПК определяется как: а) знания в определенной специальной области; б) зна-ния о стране изучаемого языка, необходимые для решения профессио-нальных задач.
При этом под «специальными знаниями» подразумевается совсем не содержание таких спец дисциплин как «маркетинг», «менеджмент». Речь идет о другом.
Во-первых, имеются в виду некие «прикладные» знания, даже скорее «действия», не зная которых менеджер по туризму просто не может вы-полнять свои должностные обязанности. Например, в 5-м блоке учебного комплекса «Транспортные перевозки во время тура. Образовательный ту-ризм» перед учащимся стоит 6 коммуникативных задач, среди которых – «консультировать по вопросам аренды машины», «разъяснять правила бронирования билетов на паром и самолет», «уточнять информацию о различных языковых центрах» [4, с. 130]. Решая их, студент учится не только правильно использовать собственно языковые средства, но и по-лучает «предметную» информацию: как оформляется аренда машины;
243
какие существуют правила при заказе группового билета на самолет и что должен делать сотрудник, оформляя такой заказ; какая требуется страхов-ка для ребенка в случае поездки в детский языковой лагерь за границу и как действовать, если планы клиентов изменились. Можно сказать, что такого рода сведения пронизывают весь учебный комплекс, они содер-жатся почти в каждом диалоге. Подобная информационно-предметная насыщенность, в первую очередь, актуальна для студентов и начинаю-щих специалистов, поскольку помогает им овладевать профессией «ме-неджер по туризму», снабжая полезными знаниями и показывая «инстру-ментальное» поведение последнего.
Во-вторых, говоря о «специальных знаниях», мы имеем в виду ин-формацию, может быть, напрямую не связанную с непосредственными действиями турменеджера в той или иной ситуации, но расширяющую кругозор работника, знакомящую его с новыми направлениями в разви-тии туриндустрии, интересными странами, необычными видами туризма и т.д. Такая информация интересна не только начинающим работать или студентам. Она полезна и для опытных специалистов. Ее презентация но-сит несколько иной характер по сравнению с представлением «приклад-ных» навыков. Если примеры «инструментального» поведения менед-жера «рассыпаны» по всему комплексу, то в данном случае предметные знания даются в специальном разделе. В каждом блоке (всего их 10) в рубрике «Вы прочитаете и узнаете» представлено два текста. Первый – «Ваша специальность» – имеет диалогическую форму. Это интервью, ко-торое менеджер дает журналисту. Его тема связана или с направлениями развития турбизнеса, или с деятельностью турфирм, занимающих лиди-рующее положении на рынке, или с узкой специализацией менеджера по туризму (например, в блоке 3 – «Виды страхования»). Второй текст – о видах туризма. Среди них выбраны те, что активно развиваются в по-следние годы: агротуризм, инсентив-туризм. Таким образом, менеджеры по туризму, уже являясь специалистами в своей области, получают новую информацию и, следовательно, повышают свою квалификацию.
Презентация знаний о стране изучаемого языка, необходимых для ре-шения профессиональных задач, также вынесено в отдельную рубрику – «Русские, какие они?». Она призвана познакомить учащихся с особен-ностями русского национального характера – каким его видят сами рус-ские, и что об этом феномене думают иностранцы. Кроме того, в рубрике «Факты. Статистика» приводится много сведений о развитии туризма в России, в рубрике «Закон есть закон» даются важные сведения о право-вой стороне деятельности в сфере туризма в России.
Такой целостный подход к формирования предметной компетенции позволяет использовать данный комплекс для обучения и студентов ву-зов, только получающих специальность; и профессионалов турбизнеса, собирающихся работать на российском рынке; и проходящих переобуче-
244
ние в связи со сменой специальности. Кроме того, на наш взгляд, насы-щенное предметное содержание комплекса РЭТ-2 делает возможным его использование в качестве учебного материала при предметно-языковом интегрированном обучении по специальности «туризм».
Данный термин – перевод с английского Content and Language Integrated Learning (CLIL). Идея интегрированного обучения возникла в результате возросших требований к уровню владения иностранным язы-ком при ограниченном времени, отведенном на его изучение. CLIL пре-следует две цели – изучение предмета посредством иностранного язы-ка, и иностранного языка через преподаваемый предмет. Так изучение языка становится более целенаправленным, поскольку ИЯ используется для решения конкретных коммуникативных задач [6, с. 27]. Кроме того, учащийся пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала; работа над различными темами позволяет выучить специфи-ческие термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению словарного запаса предметной терминологией и подготав-ливает учащегося к дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений. По мнению сторонников данного подхода, изучение иностранного языка и неязыкового предмета одновременно является до-полнительным средством для достижения образовательных целей и име-ет положительные стороны как для изучения иностранного языка, так и неязыкового предмета [там же, с.143].
Итак, как показал наш анализ, комплексный подход к формированию предметной компетенции, реализованный в учебных материалах по РКИ профессионального общения, позволяет использовать их для обучения различных целевых групп и, в перспективе, в рамках различных методи-ческих концепций.
ЛИТЕРАТУРА:1. Do Coyle, Philip Hood, David Marsh. CLIL: Content and Language
Integrated Learning. – Cambridge University press. 2010. – 170 с.2. Ивбуле В.П. Методика обучения профессиональному общению на
русском языке в социокультурных условиях Латвии (юридический про-филь). Дисс. … канд. пед. наук. – М., ИРЯП, 2003.
3. Михалкина И.В. Коммуникативное и языковое содержание обуче-ния профессиональному общению специалистов в области внешнеэконо-мических связей. Дисс. … канд. пед. наук. – М., МГУ, 1994. – 260 с.
4. Михалкина И.В. Лингвометодические основы обучения иностран-ных граждан русскому языку как средству делового общения. Дисс. … доктора пед. наук. –М., МГУ, 1998. – 459 с.
5. Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ 2: Учебный комплекс по русско-му языку как иностранному в сфере международного туристского биз-неса / Трушина Л.Б., Волкова Т.Г., Глива Н.Б., Кузнецов А.Л., Кузьмина
245
О.В., Лайкова М.И., Никифорова Е.П., Орлова Е.М., Терентьева К.В. – М., «Икар», 2006. – 394 с.
6. Стефанская А.В. Обучение профессиональному общению на рус-ском языке иностранных инженеров в условиях их производственной де-ятельности. Дисс … к анд.пед.наук. – М., МГУ, 1999.
Kuzmina Olga Vladimirovna
DEVELOPMENT OF CONTENT-BASED COMTETENCE IN THE CONTEXT OF TEACHING RUSSIAN
FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
Russian for professional communication, content-based competence.
This article describes different approaches to development of content-based compe-tence in the context of teaching Russian for professional communication.
Лобова Ирина Викторовнаучитель русского языка Аннинской средней школы №6
Воронежская обл., Россия[email protected]
ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКОВ В ИССЛЕДОВАНИИ
ШКОЛЬНИКОВИсследования современного русского языка в школе; политичес кая лингвистика; публичная речь политиков; президент В.Путин; «путинизмы»; русский разговор-ный язык; просторечия; жаргонизмы; идиомы; А.С.Пушкин.
Статья посвящена исследовательской деятельности школьников по русскому языку. Язык бурно изменяется. Наибольшим изменениям на современном этапе развития русского языка подвергается политическая и публицистическая речь. Анализ публичной речи В. Путина – тема исследования 2015 года.
Несколько лет (с 2006 года) мы с моими учениками занимаемся иссле-дованиями современного русского языка. Принимаем участие в муници-пальных и региональных научно-практических конференциях по русско-му языку и культуре общения, печатаем статьи. Тема бурных изменений в русском языке очень интересна. Мы анализируем, как меняется речь школьников, как активно в нашу речь в недавнем прошлом вторгалась нецензурная лексика, очень много спорили об экспансии англицизмов, о жаргонах и просторечиях в речи как школьников, так и известных лю-
246
дей, публичных людей – телеведущих, шоуменов, актеров. Анализирова-ли печатные СМИ – и районную газету «Аннинские вести», и областные популярные газеты – «Коммуна», «Мое», федеральные – «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», где находили очень много и того, и другого. Проводили опросы среди «школьного» и «родительского» насе-ления о вреде употребления подобных слов и выражений, о вредном при-мере для подрастающего поколения.
Но – все течет, все изменяется, как мудро сказал Геродот. Мир пере-живает сложное время. Войны на Востоке, теракты во всех частях света, волнения в центре Европы, огромная миграция населения, потоки ин-формации, информации часто противоречивой. И все большее значение приобретает публицистика. По мнению специалистов, наибольшим изме-нениям на современном этапе развития русского языка подвергается по-литическая и публицистическая речь.[6] И в связи с нынешней между-народной политической ситуацией особую актуальность приобретает политическая лингвистика.
Эта дисциплина, относительно недавно появившаяся на постсо-ветском пространстве, довольно быстро стала перспективной. [5] Пу-бличное выступление – важный шаг в работе политика, поскольку пред-ставляет собой воплощенный в живую речь определенный политический текст. По мнению В.И. Аннушкина: «побеждает тот, кто говорит или выражает мысли удачно, убедительно, увлекательно; и, напротив, про-игрывает тот, кто что-то «не так сказал», «не так выразился»» [1].В арсенале умелого политика слово – мощное оружие, эффективное сред-ство достижения цели, тем более, в речи Президента страны. Тем более, если эта страна – современная Россия. Ведь именно Россия сейчас играет ключевую роль на мировой арене. И речи Президента Путина В.В. при-влекают внимание всей мировой общественности. Для населения России выступления Путина имеют важное значение – об этом говорит популяр-ность таких масштабных медиа-событий, как «Прямые линии с Прези-дентом» (2001 – 2007гг.), «Послания Президента Федеральному Собра-нию», большие ежегодные пресс-конференции для международных и отечественных СМИ. В.В. Путин известен как человек, который про-славился на весь мир умением ярко (хотя и резко) выразить свою мысль.
В конце 2015 года его речь называют более убедительной, чем речь Президента США Б.Обамы.
И мы тоже решили тоже исследовать речи нашего президента.Что же, по мнению специалистов, делает публичные речи Путина та-
кими запоминающимися? Такими хлесткими и яркими? Русский разго-ворный язык.
Это придает яркую стилистическую окрашенность, благодаря которой выступления запоминаются, цитируются и анализируются мировой обще-ственностью. [2] Это воздействие достигается путем использования жарго-
247
низмов, просторечий и других видов лексики, не характерной для публичных выступлений, но органичных для разговорной речи. Эти языковые единицы сильно выделяются на фоне более сдержанной и официальной лексики.
Самое раннее знаменитое изречение Владимира Владимировича:«Будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту.
Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем – и в сортире их замо-чим, в конце концов» (В.В.Путин 24 сентября 1999 в Астане, Казахстан).
Выражение «мочить в сортире» относится к жаргонной лексике, ис-пользование которой не характерно для публичных выступлений. Одна-ко, в данном случае жаргонизм использован для передачи решительности президента и народа в борьбе с терроризмом
Это стало стилем Путина, появился термин «Путинизмы». Хлесткие, запоминающиеся выражения, не свойственные речи политика.
Например, из Валдайского выступления: «к нам как бы через задние ворота заходят наши партнеры»; «без конца ляпают все новые и новые цветные революции»; «как бы ни старались наковырять что-то»; «мир под себя причесать»; «не корчите из себя вершителей судеб всего мира»; «мировое сообщество как-то помалкивает»; «чушь какая-то!» [4].
«Если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти лишние за-ряды ни на складах, ни „под подушкой“, ни „под одеялом“, я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать». Это пример из выступления В. Путина на Мюнхенской конференции 2007 г. [3]
Примеры из документа [7]- Послания Президента Федеральному соб-ранию 3.12.2015 г. :
«Заварили кашу; Умыли руки; Попрессовали; обобрали; А воз и ныне там!; Это ни в какие ворота не лезет!» и другие.
Речи российского президента яркие и запоминающиеся. Неслучайно многие из них в последнее время расходятся на цитаты. Кроме того, с помощью данного приема Путин подчеркивает важность определен-ных вопросов. В подобных случаях просторечные слова выступают в роли своеобразных маркеров. А. Чудинов, автор книги «Современная политическая лингвистика» утверждает, что одной из особенностей современной политической лексики является как раз возможность «вы-ражаться не по этикету» [8]. Далее он добавляет, что подобная экспрес-сия президента считается в России признаком искренности и приносит ему дополнительные рейтинги и уважение.
А на уроках русского языка и литературы мы вспоминаем А.С.Пушкина, который с ранних лет говорил только на французском, в Лицее носил прозвище – француз, а стал великим русским поэтом. Про-стые русские люди, встретившиеся ему в детстве, научили его русскому языку, сокровища которого использует и наш Президент России в своих выступлениях.
248
ЛИТЕРАТУРА:1. Аннушкин В.И. Политическая риторика современной России –
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://pandia.ru/text/78/252/14452.php (дата обращения: 25.01.2016).
2. Бунимович Е. Волшебный язык Путина [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.soob.ru/n/2004/1/concept/2 (дата обращения: 25.01.2016).
3. Выступление Путина на Мюнхенской конференции 2007 г. http://dokumentika.org/tv-video/vistuplenie-v-putina-na-miunchenskoy-konferentsii-2007-g
4. Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» [Элект-ронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=11988#3. (дата обращения: 24.01.2016).
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_лингвистика (дата обра-щения: 25.01.2016).
6. Русский язык и стилистика речи. [Электронный ресурс] Сайт http://kolboska.narod.ru (дата обращения: 25.01.2016).
7. Стенограмма Послания Президента Федеральному собранию 3.12.2015 г. [Электронный ресурс] https://russian.rt.com/article/134406
8. Чудинов А. Интервью. [Электронный ресурс] – сайт http://www.anews.com/ru/post/20851061/? ((дата обращения: 25.01.2016).
Lobova Irina Viktorovna
PUBLIC SPEECH OF MODERN POLITICS IN THE STUDY OF SCHOOLCHILDREN.
Modern Russian language at school; political linguistics; public speech of politicians; President Vladimir Putin; “Putinism”; Russian spoken language; vernacular; slang; idioms; A. S. Pushkin.
The article is devoted to the research activity of students of the Russian language. The language changed rapidly. The biggest change at the present stage of development of the Russian language is subjected to political and journalistic speech. Analysis of pub-lic speeches of Vladimir Putin – the topic of the research 2015.
249
Маркевич Елена Владиславовнастарший преподаватель
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»Москва, Россия[email protected]
ВИДЫ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ И ИХ РОЛЬ В КУРСЕ ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
Русский язык как иностранный, лингвострановедение, прецедентные феномены, теория прецедентности.
В статье рассмотрены виды прецедентных феноменов в курсе обучения РКИ студентов технического профиля, их роль в корректном восприятии русского культурного дискурса. Обозначено место ПФ в системе страноведческих зна-ний и в системе компетенций. Определены формы презентации ПФ в учебной литературе. Предложены пути улучшения социолингвистической компетенции студентов-нефилологов.
(Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 14–04–00483)
Учебный процесс со студентами технического профиля, как правило, концентрируется на их профильной подготовке, а вовлеченность в про-фессиональную языковую среду с первых дней пребывания в универси-тете способствует смещению акцента в обучении на профессиональную сферу. В связи с этим, формированию страноведческой компетенции, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью коммуникатив-ной компетенции учащегося, нередко уделяется недостаточное внимание. В этой связи у студентов, владеющих грамматикой на достаточно высо-ком уровне, могут возникать коммуникативные неудачи, связанные с не-корректным восприятием русского культурного дискурса. Прецедентные феномены (далее – ПФ), богатое использование которых в окружающем нас языковом и культурном пространстве стало уже привычной вещью, нередко являются причиной таких коммуникативных неудач, что влечёт за собой снижение интереса к изучаемому языку, вызывает неприязнь к носителям изучаемой культуры. Представляется, что обзор учебной лите-ратуры на предмет презентации в ней ПФ может составить более полное представление о том, какие единицы предлагаются для знакомства с рус-ской картиной мира студентам-нефилологам.
Традиционно изучение ПФ опирается на фундаментальные работы отечественных филологов: Д.Б. Гудков, И.Б. Захаренко, Ю.Н. Карау-
250
лов, В.В. Красных, С.И. Сметанина и др. Следуя за Ю.Н. Карауловым и Д.Б. Гудковым, который в своих работах расширил понятие «прецедент-ный текст» до понятия «прецедентный феномен», понимаем под ПФ яв-ления, «значимые для той или иной личности в познавательном или эмо-циональном отношениях; имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников; обращение к которым возобновля-ется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [3, с.106–118].
Назовём типы ПФ по принципу структурной иерархии [7]: прецедент-ное имя (ПИ), прецедентное высказывание (ПВ), прецедентный текст (ПТ), прецедентная ситуация (ПС). Целесообразно также выделить не-вербальные (визуальные) ПФ (ВПФ) в отдельную группу (произведения живописи; архитектурные сооружения; скульптура, фотографии и т.д.)
Очевидно, что методика преподавания языка не мыслится без компо-нентов страноведческого характера. В рамках компетентностного подхода принято выделять: а) основные компетенции («ключевые» или «общие»); б) профессиональные компетенции (в обучении языку – коммуникатив-ные). К коммуникативным относятся лингвистическая, социолингвисти-ческая и прагматическая. Социолингвистическая компетенция включает такие аспекты, как: а) маркеры социальных отношений; б) правила веж-ливости; в) народная мудрость и др., которые относятся к сфере культу-ры. Таким образом, тезис «обучать языку в тесной связи с культурой» зафиксирован в системе «Общеевропейских компетенций» [6] и являет собой неотъемлемый компонент коммуникативной компетенции в целом.
Некоторые учебники, используемые в курсе общего владения русским языком: «Дорога в Россию: учебник русского языка», «Шкатулка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать иностранный язык», «Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику».
Страноведческий материал, содержащийся в данных пособиях, вклю-чает в себя и прецедентные единицы разных типов.
Доминируют ПИ, используемые как самостоятельные единицы с лингвострановедческим комментарием (А.П. Чехов, П.М. Третьяков, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, М.В. Ломоносов [1]; Осип Ман-дельштам, Анна Ахматова, Даниил Хармс, Иван Фёдоров [8]), так и в качестве материала для грамматических заданий (В.М. Васнецов, В.И. Су-риков, А.С. Пушкин, Пётр I, Екатерина Великая, Елизавета Петровна, С.П. Королёв [1], Ф.М. Достоевский, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А.А. Тарковский, А.Сахаров, Газпром, Д.С. Лихачёв, Владимир, Суздаль, Москва, Санкт-Петербург, МГУ, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лев Толстой, Юрий Гагарин, Советский Союз [2]).
Среди многообразия ПИ встречаются номинации, относящиеся к раз-ным типам ономастической лексики (антропонимы, топонимы, хронони-мы, идеонимы и др.). Наибольший практический интерес представляет
251
группа единиц, актуальных для учащихся технического профиля: относя-щихся к научному дискурсу. Эти ПИ отсылают к именам и явлениям, пре-цедентным как для русского, так и для мирового научного контекста (по классификации В.В. Красных, универсально-прецедентные) [4, с.176]: Д.Менделеев, М.В. Ломоносов, С.П. Королёв, А. Нобель, Леонардо да Винчи, А. Эйнштейн [1], Нильс Бор [2].
ПВ представлены в основном цитатами из художественной литературы («Москва, как много в этом звуке…» [8]), или пословицами и поговорками («Учиться всегда пригодится» [1], «Тише едешь, дальше будешь» [8]).
Встречаются и ПТ (русская народная сказка «Каша из топора»; «Пе-сенка об Арбате» Б.Ш. Окуджавы; «Я Вас любил…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» А.С. Пушкина; «Сказка и правда о Левше» по Н.С. Лескову [8]). Присутствуют как адаптированные, так и аутентич-ные тексты.
Немногочисленна группа ПС («утечка мозгов», «диалог культур»).Выходя за рамки рассмотрения прецедентности как элемента языково-
го сознания, как свойства образов, сформированных в сознании языковой личности при помощи языковых средств, обратим внимание на некото-рые невербальные (в частности, визуальные) ПФ, встретившиеся в учеб-ной литературе: репродукции («Алёнушка» В.М. Васнецова, «Боярыня Морозова» В.И. Сурикова), фото культурно значимых архитектурных со-оружений (Третьяковская Галерея, Большой театр, Оружейная палата, Большой Кремлёвский дворец, Спасская башня, Центральная государ-ственная библиотека, Киевский вокзал и др.), фото памятников пласти-ческого искусства (Царь-колокол, Царь-пушка, «Рабочий и колхозница», памятники Ф.М. Достоевскому, Юрию Долгорукому, А.Н. Островскому, Г. К. Жукову), портреты художников, писателей и учёных (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.М. Васнецов, В.А. Гиляровский, М.В. Ломоносов), изображе-ния артефактов (фото шоколадки «Алёнка») [1].
Корректный подбор и использование невербальных ПФ имеет особую важность, если в обучении акцент делается на изучение языка специально-сти. Такие единицы как средство обучения, в частности, могут быть исполь-зованы при семантизации лексики, позволяя прибегать к беспереводным способам семантизации, которые используются на всех уровнях обучения.
Авторами учебников используется эксплицитный способ презентации ПФ: посредством информационных текстов разных уровней сложности, комментариев к номинациям, а также текстов упражнений. Наглядным тому доказательством является ряд тренировочных упражнений, которые имеют страноведческий компонент содержания. А в отдельных случаях формат некоторых заданий позволяет представить само задание как линг-вострановедческий комментарий. Например: 1) тренировка выражения определительных отношений в сложном предложении («Первый космо-навт Юрий Гагарин, чьё имя знает весь мир, прославил Россию на века»)
252
[2, с.75]; 2) работа с падежными формами («Употребите слова в скобках в правильной форме: в отличие от кого? от чего? Пушкин, Гоголь, Цве-таева, Россия») [2, с.186]; 3) обучение использованию частицы «же» при сопоставлении объектов («Пушкин знаменит как великий поэт, Толстой же – как великий писатель») [2, с.186].
Основным видом ПФ, использующимся в грамматических заданиях, являются ПИ. Это обусловлено сущностной спецификой ПИ, которые, обладая сложной структурой и рядом дифференциальных признаков и коннотаций, имеют чёткое смысловое ядро и выполняют денотативную функцию. А значит, по сравнению с другими видами ПФ, ПИ вызывают меньше затруднений при интерпретации: могут быть легко объяснены при помощи краткого комментария, подбора синонима или аналогии.
Несмотря на значительный объём ПФ, представленных в рассмотрен-ных учебниках, нельзя констатировать, что данное многообразие полностью компенсирует необходимый объём информации о русской картине мира. Работа со страноведческой информацией может осуществляться также и за пределами аудитории, тем более, что формат учебника имеет определённые ограничения по сравнению с электронными ресурсами, которые позволяют разнопланово использовать потенциал ПФ в интересах как учащегося, так и преподавателя. Следует констатировать, что специфика разных видов ПФ, и, в частности, визуальных ПФ, открывает новые возможности для созда-ния средств обучения, формирующих корректное восприятие и понимание русского культурного контекста. В качестве иллюстрации применения ПФ для создания средств обучения приведём МЛС «Россия» [5], в котором уч-тён не только вербальный пласт прецедентного культурного фона, но и его невербальная составляющая. В ситуации недостаточности страноведческого компонента на занятиях, взаимодействие учащихся с этим образовательным ресурсом может быть реализовано внеаудиторно, в случае индивидуальной заинтересованности студента, и способствовать формированию социокуль-турной составляющей его вторичной языковой личности.
Таким образом, можно заключить, что в ходе обучения русскому языку иностранные студенты НИЯУ «МИФИ» имеют возможность знакомить-ся с некоторыми фрагментами русской культуры посредством разных ви-дов ПФ, которые встречаются в учебниках. Анализ содержания учебных пособий показал, что в них встречаются все типы ПФ, однако группа ПИ является наиболее численной. Важность овладения некоторым ПФ обу-словлена тем, что умение адекватно воспринимать ПФ раскрывает перед иностранным студентом ряд возможностей, коррелирующих с целями ов-ладения русским языком: адекватно воспринимать современную русскую культуру; понимать язык СМИ; свободно использовать ресурсы Рунета. Понимание ПФ иностранцем способствует формированию адекватного образа современной России и также разрушению ложных социокультур-ных стереотипов о России и русских.
253
ЛИТЕРАТУРА:1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию:
учебник русского языка (базовый уровень), СПб.: Златоуст, 2009. – 256 с; (первый уровень). – Т1, Т2. – СПб.: Златоуст, 2009. – 200 с.
2. Баско В.Н. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: учебное пособие по русскому языку для иностранных уча-щихся. – М.: Рус. яз. Курсы, 2013. – 272 с.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987 г. – 261 с.
4. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М.: Гнозис, 2003 г. – 375 с.
5. Мультимедийный лингвострановедческий словарь «Россия»: сайт. – URL: http://ls.pushkin.edu.ru (дата обращения: 03.11.2015)
6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка / Под общей ред. К.М. Ирисхановой. – М.: МГЛУ, 2005. – 247 с.
7. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический сло-варь: Вып 1. / И.С. Брилева, Н.П. Вольская. Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2004. – 318 с.
8. Чубарова О.В. Шкатулка: пособие по чтению для иностранцев, на-чинающих изучать иностранный язык. – М.: Рус. яз. Курсы, 2008. – 224 с.
Markevich Elena Vladislavovna
TYPES OF PRECEDENT PHENOMENA AND THEIR ROLE IN COURSE OF RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN
FOR TECHNICAL STUDENTS
Russian as a foreign language; sociolinguistic competence; precedent phenomena; the theory of precedent.
The article describes the types of precedent phenomena in the course of Russian lan-guage for technical students, their role in the correct perception of the Russian cultural discourse. It indicates the location of this phenomena in the system of competences. The forms of the presentation of them in the educational literature is determined. Ways of improving the sociolinguistic competence of technical students are offered.
254
Попова Наталья Витальевнаканд. пед. наук, доцент Балашовского института
Саратовского государственного университета им. Н. Н. ЧернышевскогоБалашов, Россия[email protected]
ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВНОВОГО ПОКОЛЕНИЯ)
Экология языка; культура речи; школьные учебники; аспекты культуры речи.
Приведенный в данной статье анализ школьных учебников по русскому языку нового поколения (отвечающих требованиям ФГОС) позволяет автору сделать вывод об углублении лингвоэкологического (интралингвального) аспекта препо-давания языка в средней школе.
В различных учебных материалах по русскому языку школьникам предлагается текст из книги известного филолога В. В. Колесова, в кото-ром особую информацию несут следующие строки: «Все чаще мы гово-рим об экологии среды и природы. Среда же, созданная самим человеком, – это его культура. Можно даже сказать, что природа современного человека во многом объясняется его средой, его культурой. Язык – важнейший ком-понент культуры, и родной язык нуждается в охране и защите от всего, что грозит ему уничтожением...» [1, с. 3]. И школьники знают о том, что важнейшую задачу охраны литературного языка решает культура речи – особая научная дисциплина, прикладной раздел языкознания.
Как отмечают методисты, школьный курс русского языка, основной практической целью которого является совершенствование речевых навыков учащихся, всегда в той или иной мере решал вопросы куль-турно-речевые [9]. В программе к «стабильным» учебникам Т.А. Ла-дыженской, Б.Т. Баранова были выделены ставшие традиционными в методике обучения русскому языку такие два направления работы по развитию речи, как овладение нормами русского литературного языка и обогащение речи учащихся, отражающие, по сути, основную проблема-тику культуры речи.
Особая роль вопросам культуры речи отводится в современных школьных учебниках последнего десятилетия, в частности в так наз. ФГОСовских учебниках. Они знакомят школьников с понятием экология языка. Так, в учебнике для 9 класса авторов С.И. Львовой и В.В. Львова
255
предлагается задание: 1. Как вы полагаете, почему в последние годы слово экология стало использоваться не только применительно к при-родной, экономической и социальной стороне жизни, но и к языку? Что, по-вашему, означает выражение экология языка? 2. Проверьте свои предположения, обратившись к Интернету. С помощью поискового за-проса «экология языка» найдите публикации по этой проблеме. Исполь-зуя найденный вами материал, попробуйте составить план выступления (реферата, проекта) на тему «Экология языка» (работать можно парами, в группах) [8, с. 14] .
Заметим, что столь непростое для школьника задание осложняется фактом неоднозначного понимания термина экология языка, разными аспектами лингвоэкологии. Безусловно, ребятам потребуется помощь учителя, который пояснит, что в школьной практике изучения языка мы имеем дело с интралингвальным аспектом экологии языка (лингвоэколо-гии), связанным, прежде всего, с культурой речи.
Анализ школьных учебников по русскому языку нового поколения в рамках названной темы позволяет нам говорить о проявлении следую-щих тенденций.
1. Если ранее культура речи в школьных учебниках была представ-лена главным образом ее ортологическим, нормативным аспектом, то в учебниках последних изданий все более актуальными становятся и во-просы коммуникативно-прагматического, а также этического аспектов.
2. Очевидно усиление культурологической направленности препода-вания родного языка, при котором вопросы культурно-речевые отвечают важнейшей задаче лингвистического образования – воспитанию ценност-ного отношения к языку как компоненту национальной культуры.
3. В связи с вышесказанным, интереснее, разнообразнее и все слож-нее становятся предлагаемые в учебнике приемы работы, виды заданий и упражнений, реализующие коммуникативно-деятельностный подход в обучении языку.
4. Как правило, современные учебники снабжаются различными словариками (как справочными материалами) – не только толковым словариком и словариком «Говорите правильно», но и словообразова-тельным, этимологическим, словариком синонимов, омонимов, слова-риком эпитетов; а также словариком крылатых слов и выражений, иде-ографическим словариком, словариком жестов и мимики, словариком цитат «Высказывания о языке и речи» и др. [5; 7].
Для подтверждения и иллюстрации сказанного обратимся к одному из учебных комплексов по русскому языку – учебникам для 5–9 классов авторов С. И. Львовой, В. В. Львова.
Говоря об ортологическом аспекте культуры речи в школьных учебниках, отметим, что по традиции культура речи не выделяется в самостоятельный раздел школьного курса русского языка, а изучается
256
рассредоточенно, в связи с изучением основных разделов систематиче-ского курса – фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса, т.е. культура речи – это аспект преподавания всех разделов науки о языке. Нормы ли-тературного языка усваиваются школьниками практическим путем, при выполнении специальных заданий и упражнений. Например, при изуче-нии имени существительного, согласно определенной последователь-ности подачи учебного материала по параграфам, школьники узнают: 1) об общем грамматическом значении этой части речи, 2) о морфоло-гических особенностях существительного, 3) его синтаксической роли; 4) и последний параграф – «Культура речи. Правильное употребление имен существительных. • Орфоэпические нормы. • Грамматические нормы. • Лексические нормы» – знакомит с разными видами норм упо-требления этой части речи. Аналогично подается материал и по другим частям речи. При линейно-ступенчатом расположении материала, ха-рактерного для школьных учебников (когда некоторые темы изучаются в 2–3 этапа), материал по культуре речи также подается ступенчато. Из-учение синтаксических единиц – словосочетания и предложения (всех его основных типов) также включает культурно-речевой аспект. Так, в учебнике для 8 класса раздел «Словосочетание как единица синтакси-са» включает следующие параграфы: «Виды словосочетаний»; «Куль-тура речи. Употребление словосочетаний. • Орфоэпические нормы. • Грамматические нормы. • Лексические нормы» [6].
Раздел «Текстоведение» знакомит школьников с основными норма-ми построения и языкового оформления текста, учит находить речевые ошибки и недочеты, редактировать текст. Например, в учебнике для 5 класса параграф «Основные нормы построения текста» говорится, что нормы построения текста – это требования к содержанию, логиче-ской последовательности и речевому оформлению устного и письмен-ного текста [2, с. 174].
Как уже было сказано, коммуникативный аспект культуры речи также имеет место в современных школьных учебниках. Его основой является выбор нужных для данной цели и условий общения языко-вых средств. Уже в 5 классе, далее в 6-м детей знакомят с понятием речевая ситуация, которая обусловливает языковое оформление опре-деленного высказывания. В 7 классе параграф «Текст как произведение речи» знакомит учеников с текстом не только как результатом речевой деятельности, но и как самой деятельностью, процессом порождения речевого высказывания, который включает 4 этапа: речевой замысел, обдумывание цели высказывания, планирование (обдумывание) содер-жания высказывания, создание речевого произведения, редактирование. Дается понятие о требованиях к связной речи – точности, логичности, выразительности; о ключевых словах текста; о типовой структуре текс-та (включающей зачин, главную часть и концовку) [5] .
257
Более подробно, чем прежде, и в иной трактовке представлена в учебниках теория стилей языка/речи. В частности, то, что традиционно школьникам давалось как стили языка, теперь называется функциональ-ные разновидности языка, среди которых выделяются 3 функциональ-ных стиля и особые функциональные разновидности языка – разговор-ная речь и язык художественной литературы [4; 6].
Этический аспект культуры речи, иначе речевой этикет, также пред-ставлен специальным теоретическим и практическим учебным материа-лом. В учебнике для 5 класса дается понятие этикет, этикетные слова, которые помогают устанавливать доброжелательный контакт с собе-седником, понятие о формулах речевого этикета – приветствия, проща-ния, просьбы, благодарности, извинения и др. В специальных упражне-ниях этикетные слова связываются с речевыми ситуациями, с правилами речевого поведения. К примеру, интересно такое задание к упражнению: «Русский народ давно создал правила речевого этикета и выразил их в пословицах и поговорках. Прочитайте пословицы и разъясните стоящие за нами правила речевого поведения. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь; Красно поле пшеном, а речь – слушанием; и др. [2, с.99].
В учебнике для 8 класса находим теоретическую статью о невербаль-ных средствах общения и к ней упражнение, знакомящее ребят со слова-риком жестов и мимикой [6, с. 39]. А в одном из упражнений учебника для 9 класса ученикам дается задание: «на основе текста сформулируйте этикетные правила, которыми нужно руководствоваться при общении по электронной почте» [8, с. 301].
Подобные упражнения, как и специальные теоретические статьи в современных школьных учебниках, убеждают нас в том, что лингвоэ-кологический аспект изучения и преподавания родного языка все более углубляется. Ну а к каким результатам это приведет – вопрос открытый.
ЛИТЕРАТУРА:1. Колесов В.В. Гордый наш язык. – 2 -е изд., перераб. – СПб.: Авалон,
Азбука-классика, 2006. — 352 с.2. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеоб-
разоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1. – 9-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. – 182 с.
3. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеоб-разоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2. – 9-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. – 167 с.
4. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеоб-разоват. учреждений. В 3 ч. – 9-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012.
5. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеоб-разоват. учреждений. В 2 ч. – 8-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012.
258
6. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеоб-разоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1. – 8-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. – 285 с.
7. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеоб-разоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2. – 8-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. – 181 с.
8. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеоб-разоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1. – 6-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. –336 с.
9. Методика развития речи на уроках русского языка: кн. для учи-теля / Н.Е.Богуславская, В.И.Капинос, А.Ю.Купалова и др.; под ред. Т.А.Ладыженской. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1991. – 240 с.
Popova Natalya Vitalievna
A LINGVOECOLOGICAL ASPECT OF STUDYING RUSSIAN (USING SCHOOL TEXTBOOKS OF THE NEW GENERATION
AS MATERIAL)
Ecology of language; speech culture; school textbooks; aspects of speech culture.
An analysis of school textbooks of the new generation on Russian (compliant with the FSES requirements) given in the paper allows the author to make a conclusion about deepening a lingvoecological (intralingual) aspect of language teaching in secondary schools.
Телкова Валентина Алексеевнаканд. филол. наук, доцент
Елецкого государственного университета им. И. БунинаЕлец, Россия
КАКИМ ВИДЕЛ А.Б. ШАПИРО КУРС СИНТАКСИСА РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ? (К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ)Школьная грамматика, синтаксис, формальная грамматика, учебник.
Статья посвящена деятельности известного языковеда и педагога А.Б. Шапиро, который внес большой вклад в разработку частных и общих вопросов русской грам-матики, получивших освещение в многочисленных статьях и учебных пособиях.
259
В прошлом году исполнилось 125 лет со дня рождения видного фило-лога-русиста, доктора филологических наук, профессора, известного педа-гога, деятеля просвещения Абрама Борисовича Шапиро. Его перу принад-лежит свыше 60 печатных трудов, среди которых были как сугубо научные работы по языковедению и лингвистике, так и учебники, учебные пособия и методические руководства для школы. А.Б. Шапиро принадлежал к той замечательной плеяде русских ученых-филологов, таких как Ф.Ф. Форту-натов, Д.Н. Ушаков, А.М. Пешковский, С.И. Карцевский, А.В. Миртов и др., которые были одновременно и методистами. Основой их методической деятельности был прежде всего сам предмет – языкознание.
Лингвистическую подготовку А.Б. Шапиро получил в Московском университете, где он учился на славяно-русском отделении историко-фи-лологического факультета. Учителями Шапиро были такие последовате-ли Ф.Ф. Фортунатова, как В.К. Поржезинский, Д.Н. Ушаков, В.Н. Щеп-кин. Идеи Московской филологической школы, основателем которой был Ф.Ф. Фортунатов, оказали решающее воздействие на лингвистическое мировоззрение будущего ученого.
После окончания университета и службы в армии А.Б.Шапиро начал свою преподавательскую деятельность, работая на рабфаке им. Покров-ского при Московском университете. Это были 20-е годы прошлого века, когда по всей стране открывались двери учебных заведений для рабо-чей и крестьянской молодежи. Чтобы подготовить молодых девушек и юношей к поступлению в высшие учебные заведения, организовывались рабфаки (рабочие факультеты) и школы взрослых повышенного типа. Русский язык в этих средних учебных заведениях признавался одним из важнейших предметов. Научно-методический опыт построения курса грамматики русского языка для таких школ был представлен в учебной книге «Грамматика в школе для взрослых», созданной А.Б. Шапиро со-вместно с Н.Ф. Бельчиковым в 1924 году.
В первые десятилетия XX века как в лингвистической науке, так и в методических трудах преобладала революционность идей, ощущался разрыв с традициями дореволюционного периода. Все это нашло отра-жение в предисловии к учебной книге, где указывалось, что «в данное время разрыв между школьной и научной грамматикой очень глубок, а в школе нет, не создавалось вовсе прочной осязательной методической традиции для проведения в сознание учащихся научной грамматики» [1, c. 3], исходя из этого, была представлена авторская позиция относитель-но содержания и методов обучения грамматике русского языка. Прежде всего было заявлено, что идеалом преподавания грамматики в школе яв-ляется «овладение учащимися сущностью процесса речи, не лишенное здоровых познаний о языке и умения лично самому разобраться в фактах языка» [1, c. 5]. Добиться этого, как утверждали авторы, можно, если из-учать языковые факты не путем «заучивания склонений и спряжений»,
260
а методом наблюдения, суть которого состояла в том, чтобы «учащиеся под руководством преподавателя сами открывали и определяли явления родного языка» [3, c. 436]. Нельзя не отметить, что установка на антисхо-ластичность, индуктивный подход к обучению грамматике, безусловно, является положительным моментом в позиции авторов.
Следуя духу времени, А.Б. Шапиро и Н.Ф. Бельчиков критически от-носятся к старой школьной грамматике, которая, «совершенно игнорируя форму слова, строила свое содержание на логическом принципе. На осно-вании значения слов <…> строила классификацию слов, строила весь син-таксис» [1, c. 5]. Авторы не признают искусственное разделение синтакси-са и морфологии: «Разделение грамматики в процессе изучения явлений языка на две части, на морфологию и синтаксис, изолированные друг от друга, — искусственно и не только не вносит ясности в работу, но, наобо-рот, мешает выяснению живых процессов в языке» [1, c. 65–66].
А.Б. Шапиро и Н.Ф. Бельчиков провозглашают себя сторонниками но-вой (научной) грамматики, которая «в основу всего кладет форму слов» [1, c.4]. В свою очередь формальная точка зрения на языковые явления определила содержание и построение школьного курса грамматики. В частности, в области синтаксиса предлагалось отношения между слова-ми, а также между предложениями определять не смыслом и значением, а только формой словосочетаний. В этом случае понятие предложения как логической категории выводилось за пределы синтаксиса, объектом из-учения которого оказались «формы сочетаний, как отдельных слов друг с другом, так и целых сочетаний слов одного с другим» [1, c. 65]. Правда, от термина «предложение» авторы пособия не отказались, наполнив его другим содержанием. Предложение определялось как «словосочетание, содержащее в себе глагол (или краткую форму прилагательного) и суще-ствительное в именительном падеже» [1, c. 73].
Согласно новой концепции школьного курса синтаксиса, из него, по со-ображениям лингвометодического характера, исключалось знакомство с классификацией как простых предложений (распространенное, слитное), так и придаточных. Сегодня это может показаться странным, но тогда све-дения о «слитном предложении» (предложении с однородными членами – примеч. автора), о сочинении и подчинении, о разновидностях односо-ставных предложений признавались «практически бесполезными».
Пересмотру подверглось и учение о второстепенных членах предло-жения, поскольку, по мнению А.Б. Шапиро и Н.Ф. Бельчикова, оно «не имело ничего общего с грамматикой, т.к. совершенно игнорировало фор-мы рассматриваемых слов» [1, c. 74]. Следуя формальной точке зрения, рекомендуется определять второстепенные члены предложения по спо-собу их связи с другими членами. Исходя из этого посыла, «устраняется вся сложная система вопросов, которыми пользовалась старая школьная традиционная грамматика, и слова – члены предложения рассматрива-
261
ются в тесной связи с морфологической классификацией слов» [1, c. 6]. В таком случае определение следует трактовать как все согласуемые в роде слова, дополнение – как все управляемые косвенные падежи имени, а обстоятельства – как примыкающие наречия и деепричастия. При этом, уверены авторы пособия, термины «дополнение», «обстоятельство», «определение» оказываются излишними, «т.к. если сущность согласова-ния, управления и примыкания усвоена учащимися, то этого вполне до-статочно» [1, c. 78].
Вместе с тем как положительный момент следует отметить вполне взвешенную позицию А.Б. Шапиро и Н.Ф. Бельчикова по отношению к грамматическому разбору как виду учебно-языковых упражнений. Они не соглашаются с мнением некоторых педагогов считавших, что «разбор вносит схоластику и мертвечину своим анализом живой речи» [1, c. 75]. Их довод, что «всякое изучение чего бы то ни было (а следовательно и изучение языка) неизбежно содержит в себе элементы анализа, т.е. рас-сматривания отдельных частей, экспериментирования классификации» [1, c. 75] вполне убедителен.
Учебная книга «Грамматика в школе для взрослых» А.Б. Шапиро и Н.Ф. Бельчикова с позиций сегодняшнего дня не лишена недостатков как с лингвистической, так и с методической стороны, однако нельзя не при-знать, что это пособие принесло несомненную пользу для своего времени, так как помогло десяткам тысяч рабфаковцев овладеть основами граммати-ческой системы русского языка в целом и синтаксисом в частности.
Между тем в научном сообществе начала нарастать критика «фор-мальной грамматики», которая достигла своего апогея к началу 30-х го-дов прошлого века. Логическим следствием ее стала принятая в 1933 году первая стабильная программа по русскому языку, знаменовавшая оконча-тельное поражение «грамматического формализма». Составители про-граммы попытались синтезировать основные положения логико-грамма-тического и частично формального направления.
«Развертывая систематическое изложение грамматики ... программа везде начинает с раскрытия содержания или значения, т.е. мысли, вло-женной в то или иное слово, в тот; или иной тип предложения ... «, – пи-сала в середине 30-х годов E.H. Петрова [2, c. 14–15].
Естественно, что для выполнения задач, поставленных данной про-граммой, требовалась и соответствующая теоретическая база. Основой ее и стали опубликованные в 20-х годах труды Л.В. Щербы – в области морфологии и A.A. Шахматова – в области синтаксиса. В педагогических кругах проявился определенный интерес и к столь отрицательно оцени-вавшейся «научной грамматикой» конца XIX – первой трети XX в. систе-ме Ф.И. Буслаева.
А.Б. Шапиро как одному из видных лингвистов-теоретиков и одно-временно педагогов-практиков было поручено составить в соответ-
262
ствии с новой программой первый стабильный учебник русского языка. В 1933 году появился систематический курс грамматики, состоящий из двух частей – «Морфология» (5-6 классы) [4] и «Синтаксис» (6–7 клас-сы) [4]. Учебник, как и программа, был построен на логико-грамматичес-кой основе, но в нем присутствовали и некоторые элементы формальной грамматики.
Одним из главных достоинств учебника А.Б. Шапиро было стремле-ние автора рассмотреть все синтаксические явления «в первую очередь со стороны тех логико-смысловых взаимоотношений, которые находят свое выражение в различных формах связи как между отдельными сло-вами и группами слов, так и между предложениями (в составе сложного предложения)» [4, c. 3]. Данная позиция предполагала, что система опи-сания синтаксических категорий в учебнике строилась с учетом не только грамматических, но и семантических признаков.
Лингводидактическая значимость «Грамматики» А.Б. Шапиро опре-делялась тем, что в ней давалось полное представление как о содержании курса современного русского языка в целом, так и синтаксиса в частно-сти. Для своего времени труд А.Б. Шапиро был шагом вперед в области методики грамматики (синтаксиса), что определялось целевой установ-кой, содержанием языкового анализа, выделением пунктуационного и стилистического аспекта. Благодаря этому учитель мог последовательно излагать материал, прививая учащимся пунктуационные и стилистиче-ские навыки. Учебник А.Б. Шапиро выдержал немало изданий, просуще-ствовав в школе до 1938 года.
Начиная с 20-х годов и до конца своей жизни, А.Б. Шапиро систе-матически обращался к научной разработке частных и общих вопросов русской грамматики, которые получили освещение в многочисленных статьях, монографических исследованиях и рецензиях на труды ученых.
Основные грамматические исследования А.Б. Шапиро посвящены синтаксису. Здесь прежде всего надо отметить такие монографии, как «Очерки по синтаксису русских народных говоров» [5], где на материа-ле русских диалектов впервые в русском языкознании обстоятельно рас-сматривались вопросы синтаксиса разговорной речи, и «Основы русской пунктуации» [6], где в связи с проблемами пунктуации анализируются многие синтаксические явления.
Исследования А.Б. Шапиро по русскому синтаксису – это глубокие, обоснованные труды, к которым и сегодня обращаются не только ученые-лингвисты и учителя-практики, но и ученики. Строгость определений и выводов, четкость и простота изложения, глубоко и тонко проанализиро-ванные примеры и в то же время высокая научность, ясная теоретическая позиция обусловили востребованность статей и книг Абрама Борисовича и в настоящее время.
263
ЛИТЕРАТУРА:1. Бельчиков Н.Ф., Шапиро А.Б. Грамматика в школе для взрослых
(Опыт методического построения курса). – М.- Пг.: Госиздат, 1924. – 115с.2. Петрова Е.Н. Грамматика в средней школе. – М.-Л.: Учпедгиз,
1936. – 288 с.3. Фортунатов Ф.Ф. О преподавании грамматики русского языка в
средней школе // Изб. труды. В 2-х томах. Т.2. – М.: Учпедгиз, 1957. – 471 с.4. Шапиро А.Б. Грамматика. Ч.I – II . – М.: Образцовая тип., 1933. – 141 с.5. Шапиро А.Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров.
Строение предложения. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. – 318 с.6. Шапиро А.Б. Основы русской пунктуации. – М.: Изд-во Академии
наук СССР, 1955. – 338 с.
Telkova Valentina Alexeevna
HOW DID A.B. SHAPIRO REGARD THE COURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE SYNTAX AT SCHOOL? (TO THE 125TH
ANNIVERSARY OF BIRTHDAY)School grammar, syntax, formal grammar, textbook.
The article deals with the activity of the well-known linguist and teacher A.B. Shapiro, who made a great contribution to elaborating general and particular problems of Rus-sian grammar that were discussed in a number of articles and educational aids.
Чуносова Ирина Станиславовнааспирант
Академии последипломного образования г. Минск, Беларусь
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Профессиональные дискурсивные умения, выразительность педагогической речи, кейс-метод, коммуникативные задачи, речевые ситуации.
В статье отражён опыт проектирования учебных кейсов, содержащих ком-муникативные задачи и ситуации, в рамках реализации экспериментальной об-учающей программы развития выразительности учебно-научной речи будущих педагогов гуманитарного профиля.
264
Одним из показателей качества учебного дискурса, его эффективнос-ти является выразительность педагогической речи. Это интегральное коммуникативное качество, которое реализует в учебном общении воз-действующую функцию с помощью наглядно-образного и эмоциональ-но-экспрессивного наполнения урока, а также способствует логической и последовательной передаче учебной информации. Считается, что овла-дение умениями использования средств выразительности в учебном вза-имодействии наиболее важно для студентов педагогических специально-стей гуманитарного профиля (Г. Н. Можайцева, М. Р. Савова, Н. Б. Прес-нухина, Н. Э. Шандроха и др.).
Формирование у будущих педагогов дискурсивной компетентности в части владения выразительностью учебно-научной речи можно реали-зовать в процессе преподавания специального курса либо посредством внедрения обучающего компонента в содержание дисциплин «Культура речи», «Стилистика» и др. Развитие таких профессиональных умений базируется на усвоении теоретической информации о психолингвистиче-ских и жанрово-стилистических особенностях педагогического общения; о специфике функционирования вербальных и невербальных средств выразительности в учебном взаимодействии учителя и учеников; о фак-торах, регулирующих коммуникативную адекватность использования средств выразительности в педагогическом дискурсе.
В ходе практических занятий необходимо акцентировать внимание на развитии аналитических (опознавательных, классификационных) уме-ний и навыков в отношении средств выразительности, использованных в текстах научного стиля, а также планировать выполнение коммуникатив-но-речевых упражнений. Поскольку доминирующая идея учебной про-граммы – формирование умений и навыков, основанных на собственном речевом опыте, в условиях, моделирующих профессиональное педагоги-ческое общение, важным звеном практической работы является решение учебных кейсов. Кейс-метод (case study) – метод коллективного выпол-нения профессиональных задач и анализа ситуаций. Это специальная техника обучения, которая представляет собой разновидность исследова-тельской технологии, сочетает процедуры индивидуального, группового и коллективного обучения, предусматривает выполнение аналитических операций на основе учебного кейса, который одновременно выступает и заданием, и источником информации для осмысления возможных вари-антов действия [4, с. 92].
Педагогическая задача – поставленная профессиональная цель, требу-ющая применения уже известного или изобретения нового способа ее ре-шения. Это средство обучения получает все большее распространение в образовательной практике учреждений высшего образования, поскольку позволяет студентам почувствовать особенности профессиональной де-ятельности и заранее приобрести умения и навыки планирования, а так-
265
же достижения положительных результатов учебного процесса в школе. Использование педагогических задач активизирует процессы мышления (анализ, синтез, обобщение, систематизация и др.) [5, с. 50–51]. Наибо-лее часто педагогические задачи выступают как психолого- и социаль-но-педагогический инструмент (Г. А. Балл, Н. В. Бордовская, Л. П. Вовк, Б. С. Вульф, А. А. Реан, Л. Ф. Спирин, М. Л. Фрумкин и др.). Например, задачи педагогической диагностики; задачи по проектированию содержа-ния и отбора способов деятельности учащихся; задачи по выбору при-емов и методов воздействия на ученика; задачи по закреплению привы-чек; задачи на повышение ответственности, дисциплинированности и развитию нравственных качеств личности; задачи по педагогическому стимулированию и др. [1, с. 208].
Коммуникативные задачи имеют свою специфику: они строятся на примере естественной ситуации речевого общения или моделируют её [3, с. 7]. В том случае, когда педагогические задачи являются средством организации учебной деятельности по развитию речи, их типологию со-относят с действиями обучающихся над готовым или создаваемым са-мостоятельно текстом и выделяют: 1) речевые задачи аналитического характера по готовому тексту; 2) речевые задачи аналитико-текстового характера по готовому тексту; 3) речевые задачи на переработку готового текста; 4) речевые задачи, требующие создания нового текста на основе данного (готового); 5) речевые задачи, требующие создания собственного (в полном смысле этого слова) текста [2, с. 222–224].
В образовательной практике коммуникативные задачи возникают в пределах определенной речевой ситуации. В свою очередь, этим терми-ном («речевая ситуация») называют фрагмент действий субъектов об-разовательного процесса в конкретных условиях, совокупность обстоя-тельств, требующих анализа. Классификация педагогических ситуаций учитывает: а) место возникновения (урок, внеклассная деятельность); б) степень оригинальности (стандартные, нестандартные, оригиналь-ные); в) характер взаимоотношений субъектов (ученик – ученик, ученик – учитель и т д.); г) наличие противоречия (конфликтные, бесконфликтные, критические); д) особенности содержания (учебные, проблемные, ситуа-ции общения); е) предметную направленность [5, с. 54–55].
Учебные кейсы для развития выразительности учебно-научной речи, содержащие коммуникативные задачи, требуют обсуждения или решения проблемных вопросов, а также создания профессионально ориентиро-ванных высказываний в рамках учебных жанров педагогического дискур-са различной степени самостоятельности (аналитико-синтетического и синтетического характера). В ходе обучения студентов выразительности учебно-научной речи оптимальным вариантом будет использование ком-муникативных задач, ориентированных на работу с учебными текстами. Анализ отрывков из лингвистической и учебно-методической литературы
266
поможет углубить знания об отдельных психолингвистических терминах («речевая деятельность», «речевая ситуация», «речевое общение», «рече-вой поступок», «коммуникативный акт» и др.), об особенностях приме-нения средств выразительности в собственно научном и учебно-научном подстилях; раскрыть возможности эмоционально-чувственного развития школьников при изучении учебных предметов; отразить особенности восприятия учебной информации в зависимости от типа репрезентатив-ной системы (предпочитаемого сенсорного канала) обучающихся и т. п.
Коммуникативные задачи, ориентированные на развитие выразительно-сти педагогической речи, целесообразно формулировать в контексте таксо-номии учебных целей Б. Блума (ознакомление – понимание – анализ – син-тез – оценка) и использовать наиболее распространенные способы обра-ботки информации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, выбор, отбор, сопоставление, комбинирование, перестановка, замещение, унификация, структурирование) [6, с. 18–20]. Приведем в качестве примера коммуникативную задачу, разработанную нами на основе фрагмента вступи-тельного слова Н. Д. Арутюновой к изданию «Теория метафоры» [7]:
1. Внимательно прочитайте текст.2. Объясните причины исторических трансформаций в отношении
употребления метафор в научном дискурсе.3. Кратко сформулируйте и самостоятельно запишите принципы, ко-
торыми руководствовались философы-рационалисты и философы-ро-мантики.
4. Обсудите в группах особенности употребления метафор в научной речи, учитывая следующие факторы: устная или письменная форма речи, принадлежность к различным разновидностям научного стиля. Пред-ставьте аргументированный ответ группы на коллективное обсуждение.
5. Напишите продолжение статьи, в котором будут отражены совре-менные суждения о роли метафоризации в текстах научного стиля.
6. Предложите критерии, определяющие целесообразность примене-ния средств выразительности в учебно-научной речи (работа в группах).
В свою очередь, наблюдение за реальными речевыми ситуациями (в виде видеофрагментов уроков) в рамках экспериментального обучения выступает как средство осмысления и усвоения особенностей осущест-вления педагогического взаимодействия, помогает понять роль вербаль-ных и невербальных средств выразительности в построении учебного дискурса, способствует развитию у будущих педагогов аналитических умений в отношении отбора языковых средств учебно-научной речи. Представим алгоритм анализа речевой ситуации:
1. Определите задачи учебной коммуникации.2. Охарактеризуйте особенности речи учителя. Укажите использован-
ные вербальные средства выразительности и опишите проявления невер-бальной экспрессии (интонационные, кинетические и проксемические).
267
3. Охарактеризуйте речевое поведение учащихся (степень активности, стремление участвовать в учебном взаимодействии, заинтересованность, качество устных ответов и т. п.).
4. Оцените уровень выразительности педагогической речи: количе-ство использованных вербальных средств выразительности, их разноо-бразие (гармоничное сочетание тропов, собственно лексических средств и стилистических фигур), соответствие целям и задачам урока, индиви-дуально-психологическим и возрастным особенностям восприятия обу-чающихся; следование логике построения учебно-научной речи; дидак-тические функции выразительных средств, реализованные в речи учите-ля; оправданность невербальной экспрессии.
Выполнение учебных кейсов, содержащих коммуникативные задачи и учебные ситуации, является для будущих педагогов гуманитарных спе-циальностей одной из ступеней в процессе последовательного овладения умениями продуцирования учебно-научных высказываний в различных жанрах педагогического общения с использованием средств выразитель-ности. Этот метод обучения позволяет оказать влияние на формирование мотивационного, ценностно-смыслового, когнитивного и практического компонентов дискурсивной компетенции в части владения выразитель-ностью педагогической речи.
ЛИТЕРАТУРА:1. Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: учеб. пособие. СПб.: Пи-
тер. – 2006. – 304 с.2. Методика развития речи на уроках русского языка: кн. для учителя /
Н. Е. Богуславская [и др.]; под. ред. Т. А. Ладыженской. М.: Просвеще-ние. – 1991. – 240 с.
3. Напольнова, Т.В. Активизация мыслительной деятельности уча-щихся на уроках русского языка : пособие для учителя. М.: Просвеще-ние. – 1983. – 111 с.
4. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации об-учения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Т.С. Пани-ной. 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». – 2008. – 176 с.
5. Руднева Е.Л, Ткачёва О.Н., Шмырёва Н.А. Педагогические задачи и ситуации как средство профессиональной подготовки будущих педаго-гов // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – № 2. – С. 50–58.
6. Савельева, М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и исполь-зование в процессе обучения и оценки компетенций студентов: учеб.-ме-тод. пособие. Ижевск: УдГУ. – 2013. – 94 с.
7. Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз./ вступ. ст. и сост. Н Д. Арутюновой; под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. М.: Прогресс. – 1990. – 512 с.
268
Chunosova Irina Stanislavovna
COMMUNICATION TASKS AND SITUATIONS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF EXPRESSIVENESS
OF THE PEDAGOGICAL SPEECH
Professional discursive skills, expressiveness of the pedagogical speech, case method, communication tasks, speech situations.
The experience of designing of communicative tasks and situations is reflected in the article. Educational cases are developed within implementation of the experimental training program for the development of the expressiveness of the educational and sci-entific speech of the future teachers of a humanitarian profile.
Щукин Анатолий Николаевичд. пед. наук, профессор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина[email protected]
Вохмина Лилия Леонидовнаканд. пед. наук, профессор
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГА
К ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИМетодика обучения РКИ, компетентностный подход, технология обучения, технологии в обучении, речевая деятельность, конечная цель обучении.
Статья анализирует и уточняет курс методики с позиции нового компетент-ностного подхода в образовательном стандарте 3-го поколения (2010) как про-цессу обучения, воспитания и развития человека. Предложен анализ содержания, структуры и форм ключевого для курса методики понятия «методика» в его со-временном толковании.
Переход российской высшей школы на новые образовательные стан-дарты 3-го поколения (2010), в основу которых положен компетентностный подход, дает основание уточнить содержание дисциплины «Методика пре-подавания русского языка как иностранного», являющейся определяющей в подготовке филологов-русистов – будущих преподавателей РКИ, и опре-делить значение термина «методика» – ключевого для этой дисциплины.
269
Предмет «Методика» изучается будущими магистрами филологии в рамках лекционного курса, практических занятий, самостоятельной ра-боты студентов и завершается сдачей ими государственного экзамена, защитой выпускной квалификационной работы и присвоения учащимся степени магистр филологии. Эта дисциплина, содержание которой отра-женно в подготовленной на кафедре методики преподавания РКИ «Про-грамме» (2014) [5], знакомит будущего преподавателя языка с современ-ным состоянием и тенденциями развития методики как учебной, научной и практической дисциплины на основе базисных для методики наук и способствует формированию профессиональной компетенции препода-вателя языка, филолога-исследователя и специалиста в области межкуль-турной коммуникации.
В процессе овладения содержанием дисциплины студенты должны продемонстрировать следующие результаты обучения.
Знать:• Основные положения теории и методики преподавания РКИ.Уметь:• Творчески применять теоретические положения методики (ее линг-
водидактические основы) для решения практических задач обучения с использованием междисциплинарных знаний из области педагогики, психологии, языкознания, культурологии.
• Использовать современные технологии в обучении РКИ.• Анализировать и оценивать индивидуально-психологические осо-
бенности учащихся и достигнутый ими уровень владения языком и т.д.Владеть:• Методами и технологиями обучения языку, обеспечивающими наи-
более эффективные способы овладения языком как средством общения и профессиональной деятельности.
• Владеть компетенциями, позволяющими развивать способности уча-щихся: 1) ориентироваться в современных методах и технологиях препо-давания РКИ, разработанных в России и за рубежом и использовать их в учебном процессе, 2) анализировать и готовить учебные материалы по РКИ с учетом условий обучения и национальных особенностей обучаемых, 3) из-бирать оптимальную стратегию и тактику обучения языку с учетом языковой подготовки учащихся, мотивами и интересами обучаемых и др. [7].
Содержание методики как учебной дисциплины составляют два раз-дела: теория обучения и практика обучения языку. Первый раздел курса методики знакомит учащихся с теоретическими основами преподавания языка. Вторая часть курса методики – практика обучения языку – зна-комит учащихся с приемами обучения учащихся средствам общения и деятельности общения (аудированию, говорению, чтению, письму, пере-воду), а также с организационными формами обучения, способами конт-роля достигнутого учащимися уровня владения языком, требованиями к
270
профессиональной компетенции преподавателя. Такие приемы работы преподавателя до середины прошлого столетия именовались с помощью термина «научная организация труда» педагога (НОТ), а в наши дни опре-деляются как «технологии обучения» и «педагогические технологии». При этом произошла дифференциация понятий «технологии обучения» (совокупность приемов работы учителя, с помощью которых достигается поставленная цель обучения) и «технологии в обучении» (использование в учебном процессе технических средств). Первые представляют собой способы наиболее эффективного управления процессом обучения, обе-спечивающие получение запланированного результата с заданными па-раметрами качества и усилий со стороны учащихся, например, обучение в сотрудничестве, дистантное обучение, проектное обучение (метод проектов), компьютерное обучение, игровые технологии, интенсивные методы, технология «языковой портфель» и др.[4; 6; 8]. К «технологи-ям в обучении» (или «информационно-педагогическим технологиям») принято относить радио и телевизионное вещание, телефонную связь, компьютеры, компьютерное программное обеспечение, Интернет, спут-никовые системы навигации и др. [1]. Теоретическая и практическая со-ставляющая курса методики как учебной дисциплины обеспечена тремя видами методик, получивших в литературе названия: общие, частные и специальные методики.
В курсе методики русский язык как иностранный определяется как общеобразовательный предмет и подчеркиваются его следующие осо-бенности:
– межпредметность: содержание речи на изучаемом языке состав-ляют сведения из разных областей знания, входящие в число изучаемых дисциплин и разные сферы общения;
– многоуровневость: предусматривается овладение языковыми сред-ствами (фонетическими, лексическими, грамматическими, стилистиче-скими, речеэтикетными) и умениями в разных видах речевой деятель-ности, соотносимыми с этапами обучения и уровнями владения языком;
– полифункциональность: русский язык выступает и как цель обуче-ния, и как средство межличностного и межкультурного общения, и как источник приобретения сведений в других областях знания, в том числе и будущей профессии.
Конечная цель обучения русскому языку как иностранному в курсе методики определяется как формирование межкультурной коммуника-тивной и профессионально ориентированной компетенции, включающей ряд взаимосвязанных компетенций (лингвистической, социолингвисти-ческой, социокультурной, социальной, дискурсивной, стратегической). Содержательную сторону каждой компетенции при этом составляют вхо-дящие в ее состав знания и сформированные в ходе обучения навыки и умения.
271
С позиции коммуникативно-деятельностного подхода процесс обу-чения языку трактуется в настоящее время как обучение иноязычной речевой деятельности (умению общаться), результатом которого является владение языком как средством общения и культурой носителей языка [2]. Содержание обучения при этом ориентировано на формирование не только умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, но также развитие общеучебных умений, приобретение учащимися опыта позна-вательной, проектной, исследовательской деятельности.
Определение термина «методика» при этом выглядит следующим образом. Методика – это наука и учебная дисциплина, содержанием которой являются способы обучения, овладения, владения речевой дея-тельностью на изучаемом языке в тесном взаимодействии с культурой носителей языка. При этом ключевыми понятиями являются: речевая деятельность, обучение, овладение и владение, т.е. умение пользо-ваться изучаемым языком как средством общения с учётом диалога куль-тур. Провозглашение в ХХI столетии компетентностного подхода по-служило стимулом к созданию российских образовательных стандартов 3-го поколения. Конечным же результатом образовательного процесса в вузе при этом должны стать «социально-профессиональная компетенция и компетентность обучающегося» [3].
Выделение в курсе методики двух составляющих: его лингводидак-тических основ обучения языку (теорий обучения) и приемов овладения языком (технологий обучения) позволяет с позиции компетентностного подхода предложить следующее определение термина «методика».
Методика обучения РКИ в системе педагогических наук есть само-стоятельная научная и учебная дисциплина, содержанием которой яв-ляются теории и технологии иноязычного образования, в своей совокуп-ности направленные на достижение учащимися планируемого уровня владения языком в виде знаний, навыков, умений, компетенций и способ-ности ими пользоваться в различных сферах жизнедеятельности, что свидетельствует о достигнутом обучающимися уровне компетентно-сти в области изучаемого языка и иноязычной культуры.
В этом определении представляется важным подчеркнуть два обсто-ятельства:
1) Утверждение методики как самостоятельной научной и учебной дисциплины;
2) Утверждение в качестве содержательного компонента планируемой цели обучения формирование компетенции и компетентности учащегося в виде способности результативно и самостоятельно использовать изуча-емый язык для решения жизненных и профессиональных проблем на ос-нове личностного опыта и поставленной цели в диалоге культур.
Новые подходы к подготовке будущих преподавателей привели и к изменениям в общей организации планирования и распределения учеб-
272
ного времени студентов. Прежде всего, в программах обучения было значительно увеличено время на самостоятельную работу студентов, что в немалой степени обеспечивается расширяющимися техническими воз-можностями: доступом к интернету, наличием общей электронной кор-поративной почтовой связи, оборудованием учебных классов электрон-ными досками и пр. Изменилось соотношение лекционных и семинар-ских занятий в пользу последних, хотя, как кажется, такое решение не всегда является полностью оправданным, когда во всём курсе методики остаётся одна-две лекции. Как кажется, в этом случае студенты, особенно иностранцы, теряют возможность знакомиться с опытом формирования научной мысли своего преподавателя в лекционном курсе.
В деле подготовки будущего преподавателя большое значение имеют межпредметные связи. Отметим важную связь методики с такими учеб-ными дисциплинами, как «Описание русского языка: фонетика, лексика, грамматика», а также «Технологии обучения», которые непосредственно готовят студентов к практической работе.
Всё это ведёт к достижению ведущей цели обучения русскому язы-ку как иностранному, каковой является формирование коммуникативной компетенции учащихся в единстве всех ее составляющих (языковой, ре-чевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), а также профессиональной компетенции, ориентированной на интересы и будущую специальность обучающихся, и компетенций, входящих в груп-пу ключевых (образовательную, общекультурную, компетенцию лич-ностного самосовершенствования и ряд других).
ЛИТЕРАТУРА:1. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в пре-
подавании РКИ. – М., 2012, – 352 с. 2. Вохмина Л.Л. К вопросу о современном состоянии коммуникатив-
но-деятельностного подходхода при обучении РКИ. Сб. научных трудов по итогам конференции «Актуальные вопросы психологии и педагогики в современных условиях». – С-П., 2015, – С. 42–45.
3. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетент-ностного подхода // Иностранные языки в школе, – 2012, – № 6, – С. 2–10.
4. Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. Методы и техноло-гии обучения русскому языку как иностранному / под ред. А.Н. Щукина. 4-ое изд. – М. : «Русский язык. Курсы». – 2014. – 309 с.
5. Программа учебной дисциплины (модуля) «Методика преподава-ния русского языка как иностранного». Направление подготовки: фило-логия. Профиль: Преподавание РКИ. Квалификация (степень) выпускни-ка: магистр филологии. Форма обучения: очная. Составители: А.Н. Щу-кин, Н.Н. Конева. – М. : ГИРЯП. – 2014. – 25 с.
273
6. Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам: теория и практика. – М. : Книжный дом «Либроком». – 2013. – 264 с.
7. Щукин А.Н. Концепция дисциплины «Методика обучения русскому языку как иностранному в контексте современной лингводидактики» // РЯЗР, – 2014. – № 5. – С. 55–62.
Schukin Anatoliy Nicolaevich, Vokhmina Liliya Leonidovna
LANGUAGE STUDENTS METHODOLOGICAL PREPARATION TO THE RFL TEACHING PROFESSION
Teaching methods, competence, competence approach, technology training, technology in education, the ultimate goal of education.
The article analyzes and clarifies the course of methods from the perspective of a new competence-based approach in the educational standard of the third generation (2010) as a process of learning, upbringing and human development. The article examines the content, structure and forms of methodics, interpretation a concept of term «method» in modern language teaching.
274
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Белкина Юлия Алексеевнаканд. пед. наук, доцент
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Россия, Самара
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ: ИСТОРИЯ ВОПРОСАКреативность, творчество, методика работы, функциональный принцип, игро-вые методики.
В статье предпринята попытка обзора методик, формирующих творческую личность учителя, предложена система работы по формированию креативной компетенции учителя-словесника.
Основным лейтмотивом научных педагогических устремлений М.Т. Баранова, по мнению А.Д. Дейкиной, высказанной ей на страницах журнала «Русский язык в школе», всегда была забота об общем подъёме культуры учащихся, культуры языка, воспитания «языкового чутья», вос-питания средствами языка этики и морали как показателей общей культу-ры людей [9; с.47–48].
Как показывают исследования, сложившаяся система образования недостаточно ориентирована на развитие креативных способностей об-учающихся. Ряд правительственных инициатив направлен на изменение стратегии деятельности в этом направлении. В Национальной доктрине образования РФ (2000–2025 гг.) заложена идея необходимости творческо-го развития личности. При этом поиск новой концепции образования, от-ражающей изменения в обществе в его социально-экономическом и куль-турном развитии, связывается с реализацией компетентностного подхода.
В креативной компетентности студента-филолога мы выделяем такие её компоненты, как аксиологический (творческое отношение к слову и к человеческой личности как ценности), мотивационный (потребность в творческом взаимодействии с текстом и стремление передать эту потреб-ность ученику), когнитивный (способность к творческому взаимодей-
275
ствию с текстом через диалог с учеником, проявляющая себя в создании собственных художественных, критических и публицистических текстов; умение творчески использовать отобранную информацию и выстраивать её как систему творческих задач; умение использовать филологические знания для решения профессиональных творческих задач), операцио-нальный (владение методиками анализа художественного произведения в его родовой специфике и владение методиками развития литературно-творческих способностей учеников; умение творчески использовать на-копленный опыт и создавать новые методики), рефлексивный (рефлексия по поводу собственной творческой деятельности; рефлексия по поводу своей роли учителя в процессе создания художественного и критическо-го текста учениками). Обратимся к понятиям «креативность» и «творче-ство». Это родственные понятия, но не идентичные. Анализируя совре-менные концепции креативности, акцентирующие внимание на изучении продукта творческой деятельности, на творческом процессе, на личности творца, приходим к выводу, что в философии креативность определяется как категория актуализации в личности творца, синергетический процесс, результат созидания субъективно и объективно нового продукта. В психо-логии большинство исследователей под креативностью понимают некую совокупность мыслительных и личностных особенностей. Креативность в профессиональной педагогике и методике рассматривается как способ-ность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышле-нию, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей. Мы считаем, что креативность личности определяет её готовность изменяться, отказываться от стереотипов, помогает находить оригинальные решения сложных проблем в ситуации неопределённости; это внутренний ресурс человека, который поможет ему успешно самоопределиться в обществе. Творчество понимается в целом исследователями и нами как деятельность, ведущая к развитию и направленная на создание нового, креативность по-нимается нами как способность к такой деятельности.
В работе по формированию креативной компетентности студентов-филологов использовали метапредметные креативные технологии, как-то: проблемные, «продвинутые» лекции, лекции-визуализации, «сократовские диалоги», дебаты, полилоги, кейс-стади, мастерские построения знаний, деловые игры, круглые столы, дискуссии, выполненные в технологии раз-вития критического мышления через чтение и письмо, образовательные путешествия, рефлексивные и исследовательские портфолио и авторские методики: методику развития литературно-творческих способностей уче-ников, методику написания сочинения-ассоциации, сочинения-этюда.
Междисциплинарный и комплексный подходы к исследованию смыс-ловых понятий «игра», «театр» / «театральность» раскрывает театраль-но-игровую сущность бытия человека. Анализ научной литературы по-казывает, что исследование игры, в природе которой учёные видят истоки
276
познания человека, культуры, природы искусства, неразрывно связано с осмыслением театральности и театра. Со времён античности игра напол-няется широким смыслом: от обозначения жизни в обыденном её выра-жении (праздник, танец и т. п.), принципа коммуникации до указаний на её божественное происхождение.
Современное философское осмысление теории игры выстраивается с использованием эстетического, социологического, психологического подходов С позиций постнеклассической философии игра является эк-зистенциальным модусом бытия человека: через игру осуществляется его сопричастность целостности и многомерности мира. В социологии феномен игры выступает элементом, структурирующим социум и связы-вающим различные части общества, социальные процессы; выражение «жизнь – театр» лишается метафорической формы и представляет игру как способ оформления жизни, смену подражаний-симуляторов, для объ-яснения двойственной природы социального пространства и социальных позиций, человеческих отношений, опосредованных образами, кризиса культуры XX в., для построения концепции «социальной драматургии, объяснения роли спорта и зрелищ в массовом обществе, описания меха-низма современной геополитики. На пересечении социальной и психо-логической областей строится метод «драматической социологии», кон-цепции, нацеленные на психическое оздоровление. В науке осознаются тесные рамки ролевого подхода и первичность драматического действия по отношению к игре вообще; учёные отмечают наполненность совре-менной действительности новыми игровыми символами и усиление в ней театральности. Эстетические концепции, художественно-образные исследования представляют игру и театральность как феномены бытия.
Как отечественные, так и западные учёные–психологи, несмотря на различие позиций биологической и социальной теории игры, признают её важность для развития ребёнка и жизнедеятельности взрослого чело-века, обнаруживают связь игры с творческим началом человека, реализа-цией способностей, созданием «деятельностного общества».
Из обобщения изученного материала следует: феномен игры высту-пает интегрирующим элементом междисциплинарных связей для разных наук в раскрытии онтологических закономерностей; наука выявляет и обосновывает театрально-игровую сущность бытия человека; театраль-ность – неотъемлемое качество игры, механизм, обеспечивающий её социальные и культуротворческие функции, природная способность че-ловека к творчеству как преображению жизни; важнейший смысл обра-щения к театральной игре для взрослых – освоение способов «избегать влияния цели той игры, которая с нами играется», манипулирования, ав-томатических действий в реальных условиях жизни.
Педагогически важными являются выводы о том, что искусство театра выступает средством, поддерживающим игровое начало в человеке как
277
способа осуществления его культурной функции; в театрально-игровой деятельности проявляется и развивается творческая способность лично-сти; обстановка свободного игрового действия в образовательном про-цессе даёт возможность продуктивного познания, обучения «ключам» / кодам «языка искусства», а также формирует ответственность «за всё, что ты понял в искусстве».
Изменения на уровне развития творческих способностей и возмож-ностей относят к целостным (системным) изменением личности; понятия «творчество», «креативность» («творческость») наполнены экзистенци-альными смыслами, их психологическая база содержит мотивацион-ный, интеллектуальный и психофизические резервы человека. В оценку творчества включают продукты творческого мышления; порождение по-бочного продукта; показатель преобразования знаний; стремление вы-йти за пределы заданной проблемы; социальную значимость продукта; фактор открытости; не существующее ранее; общественно, а не офици-ально признанные достоинства и проявления творческого стиля жизни. Научные исследования указывают на зависимость творческого развития от психологических особенностей личности, таким образом, творчество определено как необходимый элемент педагогической деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:1. Алексеева О.В. Михаил Трофимович Баранов// Русский язык в шко-
ле, 2009, №6. С.46–48.2. Белкина Ю.А. Методика формирования креативной компетентности
студентов-филологов: современное состояние и перспективы разработки (тезисы)// Русское слово: Материалы Международной научно-практической конференции памяти профессора Е.И.Никитиной. 17 февраля 2012. Выпуск 4. 1 часть. Отв.ред. С.В.Зуева. – Ульяновск: УлГПУ. – 2012. – С.97–101.
3. Белкина Ю.А. Методика формирования креативной компетентности студентов-филологов: современное состояние и перспективы разработки (статья)// Поволжский педагогический вестник, 2013 №1, с.76–87.
4. Белкина Ю.А. Опытно-экспериментальная работа над проблемой формирования лингвокреативных компетенции в период педагогической практики студента-филолога (статья)// Современное русское языкознание и лингводидактика: сб.науч.тр., посвящ.90-летию со дня рождения акаде-мика РАО Н.М.Шанского /под ред. В.В. Никульцева. Вып.3. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. – С. 519–525.
5. Белкина Ю.А. Формирование креативной компетентности студента-филолога: к постановке методической проблемы (тезисы)// Полифония методических подходов к обучению русскому языку: Материалы Между-народной научно-практической конференции (15-16 марта 2012) /Отв.науч.редактор профессор А.Д.Дейкина. – М.: МПГУ; – Ярославль: РЕМ-ДЕР. – 2012. – С.334–337.
278
6. Белкина Ю.А. Формирование креативной компетентности студен-тов-филологов: современное состояние проблемы и перспективы разра-ботки в методической науке (статья)// Теория и практика преподавания русского языка в учебных заведениях всех типов: Коллективная моно-графия, посвящённая 85-летию профессора М.Р. Львова. – М.: «Проме-тей». – 2012. – С.24–30.
7. Белкина Ю.А. Формирование лингвокреативных способностей бу-дущих учителей-словесников: методы и приёмы работы (тезисы)// Про-блемы современного филологического образования: Сборник научных статей. Выпуск Х/Отв.ред. В.А.Коханова. – М.: МГПУ; Ярославль: Реме-дер, 2012. – С.69–73.
8. Дейкина А.Д. М.Т. Баранов – видный учёный, филолог и методист//Актуальные проблемы методики преподавания русского языка на совре-менном этапе Российского среднего и высшего образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора М.Т.Баранова. (11–12 марта 2004 г.) Сост. и науч. ред.: проф. А.Д.Дейкина, проф. Л.А.Ходякова. – М. : МПГУ. – 2004. – С.9–11.
9. Дейкина А.Д. Методическое наследие Михаила Трофимовича Бара-нова// Русский язык в школе, 2004. №4. С.47–50.
Belkina Julia Alekseevna
FORMATION OF THE CREATIVE PERSON OF THE TEACHER RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE: HISTORY
Creativity, creativity, methods of working, functional principle, game techniques.
This paper attempts to review methods of forming the creative personality of the teacher, proposed a system of work on the formation of creative competence of the teacher of literature.
279
Гетманская Елена Валентиновнад. пед. наук, профессор
Московского педагогического государственного университетаМосква, Россия[email protected]
МУЛЬТИГРАМОТНОСТЬ И ЗАПАДНЫЕ ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Мультимодальная грамотность; визуальная грамотность; модераторы мышле-ния; медиа-технологии.
В статье анализируются понятия «мультимодальная грамотность» и «медиа-грамотность». Работа также знакомит с медиа-технологиями, являющимися инструментом для работы с текстом в западной школе.
В последнее время в российской педагогической терминосистеме по-являются понятия, не имеющие прежде строго научного веса: учёные отмечают разрастание множества квазипонятий и квазитехнологий. Об этом, в частности, ярко писал В.В. Краевский: «Каждый божий день миру является какая-нибудь педагогика... И каждая − особая, каждая как бы сама по себе. Давно предостерегал мудрец от умножения сущностей. Пе-дагогика разве не сущность? Зачем же её заставляют размножаться с та-кой страшной быстротой? Прорезаются всё новые сущности, плодятся, как кролики, потом разбегаются, как тараканы. И рассмотреть-то их как следует некогда» [11, с. 113]. С уже работающими в западных исследо-ваниях терминами нам следует определиться: принимаем ли мы их; из-быточные ли это конъюнктурные термины или востребованные време-нем новые конструкты. В наших педагогических исследованиях частотно появляются понятия «новая грамотность», «мультимодальная грамот-ность», «визуальная грамотность».
С чем ассоциируется слово «грамотность» у нас? С первоначальны-ми навыками овладения чтением, с социальными трудностями 20-х годов ХХ века, с массовым ликбезом того времени. Впервые научное определе-ние «новой грамотности» на Западе было дано Д. Букингемом, профес-сором Лондонского университета. В 1993 году он написал статью «На пути к новой грамотности, информационным технологиям, изучению английского языка и медиаобразованию» [См.: 1, p. 20]. В своей статье учёный подчёркивал: «Чтобы понимать важные аспекты нашего мира, необходимо новое определение грамотности, определение, которое не привязано к конкретным технологиям или практике, но, скорее, позволя-
280
ет нам увидеть компетенции, которые необходимы при овладении всеми аспектами культуры и коммуникации» [1, p. 20]. По словам создателя тер-мина, «новая грамотность» не должна быть привязана к конкретным при-ёмам и является, скорее, культурной компетенцией; в то же время обзор практики применения данного понятия в англоязычных методиках пока-зывает очевидную связь новой грамотности и конкретных технологий: во-первых, потому что наш век – век технологий, а во-вторых, методика и технологии – вещи в научном глоссарии достаточно близкие, а в англий-ском языке и вовсе однокоренные.
Следует признать, что в последнее время становятся предметом на-учного анализа вещи неожиданные, например, упрощённые оценочные механизмы социальных сетей: символы «лайк» и «смайл». Их опосредо-ванная роль как модератора массового мышления была предметом обсуж-дения в телепередаче А. Архангельского «Правила эпохи после правил» от 18 января 2016 г. [См.: 4]. В частности, анализировался новый «ше-стисмайловый» проект Facebook, где коммуникация будет осуществлять-ся в рамках шести смайлов (с разными оттенками эмоций), что, безуслов-но, будет редуцировать наше мышление в рамках этих же шести знаков. Но, мы должны признать, что даже эта усечённая шестисмайловая оценка потребует определённого уровня медиаграмотности.
Официальную трактовку понятия «новая грамотность» в западной па-радигме мы находим на официальном сайте американского Националь-ного совета учителей английского языка [См.: 2]. Трактовка грамотности в декларации «Дефиниция грамотности в XXI веке» (2008) вполне от-вечает нашей культурной ситуации, поэтому полагаем возможным про-цитировать этот документ: «Грамотность всегда была собранием куль-турных и коммуникативных практик, распределённых среди конкретных социальных групп и индивидуумов. Меняется общество и технологии, и, как следствие, меняется грамотность. Технологии позволили интенси-фицировать и усложнить образовательную среду. XXI век требует, что-бы образованный человек обладал широким диапазоном способностей и компетенций, был грамотен во многих областях. Эти навыки грамотно-сти множественны, динамичны и изменчивы. Они неразрывно связаны с исторической ситуацией, жизнью социальных групп и индивидуумов» [См.: 2]. Иными словами, грамотность − способности и компетенции, привязанные к технологической изменчивости общества.
Рассмотрим ряд атрибуций понятия «грамотность». В Международ-ной программе оценки образовательных результатов учащихся (PISA) встречаются такие дефинитивные сочетания как математическая грамот-ность, естественно-научная грамотность [См.: 9]. В документах, регла-ментирующих деятельность современных библиотек, говорится о библи-ографической грамотности. На первый взгляд, кажется, что основные атрибуции понятия «грамотность» связаны с конкретными предметны-
281
ми областями. Но есть и более универсальные определения грамотно-сти, я имею в виду читательскую грамотность и грамотность визу-альную. В рамочном проекте PISA 2015 (PISA 2015 DRAFT READING LITERACY FRAMEWORK), иначе говоря, в тесте, оценивающем грамот-ность школьников, читательская грамотность определяется как «пони-мание, использование, анализ и взаимодействие с письменным текстом для приобретения новых знаний и раскрытия потенций читателя для его участия в жизни общества» [См.: 9]. Скорее всего, в этом определении подразумеваются и элементы читательских компетенций в восприятии художественного текста, но в целом «читательская грамотность» со-держит чёткое социологическое наполнение, из которого ясно: текст в пространстве новой читательской грамотности – это, прежде всего, не вопросы рецепции художественного образа, это – вопросы социальной коммуникации.
Наш, XXI век рассматривается культурологами как мир «зримой», экранной, культуры, требующей соответствующего уровня компетент-ности прочтения и особой, визуальной, грамотности» [См.: 10]. О визу-ализации мышления мы говорим уже давно. Но едва ли общеизвестным является тот факт, что Международная ассоциация визуальной грамот-ности (IVLA) была создана в конце 60-х годов ХХ века. Уже более 40 лет Ассоциация успешно действует. Свидетельства этому – размещение мно-гочисленных ресурсов по обучению визуальной грамотности учащихся и студентов на сайте IVLA [См.: 5]. Следует отметить методическую зна-чимость этих ресурсов, которая вполне соответствует основной цели со-общества. IVLA существует как «междисциплинарная, разносторонняя организация специалистов, работает в направлении более полного по-нимания того, каким образом мы извлекаем смысл из увиденного и как мы взаимодействуем с нашей визуальной средой» [См.: 5]. И то, что мы привычно критикуем, а именно, «клиповость сознания» нашего подрас-тающего поколения, члены Ассоциации пытаются преодолеть в своих методических подходах. В частности, на сайте IVLA представлен урок для 3-5 классов (в российской модели для 2–4 классов), на тему «Мульти-медиа-отклик на тему “от факта − к фантастикеˮ». Суть технологии: после чтения книги «Дневник Паука» Дорин Кронин учащиеся, в соот-ветствии с задачей урока, представляют, что они проникают в сознание паука, который просит их сочинить дневник с помощью обычных фактов из жизни этих насекомых и фантазий на данную тему. Ученики формиру-ют стратегию «от факта к фантастике», собирая информацию о пауках и создавая мультимедийные дневники от лица (если можно так выразиться) паука с помощью программы Power Point. Автор разработки подчёркива-ет, что этот урок легко адаптируется к любой теме, хотя и разработан на примере пауков [См.: 8]. Оригинальность этой технологии не мешает, как нам представляется, главному посылу начальной школы – поддержать су-
282
ществующий интерес к окружающему миру ученика младшего возраста, привлекая для этого адаптированное по возрасту пространство, где со-седствуют вымысел и реальность.
Отметим, что представленный подход к обучению новой визуальной грамотности – это не новшество отдельного педагога, это – требование ко всем учителям английского языка. На сайте Американского Нацио-нального Совета учителей английского языка представлена декларация «Новые грамотности и технологии XXI века» (именно так, грамотности во множественном числе). Согласно этому документу, «учителя несут ответственность за комплексное использование информационных и ком-муникационных технологий (ИКТ), они должны готовить учащихся для будущего, которого те заслуживают» [См.: 7]. Также ассоциация грамот-ности подчёркивает, что учащиеся имеют право на:
• преподавателей, которые умело используют ИКТ в обучении;• сверстников, использующих ИКТ ответственно и делящихся своими
знаниями;• программы обучения, которые предлагают возможности для сотруд-
ничества со сверстниками по всему миру;• методические руководства, встраивающие критические и культур-
ные особенности мышления в практическую учебную деятельность;• стандарты и систему оценивания, которые включают в себя навыки
новой грамотности;• равный доступ всех учащихся к ИКТ;• лидеров и политиков, являющихся последовательными сторонника-
ми ИКТ в преподавании и обучении.Таким образом, в 4-х из 7 пунктов чётко заявлена идея коммуника-
ции, доминирующая в принципах обучения литературе в рамках за-падной методики. С понятием новой грамотности тесно связан термин «мультимодальная грамотность». Профессор Рэйчел Карчмер (США), специалист по чтению, предлагает такое понимание термина: «мульти-модальная грамотность подразумевает использование многочисленных моделей передачи какого-либо сообщения. Текст, аудио, графика, видео − примеры цифровых медиа, которые могут быть объединены в мульти-модальном сообщении. Существуют явные различия в представлении ин-формации между традиционным печатным учебником и сайтом на ту же тему. Печатный учебник состоит из статических изображений и слов, в то время как большинство веб-сайтов, по мнению Р. Карчмер, включают интерактивные, мультимедийные тексты» [См.: 6]. Р. Карчмер предлага-ет конкретную собственную методику формирования мультимодальной грамотности с помощью сайта Глогстер. Что представляет собой сайт? Глогстер – специальный сайт по созданию мультимедийных интерактив-ных плакатов или постеров [См.: 3]. Он не имеет строгого учебного це-леполагания. Например, одна из предлагаемых задач на сайте – сделай
283
рекламный плакат о своем кафе и заставь посетителей, взглянув на него, ещё больше проголодаться. Но Карчмер вполне успешно использует сайт для формирования мультимодальной грамотности учащихся. Девиз сай-та: «выражать мысли с легкостью, сочетая изображения, графику, аудио, видео и текст на одном цифровом полотне». Педагог прибегает к возмож-ностям сайта для того, чтобы её ученики с лёгкостью создавали мульти-модальные тексты. Перечисляя основные направления развития мульти-модальной грамотности учащихся в американской модели, следует отме-тить ряд навыков, которые формулируются во всех рамочных документах на эту тему. Итак, активные, успешные члены мирового сообщества XXI века должны быть в состоянии:
• развивать навыки свободного владения технологическим инстру-ментарием;
• строить кросс-культурные связи с другими людьми так, чтобы со-вместно решать глобальные проблемы, а также укреплять самостоятель-ность мышления;
• получать и делиться информацией в среде глобальных сообществ; анализировать и синтезировать одновременно несколько потоков инфор-мации;
• создавать, критиковать, и оценивать мультимедийные тексты;• осознавать этическую ответственность, востребованную в сложных
технологических средах.Работа с текстом в XXI веке получает мощнейший технологический
импульс в виде интернет-возможностей, и западная методика ими успеш-но пользуется, формируя мультимодальную грамотность учащихся. В то же время, заимствуя западные технологии, нужно иметь в виду, что рассмотренные подходы обеспечивают, скорее, создание учащимися соб-ственного мультитекста, которое не всегда опирается на чтение высоких образцов художественной речи, они, скорее, конструируются с помощью медиатехнологий, технологии переходят в иное качество, становясь опос-редованными модераторами мышления ученика, а это в свою очередь, влияет на качество и учебную ценность созданных продуктов.
ЛИТЕРАТУРА:1. Buckingham D. Towards new literacies, information technology, English
and media education // The English and Media Magazine. 1993, Summer. P. 20–25.
2. Definition of 21st Century Literacies. URL: http://www.ncte.org/positions/ statements/21stcentdefinition (дата обращения: 21.01.2016)
3. Glogster: [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.glogster.com/?ref= personalGlog. (дата обращения: 21.01.2016)
4. http://telepoisk.com/peredacha-tv-archiv/703089416/18-01-2016 (дата обращения: 21.01.2016)
284
5. IVLA: [Электронный ресурс]. – URL: http://ivla.org/new/what-is-the-ivla (дата обращения: 21.01.2016)
6. Karchmer R.A. Using Glogster to Support Multimodal Literacy. URL: http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-glogster-support-multimodal-30789.html#research-basis. (дата обра-щения: 21.01.2016)
7. Literacies-21st-century-technologies. URL: http://www.readwritethink. org/professional-development/professional-library/literacies-21st-century-technologies-20975.html. (дата обращения: 21.01.2016)
8. Multimedia-responses. URL: http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/multimedia-responses-content-area-119.html. (дата обращения: 21.01.2016)
9. PISA 2015 draft reading literacy framework. URL: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA% (дата обращения: 21.01.2016)
10. Колесникова И.А. Новая грамотность и новая неграмотность 21 сто-летия // Непрерывное образование: XXI век. – 2013. − Вып. № 2. [Элек-тронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novaya-gramotnost-i-novaya-negramotnost-dvadtsat-pervogo-stoletiya. (дата обращения: 21.01.2016)
11. Краевский В.В. Сколько у нас педагогик? // Педагогика. − 1997. № 4. − С. 112–117.
Getmanskaya Elena Valentinovna
MULTILITERACY AND WESTERN TEXT-ORIENTED TECHNOLOGIES
Multimodal literacy; visual literacy; the moderators of thinking, media technology.
The article analyzes the concept of “multimodal literacy” and “media literacy”. The paper introduces also the media technologies, which are tools for working with text in a Western school.
285
Логвинова Ирина ВладимировнаКанд. филол. наук, преподаватель
Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке Москва, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ПОЭЗИИ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВАНА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ
(АНАЛИЗ ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ)Ю. Кузнецов, поэзия ХХ века, литературоведческий анализ текста, культуроло-гический анализ текста, методика вдумчивого чтения.
В статье предложена методика анализа двух стихотворений Ю. Кузнецова «Превращение Спинозы» и «Мирон» на уроке литературы, развивающая навы-ки вдумчивого чтения. Разгадывание студентами культурологических загадок в этих и подобных стихотворениях помогает им в профессиональном отношении (музыкальные переложения и т.д.).
Для студентов музыкального колледжа литература не является основ-ным предметом (значится в списке общегуманитарных дисциплин). Од-нако это не умаляет ее значения для воспитания всесторонне развитой личности музыканта. Получение знаний о современной поэзии помогает студенту успешно реализовать себя в практической деятельности, потому что он в процессе изучения курса литературы овладевает культурой чте-ния, письменной и устной речью, развивает эрудицию, навыки литерату-роведческого анализа. Все это дополняет его занятия музыковедческими дисциплинами, в особенности историей музыкальной литературы. Мето-дика литературоведческого анализа, к тому же, помогает студенту закре-пить навыки музыковедческого анализа, и наоборот (и в том, и в другом случае это анализ текста – литературного или музыкального).
В данной статье мы покажем пример творческого анализа поэтическо-го произведения на примере двух стихотворений Юрия Кузнецова. Такой анализ учит студентов задумываться над тем, какие мысли поэты часто высказывают между строк (в этом заключается методика вдумчивого чте-ния). Это интересно для них не только само по себе, но и в профессио-нальной деятельности, когда они создают музыкальные произведения на стихи того или иного поэта и должны понимать, чувствовать эти стихи, чтобы полнее и ярче выразить их содержание средствами музыки. Поэто-му на уроках литературы мы разгадываем тайны и загадки поэтических произведений, вырабатывая навык вдумчивого чтения и литературное
286
(поэтическое) чутье, и, кроме того, учимся комментировать поэтические тексты. Такая методика позволяет также выработать потребность в чте-нии, интерес и любовь к литературе, умение читать и использовать в на-учно-исследовательской работе комментарии. При этом мы со студентами повторяем какие-то уже известные им сведения из истории, культуроло-гии, музыкальной литературы и т.д., и во многом они обогащаются ранее им неизвестными сведениями из смежных областей науки и искусства.
Возьмем для примера два известных стихотворения Ю. Кузнецова «Превращение Спинозы» [1, с. 317] и «Мирон» [1, c. 179], в которых встречаются необычные загадки, связанные с еврейской культурой (а сту-денты должны уметь ориентироваться в культурологии и, кроме того, им интересны всякие культурологические сопоставления, что показывают избираемые ими темы в качестве докладов на ежегодной учебной кон-ференции по литературе) и которые могут быть им непонятны. Данные примеры – только часть темы «Юрий Кузнецов: жизнь и творчество». В них присутствует также воспитательный момент. Поэт не делил людей по национальному признаку. Для него важен был, прежде всего, сам че-ловек, его внутренняя сущность. Об этом все его стихотворения, поэмы.
В выбранных для анализа текстах есть моменты, требующие культу-рологического комментария. Одно стихотворение посвящено философу Спинозе, еврею по рождению, другое – Мирону, никакого отношения к еврейству не имеющему. Но у Ю. Кузнецова буквально в двух строках этих стихотворений скрывается целая философия.
Так, в стихотворении «Превращение Спинозы» присутствует паутина, которая образно названа щитом Давида, еврейским охранительным каб-балистическим символом. Появление его не случайно – в углах звезды Давида Спиноза увидел не просто пауков и ловимых ими мух, а аллего-рию человеческих общественных взаимоотношений. В Каббале щит Да-вида (маген Довид) обозначает связь «сфирот» (сфер, которые управляют человеческими судьбами, выражают отношения между Богом и людьми). Эти «сфирот» расположены по иерархии – в верхней части находится сфира кетер (корона), божественная сфира, управляющая остальными; по бокам – хохма, бина, даат, обозначающие степени мудрости, затем следу-ют остальные сферы, более низшей иерархии. Щит Давида – это модель мироздания (причем, символика не исконно еврейская, а заимствован-ная из глубины веков у какого-то древнего восточного народа). В свою очередь, Спиноза, «шлифуя линзы быта» (он под конец жизни добывал пропитание шлифовкой линз для очков), создавал философскую модель мира, очень напоминающую учение Каббалы. Поэтому можно прочитать это стихотворение с точки зрения каббалистических символов. Спиноза собрал все «сфирот», вне иерархии, и поставил эксперимент по их взаи-модействию при условии равенства позиций. Результат – сферы поглоти-ли друг друга. Более того, став единой «сфирой», они поглотили и самого
287
экспериментатора. Мир, в котором нет иерархии, и который не управля-ется Божественным абсолютом, обречен на самопоглощение. В этом же смысл пантеизма Спинозы. Пока все сферы находятся на своих местах, пока существуют между ними определенные иерархические отношения и связи с человеческими судьбами, существует и жизнь в ее земной форме. Высший Абсолют (Бог, Природа) управляет всеми процессами на земле и человеческой жизнью, сдерживая стремление людей возвыситься до уровня Бога-Творца и поддерживая гармонию мироздания.
Интересным является также второе стихотворение («Мирон»). При-ведем его полностью:
Скажи, родная сторона, О чем шумит твоя сосна?.. Кирпич плывет по морю, Кругом открытый горю.
Невесть откуда выпал он, Могучим ветром занесен. Иль от стены Китайской, Иль от горы Синайской.
На кирпиче стоит Мирон, Полна головушка ворон. Он сети разбирает И песни распевает:
– Эгей, мне с этим кирпичом Лихая встреча нипочем!.. Плыви, моя основа, До берега крутого!
Здесь необычен образ кирпича. Причем, на его расшифровку в стихот-ворении указывают две строчки, поясняющие, что этот кирпич «иль от сте-ны Китайской, иль от горы Синайской». И тот, и другой случай имеют свой смысл. Если это кирпич от Китайской стены – это символ защиты, надежной обороны. И тогда слова Мирона: «Эгей, мне с этим кирпичом лихая встреча нипочем», – звучат как призыв к оружию, к борьбе с внешним врагом.
Однако, наш кирпич «плывет по морю, кругом открытый горю». Эта строка появляется в стихотворении раньше домыслов о том, откуда он выпал. Теперь предположим, что все же это кирпич от горы Синайской. Тогда это символ Стены Плача, которая осталась от разрушенного Иеру-салимского храма. С этой стеной у еврейского народа связана надежда на пришествие Мессии и восстановление Храма. И тогда слова Мирона зву-
288
чат как надежда всего еврейского народа на скорое избавление от стра-даний и гонений, ведь Мирон все-таки стоит на этом кирпиче и называет его «моя основа» (почти «мой символ веры»).
Остается только один вопрос – почему же Мирон, не еврей, стоит на этом кирпиче и, как мы выяснили, выражает еврейские чаяния на буду-щее восстановление Храма и пришествие Мессии? Кто такой вообще этот Мирон? Можно было бы, конечно, углубиться в культурологические изыскания, и сказать об изначальной связи иудаизма и христианства, вывести теорию о том, что эти религии никогда далеко не расходились, и, возможно, в конце-концов придут к общему знаменателю. Но перед нами такая задача не стоит. Все гораздо проще, если вспомнить старую русскую загадку про овин: стоит Мирон, полна голова ворон [2]. Мирон здесь, таким образом, не человек, а метафора. Выходит, что на кирпиче стоит овин! А сам кирпич есть не что иное, как краеугольный камень, который сделался «главою угла» в христианстве, а в иудейской традиции лежал в основе Иерусалимского Храма. Продолжая разворачивать логику нашего рассуждения, скажем, что овин в данном случае – символ мир-ного труда, основанием которого является хорошая оборона (Китайская стена названа не случайно, ибо она строилась для того, чтобы оборонить Китай от набегов монгольских племен).
С этой точки зрения можно также считать стихотворение пророческим: когда в будущем каждый русский человек будет «всем антисемитам как ев-рей» (Е. Евтушенко), придет в этот мир Мессия и восстановит Иерусалим-ский Храм (символ утраченной общечеловеческой веры в единого Бога) из этого самого кирпича, или, как мы выяснили, краеугольного камня.
Отдельно нужно сказать о том, что в процессе анализа студенты учат-ся выбирать правильную интонацию при чтении стихотворения, нужный ритм. При этом они начинают видеть, как устное исполнение влияет на анализ, и как анализ подсказывает правильную ритмику (музыку стиха) и расстановку акцентов. Тут заметим, что музыканты к таким нюансам, как ритм, гармония, инструментовка и т.д. очень чувствительны, они легче различают на слух стихотворные размеры, выделяют значимые для смыс-ла слова, на которые должно падать логическое ударение.
Таким образом, в простых, на первый взгляд, стихотворениях Ю. Куз-нецова мы обнаруживаем (и приобщаем студентов к методике литерату-роведческого анализа текста) скрытый подтекст, помогающий развернуть иной, так сказать, инобытийный, затекстовый смысл текста. При этом студенты понимают, что сам автор, может быть, и не задумывался над тайными смыслами своего текста, у него были свои мысли, свои чувства в момент его написания (но из курса психологии и философии студенты знают, например, что есть архетипы сознания и подсознательное, кото-рым человек управлять не может, и которое диктует ему тот или иной смысл, независимо от того, каков был замысел автора). Потенциальный
289
смысл, не подозреваемый в момент творения, раскрывается, когда чита-тель соприкасается своим внутренним миром с миром стихотворения. В процессе анализа поэтического текста студенты-музыканты учатся ви-деть в этом тексте художественный образ, эстетический смысл, правиль-но интонировать его при чтении.
ЛИТЕРАТУРА:1. Кузнецов Ю.П. Избранное: Стихотворения и поэмы. – М.: Художе-
ственная литература, 1990. – 399 с.2. Русские народные загадки // http://www.bibliotekar.ru/rusSaharov/137.
htm
Logvinova Irina Vladimirovna
THE STUDY OF POETRY BY YURI KUZNETSOV AT LITERATURE LESSONS IN THE MUSIC COLLEGE
(ANALYSIS OF TWO POEMS)Yuri Kuznetsov, poetry of the twentieth century, literary text analysis, cultural analysis of the text, the technique of thoughtful reading.
In the article the technique of analysis of two poems by Yuri Kuznetsov “the Transfor-mation of Spinoza” and “Miron” at the lesson of literature developing skills of thought-ful reading. Students solving cultural mysteries in these and similar poems helps them professionally when they have to do in the future, for example, musical transcription of the poetic text.
Локтионова Наталья Петровнаканд. пед. наук, доцент
Кокшетауского государственного университета им. Ш. УалихановаКокшетау, Республика Казахстан
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» ЖИЗНИ ПОДРОСТКА (ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА
Д. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»)Д.Сэлинджер; методика; анализ эпического произведения; сочинение-эссе; акту-альность
Статья посвящена изучению в школе романа Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Предлагаются вопросы и задания для анализа текста, приводятся выска-зывания учащихся, а также фрагменты из школьных сочинений. Звучит мысль о важности этого произведения в подростковом возрасте.
290
Подростки, вступающие во взрослую жизнь, особенно нуждаются в книгах о своих сверстниках, о нравственных исканиях и духовных цен-ностях молодежи. Поэтому на элективных или факультативных курсах в старших классах повышенный интерес вызывают такие произведения за-рубежной литературы, как «Три товарища» Э.Ремарка, «Повелитель мух» У.Голдинга, «История любви» Э.Сигла и – особенно – «Над пропастью во ржи» Д.Сэлинджера.
Над своей книгой Д.Сэлинджер работал около десяти лет и опубли-ковал ее в 1951 году. Роман имел небывалый и на редкость длительный успех. Современники приняли эту книгу как откровение. И до сих пор ро-ман Сэлинджера остается одним из самых известных и любимых произ-ведений во всем мире. Писатель продолжил в нем традиции Марка Твена. Подобно тому, как за несколько десятилетий до него в «Приключениях Гекльберри Финна» Марк Твен показал Америку глазами простого маль-чишки, так и Сэлинджер сделал своим героем подростка, оценивающего происходящее вокруг него со своей точки зрения. Хемингуэй писал, что из «Приключений Гекльберри Финна» вышла вся американская литерату-ра. Роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» – одно из подтверждений этой мысли.
Роман написан в форме исповеди подростка. Перед нами мир взрос-лых, увиденный глазами неискушенного, неиспорченного благами циви-лизации шестнадцатилетнего мальчишки. Писатель сумел проникнуть в душу подростка, передать его внутренний мир, который противопостав-лен практицизму и потребительству мира взрослых.
Герой романа Холден Колфилд провалил экзамены и бежит из опо-стылевшей частной школы, где все, как ему кажется, является «липой», лицемерием и показухой. Его побег – это проявление внутреннего про-теста против системы обучения, против сложившихся в школе порядков, норм человеческих взаимоотношений. Он отправляется в Нью-Йорк, где скитается несколько дней, не решаясь вернуться домой до Рождества. Его внутренний кризис приводит к нервному срыву, болезни. Выздоравливая в санатории, он и описывает свои приключения.
Речь Холдена – это живая речь подростка с молодежным сленгом, оце-ночными восклицаниями, крепкими выражениями, словами-паразитами. Рассказывает он сбивчиво, путано, с напускной грубостью, прикрывая порой свою ранимость иронией и самоиронией. В общем, обыкновенная история, рассказанная простым парнем. Но именно это и придает книге неповторимое обаяние, вызывает особое доверие между читателем и рас-сказчиком.
«Чтение этой книги было захватывающе и интересно, – пишет учени-ца 11 класса Н.Дурнева. – Она помогла мне по-новому взглянуть на мир. Кажется, что в главном герое собраны по крупинкам все чувства и мысли, все качества, как негативные, так и положительные, подростков во всем
291
мире». Эту мысль продолжает Л.Малахова: «Роман рассказывает, что нас, стоящих «над пропастью», много, что мы не одиноки. Становится так тепло, когда узнаешь, что где-то далеко живет Холден Колфилд, который сталкивается с теми же проблемами, интересуется теми же вещами».
Содержание романа составляют три дня «свободы» молодого героя в мире взрослых. Он стремится стать старше и утвердить себя: идет в ночное кафе, заказывает себе виски, пытается снять проститутку. Но все это в итоге вызывает его отвращение. Его тянет к чистой жизни, к полно-ценным человеческим отношениям.
Холден подмечает и остро реагирует на мельчайшие проявления лжи и лицемерия в школе, в семье, в обществе. Он очень чуток к фальши и выше всего в отношениях ценит искренность. Юноша не хочет мириться с равнодушием и притворством. «Сэлинджер очень серьезно относится к своему герою, его наивным мечтам, ребяческому бунтарству и упорному желанию найти настоящее в жизни» [2, с. 44].
Рисуя психологический портрет героя, ученики отмечают противоре-чивость, неустойчивость его психики. По своему характеру он добр и мя-гок, очень раним и стеснителен, у него остро развито чувство справедли-вости. Как всякий подросток, он максималист, склонен к самоанализу. Но крайний максимализм и бескомпромиссность сочетаются в нем с детской обидчивостью и некой инфантильностью («Я часто валяю дурака», – при-знается Холден); склонность к самоанализу, жажда правды не исключают ребяческой наивности. Холден ленив, порой лжив и страшно эгоистичен. В своих оценках он бывает несправедлив. Да и «бунтует» он с явным комфортом: катается на такси, ходит в театр, сидит в барах. Но покоряют его искренность и непосредственность, самостоятельность суждений, не совпадающих с официальным мнением.
Анализируя поступки Холдена, учащиеся понимают, что причиной тому духовное одиночество героя, своего рода комплекс, прием самоза-щиты очень чуткого, остро переживающего всё юноши. Да, он не во всем прав, порой бросая вызов взрослым, совершая назло опрометчивые по-ступки. Но в целом его обвинения окружающему миру глубоко справед-ливы.
Что же не устраивает героя? Он не хочет быть как все, учиться для того, чтобы потом «работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег, и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино…» Холде-ну неуютно в мире, где все определяют расчет, выгода, меркантильный интерес. Например, его раздражает культ машин, когда люди буквально «сходят с ума по машинам. Для них трагедия, если на их машине хоть малейшая царапина, и они вечно рассказывают, на сколько миль хватает галлона бензина, а как только купят новую машину, сейчас же начинают ломать голову, как бы им обменять ее на самую новейшую марку. А я
292
даже старые машины не люблю. Понимаешь, мне не интересно. Лучше бы я завел себе лошадь, черт побери. В лошадях хоть есть что-то челове-ческое. С лошадью хоть поговорить можно».
Тревоги Холдена во многом понятны современным читателям. При-ведем рассуждение О.Павленко: «Молодой человек переступает через грань, «пропасть», разделяющую светлую, чистую юность и взрослую жизнь, полную различных соблазнов, грязи, лицемерия, показухи, жесто-кости. Холден осознавал существование этой грани и не хотел подчинить-ся общему течению… Для нас книга – это своего рода предупреждение, предостережение от ошибок, которые могут перечеркнуть все надежды и мечты, хранимые с детства».
В ходе анализа школьники замечают, что в романе часто звучит мотив игры. А любая игра имеет определенные правила. О каких правилах идет речь в книге? Директор школы и учитель истории сказали на прощание Колфилду, что «жизнь – это игра» и «надо играть по правилам». Оказа-лось, что правила эти жестоки и лживы: победа одних достигается ценой поражения других, ценой насилия. И Холден не хочет играть по установ-ленным правилам.
В своих мечтах герой Сэлинджера стремится к такой игре, которая была бы исполнена любви и ответственности за других.
«Кем бы ты хотел стать?» – спрашивает Холдена его младшая сестренка Фиби. «Знаешь кем? – говорит Холден. – Знаешь такую песенку – «Если ты ловил кого-то вечером во ржи»?» «Не так! – возражает Фиби. – Надо «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи». Это стихи Роберта Бернса!»
Фиби была права. «По правде говоря, я забыл, – соглашается Холден. – Мне казалось, что там «ловил кого-то вечером во ржи». Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва… И мое дело – ловить ребя-тишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи».
Эпизод, в котором Холден рассказывает сестренке Фиби об этой своей мечте, является кульминацией произведения. Именно формула «ловец во ржи» (так дословно переводится книга) дала повести многозначительное название, перекликающееся с Евангелием. В библейском тексте Христос называет апостолов «ловцами душ человеческих».
Очень интересны мысли наших учеников по поводу метафорического названия книги. «Когда я вижу человека, который кажется беззащитным, мне хочется помочь ему, и мне становится легче, если его замкнутость рассеивается. Это происходит потому, что очень часто я сама себя так чувствую и знаю, что в таких случаях люди нуждаются в поддержке. Мо-жет быть, это и означает «стоять над пропастью», чтобы оградить детей?»
293
(Дурнева Н.). А вот иная трактовка: «Главный герой пытается удержаться на краю пропасти, прежде всего, сам. Образ резвящихся во ржи дети-шек – это его эмоции, порой неразумные, способные увлечь за собой в глубокую пропасть. Детство когда-нибудь кончится, и более всего пугает неизвестность… Пропасть – это реальная жизнь, скрытая от нас, пока еще детей, за стенами родительского дома» (Анферов В.).
Ответ на вопрос о смысле поэтического названия романа учащиеся находят и в размышлениях учителя Антолини, к которому Холден при-ходит домой. Пожалуй, это единственный из взрослых, с кем юноша более-менее откровенен, к мнению кого прислушивается. Антолини по-чувствовал разлад в душе подростка. «Мне кажется, ты несешься к какой-то страшной пропасти», – говорит он Холдену. Учитель прав, что нельзя только ненавидеть и отрицать. Но ведь это присуще многим подросткам! Антолини советует обратиться за советом к книгам, больше доверять лю-дям. В словах Антолини тоже прозвучало слово «пропасть»: «Пропасть, в которую ты летишь, ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни… решили, что в при-вычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти». «Очень многие люди пережили ту же растерянность в вопросах нравственности, душевных…»
Что же делать молодому человеку с романтическими грезами юности, с присущим ему максимализмом, с нерастраченным запасом эмоциональ-ных сил? Книга Сэлинджера, по мнению наших современных читателей, подсказывает ответ и на этот вопрос. Бунт Холдена против действитель-ности, внутренний кризис разрешается обнадеживающе: юноша начи-нает осознавать крайность своих позиций, замечая в мире взрослых не только негативные стороны, но и радушие, доброту, приветливость.
Дни, проведенные героем в огромном городе, многому его научили. Ему пришлось немало испытать, многое увидеть и понять. Он чувствует свою необходимость любимой сестренке Фиби и родителям.
В конце романа Холден стал серьезнее, терпимее, рассудительнее. Он готов уже сам спасать сестренку, которая с огромным чемоданом собра-лась бежать на Запад вслед за братом. Невольно маленькая Фиби разы-грывает перед Холденом его самого. Он проявляет благоразумие и ответ-ственность и убеждает сестренку отказаться от своего намерения, уверяя ее, что сам никуда не поедет. Холден понимает свою ответственность за ее судьбу, он буквально взрослеет на наших глазах. «Вероятно, Холденом движет неосознанное им до конца присущее ему обостренное чувство совести, побуждающее его не бежать от людей, а помогать им и прежде всего – детям» [1, с. 226].
На смену былому раздражению приходят спокойствие, рассудитель-ность. Страсть к категорическим суждениям уступает место вниматель-
294
ному вглядыванию в реальную жизнь. Холден учится жить, учится по-нимать, подходить к жизни не только умозрительно.
Об этом же – размышления наших учеников: «Очень часто и мне хо-чется обвинять всех, особенно взрослых, в своих неудачах и разочарова-ниях, и когда это случается, то только немного позже я начинаю пони-мать, что многое зависит и от меня» (Муфтахутдинова З).
«Далекий американский подросток оказался близок мне. Я тоже все еще живу детской мечтой и розовым миром. Надо знать и верить, что ты кому-то нужен, что кто-то защитит тебя на краю пропасти. Чтобы взрослые поняли нас, подростков, они просто должны прочитать Сэлинджера. Это энциклопедия жизни и поведения 15–16-летнего юноши» (Кусаинов С.).
Таким образом, произведение Сэлинджера не потеряло своей актуаль-ности, своей силы и в настоящее время. Книга, помогающая многое по-нять в психологии подростка, может научить не меньше, чем учебники педагогики и психологии. Также можно утверждать, что роман поможет «со стороны», глазами молодого человека взглянуть на проблемы челове-ческого общества. Есть общие проблемы неблагополучия, которые объ-единяют людей разных стран и континентов.
ЛИТЕРАТУРА:1. Зарубежная литература. 10 – 11 кл. В 2 ч. Ч.2 / Сост. Н.Михальская. –
М., 2004. – 270 с. 2. Кубарева Н. Зарубежная литература второй половины XX века. –
М., 2002. – 208с.
Loktionova Natalya Petrovna
“ENCYCLOPEDIA” OF TEENAGER’S LIFE (FROM THE EXPERIENCE OF STUDY THE NOVEL “THE
CATCHER IN THE RYE” BY J.D. SALINGER)
D. Salinger; technique; analysis of epic work; essay; relevance
The article is devoted to a study of the novel “The Catcher in the Rye” by J.D. Salinger at school. It offers questions and tasks for analysis the text, makes some pupils’ observations and also fragments from school essays. It presents the idea about importance of this novel in adolescence.
295
Цыганова Татьяна Федоровнаканд. филол. наук, доцент Дмитровского института
непрерывного образования Университета «Дубна» Дмитров, Россия[email protected]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Модуль, модульное обучение, микромодуль, модульная технология.
В данной статье автор делится опытом применения блочно-модульного обуче-ния на уроках литературы.
В современной педагогике понятие «модуль» определяется как «ор-ганизация учебного процесса, при котором учебная информация разде-ляется на модули (относительно законченные и самостоятельные еди-ницы, части информации) [1]. Совокупность нескольких модулей позво-ляет раскрывать содержание определенной учебной темы или даже всей учебной дисциплины» [2, с.36].
Внедрение в практику педагогической работы технологии блочно-мо-дульного обучения требует от учителя не только проявления творческой активности, но и большой подготовки [5].
На уроках литературы в 9 классе модуль разбивается на несколько микромодулей.
Фрагмент модуля по творчеству М.Ю. Лермонтова в 9 классе.Модуль «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество»Цели: • создать условия для ознакомления со страницами биографии и твор-
чества М.Ю. Лермонтова;• формировать у каждого ученика навыки самоучения и самоконтроля;• включить каждого ученика в осознанную учебную деятельность,
предоставить возможность продвигаться в изучении материала в опти-мальном для себя темпе.
Задачи: • подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и
творчестве поэта;• сопоставление лексических и историко-культурных комментариев.
296
Урок №1. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в лирике
Аспекты учебной деятель-
ности
Дифференцированные заданияУровень литературного развития учащихся
Низкий Средний ВысокийСамостоя -тельная работа
Составьте хронологичес-кую таблицу жизни и литературной деятельности Лермонтова, подготовьте ответ на вопрос: «В чём заключается трагичность судьбы поэта?»
Составьте хронологичес-кую таблицу жизни и ли-тературной деятельности Лермонтова, определите отличия в судьбах А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-монтова.
Составьте хронологичес-кую таблицу жизни и ли-тературной деятельности Лермонтова. Сопоставьте стихотворения А.С. Пушкина («Пущину», «Зимнее утро») и М.Ю. Лермонтова («Парус», «Утёс», «Узник», «Ли-сток», «Одиночество») по настроению, сформу-лируйте основной мотив творчества.
Контроль и обратная связь
Знание основных событий жизни и творчества М.Ю. Лермонтова.
Знание основных со-бытий жизни и творче-ства М.Ю. Лермонтова, сопоставление с судьбой и творчеством А.С. Пушкина.
Знание основных со-бытий жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. Само-стоятельно сделанные выводы на основе сопо-ставления стихотворений и времени их создания.
Планируе-мые результаты
Понимать и уметь объяснить, в чём заключается трагичность общественной жизни 30-х годов XIX века и личной судьбы поэта, их отражение в лирике М.Ю. Лермонтова.
Знать отличия эпо-хи Пушкина и эпохи Лермонтова, обусловлен-ность мотивов творчества поэтов общественной жизнью и собственной судьбой.
Знать отличия эпохи Пуш-кина и эпохи Лермонтова, обусловленность мотивов творчества поэтов общественной жизнью и собственной судьбой.
Домашнее задание
1. Выписать из сти-хотворений «Парус», «Утёс», «Листок», «Одиночество» слова, фразы, пере-дающие одиночество поэта. 2. Ответить на во-прос: «Что позволяет объединить эти про-изведения в единый цикл?»
Ответить на вопросы: 1. Чем объясняется то, что в лирике М.Ю. Лермонтова значительное место занимает мотив одиночества?2. При помощи каких художественных приёмов, средств поэт передаёт чувство одиночества, глубокой душевной тоски и неприкаянности своего лирического героя в сти-хотворениях «Одиноче-ство», «Тучи», «Листок»?
1. Подобрать 2-3 стихот-ворения М.Ю. Лермонто-ва, в которых явно звучит мотив одиночества и вольности. Определить художественные приёмы, средства2. Провести наблюдение над стихотворением «Ког-да волнуется желтеющая нива».
297
Урок 5. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе. Композиция романа
Этапы урока
Дифференцированные заданияУровень литературного развития учащихся
Низкий Средний ВысокийВопросы 1. Какова
творческая история создания романа «Герой нашего времени»?2. Какого героя создал М.Ю. Лермонтов и что обобщил в нем?
1. Как вы понимаете слова В.Г. Белинского: «Вот книга, которой суждено никогда не стариться, потому что при самом рождении ее, она была вспрыснута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова…».2. О какой книге речь идет и почему она всегда будет нова?
1.Как вы понимаете слова В.Г. Белинского: « Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь»? 2. О каком художественном элементе упоминает В.Г. Белинский?
Самостоя-тельная работа
Расскажите о замысле романа «Герой нашего времени». Приготовьте ответ на вопрос: какие редакции прошел роман?
Расскажите о замысле и композиции романа «Герой нашего времени».Приготовьте ответ на вопрос: почему каждая из повестей в составе «Героя нашего времени» может быть прочитана как вполне самостоятельное произведение?
Выявите смысл названия романа «Герой нашего времени»Приготовьте ответ на вопросы: кто же «герой нашего времени» и как вы понимаете, что такое «наше время» ?
Контроль и обратная связь
Чем привлекли ваше внимание первые страницы романа? Можно ли их назвать своеобразным предисловием?
Как в «Предисловии» к роману охарактеризована читающая публика? Прочитайте и прокомментируйте высказывание о Герое Нашего Времени.
Как вы думаете, что имеет в виду автор, утверждая: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины»?Как мы встречаемся с главным героем ?
Домашнее задание
Знать содержание глав «Бэла», «Максим Максимыч».
Знать содержание глав «Бэла», «Максим Максимыч».Чем близки стихотворение М.Ю. Лермонтова «Дума» и роман «Герой нашего времени»?
Знать содержание глав «Бэла», «Максим Максимыч».Составить опорную схему-таблицу «Система рассказчиков в романе» (краткая характеристика рассказчика, каким представлен герой).
Таким образом, модульное обучение является «гибкой» технологией, поэтому она взаимосвязана с другими образовательными технологиями, что дает возможность учителю повышать уровень самообразования, раз-нообразить форму уроков, развивать творческие способности учащихся.
298
ЛИТЕРАТУРА:1. Педагогический энциклопедический словарь/Гл. ред. Б.М. Бим-
Бад. – М.: Большая российская энциклопедия, 2002. – 528 с.2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата
образования. – М., Высшее образование сегодня. № 5. 2003. – С. 34–42. 3. Захаров В.А. Летопись жизни и творчества Лермонтова. – М., «Рус-
ская панорама», 2003. – 704 с.4. Захаров В.А. Загадка последней дуэли. – М.: «Русская панорама»,
2000. – 352 с.5. Дьяченко В.К. Современный урок // Учительская газета, 1984, 26
января. 6. Курс №5 Неизвестный Лермонтов: сайт. – URL: http://arzamas.
academy/courses/10.
Tsyganova Tatiana Fyodorovna
USAGE OF MODULAR EDUCATION AT LITERATURE LESSONS
Module, modular education, micro module, modular technology.
The author of the article describes experience of using block-module education at lite-rature lessons.
Яковлева Ольга Васильевназам. директора средней школы №9 имени А.С. Пушкина
Пермь, Россия[email protected]
О ТРАДИЦИЯХ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫХ ГОСТИНЫХ
В ШКОЛЕ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА
А.С. Пушкин, традиции, литературно-музыкальные вечера XIX века, провинци-альный город, Пермская государственная художественная галерея, размышле-ния, выпускники, социально-педагогическая задача, формирование ценностей
В физико-математической школе имени А.С.Пушкина продолжаются традиции литературно-музыкальных гостиных XIX века, которые были частью культур-ной жизни провинциального города. Эта форма проведения внеурочных занятий в школе и на музейных территориях позволяет по-новому взглянуть на литера-турные и музыкальные тексты.
299
Научная, интеллектуальная, спортивная деятельность школы №9 име-ни А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-матема-тического цикла удивительным образом наполнена поэзией и музыкой. Самые многообразные события творческой жизни сменяют друг друга. Это XXX-й Пушкинский бал, который подарят старшеклассники школь-ному и городскому сообществу в феврале этого года. Это XIV-й откры-тый театральный фестиваль «Прикамское чудо» школ Международного бакалавриата. Это книги стихов, рассказов и сказок, которые рождаются каждый год в школе и посвящены культуре и истории Пермского края. Это школьные спектакли, представленные на Международном театраль-ном фестивале «Пушкинская весна» в Москве. И разве можно в несколь-ких словах передать, как рождается, например, сценарий театрализован-ного представления «Политика? Поэтика? Иль страсть?», посвященного 190-летию написания трагедии А. С. Пушкина, «Борис Годунов» для уса-дебного праздника «Ольгины именины» на территории «Государствен-ного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское»?! Но среди многооб-разия событий в школе важное место занимают литературно-музыкаль-ные гостиные как особая форма интеллектуального и духовного развития учеников.
Школа продолжает традиции литературно-музыкальных вечеров, ко-торые приобрели большую популярность в Перми в середине XIX столе-тия, слава о которых прокатилась по всей России. «Только в зиму 1859–1860 годов их провели одиннадцать, и все собирали массу слушателей, хотя были платными. Доходы от этих вечеров шли на устройство жен-ского училища, воскресных школ, на помощь нуждающимся студентам Казанского университета из числа пермяков, ученикам духовной семина-рии, на организацию библиотек и т. д. И посещали эти вечера не только и не столько представители высшего пермского общества, сколько мелкие чиновники, учителя, офицеры, гимназисты, платившие за входной билет по 50 копеек серебром. Случалось, билеты стоили и дороже» [3, c. 146].
«В целом, пермская публика более всего занималась тем, что было ей доступно: игрой на народных музыкальных инструментах, пением и, ко-нечно же, чтением» [3, с. 155]. Город получил известность благодаря про-ведению семейных вечеров, «где каждое новое явление отечественной литературы произносится с уважением, где идут споры о Лермонтове и Пушкине, где все эти споры и чтения прерываются невзыскательной домо-рощенной музыкой» [3, с. 162], «любили пермяки послушать хорошую му-зыку, помузицировать дома и для собственного удовольствия» [2, с. 103 ].
Позже в Уставе 1876 года Пермского Благородного Собрания читаем, что «…целью является доставить членам и их семействам возможность проводить свободное от занятий время с удобствами, приятностию и пользою. А поэтому устраивает для своих членов и их гостей ... литера-
300
турные и музыкальные вечера…» [5, с. 2]. Часто в собрании организо-вывали литературно-музыкальные гостиные с благотворительной целью в пользу приютов, больниц и учебных заведений.
Литературно-музыкально-вокальные вечера проводились еще в рам-ках народных чтений, которые были очень популярны в Перми. Двери многих учебных заведений и, в частности, нашей школы, которая в то время была Кирилло-Мефодиевским училищем, были открыты для лек-ций религиозно-нравственного характера и просветительского содержа-ния, где демонстрировались световые или как их еще называли туманные картины, готовились музыкальные номера. «В праздник Благовещенья 25.03.1898 в Богородицкой школе происходило платное народное чтение, а вернее литературно-музыкальный вечер. Собранные средства пошли на устройство розговин для бедного люда в день Светлого Воскресения. Вечер прошел с большим успехом, благодаря разнообразной программе и удачному исполнению. Солистов было очень много, они были хорошо знакомы публике. Это были лучшие певцы и чтецы: участники местного музыкального кружка, народный хор, образованный при Богородицкой школе из любителей пения. Вечер был тематический, все номера по сво-ему содержанию были связаны с праздником Светлого Христова Воскре-сения. Публики было очень много, и преимущественно интеллигентной» [1, с. 104].
Продолжая традиции литературно-музыкальных гостиных, мы видим их особую роль в становлении личности школьника. Во время активной урочной и внеурочной проектной, исследовательской деятельности про-исходит мощное познавательное, нравственное, эстетическое развитие человека. Школьник выходит за рамки программы, знакомится с теорией и историей литературы, автобиографической прозой и письмами, лите-ратурной критикой, музыкальными формами, композиторами, историями создания музыкально-поэтических произведений. Совместное создание сценариев, выбор произведений помогает активно, сознательно и творче-ски выразиться во время подготовительного этапа.
Формат литературно-музыкальных гостиных давно вышел за пределы школы. Вечера проводятся в городской библиотеке имени А.С.Пушкина, театральном зале Пермского государственного национального исследова-тельского университета, бывшем особняке купца Грибушина, изображен-ном в романе Бориса Пастернака как «дом с фигурами»…
Уже несколько лет традиционным местом проведения литературно-музыкальных гостиных стала Пермская государственная художественная галерея. Вечера, которые школьное сообщество проводит там благодаря поддержке руководства и сотрудниками музея, стали новой страницей в культурной истории города. Тематика гостиных приурочена к памятным датам литературных и музыкальных деятелей, истории России, школьной программе.
301
Но особым шагом в развитии творчества школьного сообщества стали гостиные, посвященные событиям самой галереи, ее выставкам: «Петер-бург. Петроград. Ленинград.»; «И камни говорят…» – выставка из со-брания Государственного Исторического музея; «А он, мятежный, про-сит бури», посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова и многие другие. Последняя литературно-музыкальная гостиная «Китай-ская акварель» была проведена на выставке шедевров современного ки-тайского фарфора «Фарфоровый путь: из древности в будущее». Звучали стихи китайских поэтов XI – XIX веков на русском языке, песни-романсы из репертуара Александра Вертинского, стихи Николая Гумилева, посвя-щенные китайской теме. Зрительская аудитория литературно-музыкаль-ных гостиных – самая разнообразная: от постоянных слушателей наших вечеров до случайных посетителей, от родителей до выпускников.
Нам, педагогам, очень важно понимать, что сами участники и детские организаторы говорят о значении гостиных. Своими размышлениями с нами поделились выпускники 2015 года.
Николай Прохоров, студент первого курса физического факультета ПГНИУ: «Литературно-музыкальные гостиные сыграли немаловажную роль в моём духовном развитии. Поэзия – стала частью моей жизни. Когда ты стоишь на сцене, то буквально вливаешься в сущность того поэта, ко-торого исполняешь. В этот момент приходит отчётливое понимание того, какие чувства он вложил в свои строки и чем хотел поделиться с каждым из нас. Это очень завораживает, заставляет задуматься и даже творить что-то своё, думать иначе. В один из вечеров я исполнял роль Николая Руб-цова. Это было незабываемо. Появляется желание узнать более подробно о творческом процессе писателей и поэтов, что побудило их воплощать свои мысли в текст. Я очень благодарен за все возможности, которые даёт школа, в том числе и за участие в этих восхитительных литературно-музы-кальных гостиных. Спустя некоторое время после одного из выступлений, моя классная руководительница, Ольга Васильевна, подарила мне сборник стихотворений Николая Рубцова. Я часто открываю эту книгу и думаю…»
Максим Лезгинов, студент второго года Дипломной Программы Меж-дународного бакалавриата в Международной школе Израиля: «Гостиные помогли мне понять истоки культуры моей родины, русской души».
Елизавета Попова, выпускница 2015 года, студентка первого курса Государственной классической академии имени Маймонида: «Если гово-рить о значении, то гостиные мне очень помогли в изучении литературы, потому что происходит полное погружение в поэзию того или иного авто-ра, а через полное погружение в поэзию при помощи музыки, аудитории, слова, разнообразного прочтения и т.д. материал запоминается гораздо лучше и полней и глубже осознаётся».
София Ключ, выпускница 2015 года, студентка второго года Диплом-ной Программы Международного бакалавриата в Международной школе
302
Израиля: «Каждый вечер был посвящен великим русским поэтам. Борис Пастернак, Булат Окуджава, Николай Рубцов и другие. Каждая литера-турно-музыкальная гостиная была некой тайной между учениками и слушателями. В стенах Пермской художественной галереи среди картин гениальных художников, мы делились со зрителями своим мыслями и чувствами, тем, что волновало нас через стихи и песни великих поэтов. Мы читали стихи, звучали песни, все наслаждались живым исполнением музыкальных произведений на рояле и скрипке. Литературно-музыкаль-ные гостиные очень сильно повлияли на меня. Они помогли не только развитию моей индивидуальности, но и позволили преодолеть разноо-бразные комплексы. Благодаря этим вечерам я перестала боятся говорить перед публикой. А большое количество стихов, выученных для гостиных, не раз помогало мне во время уроков литературы их правильно анализи-ровать. Эти лирические и душевные литературно-музыкальные гостиные оставили большой след в моем сердце».
Александр Зайцев, студент первого курса МГИМО: «Литературно-му-зыкальные гостиные, в которых я неоднократно принимал участие, стали неотъемлемой частью моей школьной жизни. Они стимулировали мой интерес, в частности, к русской поэзии 20 века, заставили прочитать и изучить очень много за пределами программы по литературе. Они по-могли мне через подробное изучение истории жизни и творчества поэтов прийти к более глубокому пониманию их поэзии. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен интеллектуально совершенствоваться, узнавать больше о выдающихся сынах своего отечества и их трудах, ста-новясь частью всемирно признанной российской культуры».
Каждый ученик, участник литературно-музыкальной гостиной, – это неповторимый внутренний мир, которому помогает это небольшое теа-тральное событие раскрыться ярче, состояться как яркой индивидуаль-ности. Вдохновляя и сопровождая школьников, мы предлагаем им по-знавать, мыслить, действовать самостоятельно. Перед нами стоит очень важная социально-педагогическая задача – формирование исторических, нравственных, духовных и культурных ценностей у детей в школе. Лите-ратурно-музыкальные гостиные помогают нам в реализации этой задачи.
ЛИТЕРАТУРА:1. Аверина Н.Ф. Восставшая из пепла. – Пермь: Пушка, 2012. – 256 с.2. Вердеревский Е.А. От Зауралья до Закавказья, юмористические,
сентиментальные и практические письма с дороги. – М.: тип. В. Готье, 1857. – 24 с.
3. Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее: кратк. ист.-статист. очерк. – Пермь: Пушка, 1994. – 256 с.
4. Спешилова Е. Старая Пермь: Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. – Пермь: Курсив, 2003. – 329 с.
303
5. Устав Пермского благородного собрания. 1876 г. – Пермь: Типогра-фия губернской земской управы, 1876. – 3 с.
Yakovleva Olga Vasilievna
ALEXANDER PUSHKIN, TRADITIONS, LITERARY AND MUSIC SALONS OF XIX CENTURY, PROVINCIAL TOWN, PERM ART STATE GALLERY, REFLECTION, GRADUATES, SOCIAL AND
EDUCATIONAL OBJECTIVES, VALUES DEVELOPMENT
Traditions of Literary and Music Salons at Alexander Pushkin SchoolAlexander Pushkin school with advanced study in Mathematics and Physics has been continuing the traditions of literary and music salons of XIX century which were a part of cultural life in a provincial town. This extracurricular activity providing at school and in museums helps to take a new look at literature and music texts.
304
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Аль Анбаги Шайма Тамер Хасанмагистрант Тульского государственного
педагогического университета им. Л. Н. ТолстогоТула, Россия
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В АРАБСКОЙ АУДИТОРИИ
Произношение, фонетика, звуки, арабский язык, ударение, слоги.
В статье раскрываются фонетические трудности использования русского языка в арабской аудитории. Рассматриваются трудности применения русской фонетики арабскими студентами. Исследуются отличия использования русско-го языка от арабского языка в структуре фонетики.
Правильное произношение является необходимым условием успеш-ного овладения иностранным языком. Основные задачи методики обуче-ния фонетике русского языка как иностранного – это основа формирова-ния речи [1].
В процессе преподавания арабским студентам фонетического курса русского языка, который характеризуется трудностью освоения и усво-ения звуковой системы, изучаемой на начальном этапе подготовки [2].
Как известно, необходимо учитывать структуру родного языка при помощи сопоставления ее со структурой русского языка. Трудности в ов-ладении русской фонетикой объясняются различиями между арабской и русской фонетической системами [1].
Количество букв в алфавите арабского языка – 28. При работе над рус-скими согласными следует отметить, что согласный звук в этом языке мо-жет быть либо твердым, либо мягким. Преподаватель должен объяснить «твердость – мягкость» в русском языке, противопоставление звуков б, в, ш, щ [1].
305
Преподавателю нужно обратить внимание на то, что звук а в ударной и безударной позициях произносится в арабском языке как а, при том, что в арабском языке есть только три гласных звука: а, и, у.
При произнесении вслух этих гласных арабские студенты не умеют их четко дифференцировать: а перед средними согласными приближается к э [атом – этом], у слабее лабиализуется и иногда сближается с о [урок – орок].
Тексты с огласовками используются только в Коране и в учебниках арабского языка, поэтому арабские студенты делают множество ошибок в написании гласных [2]. Кроме того, в арабском письме обозначаются только согласные звуки, нет заглавных букв, нет различия между печат-ным и письменным вариантами написания букв, поэтому обучение араб-ских студентов прописям в русском языке играет важную роль при пер-вых занятиях овладения русским языком.
В отличие от русского языка, в арабском языке встречаются не бо-лее двух согласных, в то время как в русском языке встречаются три или четыре согласных подряд. В арабском языке место и характер ударения зависит от типа и количества слога, арабское слово может иметь главное и второстепенное ударения, этот факт не должен мешать преподавателю при работе над ритмикой ударения в русских словах [1].
В арабской аудитории очень важно, чтобы при постановке звуков фор-мировался фонетический слух параллельно с изучением артикуляторных движений и акцентировалось выполнение всех акустических характери-стик звуков.
Различия слогов русского и арабского языков стоит в том, что слог в арабском языке всегда начинается с одного согласного и не зависит от ударения, слоги сохраняют долготу и краткость, которая обусловлена фо-нетическим противопоставлением гласных.
Осталось еще важное отличие, что арабский язык имеет только 5 пар, противопоставленных по глухости – звонкости, а в русском 11 пар соглас-ных. Ошибка студентов получается в произношении слов баба – вместо папа, бочка – вместо почка, это является результатом отсутствия в араб-ском языке пары согласных п – б.
Стоит отметить, что эти различия русского и арабского языков объяс-няют причину наличия ошибок у арабских студентов, особенно в произ-ношении русских слов. Эта особенность является очень важной для пре-подавателя на занятиях фонетического курса при изучении русского языка, она позволит найти ему ключевые решения при отборе материала и упраж-нений для арабских студентов при обучении фонетике русского языка.
ЛИТЕРАТУРА:1. Звуковые и грамматические особенности арабского языка. Лек-
ция 4: сайт. – URL: http://sirg7.narod.ru /NNV/lectures NV/K04.htm (Дата обращения: 09.06.2013).
306
2. Изучение арабского языка. Звуки сходные со звуками русского язы-ка. Гласные. Согласные: сайт. – URL: http://arabyaz.livejournal.com/1143.html (Дата обращения: 08.06.2013).
Al-Anbagi Shaymaa Thamer Hasan
PHONETIC DIFFICULTIES OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE ARAB AUDIENCE
Pronunciation, phonetics, sounds, Arabic accent, syllables.The article reveals the phonetic difficulties of using the Russian language in the Arab audience. We consider the difficulties of applying the Russian phonetics Arab students. We study the differences of use of the Russian language from the Arabic language in the structure of phonetics.
Антонникова Ирина Ивановнастарший преподаватель
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина[email protected]
Сипунова Ирина Владимировнастарший преподаватель Российского университета дружбы народов
[email protected]Гаврилова Елена Петровна
старший преподаватель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
РОЛЬ И МЕСТО ГРАММАТИКИ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Имплицитный метод, эксплицитный метод, индуктивный подход, дедуктивный подход, грамматические конструкции, социокультурная компетенция.
В данной статье рассматривается роль и место грамматики в практическом курсе обучения иностранному языку. В ней анализируются трудности, с которы-ми сталкиваются студенты в процессе обучения иностранному языку, а также даны способы их преодоления.
Обучение грамматике занимает важное место в практике преподава-ния иностранного языка. В методике обучения существуют различные точки зрения на необходимость системного изучения грамматики.
307
Против усиленного изучения грамматики в курсе иностранного языка выдвигаются следующие аргументы:
– когда студент изучает иностранный язык, он должен усваивать за-кономерности построения речи в процессе общения, а не изучать правила грамматики;
– многие носители языка говорят с грамматическими ошибками, но это не мешает процессу коммуникации;
– механическое заучивание правил и их отработка в системе грамма-тических упражнений не способствует формированию грамматических знаний и умений;
– для успешного речевого общения не обязательно иметь представле-ние о всей грамматической системе языка.
Существует и другая точка зрения на роль и место грамматики в системе обучения иностранному языку: овладеть иностранным языком как средством общения невозможно без знания грамматики. Например: русский язык принадлежит к числу флективных языков с предложно-па-дежной и видовременной системой, обладает сложной системой синтак-сических форм и другими особенностями. Грамматическим строем язы-ка можно овладеть и без изучения правил, как это происходит в родном языке, но знание правил значительно сокращает путь к практическому усвоению иностранного языка. Поэтому можно выделить следующие ар-гументы:
– системное изучение грамматики позволяет студенту говорить чисто и грамотно;
– изучение грамматики позволяет лучше понять тонкости языка и, следовательно, менталитет и культурные особенности носителей языка;
– грамматические навыки и умения способствуют скорейшему фор-мированию коммуникативной компетенции;
– системное изучение грамматического материала помогает студен-там строить высказывание с минимальным количеством ошибок.
В пользу изучения грамматики говорит и тот факт, что в отличие от лексики, грамматический материал любого языка является лимитирован-ным.
Грамматику нельзя изучать без лексики и фонетического оформления языковой единицы.
При изучении иностранного языка с практической целью грамматика выполняет важную функцию, и в сочетании с лексикой и фонетикой яв-ляется тем строительным материалом, который позволяет сформировать речевое высказывание как в устной, так и в письменной форме.
Известный русский лингвист и методист, Л.В. Щерба, ввел в методику понятие об активной и пассивной грамматике. В книге «Преподавание иностранных языков в школе» он писал: «Пассивная грамматика описы-вает функции и значения строевых элементов конкретного языка, исходя
308
из их формы, т.е. из их внешней стороны. Пассивная грамматика рассчи-тана на восприятие и понимание строевых элементов языка, поэтому об-служивает такие виды речевой деятельности, как чтение и аудирование, называемые в методике рецептивными. Активная грамматика предназна-чена для употребления этих форм в речи и обслуживает продуктивные виды речевой деятельности – говорение и письмо» [1, с.56].
Таким образом, следует признать, что обучать грамматике необходи-мо, так как незнание грамматики препятствует осуществлению речевого акта. Чтобы грамотно построить собственные высказывания, можно ис-пользовать достаточно ограниченный набор грамматических конструк-ций. Однако, носитель языка, как правило, использует более сложные конструкции в своей речи, что становится серьезным препятствием для понимания сути высказывания, не говоря уже о тонкостях социолингви-стического характера, выраженных в контексте носителей языка. Когда нет достаточного понимания, нет и полноценного общения. Поэтому можно утверждать, что недостаточный уровень грамматических навыков является барьером на пути формирования не только языковой, но и рече-вой и социокультурной компетенции.
«Традиционно в практическом курсе иностранного языка сложилось два подхода к обучению грамматике – имплицитный (без правил) и экс-плицитный (на основе правил) – и существующие в их рамках методы обучения» [2, с.175].
В имплицитном подходе обучение грамматике строится на методах (структурном и коммуникативном), в основу которых положены упраж-нения, не предусматривающие объяснения правил. При эксплицитном подходе объяснение грамматического материала в системе доречевых и речевых упражнений реализуется в рамках методов – дедуктивном (от общего к частному) и индуктивном (от единичного к общему).
Практика показывает, что имплицитный подход может успешно ис-пользоваться на начальном этапе обучения студентов.
Преимущество дедуктивного метода можно выразить в следующих положениях:
– осуществление реализации принципов сознательности, научности;– обеспечение последовательной отработки грамматического навыка;– формирование учебных умений и навыков при большей автономии
учащихся;– возможность использования при самостоятельной работе.Продвинутый этап обучения иностранному языку предполагает под-
ключение дедуктивного и индуктивного методов имплицитного подхода в практическом курсе иностранного языка. Студентам на данном этапе не представляет трудности понять правило, сформулированные с использо-ванием грамматических терминов. В их задачу входит найти грамматиче-
309
скую структуру в предложении или тексте, объяснить в каком значении она употреблена. В качестве контроля можно предложить переводные предложения с родного языка на иностранный.
Следует отметить, что в современных условиях использования только одного метода или подхода встречается крайне редко. В зависимости от конкретной ситуации обучение иностранному языку возможны вариан-ты использования методов и подходов в формировании грамматических навыков речи. В практике обучения преподаватель может варьировать использование эксплицитного и имплицитного подходов и их методов, выбор данных подходов и их методов зависит от многих причин – от воз-раста обучающихся, уровня языковой компетенции студентов, цели кур-са, а также от особенности самого грамматического материала. Поэтому в настоящее время в практическом курсе грамматики наиболее распро-страненным является дифференцированный подход, предполагающий выборочное использование двух подходов и сформированных в их рам-ках методах.
Сочетание различных подходов и методов, бесспорно, является вы-игрышным моментом в процессе овладения грамматическим аспектом иностранного языка, так как дает возможность восполнить минусы одно-го подхода плюсами другого.
В практическом курсе обучения иностранного языка, как известно, выделяют активный и пассивный минимум грамматического и лексиче-ского материала. В первую очередь на занятиях отрабатывается активный материал, который в дальнейшем используется в продуктивных видах речевой деятельности, а пассивный служит для узнавания при чтении и аудировании. Активный грамматический материал отбирается по прин-ципу распространенности его употребления в устной и письменной речи. На начальном этапе, как правило, изучаются грамматические явления активного минимума, а более сложный грамматический материал, тре-бующий сознательной проработки студентами, – на продвинутом этапе.
Поэтому для усвоения и закрепления грамматических навыков пре-подавателю необходимо увеличить количество условно-речевых и соб-ственно-речевых упражнений и заданий. Наиболее эффективным в дан-ном случае будет использование разнообразных грамматических игр, направленных на отработку грамматических навыков в значимом комму-никативно-ориентировочном контексте.
ЛИТЕРАТУРА:1. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в школе. – М.: Выс-
шая школа, 1974. – 111с.2. Крючкова Л.С, Мощинская Н.В. Практическая методика обучения
русскому языку как иностранному. – М.: Флинта: наука, 2009. – 408 с.
310
Antonnikova Irina IvanovnaSipunova Irina Vladimirovna
Gavrilova Elena Petrovna
TEACHING GRAMMAR IN FOREIGN LANGUAGE
Implicit method, explicit method, inductive approach, deductive approach, grammar, socio-cultural competence.
The article states the impotents of teaching grammar to foreign students. It describes the difficulties the students face and the methods to overcome them.
Азимов Эльхан Гейдаровичд. пед. наук, профессор
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
[email protected]Ярославская Ирина Игоревна
старший преподаватель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Москва, Россия[email protected]
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПЕРЕВОДАТерминология, лингводидактика, русский язык, английский язык, семантика, лек-сикология, перевод, методика преподавания языков.
Статья посвящена анализу современной лингводидактической терминологии в русском языке, рассматриваются различные типы лингводидактических терми-нов с точки зрения их значения и употребления. Внимание уделяется особенно-стям перевода терминов на английский язык.
Лингводидактическая терминология постоянно развивается и попол-
няется новыми терминами и понятиями. Об этом свидетельствуют пу-бликации новых словарей [1], диссертационные исследования [4]. Под термином понимается, как известно, слово или словосочетание специаль-ной сферы употребления, создаваемое (заимствуемое, принимаемое) для точного выражения специальных понятий и основанное на дефиниции (О.С. Ахманова). Специфика терминов гуманитарных наук, в том числе и лингводидактической терминологии, заключается в их социокультурной
311
обусловленности. Характерными особенностями терминологии гумани-тарных наук являются, как известно, межкультурная или национально об-условленная полисемия и синонимия. Все это создает сложности в пере-вода и толковании этих терминов с точки зрения другого языка. Можно выделить несколько основных причин, вызывающих неупорядоченность лингводидактической терминологии:
1. Одному и тому же термину начинают приписывать два и более зна-чений (см. трактовки терминов методика, компетенция, компетентность, владение языком, неродной язык).
2. Использование новых терминов часто приводит к неоправданной синонимичности терминов. Например, технология часто стало исполь-зоваться вместо слова методика, вместо слова методика стал использо-ваться в том же значении термин лингводидактика. Наблюдаются также синонимичное употребление терминов компетенция и умение.
3. Значительное число новых терминов приходит в русский язык, как известно, из английского языка, что связано, с одной стороны, с объек-тивными процессами (широким распространением английского языка как языка международного общения, развитием методики преподавания английского языка), с другой стороны, вызвано модой на иноязычные термины, стремлением усилить наукообразность текста. Отсюда ошиб-ки в использовании терминов грамотность (анг. literacy), семейный язык, язык диаспоры (анг. heritage language) и др.
Рассмотрим в качестве примера несколько терминов. Термин линг-водидактика появился относительно недавно в русском языке. Он был введен в середине восьмидесятых годов прошлого века акад. Н.М. Шан-ским в связи с разработкой проблем описания языка в учебных целях. Следует, правда, отметить, что среди специалистов нет единого мнения о содержании этого термина и даже о необходимости его существования. Одни придерживаются расширительного толкования понятия как обо-значающего совокупность теоретических и практических вопросов пре-подавания языка и фактически заменяющего термин методика. Другие рассматривают термины методика и лингводидактика как равнозначные. Третьи рассматривают лингводидактику как общую теорию обучения языку. Полного соответствия в английской терминологии этому терми-ну в русском языке нет, его толкование и перевод требуют дополнитель-ных комментариев. Частично этому термину соответствуют английские обозначения applied linguistics, language teaching methodology (theory), language pedagogy, theory of language acquisition.
При заимствовании и переводе терминов из английского языка часто допускаются ошибки. Например, термин методика (в английском язы-ке methodology) в зарубежных методических работах, переведенных на русский язык, подменяется термином «методология», т.е. просто кальки-руется, что приводит к искажению его значения и смысла текста в це-
312
лом. В англоязычной литературе используются в этом значении терми-ны language pedagogy, applied linguistics, language teaching methodology. «Многозначность термина «методика» и обусловила стремление неко-торых ученых дать новое название нашей науке. Так, в одной из работ методическая наука обозначается термином «методология». Это прямой перенос из англо-американской научной литературы, где имеет хождение термин methodology. Однако термин «методология» уже давно существу-ет в российской науке: методология – это учение о научном знании и спо-собах его добывания» [5, с.24].
Рассмотрим также, например, терминологию, связанную с методами обучения иностранным языкам. Многие английские названия методов обучения иностранным языкам не имеют полноценного соответствия в русском языке [3], например: the silent way (метод тихого обучения, суть которого сводится к организации активной речи учащегося на уроке, речь учителя должна занимать незначительное место на уроке), total physical response (метод опоры на физические действия), data-driven learning (из-учение языка с помощью базы данных, при котором учебный процесс опирается на индуктивные процессы познания и набор аутентичных уст-ных и письменных текстов).
Ученые ведут споры о соотношении терминов метод, подход, техноло-гия. Н.Д. Гальскова справедливо отмечает: «Термин «технология» относит-ся к числу если не модных, то наиболее частотно употребляемых. Нередко, если вместо термина «технология обучения» автор использует термин «ме-тодика обучения», его могут уличить в том, что он отстает от инноваци-онных процессов в образовании и не имеет представления о современной научной терминологии» [2, с.9]. В «Новом словаре методических терминов и понятий» под технологией обучения понимается совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих до-стижение поставленной цели обучения за минимальное время. Благодаря технологиям наилучшим образом достигаются цели обучения [1].
Н.Д. Гальскова предлагает различать различные контексты исполь-зования такого многозначного термина, как технология. Термин «тех-нологии» в языковом образовании ориентирован на использование ИКТ (компьютерные курсы, дистанционные курсы, телекоммуникационные проекты) в обучении языкам. Термин «технологии обучения» затрагивает содержание обучения, он близок по своему значению к термину методи-ка обучения. Термин «технологии языкового образования» используется тогда, когда речь идет о приемах и способах специфической образова-тельной деятельности (например, языковой портфель, лингводидакти-ческое тестирование) [2]. Все это говорит о том, что термин технология будет толковаться переводиться по разному в зависимости от контекста.
Таким образом, тенденции развития лингводидактической термино-логии обусловлены рядом факторов: 1) процессами интеграции и интер-
313
национализации лингводидактики, 2) развитием новых технологий обу-чения, 3) влиянием терминологии и понятий смежных наук (лингвисти-ки, психологии, социологии).
ЛИТЕРАТУРА:1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и
понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. – 448 с. 2. Гальскова Н.Д. Новые технологии обучения в контексте современ-
ной концепции образования в области языков // Иностранные языки в школе. 2009, №7., С. 9 – 15.
3. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. М.: Дрофа, 2008. – 432 с.
4. Ловцевич Г.Н. Кросскультурный терминологический словарь как словарь нового типа (на материале английских и русских терминов линг-водидактики): Автореф. дисс. д-ра филол. наук. – М., 2010. – 47 с.
5. Московкин Л.В. Заметки о современной методике // Русский язык за рубежом. 2010, № 5., С. 22 – 25.
6. Пассов Е.И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и пи-шем. СПб.: Златоуст, 2008. – 124 с.
Azimov Elchan Geydarovich, Yaroslavskaja Irina Igorevna
LANGUAGE TEACHING TERMINOLOGY IN RUSSIAN: PROBLEMS OF INTERPRETATION AND TRANSLATION
Term, English, Russian, translation, semantics, lexicology, language teaching.
The article considers the development of terminology of language teaching in Russian, and focused of on problems of interpretation of terms. Special attention was given to the translation problems of language teaching terminology.
314
Асонова Галина Анатольевнапреподаватель
Российского университета дружбы народов Москва, Россия
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИИГРОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ РКИ
Грамматические игры, коммуникативные игры, функции, грамматика русского языка как иностранного, творческие игры, игры-сценки.
В статье рассматриваются роль и функции игровых учебных заданий как ин-терактивных приемов на начальном этапе обучения грамматике РКИ. Игра яв-ляется дополнительным способом обучения. Рассматриваются некоторые виды игр обучения.
С ростом компьютерных технологий в настоящее время в методике преподавания русского языка как иностранного появляется множество интерактивных приемов обучения. Одним из таких приемов являют-ся игровые учебные задания. Применение игры на уроках обусловлено желанием преподавателя по РКИ разнообразить занятия в иноязычной аудитории и, вместе с тем, укрепить знания фонетики, грамматики, лек-сики русского языка, а также навыки и умения коммуникации учащих-ся. Игры не могут применяться в качестве основного способа обучения в силу того, что игре необходимо уделять большое время урока, что не всегда является возможным, так как студенты должны овладеть не только коммуникативной компетенцией, но и понять функционирование грам-матических категорий и признаков в предложении, в тексте, диалоговых единствах. Поэтому необходимо рассматривать игру в качестве допол-нительного обучения. Примеры игровых заданий могут быть различны-ми, в зависимости от функций обучения. Если целью обучения является развитие фонетических умений учащихся, соответственно, игры будут фонетическими, с применением картинок, на которых будут нарисованы необходимые звуки, звуко-буквенные сочетания, транскрипция. Следует помнить, что игрой может являться обычное традиционное упражнение, представленное в игровой форме. Если целью обучения является разви-тие коммуникативных навыков студентов, то это могут быть развиваю-щие мышление коммуникативные игры, которые направлены на развитие у учащихся навыков говорения на русском языке. К таким играм относят
315
ролевые игры, игры-сценки, игры творческого плана. Что касается изуче-ния грамматического материала РКИ, то игр грамматического плана в на-шей стране еще не так много описано, чтобы применять их в достаточной степени на уроках по русскому языку. Так, например, наличие в русском языке большинства флексий таких частей речи, как прилагательных, су-ществительных, личных и притяжательных местоимений в различных падежах, трудно объяснить и закрепить при помощи игровых учебных упражнений. Но подача грамматического материала представляется ин-тересной, а сам материал доступным для понимания грамматики РКИ. Важно, чтобы грамматический материал был отработан в коммуникатив-ных диалогах учащимися совместно с преподавателем, который всегда укажет на возможные ошибки в речи. Асоновой Г.А. было отмечено в одной из ее статей, что «без осуществления практического применения знаний грамматических категорий иностранные слушатели не могут вы-ражать свои мысли в общении на изучаемом языке и осуществлять ком-муникацию. Однако выполнение традиционных грамматических, языко-вых, лексических, тренировочных и других типов упражнений на уроках РКИ не всегда оказывается достаточным для развития коммуникативных навыков и умений учащихся» [1, c.83]. Поэтому в современной методике преподавания РКИ рекомендуется применять активные методы обучения, такие как ролевые учебные игры, грамматические и лексические игры, проигрывания коммуникативных диалогов и речевых сценок. Ролевые игры, игры-сценарии, игры при помощи карточек, грамматические игры независимо от уровня подготовки студентов помогают справиться с язы-ковыми трудностями, развивают коммуникативные навыки учащихся, ис-ключают языковой барьер.
Грамматика – один из самых сложных разделов в системе обучения русскому языку. Многие студенты воспринимают грамматику как очень трудную часть обучения. Преподавателю важно показать студентам, что русский язык представляют собой систему, схожую с математической, где все логично и поддается анализу. Разумеется, это не относится к исклю-чениям. Исключения из правил студенты могут попытаться запомнить при помощи ассоциаций или наизусть. Грамматические правила русского языка можно представить в виде определенных формул, алгоритмов ре-шения определенной задачи. Так, при обучении категории рода в русском языке как иностранном, студенты могут увидеть, что окончания мужско-го рода являются нулевыми, либо словами, оканчивающимися на мяг-кий знак, либо с окончание на -ий. Данную информацию преподаватель может представить учащимся в виде таблицы. Для отработки этой темы студенты делятся на команды, подходят к доске, которую преподаватель может разделить на две части, и записывают в соответствующую колонку слова определенного рода (мужской, женский, средний). Побеждает та команда, которая записала все слова правильно в нужные колонки.
316
Игровые формы обучения способствуют использованию различных способов мотивации. К мотивам общения можно отнести следующие: а) желание учащихся, совместно решая задачи, учиться общаться, всту-пать в диалоги с коллегами по общению, стремление проявить себя, свои знания, умения, свой характер, волевые качества, свое отношение к дея-тельности, к людям; б) укрепление межличностных отношений; в) жела-ние победить и осознать путь к достижению цели; г) равноправие всех участников игры; д) погружение учащихся в соответствующую игре об-становку и ощущение себя частью изучаемого исторического процесса; е) состязательность как неотъемлемая часть игры. Л.С. Выготский считал важным в игре то, что человек, играя, создает себе какую-то другую си-туацию вместо реальной и действует в ней, выполняя определенную роль [2, с.30].
Следует отметить, что одна из главных ролей игры как способа об-учения РКИ заключается в том, что она дает возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к кон-фликтным ситуациям, учит учащихся проявлять разнообразные эмоции при выполнении учебных творческих заданий, помогающих улучшить знания по изучению РКИ. В связи с этим можно выделить наиболее важ-ные функции грамматической игры как способа обучения РКИ: а) функ-ция самореализации учащегося и раскрытие его творческого потенциала и способности к говорению на русском языке правильными граммати-ческими категориями; б) диагностическая функция игры, при которой учащийся сам способен увидеть свои интеллектуальные возможности и лучше понимает и может корректировать свои знания по РКИ; в) погру-жение учащегося в среду носителя языка.
ЛИТЕРАТУРА:1. Асонова Г.А. Грамматико-коммуникативные упражнения с элемен-
тами игры как способ активизации владения русским языком как ино-странным. – Ростов-на-Дону: Известия ЮФУ. Филологические науки. 2013, №3. С.79–85.
2. Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностранного (методические основы). – М.: Русский язык. Курсы, 1984. – 144 с.
3. Чубарова О.Э. Глаголы движения с приставками: Пособие-игра по русскому языку. – М.: Русский язык. Курсы, 2009. – 24 с.
4. Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном. Методы. Приемы. Результаты. – М., 2012. – 784.
Asonova Galina Anatoljevna
FUNCTIONAL ABILITIES OF GAME METHOD AT THE INITIAL STAGE OF LEARNING RUSSIAN GRAMMAR AS A FOREIGN
317
Grammar games, communicative games, Russian grammar, creative games, situational games.
The article presents role and functions of learning Russian language games as interac-tive ways at the initial stage. Game cannot be the first method to be used. Several types of learning games are regarded.
Баятян Эвелина Аматуновнаканд. пед. наук, доцент
Армянского государственного педагогического университета
имени Хачатура Абовяна Ереван, Армения
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
К ПРЕПОДАВАНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ-БИЛИНГВАМ
Коммуникативность; прагматика; лингвистика; синергетика; сопоставление языков.
Данная статья посвящена исследованию возможностей применения коммуника-тивно-прагматического и синергетического подходов при преподавании лингви-стических дисциплин студентам – носителям субординативного билингвизма, в частности, при решении лингвистических задач.
Современное высшее образование ориентировано на подготовку вы-сокопрофессиональных специалистов, востребованных и конкуренто-способных на рынке труда. Филологическая подготовка будущего учите-ля русского языка как неродного или иностранного в педагогическом вузе характеризүется системностью изучаемых учебных дисциплин. Однако овладение теоретическими, лингвистическими знаниями ни в коей мере не должно стать самоцелью. Языковое образование в XXI веке, характе-ризующееся межкультурной направленностью, позиционирует важность лингвистической подготовки будущего учителя с учетом коммуникатив-но-деятельностного, коммуникативно-прагматического и коммуника-тивно- когнитивного подходов, личных и профессиональных интересов обучающихся, переосмысления основных дидактических принципов и понятий. С этих же позиций рассматривается цель обучения иностран-ным языкам – формирование мультилингвальной коммуникативной ком-
318
петенции. Это компетенция в языковом общении и культурном взаимо-действии, которой обладает субъект общения, владеющий несколькими языками в разной степени, что позволяет ему альтернативно применять несколько лингвистических кодов вне зависимости от способа овладения языками и лингвистического совершенства речи в силу асимметрии це-лей [2, с. 5; 4, с. 50–51].
Реалии ҫегодняшнего дня диктуют необходимость педагогической и практической направленности цикла лингвистических дисциплин в вузе в отличие от преобладавшей ранее точки зрения, акцентирующей доста-точность академических знаний. В основе такой направленности – мо-делирование процесса изучения лингвистических дисциплин с учетом синергетического взаимодействия «разных сфер культуры и различных способов освоения мира (научного, художественного, философского, ре-лигиозного)» [1, с. 15].
Примером такого взаимодействия, например, являются лингвисти-ческие задачи, которые обеспечивают продуктивность обучения, активи-зируют познавательные, исследовательские и творческие возможности студентов, дают возможность проследить связь лингвистики с другими научными дисциплинами, оценить свою деятельность, проверить усвоен-ные знания и применить их во время педагогической практики.
Применение лингвистических задач в процессе обучения – это ре-альная возможность создания проблемной ситуации на занятии, ведь за-частую в силу неодназначного решения возникает обсуждение, студент получает возможность аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Языковой материал, используемый в лингвистических задачах, разноо-бразен – от надписей, объявлений и т. д. – до художественного текста, что позволяет на практике осуществить коммуникативно-прагматиче-ский подход, выявляя при решении задачи наиболее оптимальный путь решения через анализ внешних и внутренних факторов, таких, как ком-муникативная ситуация, речевая тактика и стратегия, отношения между участниками коммуникации, функции речевого акта и т.д. Такие объекты коммуникативно-прагматического подхода, как текст и дискурс, позво-ляют проводить анализ речевой деятельности, выделять дискурсивные маркеры, выполняющие функцию металингвистики и являющиеся связу-ющим звеном в передаче и получении информации.
Предлагая лингвистические задачи в национальной аудитории, пре-подавателю желательно психологически настроиться на педагогизацию своей деятельности, осмыслить предлагаемый языковой материал и ре-чевые единицы с точки зрения особенностей их усвоения студентами-билингвами (речь идет о студентах филологического факультета нашего вуза, носителях субординативного билингвизма), что, несомненно, со-вершенствует их речевую деятельңость и развивает профессиональную компетенцию, позволяет на практике выявить зону интерференции и
319
транспозиции. Студент получает возможность изучать речь не только с точки зрения познания ее внутренних законов, но и с точки зрения про-цесса овладения речью и отбора языкового материала, необходимого для осуществления вербальной коммуникации. Анализ языковых явлений с учетом речевого процесса и речевых закономерностей позволяет студен-ту осознать, как нарушение системы в употреблении той или иной языко-вой категории сказывается на реализации коммуникативной задачи, или, например, насколько то или иное языковое явление важно для осущест-вления акта коммуникации. Такой подход к изучению лингвистических явлений имеет прямой выход в методику преподавания РКИ.
Проецируя полученные лингвистические знания и умения в профес-сиональную деятельность, студент приходит к осознанию необходимости дифференцированного подхода к системе упражнений для формирования соответствующих умений и навыков, связанных с введением в речь уча-щихся различных языковых фактов.
Проиллюстрируем сказанное еще одним примером. При изучении синтаксиса современного русского языка студенты знакомятся с грамма-тически и информативно достаточными единицами в организации связ-ной речи: свободная синтаксема, словосочетание, простое предложение, сложное предложение, придаточное предложение, «речевое произведе-ние» как единица текста. В то же время они понимают, что знание пере-численных форм недостаточно, чтобы человек сумеет выдать нужную модель в зависимости от ситуации. Встает вопрос: как построить процесс обучения, чтобы эта задача стала возможной. Более того, в синтаксисе нет конструкций, не предназначенных для участия в процессе комму-никации, а коммуникативная функция речи осуществляется именно по-средством синтаксических конструкций. Теперь уже студент понимает, чем обусловлено то, что в армянской школе языковой материал – фоне-тический, лексический, морфологический дан в составе синтаксических единиц уже с первого года обучения. Одно дело, когда студент оперирует языковыми конструкциями по заданию преподавателя, а другое, когда он представляет, как будет объяснять их ученикам на уроке, с какими линг-вистическими и психологическими трудностями столкнется. Взаимодей-ствие в процессе изучения лингвистических дисциплин таких составля-ющих, как я учусь и я учу – залог успешности формирования профессио-нальной компетенции и иноязычного общения.
Проводимые в процессе изучения лингвистических дисциплин па-раллели с будущей педагогической деятельностью и сопоставительной типологией русского и армянского языков помогают студенту по-новому взглянуть на знакомые лингвистические явления, учат задавать рефлек-сивные вопросы, стремясь к достижению необходимого уровня профес-сиональной подготовки. Срабатывает синергетический закон взаимо-действия известных ранее лингвистических понятий и категорий в би-
320
полилингвокультурңой среде, когда преподаватель и студент выступают как взаимопонимающие партнеры и равноправные участники речевого процесса, соблюдающие коммуникативно-прагматические правила. «Со-трудничество студента и преподавателя в данном случае можно сравнить с сотрудничеством двух систем, которые кооперируются и организуются в соответствии с синергетическими принципами» [3, с. 126].
ЛИТЕРАТУРА:1. Jean-Claude Beacco, Michael Byram a.o. Guide for the Development
and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Council of Europe, Modern Languages Policy Divizion, Strasbourg, 2010. – 100 p.
2. Аршинов В.И., Буров В.А, Гордин П.М. Становление субъекта пост-неклассической науки и образования // Синергетическая парадигма. Си-нергетика образования. – М.: 2007. – 592 с.
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: из-учение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике. Страст-бург, 2001. Перевод под общ. ред. проф. К.М. Ирисхановой. – М.: МГЛУ, 2005. – 248 с.
4. Сорокина Е.И. Синергетический подход в мультилингвальном об-учении // Язык и культура. 2015. № 2 (30). С.123–128.
Bayatyan Evelina Amatunovna
COMMUNICATIVE-PRAGMATIC AND SYNERGETIC APPROACHES TO THE TEACHING OF LINGUISTIC
DISCIPLINES TO BILINGUAL STUDENTS
Сommunication; pragmatic; linguistics; synergetic; language comparison.
The paper is dedicated to the research into possibilities of implementing communica-tive-pragmatic and synergetic approaches to the teaching of linguistic disciplines to students – the carriers of subordinate bilingualism, particularly during solving linguis-tic tasks.
321
Ермакова Наталья Андреевнапреподаватель
Потсдамского УниверситетаПотсдам, Германия
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НЕМЕЦКИМ
СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ С РУССКОЯЗЫЧНЫМ ФОНОМ:
ЭТАП ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ
Русскоязычный фон; дидактика РКИ; практика РКИ для филологов.
В статье описывается новый для дидактики и практики преподавания РКИ феномен русскоязычного фона и перечисляются некоторые конкурирующие тер-мины. Описываются особенности и вытекающие из этого сложности в опре-делении уровня знаний студентов с русскоязычным фоном, даются некоторые практические рекомендации.
В Центре языков и ключевых компетенций Потсдамского Универси-тета в последние годы сформировалась совершенно особенная группа учащихся – студенты с русскоязычным фоном. Речь идет об учащихся, которые выросли в русскоговорящей среде, благодаря чему они обладают некоторыми (весьма разрозненными) знаниями по русскому языку, но ни-когда не обучались ему целенаправленно и систематически.
С описанным феноменом в своей практике сталкиваются не только преподаватели русского языка Потсдамского Университета, но и боль-шинство вузовских и школьных учителей по всей Германии. В связи с широтой распространения данного явления преподаватели-практики и теоретики дидактики пытаются найти термин, максимально точно опи-сывающий эту группу учащихся. Однако единства в этом вопросе до сих пор нет. Так, в своей повседневной практике преподаватели русского язы-ка называют таких учащихся «псевдоносителями», «ненастоящими носи-телями», «людьми с унаследованным русским» или «эритажниками» (как вариант: «херитажники») [3, с. 1]. Последний термин также пользуется популярностью среди теоретиков дидактики и пришел в немецкий оби-ход от английского „heritage language / heritage speakers“, который актив-но разрабатывался в США Ольгой Каган и Марией Полински [7]. Кроме того, в немецкой литературе можно встретить обозначение этой группы
322
как «людей с русским языком как семейным», что также заимствовано у американских исследователей [1], [7]. Однако наиболее распространен термин «Herkunftssprecher» [1], [3], что может быть переведено на рус-ский как «говорящие на языке страны своего происхождения». Несмотря на популярность этого термина, в данной статье (и в других наших рабо-тах) предпочтение будет отдано другому, менее распространенному, но более, на наш взгляд, точному термину: студенты (учащиеся) с русскоя-зычным фоном [4]. В отличие от столь популярного «Herkunftssprecher», данный термин не ограничивается только страной происхождения и не выдвигает на первый план миграционный фактор. Это важно в связи с тем, что большинство учащихся и студентов современной Германии, при-надлежащих к описанной группе, являются представителями второго поколения русскоязычных мигрантов: они не иммигрировали самостоя-тельно, а приехали в детском возрасте (не старше 12 лет) с родителями или родились уже в Германии [2, с. 106]. Таким образом, подчеркивание миграционного фактора в данном случае является неуместным. В связи с этим в дальнейшем для обозначения интересующей нас группы учащих-ся будет использован более корректный термин «русскоязычный фон» (более подробно об этом термине см. [4]).
Для учителей русского языка работа с такими учащимися чаще всего связана с дополнительными трудностями. Особенно если речь идет о пре-подавании русского языка студентам-филологам.
По данным внутренней статистики за последние 5 лет, число студен-тов с русскоязычным фоном, обучающихся филологическим дисципли-нам в Потсдамском университете, возросло с 40% до почти 60%.
В зависимости от направления (будущие учителя, русисты или студен-ты, изучающие «междисциплинарные исследования России») учащиеся должны перед началом посещения курсов по русскому языку в Языковом Центре уже обладать определенными знаниями: на уровне А2 для буду-щих учителей и русистов и на уровне В2 для изучающих «междисципли-нарные исследования России». Определение уровня знаний по русскому языку у немецких студентов не представляет большой трудности и проис-ходит при помощи языкового теста и небольшого устного собеседования-интервью. Определение же уровня студентов с русскоязычным фоном является первой трудностью, с которой сталкиваются преподаватели-практики в работе с данным контингентом учащихся. Как было отмечено выше, такие студенты уже обладают некоторыми знаниями по русскому языку, однако эти знания являются весьма разрозненными. Так, большин-ство из них во время устного собеседования демонстрируют прекрасный уровень коммуникативной компетенции: они могут свободно рассказы-вать о себе и говорить о повседневных темах, обладают хорошим произ-ношением (чаще всего без акцента), быстро реагируют на поставленные вопросы. Однако оказывается, что большинство из них совсем не умеют
323
читать и писать, поэтому прохождение письменного теста порой оказыва-ется просто невозможным. Следовательно, оказывается невозможным и определение уровня в соответствии с общепринятыми критерями.
Таким образом, на этапе вступительного тестирования возникает се-рьезная проблема с определением этих студентов на различные курсы по русскому языку. Стандартная программа предполагает изучение алфавита и правил чтения и письма в рамках начального курса. Но достаточно бо-гатый словарный запас этих учащихся и владение многими грамматиче-скими конструкциями на интуитивном уровне делают этот курс для них неподходящим: материалы кажутся им скучными и искуcственными, они быстро теряют мотивацию к дальнейшему посещению занятий и приоб-ретают неверное представление о своем уровне русского языка (переоце-нивают себя). Определение же их на курсы продвинутого уровня также представляется сложным: даже на занятиях в рамках курсов по устной речи студентам приходится работать с письменными текстами (читать вопросы и задания, готовить устный доклад по прочитанному тексту и т.д.). Попадая на такие курсы, студенты с русскоязычным фоном также теряют мотивацию к посещению занятий и приобретают неверное пред-ставление о своем уровне русского языка – однако в данном случае они начинают себя недооценивать.
Из вышесказанного следует, что практические занятия по русскому языку для студентов с русскоязычным фоном должны быть организованы иначе, чем занятия по русскому языку как иностранному, построенные на общеизвестных дидактических принципах русского как иностранного. Однако ответа на вопрос, как же должен выглядеть урок русского языка в такой аудитории, у современных дидактиков все еще нет.
Американские исследователи продвинулись в этом вопросе дальше немецких. Так, например, Ольга Каган и Анна Кудыма разработали курс письменной речи «для двуязычных взрослых» [6]. Однако не стоит забы-вать об отличиях американской и немецкой действительности (что влияет на отбор текстов), а также на разницу языковой интерференции. Данный факт делает невозможным эффективное использование всего учебного пособия в аудитории немецкоговорящих студентов с русским фоном. Не-мецких же пособий для описанного контингента учащихся пока нет, и каждый преподаватель вынужден сам перерабатывать имеющиеся и раз-рабатывать свои материалы для работы со студентами с русскоязычным фоном.
Однако практика работы в данной аудитории и обмен опытом с кол-легами, ежедневно сталкивающимися с описанными проблемами, позво-ляют наметить некоторые существенные пункты, учет которых может по-мочь и на этапе определения уровня студентов с русскоязычным фоном, и на этапе планирования и организации занятий по русскому языку для этих учащихся:
324
1) составление социо-демографического и социо-лингвистического портрета учащихся. Может быть осуществлено с помощью обширной ан-кеты, опрашивающей как биографические данные студентов (как долго жили в русскоговорящей стране, кто из членов семьи на каком языке гово-рит, посещали ли русскоязычные учебные заведения и т.д.), так и данные о том где, с кем, как часто и в каких ситуациях они используют русский язык. Подобный опрос был проведен в зимнем семестре 2014/15 учеб-ного года в Языковом Центре Потсдамского Университета. Полученные данные помогли не только лучше узнать языковую биографию студентов и их отношение к русскому языку, но и выяснить сферы применения и частотность использования ими русского языка. Полученная информация была учтена в выборе лексических тем и текстов для занятий.
2) анализ ошибок в письменной речи студентов с русскоязычным фо-ном. Такой анализ важен для понимания сильных и слабых сторон уча-щихся, что важно при планировании занятий (подробнее об этом см. [5]).
3) гармоничное сочетание методов дидактики русского как ино-странного и как родного. Как уже было сказано в начале данной статьи, большинство студентов с русскоязычным фоном провели детство в рус-скоговорящей языковой среде. Следовательно, первоначальная модель усвоения ими русского языка была такой же, как у любого другого но-сителя русского языка. Однако русскоговорящая языковая среда была в их случае довольно рано подавлена доминантной немецкоговорящей дей-ствительностью. Так, по данным опроса, описанного в пункте 1), боль-шинство учащихся признаются, что владеют немецким гораздо лучше, чем русским и применяют его гораздо чаще. С другой стороны, анализ ошибок, упомянутый в пункте 2), показал, что допускаемые ими ошибки схожи с ошибками тех, кто изучает русский как родной (в области орфо-графии в первую очередь), а к их сильным сторонам относится интуи-тивное владение многими грамматическими категориями. Так, например, они практически не допускают ошибок в выборе вида глагола и способны определить его по вопросу («что делать / что сделать»).
Приведенные факторы могут (или даже должны) быть учтены при организации курсов для учащихся с русскоязычным фоном не только в университете, но и в школах или в других учебных заведениях. Однако планирование и организация курсов для студентов-филологов с русскоя-зычным фоном несет в себе дополнительные сложности. Так, как было отмечено выше, студенты с русскоязычным фоном отлично владеют не-которыми грамматическими категориями на интуитивном уровне: напри-мер, безошибочно используют и определяют вид глагола. Следовательно, на практических занятиях по русскому языку объяснение этой темы, как это предусмотрено дидактикой РКИ, может быть излишним. Однако сту-денты-русисты и будущие учителя русского языка должны уметь объяс-нять эту тему (и многие другие) своим потенциальным ученикам. Таким
325
образом, даже на практических занятиях по русскому языку, изначально направленных на развитие языковой и коммуникативной компетенций учащихся, необходимо уделять внимание теоретическому объяснению различных языковых явлений. Причем эти объяснения также должны учитывать обе дидактики: русского как родного и русского как иностран-ного. Кроме того, для филологов особенно полезным оказывается кон-трастивное сопоставление русского и немецкого языков, так как это по-могает им лучше осознать природу собственных ошибок и понять, какие сложности могут быть у их будущих учеников и как с ними справляться. Опасность вышесказанного заключается однако в том, что из-за огромно-го массива теории занятия по русскому языку могут утратить свой прак-тический характер. Выходом из такой ситуации может служить передача активной роли студенту. Например, в Языковом Центре Потсдамского Университета на занятиях по письменной речи студентам предлагается самим делать небольшие доклады по орфографии: таким образом, при подготовке доклада студент сам должен детально разобраться в теме, чтобы уметь объяснить ее своим сокурсникам, благодаря чему материал усваивается эффективнее. Кроме того, при подготовке студент вынужден читать, а во время доклада говорить и отвечать на вопросы по-русски, что возвращает занятию его практическую направленность.
ЛИТЕРАТУРА:1. Anstatt, Tanja. Der Erwerb der Familiensprache: Zur Entwicklung des
Russischen bei bilingualen Kindern in Deutschland // Gogolin, I. / Neumann, U. (Hrsg.): Streitfall Zweisprachigkeit – The Bilingualism Controversy. – Wiesbaden, 2009. – С. 111–131.
2. Anstatt, Tanja. Russisch in der zweiten Generation. Zur Sprachsituation von Jugendlichen aus russischsprachigen Familien in Deutschland. // Eichinger, Ludwig M. / Plewnia, Albrecht (Hrsg.): Sprache und Integration. Über Mehrsprachigkeit und Integration. – Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH, 2011.
3. Brüggemann, Natalia. Herkunftssprache Russisch – unvollständige Grammatik als Folge mündlichen Spracherwerbs // Sonnenhauser, B. (Hrsg.): Linguistische Beiträge zur Slavistik. Materialien des Treffens der JungslavistInnen in München 2013. – München: 2014.
4. Ермакова Н.А. К проблеме преподавания РКИ немекоговорящим студентам с русским / русскоязычным фоном // Русский язык за рубежом, № 5/2014, С. 39–43.
5. Ермакова Н.А. Ошибки в письменной речи немецкоговорящих сту-дентов с русским / русскоязычным фоном // Русский язык за рубежом, № 2/2015, С. 42–46.
6. Каган О.Е., Кудыма А.С. Учимся писать по-русски. – СПб.: Злато-уст, 2012.
326
7. Полински М., Каган О. Heritage Languages: In the ‘Wild’ and in the Classroom // Language and Linguistics Compass, 2007, Vol.1(5), S.368–395.
Natalia Ermakova Andreevna
THE FEATURES OF TEACHING RUSSIAN TO GERMAN STUDENTS-FILOLOGIST WITH RUSSIAN BACKGROUND:
THE STAGE OF ENTRANCE TESTING AND CORSES ORGANIZATION
Russian background; didactics of RFL; RFL practice for philologists.
The article describes a new for didactics and RFL practice phenomenon of Russian back-ground and lists some competitive terms. Also it deals with the features in determining the knowledge level of students with a Russian background and gives some practical advice.
Жильцов Владимир Александровичаспирант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Россия, Москва [email protected]
ВИРТУАЛЬНЫЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МИРЫ
И ИГРОВЫЕ МЕХАНИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Дистанционное обучение, РКИ, информационно-коммуникационные технологии, трехмерная образовательная среда, интерактивные образовательные ресурсы, виртуальные миры, ТАКОС, геймификация, киберквест.
В статье рассматриваются основные особенности организации дистанционно-го обучения посредством трехмерной коммуникативной образовательной среды, описаны возможности интерактивных образовательных ресурсов в преподава-нии русского языка как иностранного.
Теория геймификации как революционная концепция, позволяющая организовать процесс обучения наиболее гармоничным и результатив-ным образом, сегодня утратила былую популярность. Тем не менее, бла-годаря развитию современной индустрии компьютерных игр с широким доступом обычных пользователей к их разработке, научный интерес к данной проблеме возрождается.
Сегодня практически каждый пользователь ПК может создать соб-ственную компьютерную игру, обладая лишь минимальными знаниями
327
в области программирования, либо вовсе не обладая таковыми. В 80-х, 90-х и в начале 2000-х годов разработка компьютерных игр была все больше прерогативой крупных и средних компаний по производству компьютерных программ, где коллектив разработчиков был представлен профессиональными программистами, концепт-дизайнерами, худож-никами, 3-D моделистами, композиторами, музыкантами и т.д. Сегодня же мы наблюдаем своего рода ренессанс в развитии медиа-культуры и игровой индустрии. Очень многие люди, чья деятельность, вероятно, даже не связана с компьютерными технологиями, зачастую обладают на-выками создания и обработки цифровых изображений, видеоматериалов, аудиоматериалов, трехмерного моделирования и многими другими навы-ками, развитыми в той или иной степени. Даже среднестатистический учащийся средней школы может самостоятельно создать собственный сайт. Четырнадцатилетние подростки способны установить сервер для многопользовательских игр, таких как Minecraft, например. Если в ка-кой-либо игре современного подростка не устраивает облик персонажа, его оружие, или хочется чего-то большего, он просто создает свой ориги-нальный контент, новые скрипты и внедряет их в любимую игру. Доступ-ность всевозможных инструментов, обучающих материалов, платформ и фреймворков постепенно превращает потребителей информационных продуктов в соучастников их разработки. Известны даже случаи, когда модификации исходных продуктов простыми пользователями-любителя-ми, становились намного популярнее, чем исходный продукт.
Подобные реалии бросают серьезный вызов преподавателю и методи-сту, или, говоря конкретней, формату, который выбирается ими для пре-подавания различных дисциплин (в том числе языковых). Образователь-ные игры, тренажеры, приложения и симуляторы постепенно укрепляют свой статус инновационной формы организации образовательного про-цесса. Тенденции развития инновационных решений с применением ком-пьютерных технологий в области образования со временем будут лишь усиливаться, и нет ни одного признака, который бы говорил об обратном.
По мнению исследователей, компьютерные средства обучения (КСО) по иностранным языкам помогают достигнуть оптимального соотно-шения эвристического и алгоритмического в овладении иностранным языком, в решении проблемы индивидуализации и дифференциации об-учения [1; 4]. Отличительными признаками инновационных технологий являются изменение характера деятельности, создание условий для более полной реализации личностного потенциала. Новые методы и технологии, к которым относят, например, творческий, компьютерный, проектный и т.д., не заменяют полностью традиционные, но с их помощью можно по-высить интерес учащихся к языку, сделать обучение более эффективным, интересным, актуальным и разнообразным. В.Г. Тарева и Н.Д. Гальскова считают, что сегодня, несмотря на понимание необходимости внедрения
328
инноваций, только малая часть преподавателей иностранных языков ори-ентируются на инновационные технологии и методы.[3]
Мы посвятили свое исследование поиску простых технологических решений и изучению потенциала трехмерных многопользовательских миров в процессе дистанционного обучения РКИ с использованием игро-вых механик в достижении образовательных целей. В первую очередь, виртуальные миры используют в компьютерных играх, а также для об-учения иностранным языкам. Еще в восьмидесятые годы создавались курсы по иностранным языкам, задачей которых было погружение в вир-туальную языковую среду, что технически осуществлялось с помощью лазерных видеодисков [4]. В настоящее время появились новые компью-терные инструменты и программы для создания виртуальной реально-сти. В мировой педагогической практике технологии Web 3D, с помощью которых создаются так называемые виртуальные миры, используются до-статочно широко, однако их потенциал еще мало изучен. Собственными образовательными симуляторами обладают некоторые институты Евро-пы и Америки: Ратгерский университет (США, Нью-Джерси), Тулейн-ский университет (США, Луизиана), Университет Цинциннати (США, Огайо), Университет Новой Англии (Австралия), Университет искусств в Цюрихе и некоторые другие. Виртуальные миры – это мультиплеерные трехмерные пространства, нахождение в которых заранее не подчинено какой-либо заданной цели. Они предоставляют пользователю различные возможности: общение, творчество, путешествия и т. д. Особенностью виртуального мира является возможность выбора для себя любого внеш-него вида (аватара), общение с помощью голоса или в чате, выбор или даже создание особой среды общения [2, c. 37–52]. Концепция такого вида ДСО и была реализована в проекте «ТАКОС».
ТАКОС – это трехмерная активно-коммуникативная образовательная среда, представляющая собой виртуальное пространство, функциониру-ющее по принципу социальной сети и позволяющее симулировать любой вид обучающих мероприятий.
ТАКОС представляет собой клиент-серверное веб-приложение на базе открытой платформы Opensim для создания многопользовательских трехмерных миров. Понятие «Трехмерная активно-коммуникативная образовательная среда» было предложено для классификации коммуни-кативно−направленных образовательных ресурсов, созданных на базе платформы Opensim и посвященных обучению иностранным языкам. Принцип ТАКОС – это обеспечение общения в русскоязычной среде на основе интегрированного образовательного материала. Участниками общения могут быть различные персонажи – условные, выдуманные и реальные. ТАКОС имеет особый инструментарий, позволяющий любому пользователю создавать персонажей и обеспечивать их коммуникативное взаимодействие.
329
ТАКОС – это трехмерное виртуальное пространство, моделирующее реальную или вымышленную местность (город, аэропорт, гостиницу, аудиторию и т.д.), которая служит декорацией для организации симуля-ций коммуникативных ситуаций, либо является пассивной площадкой для совместной учебной и творческой деятельности студентов и препо-давателей. Каждый участник ТАКОС представлен в виде модифициру-емого персонажа (аватара), которому можно придать любую внешность. Пользователи могут сохранить свою анонимность, что бывает полезным для преодоления психологического барьера при вступлении в процесс общения, либо наоборот – полностью выразить свою индивидуальность. Пользователи имеют возможность свободно перемещаться по всему вир-туальному пространству, вступать в общение друг с другом, заниматься совместным творчеством, устраивать различные мероприятия, разыгры-вать сценические постановки, слушать и читать лекции, изучать обучаю-щие материалы (электронные тексты, аудио, видео, фото), участвовать в киберквестах.
Киберквест − это особый вид организации занятий в симуляторе, ког-да пользователь преследует достижение игровых целей, которые, тем не менее, требуют от него попутного изучения учебных материалов, пра-вильного решения тестов, поиска верных ответов на поставленные во-просы. Общение осуществляется посредством графического чата или с использованием внутренней голосовой связи. Это дает возможность реа-лизовать речевое общение как форму взаимодействия двух и более людей посредством языка и обмениваться информацией, в том числе аффектив-но-оценочного характера. Иными словами, в ТАКОС речевое общение становится максимально интерактивным и подразумевает совместную практическую деятельность, особенно, когда речь идет о групповой рабо-те над проектным заданием.
На занятиях по языку с практической направленностью речевая де-ятельность рассматривается как ведущий компонент содержания об-учения. Принято выделять основные и вспомогательные виды речевой деятельности. Основные виды речевой деятельности подразделяются на продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение). Вспомогательные виды речевой деятельности — это, например, устное воспроизведение ранее воспринятой информации, конспектирование тек-ста, перевод и пр. Названные виды речевой деятельности рассматрива-ются как вспомогательные не потому, что они менее значимы в процессе коммуникации, а лишь по той причине, что каждый из них базируется на той или иной комбинации основных видов деятельности.
Данная система использует технологии трехмерного интернета. Как и в обычном интернете, материал здесь организован по принципу гиперс-сылок, но в отличие от него, здесь гиперссылки могут быть визуализи-рованы в виде трехмерных объектов (книги, картины, элементы мебели,
330
статуи, баннеры и т.д.). Каждая из гиперссылок может выполнять опре-деленные заданные функции. Книга на столе может оказаться входом в хранилище учебных материалов на стороннем сайте, а через портрет или фото на стене можно задать вопрос тому или иному персонажу, вступить с ним в контакт.
Преподаватель, ведущий обучение в системе ТАКОС, оснащен до-вольно большим арсеналом специальных образовательных инструмен-тов, которые позволяют ему вступать в общение, демонстрировать учеб-ный материал и проводить практические занятия. Виртуальная доска для презентаций может быть размещена в любом удобном месте виртуаль-ного пространства, она служит для демонстрации слайдов, созданных в Power Point, либо обычных изображений, карт и таблиц в формате *.jpg и *.png. Различные изображения (фото, картинки, рисунки) легко им-портируются в симулятор и позволяют моделировать внешнюю среду, в которой проходит общение. Трехмерная визуализация помогает участни-кам быстро сориентироваться в обстановке и приступить к выполнению заданий. Возможность встраивания браузера в изображения трехмерных объектов позволяет демонстрировать страницы сайтов с нужным для обу-чения материалом, в том числе и видео с Youtube. Таким образом, ТАКОС – это целый комплекс образовательных ресурсов организованных вокруг виртуального симулятора. Существует несколько инструментов для соз-дания тестов и игровых заданий, например, с помощью определенной ги-перссылки открывается меню с вопросом и вариантами ответа. Виды те-стовых заданий, представленных здесь, весьма разнообразны: тестовые задания закрытого типа (множественный выбор, альтернативный выбор), тестовые задания открытого типа (свободное изложение). Имеется также инструмент создания тестов типа «Покажите на картинке», когда в меню возникает задание и испытуемый должен курсором установить соответ-ствие на предлагаемой картинке. В среде симулятора ТАКОС возможна организация учебного процесса для любых уровней владения языком от порогового до продвинутого уровня, хотя для достижения того или иного уровня владения языком необходимы особые методические решения. Все зависит от используемых методов обучения и материала.
Концепция киберквеста органически дополняет концепцию ТАКОС, но при этом не является ее необходимым элементом. Коммуникативная среда требует наличия некоего «компоста», иными словами – основания для возникновения, функционирования и развития. В реальности комму-никативная среда порождается случайным образом в различных областях человеческой деятельности. Говоря о случайности, мы не имеем в виду случаи спонтанного возникновения событий вне воспринимаемых де-терминистических связей. Напротив, мы говорим о случае, об оказии, о прецеденте, который перманентно порождает акт речевого общения. Для каждого прецедента характерны свои особенности, которые и нашли свое
331
выражение в учебных инсценировках, которые описываются в коммуни-кативно-направленных учебных пособиях по РКИ: «На экскурсии», «В поликлинике», «В магазине» и т.д. В случае с ТАКОС прецедент комму-никативных актов обретает свое основание на общности целей, напри-мер, желание правильно решить грамматические задания, найти новых друзей, попрактиковаться в речи вместе с носителями русского языка, либо принять участие в интересном событии. Киберквесты, в свою оче-редь, служат приятным и полезным дополнением, вызывая азарт, предо-ставляя возможность обрести некоторое преимущество перед пользова-телями, которые предпочли в нем не участвовать. Участник киберквеста может выиграть эксклюзивные детали для своего аватара, либо здание, которое он может разместить на виртуальной земле. Призом может быть доступ на закрытые локации. Как правило, в ТАКОС киберквесты пред-ставлены в довольно простом формате, состоящие из одной−двух сюжет-ных стадий. Пользователь встречает виртуального персонажа, который кратко излагает ему суть квеста, уровень владения языком, необходимый для решения квестовых заданий, и рассказывает как приступить к их вы-полнению. Участник отправляется на поиски заданий и выполняет их, получая в награду ключ от закрытой двери, либо пароль к ней. Таким образом, он получает доступ к скрытым комнатам и дополнительному контенту для своего аватара.
Проектирование киберквеста, как и обычного занятия, начинается с определения темы, целей, задач, характеристики целевой аудитории (уровня владения языком) и формирования материалов, соответствую-щих предтекстовых и послетекстовых заданий. Методическое содер-жание киберквестов состоит из теоретической и практической части. Именно методическая составляющая и целевой обучающий материал, являются основным ядром, вокруг которого формируется сценарий каж-дого киберквеста и его непосредственная реализация в ТАКОС. Обратная корреляция представляется недопустимой в силу необходимости изме-нять методический замысел в угоду его программной и художественной реализации. Сценарий квеста не столь важен, хотя следует стремиться сделать его как можно более интересным, чтобы обучающийся испытал больше положительных эмоций в процессе его прохождения.
Создание более сложных киберквестов целесообразно реализовывать на локальных платформах «Open Simulator», когда хостинг сервера осу-ществляется непосредственно компьютером пользователя. В этом случае из системы исключается компонент коммуникативной среды, так как данный режим не рассчитан на подключение к миру других участников. Пользователь играет в одиночестве и может сосредоточиться непосред-ственно на прохождении квеста и усвоении сопутствующего образова-тельного материала. Другие пользователи не могут ему помешать, равно как и нестабильность интернет-соединения. Компьютер пользователя
332
поддерживает лишь графическую оболочку симулятора, а весь образова-тельный контент размещен на сторонних ресурсах, заранее созданных ав-торами киберквеста. Ссылки на целевой материал также заранее интегри-рованы в объекты трехмерной среды симулятора. Нагрузка на канал связи в подобной конфигурации симулятора невелика. Фактически пользова-тель, взаимодействуя со сторонними ресурсами, получает информацию только в виде http, то есть в виде страниц обычных сайтов, на которых и размещены все тексты, материалы и тесты.
В настоящее время ТАКОС все еще является пилотным проектом и находится в постоянной разработке, как и сама методика преподавания РКИ в условиях виртуальной реальности. Теория и практика киберквеста также является скорее дорожным указателем на пути исследователя, не-жели хорошо проторенной дорогой. Проблема геймификации остается на повестке дня и требует серьезной исследовательской работы по изучению ее потенциала в различных условиях. Можно лишь констатировать неис-черпаемость проблемы и многообещающий теоретический и практиче-ский опыт, который еще будет приобретен в процессе реализации этих идей в дистанционном обучении РКИ.
ЛИТЕРАТУРА:1. Gale N. Montevidisco: an anecdotal history of interactive videodisc //
CALICO Journal. 1983. N 1.2. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в пре-
подавании русского языка как иностранного. -.М.: Русский язык, 2012.3. Белозеров С.А. Аватар-опосредованная деятельность и виртуальные
миры // Дистанционное и виртуальное обучение. 2014, № 4. 4. Тарева В.Г., Гальскова Н.Д. Инновации в обучении языку и культу-
ре: pro et contra // Иностранные языки в школе. 2013, № 10.
Jiltsov Vladimir Aleksandrovich
MASSIVE MULTIPLAYER ONLINE VIRTUAL WORLDS AND INTERACTIVE GAME MECHANICS IN THE RFL TEACHING
Distance learning, distance education system, Opensim technology, three-dimensional communicative learning environment, interactive learning resources, TAKOS, gamefication, cyberquest.
The article describes the main features of distance learning through the three-dimensional active-communicative learning environment, and considers the possibilities of interactive educational resources in the teaching of Russian as a foreign language.
333
Кулибина Наталья Владимировнад. филол. наук, профессор
Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаPushkin State Russian Language Institute
Москва, Россия[email protected]
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Русский как иностранный, интерактивность, образовательные технологии, он-лайн уроки, обучение чтению, художественный текст.
В статье описывается интерактивная методика обучения чтению художествен-ной литературы, которая может быть использована как в рамках аудиторного очного курса РКИ, так и при создании интерактивных онлайн уроков для широко-го спектра компьютерных устройств (стационарных, планшетов, смартфонов).
«Всякий текст должен рассматриваться как условие мыслительной деятельности читателя».
С.Л. Рубинштейн
«Мы не рабы слов, потому что мы хозяева текста»Х. Вайнрайх
Интерактивные образовательные технологии сейчас в центре вни-мания преподавателей различных учебных дисциплин. Обществом вос-требованы методики, предполагающие совместную деятельность всех участников учебного процесса, реализуемую путем погружения в атмос-феру сотрудничества по разрешению учебных или реальных проблем, что предполагает обмен информацией, моделирование ситуации, оценку действий коллег и своих собственных и т.п.
В настоящее время термин интерактивное обучение наиболее часто используется применительно к использованию в учебном процессе ин-формационно-коммуникационных технологий и ресурсов Интернета, включая различные формы дистанционного обучения. Справедливости ради следует отметить, что интерактивные образовательные технологии могут как включать информационно – коммуникационную составляю-щую (использование компьютеров, мобильных средств связи и др.), так и быть реализованы без нее.
334
Мультимедийные технологии позволяют внести интерактивность, прежде всего в индивидуальное (самостоятельное) обучение при отсут-ствии (или удаленном присутствии) реального партнера (преподавателя, соученика, группы). Однако необходимо помнить, что подлинную ин-терактивность обеспечивают не сами технические средства обучения, а методические приемы их использования. Простое переложение учебного материала с бумажного на цифровые носители не делает обучение инте-рактивным.
Методика преподавания русского языка как иностранного, основные принципы которой были определены ещё в середине прошлого века, из-начально была коммуникативно-ориентированной, так как, прежде всего, выполняла социальный заказ по языковой подготовке иностранных сту-дентов к обучению в вузах СССР. Получение высшего образование пред-полагает обязательное (более или менее совершенное) владение речевы-ми умениями говорения, аудирования, чтения и письма. Для обучения речевому общению на уроках РКИ активно использовались (и использу-ются) такие интерактивные формы и приёмы организации учебной дея-тельности, как дискуссия, игра, эвристическая беседа, ролевая игра и др.
В течение второй половины прошлого века методика преподавания русского языка как иностранного сформулировала комплекс задач, ко-торые должны решаться на языковых учебных занятиях. Некоторые из этих задач определяются конкретной формой обучения, его условиями, будущими профессиональными (или жизненными) установками обучае-мых и т.п. Однако могут быть выделены основные задачи, которые (в том или ином объёме) должны быть решены в условиях любой модификации практического курса русского языка как иностранного. Прежде всего, это:
- обучение языковой системе русского языка,- формирование навыков в видах речевой деятельности, - соизучение культуры в процессе изучения языка.На рубеже XX и XXI веков произошло изменение лингводидактиче-
ской парадигмы, которое состоит в том, что современная методическая система преподавания русского языка как иностранного ориентирует преподавателя не на решение трёх отдельных задач, а на достижение еди-ной цели практического курса русского языка как иностранного, которая интегрирует, подчиняет себе эти задачи, но не отменяет или заменяет их.
Сегодня основная цель практического курса русского языка как ино-странного определяется как обучение речевому общению, которое предпо-лагает обмен текстами, иными словами: порождение и восприятие текстов.
Цель овладения РКИ, которой хотел бы достичь практически любой его изучающий, – это приобретение умения порождать тексты, макси-мально корректные с точки зрения разнообразных норм, принятых в русском лингвосоциокультурном окружении, и умения понимать тексты, адекватно тому, как это делает носитель языка.
335
В качестве текстового материала для обучения речевому общению может использоваться только аутентичный текст, созданный носителем языка для носителей языка в условиях естественного речевого обще-ния. Это возможно благодаря тому, что аутентичный текст является «единицей коммуникации» (Г.В. Колшанский) и «средством общения» (Г.А. Антипов). А.А. Леонтьев называл текст «свернутым коммуника-тивным актом».
Для обучения смысловому восприятию/пониманию текстов требует-ся определенная – ориентированная на общение с текстом – организация читательской деятельности учащихся, моделирующая в учебных услови-ях ситуацию реального взаимодействия текста и читателя путем реализа-ции психологической установки: «Всякий текст должен рассматриваться как условие мыслительной деятельности читателя» (С.Л. Рубинштейн). Иными словами, речь идёт об интерактивной методике обучения чтению.
Такая методика, разработанная на материале художественных текстов для аудиторных занятий, была предложена автором настоящей статьи и нашла отражение в следующих публикациях [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Она прошла многолетнюю (более 25 лет) апробацию в учебных группах студентов, изучающих русский язык как иностранный, и зарубежных преподавате-лей-русистов, повышающих свою квалификацию в Государственном ин-ституте русского языка им. А.С.Пушкина.
В настоящее время для создания интерактивных онлайн ресурсов методика была откорректирована: разработан интерактивный авторский курс «Уроки чтения – праздник, который всегда с тобой».
Каждый интерактивный онлайн урок имеет своим прототипом ре-альное учебное занятие: обучаемым предъявляется аутентичный худо-жественный текст и комплекс интерактивных заданий для пред-, при- и послетекстовой работы. Методический аппарат к тексту (стихотворению, рассказу, сказке и др.) разрабатывается таким образом, чтобы создать условия для когнитивной и коммуникативной деятельности читателя, которому предлагаются вопросы и задания на обдумывание текстовой информации, моделирование ситуации текста и, в конечном итоге, на по-нимание того, что и как (и почему так) сказано автором.
Психолингвисты полагают, что человек понимает текст тогда, когда он понимает ситуацию, о которой идёт речь в тексте (Т.А. ванн Дейк). По-нимание ситуации текста складывается из понимания четырёх ее основ-ных компонентов: субъекта, события, места и времени. Иными словами читателю нужно понять, о ком говорится в тексте, что (какое событие/события) происходит с субъектом, где и когда происходит.
Вопросы и задания к ключевым единицам текста, описывающим ос-новные компоненты ситуации, даются в тестовом формате, что позволяет контролировать понимание текста читателем. Используются тестовые за-дания различных типов: выбор одного или нескольких правильных от-
336
ветов из набора предлагаемых вариантов, нахождение и выделение (за-крашивание их цветом) в тексте требуемых текстовых единиц и др.
При необходимости даются гиперссылки, содержащие языковую, страноведческую или иную информацию. Также в онлайн уроках ак-тивно используются иллюстративные материалы: портреты писателей и поэтов, рисунки, анимация и прочее. Чередование видео- и аудио- фраг-ментов, записанных одним преподавателем, обеспечивает единство всех компонентов и создает ощущение присутствия на реальном уроке
Планируется создание серий онлайн уроков различной тематики для разных возрастных групп, что достигается отбором используемых тек-стов. Психологическая универсальность процессов, происходящих при чтении текстов на родном и иностранном языках, а также гибкость ав-торской методики работы с текстом позволяет создавать методические разработки уроков не только для инофонов, но и для носителей русского языка, а также билингвов. В аннотации конкретного урока указывается возраст потенциального читателя, а для инофонов – ещё и уровень владе-ния русским языком.
В настоящее время в разработке находятся следующие серии уроков: «Уроки чтения не только для детей» (для детей и их родителей, а также дедушек и бабушек), «Уроки чтения с использованием произведений со-временных авторов» ( Дм.А. Пригов, Пётр Бормор, М. Палей и др.), «Уро-ки чтения с использованием стихотворений поэтов серебряного века» (А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак, О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева), «Уроки чтения с использованием стихотворений русских поэтов XVIII-XIX веков» (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев и др.).
Предполагается создание циклов интерактивных авторских уроков по обучению пониманию художественных текстов для 1-4 классов начальной школы, которые могут быть использованы как материал для самостоятель-ной работы при прохождении учебной дисциплины «Литературное чтение».
Как показывает апробация, интерактивные онлайн уроки чтения могут использоваться для самостоятельной индивидуальной работы, работы «с помощником» (с мамой, бабушкой, другом и т.п.), а также коллективно-го чтения в школьном классе или вузовской аудитории (последнее было несколько неожиданно для автора, но отзывы пользователей-зарубежных преподавателей РКИ свидетельствуют в пользу этого).
Интерактивные авторские онлайн уроки позволяют:- предложить читателю/пользователю ПК в привычном для него фор-
мате тексты классической и современной художественной литературы (в соответствии с его возрастом, интересами и т.п.);
- заинтересовать потенциального читателя как самими художествен-ными текстами (стихами, рассказами, сказками и пр.), так и оригиналь-ной системой вопросов и заданий к ним, снабжённых гиперссылками, графикой, анимацией и пр.;
337
- наглядно показать на практике реальные возможности, которые даёт читателю вдумчивое чтение (смысловое восприятие) художественных текстов.
Планируется размещение интерактивных авторских онлайн уроков на портале «Образование на русском» ( http://pushkininstitute.ru/) и сайте Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина (http://www.pushkin.institute) в открытом до-ступе для свободного (бесплатного) использования.
Как показывает практика, уроки чтения могут быть не только в школе, но и … в смартфоне, планшете, на экране компьютера. Если мы не можем обуздать страсть юных (и не только!) к мультимедийным технологиям и компьютерным устройствам, то ничто не мешает нам использовать ее в «мирных целях», создавая интерактивные мобильные приложения и он-лайн уроки чтения художественной литературы.
Инновационность проекта создания интерактивных авторских кур-сов заключается в новых методических моделях, разрабатываемых под возможности современных информационных технологий для широкого спектра компьютерных устройств (стационарных, планшетов, смартфо-нов), и высококачественной аудиовизуальной реализации получаемых в результате образовательных ресурсов.
ЛИТЕРАТУРА:1. Н.В. Кулибина Художественный текст в лингводидактическом ос-
мыслении. Монография. – М,: Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2000. – 301 с.2. Н.В. Кулибина Зачем, что и как читать на уроке. Методическое по-
собие для преподавателей русского языка как иностранного. – СПб.: Зла-тоуст, 2015. – 224 с.
3. Н.В. Кулибина Читаем по-русски на уроках и дома. Книга для уче-ника. – Рига, RETORIKA-A, 2008. – 192 с.
4. Н.В. Кулибина Читаем по-русски на уроках. Книга для учителя. – Рига, RETORIKA-A, 2008. – 128 с.
5. Н.В. Кулибина Читаем стихи русских поэтов. Учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный. – СПб.: Златоуст, 2012 (изд.5). – 96 с.
6. Н.В.Кулибина Написано женщинами. Пособие по чтению для изуча-ющих русский язык как иностранный. – М.:Рус.яз.Курсы, 2004. – 272с.
Kulibina Natalia Vladimirovna
INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES READING FICTION AT LESSONS RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Russian as a foreign language, interactivity, educational technology, online lessons, the teaching of reading, literary text.
338
The paper describes an interactive method of teaching reading literature, which can be used both in the classroom full-time course of trials, and to create interactive online classes for a wide range of computing devices (stationary, tablets, smartphones).
Недбайлик Сабина Рудольфовнакандидат филологических наук, доцент
[email protected]Гридин Илья Андреевич
[email protected]Спирин ВВадим Анатольевич
[email protected]Исаева Вера Анатольевна
[email protected]студенты Петрозаводского государственного университета
Петрозаводск, Россия
К ВОПРОСУ О ВЕБ-КВЕСТАХ КАК ОДНОМ ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯВеб-квест; компетенция; совершенствование; креативный подход; мониторинг; поиск; мета-предметный; проблемные знания; умения; непрерывное образова-ние; информационные ресурсы; коррекция; профессиональная ориентация.
В данной статье рассматриваются основные аспекты веб-квестов как сравни-тельно нового типа проблемных заданий, используемых при обучении иностран-ным языкам в рамках современной системы непрерывного образования. Кроме того, представлена классификация веб-квестов по Берни Доджу, описаны их структура и функции, а также дается самостоятельно разработанный авто-рами веб-квест по теме «Еда», «В ресторане» на трех иностранных языках: английском, немецком и испанском.
Как известно, «образование – это изначальное право любого человека, открывающее для него новые и дополнительные возможности…»1. Воис-тину особую роль оно приобретает именно сегодня, в век бурно и стре-мительно развивающихся информационных технологий, прогрессивных научных изысканий, ведущихся в глобальном масштабе в самых разных
1 Право на образование (Статья 13), 08/12/99. E/C.12/1999/10, CESCR.
339
областях. Принятие нашумевшей Болонской декларации (1999 г.), а, соот-ветственно, участие многих стран, включая Россию, в общем Болонском процессе, предусматривают не только создание единого европейского пространства высшего образования, в том числе профессионального2, но и стимулирование активного внедрения в систему непрерывного обра-зования (НО), по праву считающегося наиболее характерной чертой со-временного информационного общества. Ведь именно НО делает людей более конкурентоспособными на мировом рынке труда, помогает им по-лучать новые и необходимые знания, развивать умения и навыки (ЗУНы) [1, 4]. Причем одним из наиболее новых, интересных, адаптивных спосо-бов их совершенствования является использование в процессе обучения веб-квестов (в переводе с английского web [web] – веб, сеть, (всемирная) паутина; quest [kwest] – поиск) [2].
Веб-квест (webquest), разработчиком которого является профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего (США) Берни Додж [2], изначально представляет собой некое супер-средство обуче-ния, предполагающее применение креативного подхода, т.е. проблем-ное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого ис-пользуются информационные ресурсы Интернета, мониторинг и поиск. С помощью веб-квеста можно с лёгкостью проследить метапредметные результаты, с возможными последующими их коррекцией и развитием, а именно – выполнение всех универсальных учебных действий (УУД), к которым относятся, в частности: умение четко излагать свою точку зрения, корректно участвовать в дискуссии; способность аналитически оценивать информацию, устанавливать причинно-следственные связи и т.д. Кроме того, веб-квест может успешно выполнять и профессионально-ориентационную функцию: попробовав себя в какой-либо роли, ученик или студент может определиться с дальнейшим выбором профессии. По-скольку в технологии веб-квестов уже изначально заложен деятельност-ный подход [3,4], вполне понятно, что при выполнении тех или иных за-даний учащиеся не получают никаких готовых ответов, а самостоятельно решают поставленную перед ними задачу, что помогает: организовывать активную самостоятельную или групповую поисковую деятельность; развивать творческое мышление.
Как известно, веб-квесты могут либо охватывать отдельную про-блему, тему, какой-то один учебный предмет, либо быть межпредметны-ми. В этой связи Берни Додж [1,5] выделяет три основных принципа их классификации: 1) По длительности выполнения: краткосрочные и дол-госрочные; 2) По предметному содержанию: монопроекты и межпред-метные веб-квесты; 3) По типу заданий, выполняемых учащимися, веб-2 По данным сайта «Статистика российского образования», в 2006 году в вузах насчи-тывалось 4,1 млн студентов. В 2014 году их стало 6 млн, в том числе в государственных вузах — около 5,1 млн человек. Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2644693
340
квесты могут представлять: пересказ (retelling tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product tasks) задания, решение спорных проблем (consensus building tasks) и др.
Говоря о структуре веб-квеста [2,6], необходимо отметить, что она предполагает: Введение (Introduction), Заданиe (Task), Выполнение (Process), Оценивание (Evaluation), Заключение (Сonclusion), Использо-ванные материалы (Credits), Комментарии для преподавателя (Teacher Page). Безусловно, данная структура не является чем-то застывшим и используется лишь как основа, которую при необходимости можно ва-рьировать в тех или иных пределах. В качестве примера приведем об-учающий веб-квест для мини-группы, разработанный нами для уроков немецкого и испанского языков в рамках лексических тем «Еда», «В ресторане».
Английский вариант веб-квеста:A delegation from Germany is going to visit our restaurant.Dear colleagues, we are asking you to prepare seriously for the guests’ ar-
rival. Remember that the best worker will be awarded with a prize!With high respect, the chief of the restaurant G. Wagner.Roles: the chief-cook, the waiter, the administrator.A task for the cook: to think of the main dish; to write the recipe and the
way of preparing this dish.Advice: to create a photo-instruction or a presentation and use photo/vide-
omaterials.A task for the waiter: to write main clichés and phrases that are usually
used by waiters in the office and while communicating with the guests.Advice: to make up a dialogue or prepare colorful notes.A task for the administrator: to learn the guests’ gastronomic preferenc-
es, to get acquainted with their traditional cuisine and present this information to the chief-cook.
Advice: the best variant is a presentation.
Немецкий вариант веб-квеста:Eine Delegation aus Deutschland möchte unser Restaurant besuchen.Liebe Kollegen, ich bitte Sie, sich auf den Empfang der Gäste sorgfältig
vorzubereiten.Denken Sie daran, dass die beste Mitarbeiterin/ der beste Mitarbeiter eine
Auszeichnung erhält.Mit freundlichen GrüßenIhr Leiter/Leiter des Hauses, G.WagnerRollengestaltung: eine Chefköchin/ ein Chefkoch, ein Kellner, ein Emp-
fangschef
341
Aufgabe für die Chefköchin/ den Chefkoch: Sie sollen ein Gericht als Spezialität unseres Hauses erfinden und sein Rezept schreiben, d.h. seine Zu-bereitungsweise beschreiben.
Unser Tipp: Es wäre wünschenswert, eine Fotoanleitung, eine Power-Point-Präsentation oder Foto- und Videomaterialien zu benutzen.
Aufgabe für die Kellnerin/den Kellner: Sie sollen die wichtigsten Re-densarten und Fach- oder Sprachausdrücke schreiben, die für den Sprachver-kehr der Kellner mit ihren Gästen typisch sind.
Unser Tipp: es ist wünschenswert, einen Dialog aufzubauen oder farbige Denkzettel zu machen.
Aufgabe für den Empfangschef: Sie sollen sich über die Essgewohnhei-ten der Gäste aufklären lassen, sich mit ihrer traditionellen Küche bekannt machen und diese Informationen/diese Infos der Chefköchin/ dem Chefkoch zur Verfügung stellen.
Unser Tipp: die beste Darbietungsweise ist eine Präsentation.
Испанский вариант веб-квеста:Una delegación de Alemania va a visitar nuestro restaurante.
Estimados compañeros, nosotros les pedimos que para la llegada de los invi-tados se preparen en serio. Recuerden que el mejor trabajador será premiado! Muy atentamente, el gerente del restaurante, G. Wagner.
Papeles: el jefe de la cocina, el camarero, el administrador.Una tarea para el jefe de la cocina: piense en el plato principal, escriba la
receta y el modo de prepararlo.Consejos: cree una foto-instrucción o presentación, utilice foto/vídeoma-
teriales.Una tarea para el camarero: escriba clichés primarios, que usualmente son uti-
lizados por camareros en el trabajo y mientras ellos se comunican con los invitados. Consejo: haga un diálogo o prepare notas coloridas.
Una tarea para el administrador: conozca las preferencias gustativas de los invitados, aprenda de su cocina tradicional y entregue la información al jefe de la cocina.
Consejos: la mejor variante es una presentación.
Безусловно, в подобных проблемных заданиях могут широко исполь-зоваться аудио- и видеоматериалы, таблицы, памятки с грамматически-ми и фонетическими правилами, ссылки на аутентичные статьи, афиши мероприятий, которые интересны ученикам и студентам, Google-тесты, опросники, тематические словарики. Условием же успешного внедре-ния веб-квестов в процесс изучения иностранных языков, как одного из аспектов современной системы непрерывного образования, является наличие: методического обоснования их создания, чёткого алгоритма интеграции (формулирование задач и установление дедлайнов), необ-
342
ходимого базового языкового уровня для работы с аутентичными ре-сурсами.
В целом, возможность создавать и проводить авторские веб-квесты дает большие преимущества: ведь веб-квест нагляднее, компактнее, удоб-нее, оперативнее и, зачастую, интереснее доносит учебную информацию до учеников и студентов. К тому же, дистанционное управление учебной деятельностью может значительно облегчить проверку домашних зада-ний, а, соответственно, и оптимизировать контроль знаний. Итак, осваи-вайте новые пространства непрерывного образования и применяйте веб-квесты!
ЛИТЕРАТУРА: 1. Dodge B. Creating WebQuests//http://webquest.org/,1999. 2. Hopkins T. Understanding Networks for Innovation in Policy and
Practice//Networks of Innovation. – OECD, 2012. P.153-161.3. Knowledge Management in Learning Society.- OECD. 2012. P.14.4. http://idee.ucoz.ru/publ/kvest/idei_sozdanija_kvesta/veb_kvesty/
3-1-0-4, – Загл. с экрана. – Яз. рус.5. [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://творческиеработы.рф/
webquesthttp://www.kommersant.ru/doc/264469, – Загл. с экрана. – Яз. рус. 6. [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.citejournal.org/
articles/v5i2socialstudies1.pdf, – Загл. с экрана. – Яз. англ.
Nedbaylik Sabina Rudolfovna, Gridin Ilia Andreevich, Spirin Vadim Anatolievich, Isaeva Vera Anatolievna
TO THE QUESTION OF WEB-QUESTS AS ONE OF MOST EFFECTIVE COMPONENTS OF CONTINUOUS EDUCATION
MODERN SYSTEM
Web-quest; competence; optimization; creative approach; monitoring; research; meta-subject; problem knowledge; skills; continuous education; information resources; cor-rection; professional orientation.
This article deals with the main aspects of web-quests as a comparatively new type of problem tasks, used in teaching foreign languages in the frame of modern continu-ous education system. Besides, it presents the web-quests classification according to B. Dodge and describes their structure and functions. The article also comprises a web-quest example on the topic «Meals», «In the restaurant» worked out independently by the authors and given in three foreign languages: English, German and Spanish.
343
Орлов Алистер Александровичм. н. с. Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
Россия, Москва[email protected]
ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Имагология; образ России; русский язык в Таджикистане
В статье рассматривается образ России, представленный в современных учеб-никах по русскому языку в Республике Таджикистан. В основу исследования по-ложен имагологический анализ С.К. Милославской, нацеленный на установление фактов, реалий, процессов, так или иначе формирующих образ страны изучаемо-го языка в сознании иностранца.
В 2008 г. на законодательном уровне в Республике Таджикистан была принята программа по русскому языку для общеобразовательных учреж-дений с таджикским языком обучения, предполагающая создание новых учебников для 2-11 классов, отвечающих актуальным тенденциям в прак-тике преподавания русского языка в Республике. В данной программе авторы-составители в качестве ведущей цели выбрали практическую, которая «направлена на овладение языком как средством общения и при-обретение умений, необходимых для успешного овладения языком», т.е. выработку коммуникативной компетенции.
В аспекте же нашей проблемы для нас интересны две другие цели, которые также были заявлены в Программе. Во-первых, общеобразова-тельная, которая предполагает повышение общей культуры учащихся, расширение их кругозора и знаний о стране изучаемого языка, её куль-туре, науке, литературе, искусстве и вообще о мире, а во-вторых, воспи-тательная, включающая реализацию таких задач, как воспитание гу-манистических черт личности, самостоятельности, интереса к русскому языку, потребностей к его изучению и т. д.
Иными словами, учебники, написанные на основе этой Программы, должны включать в себя страноведческий и лингвострановедческий ком-поненты, которые, соответственно, являются базисом для формирования образа страны изучаемого языка.
С.К. Милославская считает, что учебник является важным средством и способом формирования образа страны и народа. Он отличается от дру-гих источников рациональной, систематизированной презентацией све-
344
дений о стране, а также характером и степенью усвоения получаемой из учебника информации [7, с. 76–78].
Исследовательница в своей монографии «Русский язык как иностран-ный в истории становления европейского образа России», опираясь на терминосистему имагологии («образоведения») литературно-компара-тивного направления, вводит в качестве основной единицы образной системы учебника имагему. Данная единица представляет собой любые поименованные элементы (факты, явления, процессы) русской культуры как «другой» и являющуюся набором дифференциальных признаков этих элементов. Следует отметить, что данная единица входит в состав более крупного образования (имаготемы), а та, в свою очередь, уже является частью макроимаготемы, самой крупной единицы. Это можно проиллю-стрировать на следующем примере. Мы имеем макроимаготему «стра-на», внутри которой выделяем ряд имаготем «физическая характеристи-ка», «экономическая характеристика», «историческая характеристика» и т. д., а далее на примере имаготемы «физическая характеристика» мы вычленяем такие имагемы, как географическое положение, климат, при-рода, природные богатства и т. д. Следовательно, образ страны, по словам С.К. Милославской, — сложный, многомерный и противоречивый объ-ект, который в грубом приближении состоит из:
а) образа страны как земли и государства;б) образа ее народа и ее культуры;в) образа ее языка.Таким образом, за основу нашего исследования мы берем методиче-
ский подход С.К. Милославской, а в качестве материала — доступные нам учебники для 4, 6, 7, 8, 9-х классов под редакцией д.п.н., профессо-ра РТСУ (Российско-таджикского (славянского) университета) Т.В. Гу-сейновой, написанные на основе вышеупомянутой Программы. Следует оговориться, что не все параметры имагологического анализа возможно применить к учебникам для общеобразовательных учреждений. Это свя-зано как со спецификой страноведческих тем, так и с возрастными огра-ничениями школьников.
Макроимаготема «страна (Россия)» подразумевает под собой наличие тех фактов, явлений которые указывают на физическую (географическое положение, территория, климат, природа, природные богатства, населе-ние), государственно-политическую (форма правления, властные лица, властные структуры, армия, отношение власти и народа, политические отношения России и страны адресата), этническую (народы, населяющие страну, территория расселения разных этносов, межэтнические отноше-ния), экономическую (добыча ископаемых, производство, международ-ная торговля, промышленные торговые центры), историческую (важные исторические события, лица, документы), конфессиональную (господ-ствующая конфессия, другие вероисповедания, межконфессиональные
345
отношения) и художественно-культурную характеристики страны (ис-токи культурной традиции, явления и факты художественной культуры, специфика художественно-культурной традиции, русская литература в российском и мировом культурном пространстве).
Следует отметить, что в проанализированных учебниках слабо пред-ставлена информация, относящаяся к данной макроимаготеме. Упомина-ются города Москва (как столица и крупнейший промышленный центр, в котором находятся правительство, много заводов, фабрик, театров, музеев, Московский государственный университет, названный в честь М.В. Ломоносова) [2, с. 9, 19, 73], Санкт-Петербург, часто называемый в настоящем времени Ленинградом (в связи с жизнью А.С. Пушкина, вос-станием декабристов на Сенатской площади, Петропавловская крепость), Кавказ (Пятигорск, в контексте к биографии М.Ю. Лермонтова). Севасто-поль упоминается только как место, где родился писатель К.М. Станюке-вич [2, с. 65]. Ввиду того, что курс русского языка носит интегрирован-ный характер (объединен с уроками русской литературы), большинство населенных пунктов упоминается в биографических комментариях, опи-сывающих жизнь писателей и поэтов (Михайловское, Тарханы, Кобрино, Переделкино ). В учебниках часто, как мы заметили, используются не-адаптированные тексты, где упоминаются Камчатка (текст о вулканах), Стерлитамак (текст о метеорите), реки Индигирка и Колыма (текст о вечной мерзлоте) без указания на принадлежность к России. В учебнике 4 класса целый раздел посвящен Таджикистану, с более-менее подроб-ным описанием границ Республики, с текстами о крупных городах и клю-чевых исторических фигурах. Безусловно, мы не можем ставить в упрек то, что страноведческой информации о Таджикистане в учебных текстах куда больше, чем о России.
При описании климата, погоды авторы учебника используют художе-ственные тексты («Зима!… Крестьянин, торжествуя...» [1, с. 53], «Зимняя дорога» [4, с. 93]). Опять же в учебниках представлено немного информа-ции, которую можно было бы интерпретировать как целенаправленную презентацию данной имаготемы.
Актуальная государственно-политическая характеристика России представлена только словом «правительство», которое находится в Моск-ве [4 кл. с. 9]. Следует обратить особое внимание, что в литературоведче-ских комментариях к биографиям писателей, поэтов, их произведениям авторы учебников часто рассуждают о крепостничестве, царях-угнетате-лях, помещичьем бесчинстве [4, с. 17; 5, с. 14, 19, 158]. Об отношениях России и Таджикистана упоминается один раз, в упражнении, где следует закончить предложение, используя словосочетания из правого столбика (Телепередача «Наши земляки» рассказала… о дружбе России и Таджи-кистана) [4, с. 82].
346
Экономическая характеристика России так же не имеет какой-либо презентации в учебниках. Вряд ли упоминание о фабриках, заводах в Москве можно приравнять к страноведчески актуальной информации.
Исторические лица, представленные в данных учебниках, как прави-ло, имеют отношение к тем эпохам, когда жили изучаемые писатели, по-эты. Например, император Николай I упоминается только в связи с твор-чеством А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова [2, с. 34; 5, с. 152], а Петр I – при семантизации слова царь [4, с. 25]. Несколько раз в тексты учебников вводится информация о советских космонавтах Ю.А. Гагарине, В.В. Те-решковой, А.А. Леонове и конструкторе С.П. Королеве [3, с. 175; 1, с. 19; 2, с. 19; 5, с. 124–129].
Тема Великой Отечественной войны присутствует практически во всех учебниках. Это прежде всего художественные тексты, повествую-щие о героизме солдат (без упоминания национальности), но нам так и не удалось найти информацию о ключевых моментах ВОВ, руководящем составе армии, памятниках героям.
Безусловно, художественно-культурная характеристика России в дан-ных учебниках представлена весьма широко, так как русский язык из-учается неотрывно от русской литературы. Кроме писателей и поэтов, в учебниках упоминаются композитор П.И. Чайковский, художник В. Пе-ров, шахматист Гарри Каспаров, хоккеист В. Третьяк.
Как религиозной, так и этнографической характеристики России и ее народов в учебниках нет, хотя упоминаются некие северяне, которые, «на-ходя в вечной мерзлоте туши древних животных, кормили этим мясом ездовых собак» [5, с. 96]. К какому этносу эти «северяне» относятся – не упоминается.
Макроимаготема «люди (россияне)» подразумевает под собой предъ-явление таких фактов, которые связаны с имаготемами внешнего вида (телосложение, здоровье, портрет, одежда), поведения (черты характера, привычки) обычаями (поселение, жилище, еда, напитки, образование, путешествия).
В учебниках практически отсутствует информация, связанная с пред-ставлением о россиянах (русских) как «других». Только в двух случаях присутствует подобное описание. Первый – презентация сквозного пер-сонажа – 12-летней девочки Оли с голубыми глазами и светлыми воло-сами, живущей в Москве, и ее родителей, о которых она пишет в письме мальчику Анвару (другому сквозному персонажу, который живет в Ду-шанбе). Её маме 30 лет, у нее карие глаза и светлые волосы, она красивая, добрая, умная и веселая, работает учителем в школе, хорошо поет и игра-ет на пианино. Отцу Оли 40 лет, он художник, добрый, веселый, краси-вый, рисующий цветы, птиц, поле, небо, солнце [1, с. 4, 10, 23]. Второй случай – это ведение домашнего хозяйства в Древней Руси, с разделением работы на мужскую и женскую. Мужчины занимались ремонтом, плели
347
лапти, корзины, лепили глиняную посуду, а женщины ухаживали за ско-тиной, пряли, ткали, шили одежду, готовили еду на всех домочадцев [2, с. 114].
В тексте о моде [5, с. 74] говорится. что «бояре на Руси обряжались в дорогие шубы, обливаясь потом, пировали в них. Другая же мода – мода бедности: лапотная, в зипунишке – тряслась на возах, кланялась пашне и проливала трудовой пот». Данный текст, скорее всего, без адаптации был взят из «Календаря школьника», который выходил в 80-е годы в Со-ветском Союзе.
В макроимаготеме «русский язык» должны раскрываться имаготе-мы распространенности языка (происхождение, ареал распространения, обеспечение межэтнического общения внутри государства, межгосудар-ственного общения), возможные цели изучения языка (политические, торговые, конфессиональные, образовательно-культурные, частные).
Образ русского языка имеет положительную характеристику в анали-зируемых учебниках. При описании русского языка используются цитаты деятелей литературы (Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев и др.). О русском языке говорится как о инструменте межнационального обще-ния, на котором говорят в странах СНГ и в самом Таджикистане [3, с. 16; 4, с. 4; 5, с. 3–7]. При этом отсутствует всякая информация об истории русского языка, о политических, торговых и образовательных целях из-учения русского языка.
Наш анализ выявил, что авторы учебников при презентации образа России в значительной степени ориентировались на тексты, созданные еще в Советском Союзе и, как следствие, нагруженные излишней иде-ологизацией, а подчас и просто неверной информацией, обусловленной идеологическим подходом. Плохо удалась авторам задача подбора инте-ресных, содержащих актуальную лексику и в то же время доступных для понимания детьми учебных текстов о России, как о географическом по-нятии и государственном образовании. Недостаточно внимания уделено выяснению характерных черт России, которые отличны от таджикских реалий.
Подводя итог, мы можем сказать, что в рассматриваемых учебниках явно недостаточно информации для формирования образа России, как в современном, так и в ретроспективном аспектах. Подобная ситуация может негативно сказываться (и сказывается на самом деле) в развитии интереса к стране изучаемого языка и, ка следствие, в обучении этому языку.
ЛИТЕРАТУРА:1. Гусейнова Т.В. Русский язык: Учебник для 6-го класса средней шко-
лы с таджикским языком обучения. – 2-е изд., испр. и доп. – Душанбе: 2012. – 144 с.
348
2. Гусейнова Т.В., Гусейнов Т.И. Русский язык: учебник для 8-го класса школ с таджикским языком обучения. – Душанбе: 2013. – 144 с.
3. Гусейнова Т.В., Зиёвуддинова З.Н., Саидов С.А. Русский язык: Учебник для 4 класса школ с таджикским языком обучения. – Душанбе: 2007, – 216 с.
4. Гусейнова Т.В., Шабурова Д.Х. Русский язык: Учебник для 7 класса средней школы с таджикским языком обучения (экспериментальный). – Душанбе: 2007. – 176 с.
5. Гусейнова Т.В., Шабурова Д.Х. Русский язык: Учебник для 9-го класса общеобразовательных учреждений с таджикским языком обуче-ния. – Душанбе: 2013. – 208 с.
6. Милославская С.К. Русский язык как иностранный в истории ста-новления европейского образа России. – 2-е изд., стереотип. – М.: Флин-та : Наука, 2012. – 400 с.
7. Программа по русскому языку для общеобразовательных учрежде-ний с таджикским языком обучения (2-11 классы).- Душанбе, 2008. – 124 с.
Orlov Alister Aleksandrovich
THE IMAGE OF RUSSIA IN CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOKS IN THE SCHOOLS
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Imagology; Russia’s image; Russian language in Tajikistan
The article analyzes the image of Russia presented in modern textbooks on the Russian language in Tajikistan. The research is based on the imagological analysis of S.K. Mi-loslavskaya, aimed at establishing the facts, realities and processes that anyway form the image of Russia in the conscience of foreigners.
349
Синяев Анатолий Романович магистрант Государственного института
русского языка имени А.С. ПушкинаМосква, Россия
«ТРЕНИРОВКА В КОММУНИКАЦИИ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВТОРСКОГО РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ». «РУССКИЙ ДЛЯ ВСЕХ». КНИГА 1 «РУССКИЙ МИР. ВЗГЛЯД СО
СТОРОНЫ». УРОВЕНЬ С1/С2Русский язык для всех; тренировка; презентация; контроль; упражнение; дис-курсный маркер.
В статье рассмотрена тренировка в коммуникации в учебнике «Русский мир. Взгляд со стороны» (учебный комплекс «Русский для всех»), а также ее связь с другими аспектами концепции обучения: презентацией и контролем.
Одна из целей учебника «Русский мир. Взгляд со стороны» – обуче-ние взаимодействию, как особому виду коммуникации в форме устного дискурса. Одновременно формируется социокультурная компетенция на обширном культурологическом материале.
Как реализуется известное требование к любому обучению – «пре-зентация – тренировка – контроль» в рассматриваемом учебнике? Презентация образцов коммуникативного общения совмещается с тре-нировкой. Это происходит вначале во время прослушивания в записи полилогов, затем при многократном чтении/разыгрывании их по ролям. В результате прослушивания происходит непроизвольное запоминание содержания, структурного построения полилогов, фонетико-интонаци-онно оформления речи носителей языка («героев/персонажей»). Чтение по ролям со сменой ролей помогает учащимся продемонстрировать не только речевое поведение персонажей учебника (черты характера, осо-бенности речи), но и отразить собственную манеру комуникации. «Кон-троль» происходит в процессе участия в обсуждениях, дискуссиях, дис-путах по проблемам, поднятым в полилогах.
Содержание устного дискурса – интеллектуальные беседы на стра-новедческие/культуроведческие темы. «Герои/ персонажи»-иностранцы общаются с вымышленными и реальными носителями русского языка. Полилоги-образцы близки к реальному общению, в некоторых случаях аутентичны (например, записи интервью со спортсменами, актерами, учеными и т.д.) Приведем пример подобного интервью:
350
Марио – Кого вы считаете лучшим хоккеистом всех времен?Константин Барулин – Однозначно – Валерий Харламов. С таким
игроком лучше оказаться в одной команде, чем играть против него.Марио – У вас, скорее всего, была возможность уехать в Америку в
НХЛ? Почему не уехали?Константин Барулин – Возможность была и остается до сих пор,
но мне нравится жить и играть в России, я патриот своей страны.Марио – Какое самое запоминающееся событие в вашей спортивной
карьере?Константин Барулин – Это Чемпионат мира в 2012 году, когда
сборная России завоевала золотые медали.Ожидается, что учащиеся, слушая и читая образцы, приобретают не-
обходимые навыки участия в дискурсе, чтобы использовать их в беседе на другие темы.
После прослушивания и чтения полилогов учащимся предлагается за-дание «Ваше мнение» (оно повторяется после каждого полилога).
Образец представляет собой «презентацию/ показ». Вопросы не только связаны с проверкой понимания текста. Они персонифицирова-ны, обращены к каждому конкретному учащемуся, его предпочтениям, опыту, вкусу и т.д. Задание выполняется дома. И на следующем занятии каждый учащийся читает свои варианты ответов (их18). При группе в 6 человек это почти 100 ответов. Они могут совпадать, но могут и раз-личаться, то есть проявляются интересы каждой личности.
Ваше мнение:+ Что Вас удивило?Образец: – Меня удивило, что вратарь сборной России не уехал играть
в НХЛ (Национальная хоккейная лига: в США и Канаде).Продолжайте (3–4 предложения) Напишите в своем смартфоне и про-
читайте++ Что Вам понравилось (какая информация)?Образец: – Мне понравилась фотография Константина с талисманом.Продолжайте (3-4 предложения)+ ++Что Вы знали раньше? Образец: – Я знал раньше, что в Сочи есть хоккейный клуб.Продолжайте (3–4 предложения)++++ О чем узнали только сейчас?Образец: – Я узнал только сейчас, что Барулин играет за «Сочи».Продолжайте (3-4 предложения)..Желательно, чтобы учащиеся объяснили свой выбор, свою точку
зрения. Это не только элемент «тренировки», это фрагмент реального общения.
После «проблемного текста» предлагается задание «Поговорим-поспо-рим», в котором учащиеся должны высказать свою точку зрения, например:
351
Поговорим – поспорим – обсудим Согласны? Не согласны? Приведите аргументы.• Павел Карташев говорит, что «Современный человек побежден ду-
хом плоти, материализма». • Для получения жизненного опыта будущим руководителям были бы
очень полезны путешествия. Но не как отдых и развлечения «на Кана-рах», а поездки по своей стране, в самые далекие городки, поселки, села...
• Армия, война – это очень жестокий опыт изучения жизни.• Волонтерство – прекрасная жизненная школа для молодых.В подобных заданиях происходит тренировка речевого взаимодей-
ствия, что мотивируется заинтересованностью учащихся и различием точек зрения.
Как известно, особенностью устного дискурса являются т.н. «дискурс-ные маркеры», которые выполняют две основные функции: структурную и комментирующую. В текстах они выделены цветом (презентация). Это дает возможность наблюдать, в каких ситуациях они употребляются (так-же срабатывает механизм непроизвольного запоминания). После каждо-го текста дискурсные маркеры даются в виде таблиц, в которых предла-гается информация о значении маркеров. По мере накопления образцов на наблюдение соотношения маркера со значением, даются задания на самостоятельное заполнение таблиц, установление соответствия.
Значение маркерыАкцентирование Ну, конечно
Ссылка Ну, по-моемуВопрос А как же?
Объяснение Ведь, да?Удивление Как интересно!
К этим дискурсным маркерам добавляется задание, например: Заполните таблицу:
Значение маркерыСсылкаВопрос
Удивлениеакцентирование
СомнениеОбъяснение
352
Установите соответствие:Значение маркерыА) ссылка 1) давайБ) вопрос 2) как интересно!
В) побуждение 3) по-моемуГ) акцентирование 4) наверное
Д) сомнение 5) чтоЕ) удивление 6) конечно
В учебном пособии «Русский мир. Взгляд со стороны» учащиеся раз-
вивают различные виды речевой деятельности: говорение, взаимодей-ствие, аудирование, чтение, учебное письмо. При этом они знакомятся с интересным культуроведческим материалом, прецедентными именами, событиями российской и мировой культурой. «Персонажи» учебника на-мерены сделаны представителями разных стран/национальностей/про-фессий. Это дает возможность естественного обмена информацией, то есть реального взаимодействия.
Sinyaev Anatoly Romanovich
THE TRAINING IN COMMUNICATION IS OFFER OF NEW SOLUTION. “RUSSIAN FOR EVERYBODY “, PART 1 “ RUSSIAN
WORLD. A LOOK FROM OUTSIDE”. C1/C2 LEVELS.
Russian for foreigners; training; presentation; control; exercise; discourse marker.
In this article the training in communication and its interaction with other aspects of the concept of study – presentation and control have analyzed in textbook “Russian world. A look from outside” (educational complex “Russian for everybody”.
353
Трихина Яна Валерьевнаучитель
Школы-интерната общего типа Щучинск, Республика Казахстан
О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКАВ УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБЩЕСТВА КАЗАХСТАНА
Государственная политика; полиязычие; коммуникативная компетенция; модер-низация методики; функциональная грамотность.
Статья посвящена актуальной проблеме современной методики – обучению русскому языку в условиях поликультурного общества. Автор рассматривает данный вопрос в контексте государственной языковой политики Казахстана, направленной на укрепление единства общества.
Язык является средством приобщения личности к универсальным глобальным ценностям, важным фактором формирования умения не только общаться, но и в полном объёме контактировать с представителя-ми других наций.
Сегодня в Казахстане на государственном уровне отмечается важ-ность политики трёхъязычия. В нашей стране принимаются активные меры по созданию благоприятных условий для изучения не только ка-захского языка, являющегося государственным, но и других языков, в том числе русского и английского. «К русскому языку и к кириллице мы должны относиться столь же бережно, как к казахскому языку. Всем оче-видно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации», – отмечает Президент Республики Казахстан Н.А. Назар-баев. При этом Глава государства подчёркивает, что «нельзя игнориро-вать тот факт, что именно посредством русского языка уже на протяже-нии не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за её пределами» [4].
В контексте государственной языковой и образовательной политики школьное сообщество, представленное в данном случае учителями рус-ского языка и литературы, уделяет особое внимание актуальным вопро-сам современной методики преподавания русского языка в классах с рус-ским и нерусским языками обучения.
К таким вопросам относятся, например, следующие:
354
– антропоцентрическая парадигма школьного образования;– содержание обучения русскому языку, в том числе – содержание об-
учения в малокомплектной школе;– разработка модернизированных программ по русскому языку;– конструирование новых учебников;– компетентностный подход как основа обучения русскому языку;– личностно-ориентированное обучение;– коммуникативная направленность преподавания русского языка,
развитие речи школьников;– формы контроля компетенций;– тестирование как форма контроля, методика подготовки к Единому
национальному тестированию (ЕНТ) как форме итоговой аттестации по русскому языку;
– использование в школьном преподавании инновационных техноло-гий;
– методика преподавания русского языка как неродного;– методика начального обучения русскому языку;– инклюзивное образование [2, с.183]. Преподавательский состав учебных заведений сосредоточен на поиске
решений данных вопросов и связанных с ними задач. Во-первых, сегодня большое внимание уделяется разработке и совершенствованию учебных планов для разных типов учебных заведений, готовящихся осуществлять или уже осуществляющих полилингвистическую подготовку выпуск-ников. Во-вторых, актуальным становится вопрос создания новых про-грамм по русскому языку. В этом случае наряду с использованием типовых программ не исключаются разработка и внедрение авторских программ. В-третьих, изменения в организации учебного процесса предполагают использование инновационных подходов, которые смогут стимулировать школьников к более глубокому изучению русского языка и в итоге сформи-ровать комплекс компетенций учеников, в частности – коммуникативную компетенцию личности, на высоком уровне владеющей русским языком как инструментом общения. В-четвертых, итогом изучения языка должно стать практическое владение языком, которое следует понимать, как владе-ние школьниками всеми видами речевой деятельности [6].
Урок по-прежнему является основой учебно-воспитательного процесса в школе. Сегодня в Казахстане много делается для модернизации школь-ного обучения. Каждый наш день должен быть поиском решения таких вопросов: как сделать уроки русского языка по-настоящему обучающими, какими должны быть уроки сегодня и завтра, что поможет сделать работу лучше, добиться более качественного, эффективного результата.
На уроках важно создание своеобразной модели культуры, которая по-может духовному совершенству, осуществляемому на базе диалога род-ной культуры и мира. На формирование поведенческой и речевой куль-
355
туры учащихся большое влияние оказывает тот материал, который они читают, слышат, видят, и та среда, в которой они находятся. При построе-нии такой модели необходимо использовать реальную действительность, представленную предметно, то есть с использованием фотоснимков, ил-люстрационного материала, рисунков, а также с применением телевизи-онных передач, спектаклей, кинофильмов, мультфильмов. Не следует за-бывать об учебно-методических пособиях, художественной литературе, фразеологизмах, пословицах, высказываниях известных людей. Так, при изучении темы «Безударные гласные в корне слова» на уроке русского языка мы даём задание: запишите русские пословицы, вставляя в слова пропущенные буквы, объясните значение половиц. Пословицы подбира-ются таким образом, что одновременно формируются языковая, комму-никативная и лингвокультуроведческая компетенции, развивается речь и формируется орфографическая зоркость. Например: «В г…стях хор…шо, а дома лучше», «Где р…дился, там и приг…дился», «Горя б…яться – сча-стья не в…дать», «Д…рёному к..ню в зубы не смотрят», «Когда с…мья в куче, не стр…шны и тучи», «Человек без друзей, что дерево без к…рней» и т.д. Такой лингвокультуроведческий материал, позиционирующийся как культурологические единицы русского языка, широко представлен в различных источниках, в том числе в пособиях, посвящённых обучению русскому языку как иностранному [1].
При повышении речевой культуры школьников происходит формиро-вание определенных умений и навыков, к которым относятся:
– умение представлять речевую ситуацию, осмысливать и хорошо её понимать, т.е. знать, с какой целью и на какую тему осуществляется обще-ние, какова основная мысль высказывания, кто является адресатом речи, в каком месте происходит общение, каков объем высказывания; для этого необходимо заранее формировать замысел предстоящего речевого текста;
– умение, исходя из замысла, собирать необходимый материал, поль-зуясь при этом разными источниками, после чего систематизировать его, составлять план будущего высказывания, ориентируясь на замысел;
– умение, учитывая замысел и компоненты речевой ситуации, исполь-зовать разные стили и типы речи;
– умение обращать внимание на реакцию слушателя во время речево-го общения, соотносить произносимое с замыслом и при необходимости корректировать свою речь [5].
Каждый урок в этой системе должен представляться в виде своеобраз-ной ступени на пути продвижения ученика к полному усвоению учебно-го материала, к овладению опытом поисковой деятельности. Творчески работающие учителя в системе таких уроков организуют продуктивную коллективную деятельность учеников, обеспечивают их дифференциро-ванными заданиями, помогают в овладении материалом разного уровня сложности, формируют опыт самообучения и самообразования.
356
Осуществление коммуникативной направленности обучения делает актуальной работу со связным текстом, в которой прослеживаются за-кономерности и особенности восприятия и порождения связного выска-зывания, важные для решения образовательных и воспитательных задач, стоящих перед предметом «Русский язык» [3]. Например, при изучении темы «Не с разными частями речи» предлагается общее задание: прочитать грамматическую сказку «О частице не и приставке не-». На следующем этапе менее подготовленным учащимся поручается выписать все слова с приставкой не, более подготовленным – выполнить то же задание и допол-нительно сформулировать правила написания не с разными час тями речи.
Каждый урок должен быть тесно связан с предыдущим и последу-ющим уроками и являться составной частью системы уроков по какой-либо учебной теме или предмету в целом. Главная цель уроков русского языка – формирование коммуникативной компетенции, представленной языковым, речевым, социокультурным и учебно-познавательным компо-нентами. В процессе интеграции названных компонентов чётко просле-живается практическая направленность. Планируемый результат – дости-жение выпускниками функциональной грамотности. При этом учитыва-ются потребности, способности и возможности учащихся, выделяются разные уровни обученности: общеобразовательный (базовый) и повы-шенный (профильный). Выбор уровня остается за учеником [6].
Цель, которую должны учитывать педагоги при проведении уроков русского языка в старших классах, – подготовка к ЕНТ, повторение и углубление материала, изученного в среднем звене.
Русский язык играет важную роль не только в квалифицированной подготовке выпускников, но и в их духовном и нравственном развитии. Обучение русскому языку активизирует формирование коммуникативной компетенции, воспитывает языковую личность, способную к профессио-нально-деловой межкультурной коммуникации, стремящуюся к самораз-витию и самообразованию, умеющую творчески мыслить. В связи с этим необходимо продолжать работу по модернизации методики преподавания русского языка, развитию новых образовательных ресурсов. Важно по-следовательное и обдуманное внедрение инновационных методов, реше-ний и инструментов в отечественную систему образования, включение в процесс преподавания дистанционного обучения, обучения в режиме онлайн – компонентов развивающегося во всём мире электронного об-учения (e-learning).
ЛИТЕРАТУРА:1. Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян:
Учебное пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучаю-щих русский язык как иностранный. – 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – 232 с.
357
2. Баяндина С.Ж., Тавлуй М.В. Методика преподавания русского язы-ка. Учебное пособие для студентов филологических факультетов. Изд. 2, доп. – Кокшетау: КГУ им. Ш. Уалиханова, 2012. – 183 с.
3. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. – М., 1978. – 136 с.
4. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. На-зарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый полити-ческий курс состоявшегося государства», 2012 г. // http://www.akorda.kz
5. Сабитова В.К. Речевой этикет как условие успешной коммуника-ции в разных лингвокультурах // Преподавание в вузах и колледжах. – 2012. – № 4. – С. 40–43.
6. Стычева О.А. Методика школьного курса русского языка. Учебно-методическое пособие для студентов. – Киров: МЦНИП, 2013. – 164 с.
Trikhina Yana Valeryevna
ABOUT TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN MULTICULTURAL SOCIETY OF KAZAKHSTAN
State policy; polylinguistic space; communicative competence; methodology modernization; functional literacy.
The article reveals an actual issue in the field of modern methodology for teaching Russian language in multicultural society. The author deals with this issue according to the state language politics, which is governed for the support of the unity of society.
Фазылянова Ханифя Михайловнаканд. пед. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСАФОНЕТИКИ И ИНТОНАЦИИ
ДЛЯ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ УРОВНЯ А-2
Содержание обучения, фонетика, вьетнамские студенты-филологи.
Занятия по фонетике и интонации в практическом курсе русского языка выделя-ются в самостоятельный аспект работы, что объясняется трудностями рус-ского произношения для вьетнамских студентов, наличием в их речи устойчивых
358
фонетических ошибок, необходимостью формирования не только фонетических навыков, но и приемов обучения фонетике, что связано с будущей профессио-нальной деятельностью вьетнамских студентов.
Содержание обучения включает средства языка, которые должны быть усвоены в процессе обучения (фонетические, лексические, грам-матические) и комплекс знаний, навыков, умений, обеспечивающих воз-можность применения усвоенных средств в разных сферах и ситуациях общения. Овладение содержанием обучения позволяет говорить об уров-не компетенции изучающего русский язык как иностранный, т.е. способ-ность к участию в процессе речевой деятельности.
Занятия по фонетике и интонации в практическом курсе русского языка выделяются в самостоятельный аспект работы, что объясняется трудностя-ми русского произношения для вьетнамских студентов, наличием в их речи устойчивых фонетических ошибок, необходимостью формирования не только фонетических навыков, но и приемов обучения фонетике, что свя-зано с будущей профессиональной деятельностью вьетнамских студентов.
Ошибки акцентного характера, как свидетельствует наш опыт, прео-долеваются в речи студентов с большим трудом, поэтому исключительно велика роль практического курса фонетики, во время которого обеспечи-вается постановка звуков и формирование фонетических и ритмико-ин-тонационных навыков.
Рассмотрим трудности вьетнамских студентов-филологов, которые проявляются на фонетическом уровне. Они характеризуются нарушения-ми в произношении отдельных звуков, слов, словосочетаний, предложе-ний и обусловлены различиями, существующими между фонетическими системами двух языков.
Вьетнамским студентам свойственно допускать следующие ошибки: 1. Замена взрывных согласных на имплозивные в конце слова.2. Наличие призвука [и] на конце слова после мягких согласных, на-
пример, в слове площадь, что приводит к смешению форм единственного и множественного числа.
3. Смешение щелевых согласных [ж], [з], [ш], [с], например, в словах [с—ш] шесть, [ж—з] женщина.
4. Замена аффрикаты [ч’] переднеязычным мягким смычным [т’]. 5. Замена дорсальных [н], [н’] апикальными согласными. 6. Замена сонорных (переднеязычных) согласных [л], [л’] и дрожа-
щих [р] и [р’] согласным [л].7. Отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова и перед
глухим согласным.8. Отсутствие озвончения перед звонкими согласными.В целях построения корректировочного курса фонетики для вьетнам-
ских студентов основным принципом отбора материала мы считаем прин-
359
цип учета родного языка учащихся, предполагающий определенную после-довательность устранения акцента. На наш взгляд, было бы целесообразно начать устранять акцент следующим образом: 1) звуки, имеющие аналоги в родном языке учащихся; 2) звуки, частично совпадающие в русском и родном языках учащихся; 3) звуки, не имеющие аналогов в родном языке учащихся. Фонетический материал вводится по определенной модели обучения:
1. Исправление произношения гласных [а], [о], [у], [э], [и], [ы] под уда-рением в изолированном положении. Всем русским гласным звукам, кроме звука [ы], есть соответствия во вьетнамском языке, вследствие чего иправ-ление произношения гласного звука [ы] потребует особого внимания.
2. Гласный [ы] в сочетании с губными смычными, в первую очередь, с сонорным [м] и глухими твердыми согласными [п], [ф], т.к. им есть соот-ветствия во вьетнамском языке.
3. Гласный [ы] в сочетании с сонорным [н] и глухими твердыми со-гласными [т], [с], т.к. им есть соответствие во вьетнамском, однако дор-сальный характер переднеязычных согласных русского языка представ-ляет для учащихся данной национальности трудность при произноше-нии, поскольку эти согласные в данном языке являются апикальными.
4. Постановка твердой зубной однофокусной аффрикаты [ц].5. Гласный [ы] в сочетании с глухими твердыми согласными [к], [г], [х]. 6. Постановка среднеязычного [j] в слабой разновидности. 7.Объяснение чтения букв я, е, ё, ю, обозначающих два звука (со-
четание согласного [j] с гласным) в начале слова и после гласных, по-становка йотированных [а], [э], [о], [у] в слогах и односложных словах. Несомненно, что овладение иноязычной речью происходит не только путем овладения языковым материалом по определенной модели обучения, но и в процессе формирования речевых навыков и умений, однако, по нашему мнению, именно такая последовательность постановки русских гласных и согласных позволит вьетнамским студентам избежать или, по меньшей мере, сократить количество перечисленных произносительных ошибок.
Значительную проблему представляет для вьетнамских студентов и рус-ское ударение, особенно его подвижный характер. В одном и том же слове, при изменении его формы, ударение может перемещаться с одного слога на другой. Если в существительном ударение падает на какой-то слог, то вьет-намец обычно делает ударение в производных от него глаголах на тот же са-мый слог. Например, грýз – «грýзил». Или, если глагол в начальной форме имеет ударение на последнем слоге, то в его разных формах вьетнамец со-храняет это ударение на том же месте, что в начальной форме. Например, начáть – «Он начáл» вместо «Он нáчал». Как известно, многосложное слово во вьетнамском языке образовано главным образом из двух-трех фонем (сло-гов). Первая фонема несет ударение, а остальные могут иметь побочное уда-рение. В силу этого явления вьетнамцы часто делают два ударения в одном многосложном русском слове. Например: «Он рабóтаéт».
360
В силу того, что во вьетнамском языке ударение обычно падает на первую часть слова, то студент, изучающий русский язык, часто делает акцент на первый слог русского слова.
Таким образом, разноместность и подвижность русского ударения не только устраняют монотонность речи, способствуя ее ритмической орга-низованности, но и являются важным различительным средством.
В обучении фонетике интонация играет исключительно важную роль. Однако овладение интонацией в русском языке для вьетнамских студен-тов – сложный процесс, и обусловлено это тем, что для выражения целей высказывания во вьетнамском языке обычно используются лексические средства, а в русском языке значения предложений с одинаковым син-таксическим строением и лексическим составом могут различаться при помощи разных типов интонационных конструкций. В основе обучения русской интонации лежит теория Е.А. Брызгуновой об интонационных конструкциях. Согласно концепции автора, интонационная система рус-ского языка имеет 7 конструкций. Русская интонация довольно резко от-личается от интонации вьетнамского языка. Вьетнамский язык является музыкальным. В нём 6 тонов. Каждый символ во вьетнамской графике соответствует определённому тону. Данное отличие служит причиной за-труднений при овладении русской интонацией.
Занятия по фонетике включают и коммуникативный аспект в работе над интонацией, что предполагает:
– овладение основными коммуникативными типами русских вопро-сительных предложений;
– умение различать коммуникативные типы предложений на основе синтагматического членения и типов ИК;
– умение определять характер взаимодействия интонационных и лек-сико-грамматических средств предложения при анализе различных тек-стов, умение использовать интонационные и лексико-грамматические средства выражения переспроса, уточняющего вопроса при ответе, со-мнении, возражении и т.д.
Занятия по фонетике с вьетнамскими студентами-филологами проводят-ся в соответствии с Программой и группируются вокруг следующих тем:
1) Формирование произносительных навыков на уровне слова, со-четания, предложения. Ударный и безударный вокализм, консонантизм. Особое внимание уделяется автоматизации слитного и правильного про-изношения разных словосочетаний, беглого чтения предложений, бы-строго темпа речи.
2) Интонационное оформление высказывания на материале диалоги-ческой и монологической речи. Большое внимание обращается на фоне-тически правильное чтение текста, умение правильно делать синтагмати-ческое членение высказывания, интонирование синтагм.
3) Ритмическая организация слова и словосочетаний.
361
На уроках фонетики вьетнамские студенты-филологи также знако-мятся с приемами постановки и коррекции произношения. Особое вни-мание при этом уделяется использованию технических средств, аудиоза-писи в лингафонном кабинете.
ЛИТЕРАТУРА:1. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. – М., 1981.2. Высотская Н.А. Обучение студентов-вьетнамцев аудированию рус-
ской речи. – М.: МГУ, 1982. – С. 12–13.3. Гордина М.В., Быстров И.С. Фонетический строй вьетнамского
языка. М., «Наука», 1984, – 245 с.
Fazilyanova Khanifya Mikhailovna
THE CONTENT OF PRACTICAL PHONETICS AND INTONATION VIETNAMESE STUDENTS-PHILOLOGISTS OF LEVEL А-2
The content of teaching, phonetics, Vietnamese students-philologists.
Pronunciation in the past occupied a central position in theories of oral language pro-ficiency. But it was largely identified with accurate pronunciation of isolated sounds or words. The most neglected aspect of the teaching of pronunciation was the relationship between phoneme articulation and other features of connected speech.
Фазылянова Ханифя Михайловнаканд. пед. наук, доцент
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
СМИ, аутентичные материалы, сформированные лингвистические, социокуль-турные и коммуникативные компетенции, телевизионные материалы.
Использование информационных материалов на видеоуроках дает возможность студентам познакомиться не только с наиболее типичными, распространенны-ми средствами и формами выражения этого вида речи, но расширяет их пред-ставления о разных сторонах жизни общества. Таким образом, процесс обуче-ния языку СМИ через ВК позволяет совместить процесс изучения русского языка и знакомство с современной жизнью.
362
Общеизвестно, что восприятие и понимание аутентичных материалов СМИ (средств массовой информации) представляет значительную про-блему для студентов, так как печатные и телевизионные материалы, буду-чи социально-речевым явлением, требуют от студентов сформированных лингвистической, социокультурной и коммуникативной компетенций. Сформированность названных компетенций должна быть сопоставима с их сформированностью у носителей языка либо приближена к ней. Для того чтобы включать такие видеокурсы в содержание обучения и органи-зовать работу с телевизионными материалами в аудитории, преподава-тель использует методическую модель обучения студентов максимально адекватному восприятию и пониманию материалов средств массовой ин-формации (СМИ).
Модель состоит из следующих компонентов:– семантизация активной лексики;– компонент по семантизации лексического фона (фоновой информации);– компонент по рецепции.Данные компоненты отвечают за формирование лингвистической, со-
циокультурной и коммуникативной компетенций.Компонент по рецепции определяет содержание методической работы
с видеоматериалом при обучении речевому общению и ориентируется на следующие принципы: общедидактический принцип постепенного ус-ложнения видеоматериала, учет уровней понимания иноязычного текста, психологические особенности рецепции видеокурсов, учет особенностей экранного контекста.
Компонент по рецепции включает в себя:– требования к отбору видеокурсов;– последовательность введения видеокурсов;– типы заданий, направленные на формирование навыков восприятия
и понимания видеокурсов.Видеокурсы должны отвечать следующим требованиям:– быть актуальными;– иметь познавательный характер;– быть типичными для материалов СМИ;– вызывать мотивацию, побуждающую студентов к просмотру и об-
суждению;– отражать тематику изученного ранее лексико-грамматического ма-
териала. Материал вводится с учетом его жанрового своеобразия. Сначала
предлагаются информационные телепередачи в жанрах заставки, ново-стей, одним предложением, законченного информационного сообщения. В дальнейшем в работу целесообразно включать телепередачи в жанрах информационной аналитики, телепублицистики, телеинтервью, телере-портаж, телекомментарий, теледебаты, ток-шоу.
363
Основная цель работы со СМИ состоит в том, чтобы сформировать у студентов лексико-грамматическую базу для чтения газетных статей, речевые умения (на основе этой базы) и перейти к формированию умений в аудировании ВК теленовостей.
Использование информационных материалов на видеоуроках дает воз-можность студентам познакомиться не только с наиболее типичными, рас-пространенными средствами и формами выражения этого вида речи, но расширяет их представления о разных сторонах жизни общества. Таким образом, процесс обучения языку СМИ через ВК позволяет совместить процесс изучения русского языка и знакомство с современной жизнью.
Речевое общество студентов, изучающих русский язык, не ограничи-вается контактной речью. Студенты попадают в условия языковой среды, в которой средства массовой информации являются ее составной частью. При этом студентов интересует история страны, ее культура, обще-ственно-политическое устройство, международные отношения и многое другое и у них возникает потребность получать такую информацию не только на занятиях, но и с помощью телевидения, прессы. Кроме того, такая информация помогает социальной ориентации учащихся в новых условиях жизни. Эта же информация помогает студентам подготовиться к изучению общественных дисциплин.
Проблема обучения студентов восприятию и пониманию информации с помощью средств массовой информации на русском языке рассматри-вается в пособиях по практической работе с языком газеты Е.И. Осипян, К.С. Ким, Г.А. Сучковой, А.Н. Васильевой. С целью обучения аудирова-нию к изучению языка газеты привлекаются новостные радиопередачи (пособия Г.П. Миловидовой, М.А. Панормовой, В.Г. Лебедевой). Препо-даватели широко применяют на уроках ВК информационных телепро-грамм, поэтому актуальным является вопрос комплексного изучения га-зетно-публисцистической речи и ее телеварианта, т.е. ВК. Этот вопрос рассмотрен в ряде диссертаций (Ершова-Бабенко, 1985; Страмнова, 1986).Обучение языку СМИ – это не чтение газеты, а ВК.
В настоящее время широко распространяется видеотехника, и препо-даватели активно применяют видеозаписи информационных программ для комплексной работы над изучением языка газеты и теленовостей. Преподаватели летних курсов получили возможность использовать эти видеокурсы в качестве учебного материала, который способствует фор-мированию коммуникативной компетенции студентов в аудировании.
В научных исследованиях и в методической литературе отмечаются широкие возможности видеокурсов в обучении всем аспектам языка и всем видам речевой деятельности, поскольку звучащая видеоинформа-ция представляет собой идеальное сочетание единства слова и речевого поступка, эмоций, мыслей говорящего. Требование коммуникативной ме-тодики «представить процесс овладения языком как постижение живой
364
иноязычной действительности» (Митрофанова, Костомаров, 1990) обу-словило активное вовлечение в учебный процесс видеокурсов информа-ционных телепрограмм. Используясь в учебном процессе и становясь средством обучения, такие видеокурсы должны быть подготовлены, т.е. обрести свой определенный статус, занять обоснованное методикой ме-сто, выполнить отведенную им роль.
В процессе внедрения видеокурсов в учебный процесс необходимо решить следующие вопросы: 1) как часто и с какой целью их следует использовать; 2) каковы могут быть задания и упражнения; 3) должны ли эти задания отличаться от заданий, предлагаемых к печатному тексту.
Для видеокурсов характерны экспрессивность и быстрота передачи информации. Существенной чертой видеокурса является возможность создания ощущения, что ведущий обращается к каждому зрителю в от-дельности и благодаря этому устанавливается контакт, близкий к лично-му общению. С позиций методики просмотр видеокурсов имеет опреде-ленные цели – совершенствовать умения аудирования и говорения.
Наличие звукового и изобразительного ряда чрезвычайно важно для понимания и воспроизведения речи. Это положение основывается на данных психологии о том, что чем больше анализаторов участвуют в приеме информации, тем успешнее выполняется деятельность. Как от-мечается в ряде исследований, аудирование речи со зрительной опорой легче, чем без нее, не только потому, что зрительный канал обладает большей пропускной способностью, чем слуховой, но и потому, что на-глядный материал обеспечивает установление смысловых связей между звуковой и зрительной информацией, разгружает оперативную память слушающего (Банкевич, 1979). В результате взаимодействия видеоряда и звучащего текста, создается новое качество, своеобразное единство слова и изображения – новый текст. Смысловая нагрузка в нем распределяется между зримым и слышимым и эти два компонента неразделимы, поэто-му фонограмма не рассматривается изолировано от изображения. Виде-оинформацию одинаково важно видеть и слышать. Видеоряд служит не только опорой для понимания и запоминания звучащего сообщения. Он несет на себе информационную нагрузку, участвуя в передаче различных смыслов. Этот фактор играет существенную роль в процессе обучения языку видеокурсов, поскольку описание видеоряда, сопоставление его с аудиотекстом, ассоциации, возникающие на основе опыта работы, интен-сифицируют мыслительную активность студентов, являются основой для мотивированного высказывания.
При восприятии аудиовизуальной информации привычки и навыки студентов, выработанные на родном языке, действуют активно и целена-правленно. Знакомые образы предметного мира на телеэкране помогают раскрыть содержание передаваемой информации, догадаться о значении слова либо высказывания. Таким образом, речевые механизмы приспоса-
365
бливаются к получению и освоению информации на русском языке в оп-тимальных условиях при наличии опоры и подсказки в виде изображения.
Речь в новостных видеокурсах является одной из разновидностей об-щения, соединяющей язык газеты и радио. Характер речевого процесса в телеинформациях определен взаимодействием разных семиотических систем: речь – звук – изображение. Зрительный ряд исполняет роль па-раллельного синонимического повторения словесному ряду. Он создает определенную зрительную метафору, аудиовизуальное единство, функ-циональную параллельность слов и зрительного ряда.
Как показывает опыт работы, обучение студентов следует начинать с аудирования кратких информационных сообщений, которые переда-ются перед всеми «новостными» программами. Такие информации по своей стилистике повторяют краткие газетные информации и поэтому их предъявление не вызывает трудностей у студентов. Предъявление такого видеокурса помогает анализу аудиотекста, а вместе они помогают студен-там осуществить семантизирующую функцию, показать значение слова, высказывания либо внушить изучающим РКИ ассоциации между формой слова и общим контекстом его употребления.
В зависимости от этапа работы над видеокурсом преподаватель ис-пользует систему заданий и упражнений. Именно упражнения являются, по словам А.А. Леонтьева, способом формирования иноязычной речевой деятельности. В их основе лежит учет двойной формы передачи инфор-мации через слово и изображение, которые не дублируют друг друга, а, объединяясь, создают единый текст. Такая работа способствует быстрому запоминанию лексики, а развитие навыков аудирования в свою очередь помогает быстрому выходу в речь.
Преподаватель, работая с газетой и видеокурсами, демонстрирует сту-дентам системные связи и закономерности внутри газетно-публицисти-ческого стиля, обращает внимание на сферы его функционирования, рас-крывает основные закономерности его реализации на материале разных аспектов речевой деятельности. Аудирование теленовостей позволяет студентам развить не только слушание, но и активное говорение (вос-произведение речевого ряда, пересказ видеоинформации, озвучивание телеинформации), что очень важно в плане подготовки студентов – уметь организовать свою речь соответственно ситуации.
Итак, следуя этапам – подготовительному, автоматизации, – препо-даватель использует телеаудирование как средство, позволяющее нагляд-но раскрыть сплетение: «звучание речи – смысл речи – структура речи – стиль речи» в определенной ситуации. Система занятий, включающих видеоуроки, в комплексе дает возможность показать, как используются языковые элементы в однотипных по идейному заданию и композицион-ной структуре текстах, подготовить студентов к более полному понима-нию звучащей речи.
366
ЛИТЕРАТУРА:1. Ершова-Бабенко И.В. Основы методической системы работы с
материалами телевизионных информационных программ на подготови-тельном факультете (в комплексе с газетными материалами): Автореф. дисс. канд. педагог. наук. – М., 1985., – 22 с.
2. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методика преподавания рус-ского языка как иностранного. – М., 1990.
3. Леонтьев А.А. Психология киновосприятия. Аудиовизуальные и технические средства в обучении. М., 1975.
4. Страмнова Т.В. Использование материалов информационных теле- и радиопрограмм для развития устной речи студентов-филологов: (В ус-ловиях рус. речевой среды): Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. педагогич. наук., 1986. 25 с.
Fazilyanova Khanifya Mikhailovna
MEDIA IN TEACHING LANGUAGE
Media (media), authentic materials, formed linguistic, sociocultural and communicative competence, television materials.
This article focuses on uses of radio and television in language learning.
Файбушевский Максим Владимировичстарший преподаватель
Санкт-Петербургского Государственного экономического университетаСанкт Петербург, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯПЕРЕВОДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАММетодика преподавания перевода; иностранные студенты; русский язык как иностранный; программы межуниверситетского обмена.
Статья посвящена специфике преподавания переводческих дисциплин (француз-ско-русский и русско-французский экономический и общественно-политический перевод и др.) студентам французских университетов, обучающихся в СПБГЭУ по обменным программам.
Интеграция российских высших учебных заведений в международное образовательное пространство существенно расширила межуниверситет-
367
ские обменные программы в различных аспектах. Вместе с тем обучение иностранных студентов в российских вузах – сложный, многоаспектный процесс, развитие и совершенствование которого – принципиально важ-ная задача как для кафедр как институциональных образований, так и, непосредственно, для научно-педагогического состава.
Данная статья посвящена обучению французских студентов дисци-плинам, связанным с двуязычным французско-русским и русско-фран-цузских экономическим и общественно-политическим переводом. В основу настоящего исследования положен многолетний опыт кафедры романских языков и перевода отделения лингвистики гуманитарного фа-культета Санкт-Петербургского Государственного экономического Уни-верситета и автора статьи в работе со студентами, обучающимися в рам-ках образовательных обменных программ с французскими университета-ми (Университет Франш-Конте, Университет Гренобль III им. Стендаля, Университет г. Пуатье, Университет Ренн II Верхней Бретани)
Рассмотрим основные особенности, а также трудности, возникающие в процессе обучения, специфику работы с иностранными студентами в современных условиях, их интеграцию в пространство российского выс-шего учебного заведения, учитывая, вместе с тем разницу определенных элементов отечественных и зарубежных образовательных систем.
Во-первых, отметим, что французские студенты выбирают определен-ные дисциплины из списка, предложенного университетом. В реалиях отечественного вуза данная ситуация, как правило, приводит к форми-рованию группы по принципу, подразумевающему установленную само-стоятельность обучающегося. Выбор дисциплины подчас может быть связан не только с узкопрофессиональным развитием, но и вполне резон-ным желанием расширения общего уровня студента, что часто приводит к тому, что обучающийся прослушивает курсы, читаемые различными кафедрами на различных факультетах. Речь не идет о том, что выбранные предметы нельзя заключить в строгие рамки образовательного стандарта, однако, студенты фактически «добирают» знания, необходимые им для дальнейшей работы. Ярким примером являются дисциплины, связанные с языком – на котором ведется преподавание (преподавание в отечествен-ных вузах для иностранных студентов ведется не только на родном об-учающемуся или английском, но и на русском языке). И именно в этом аспекте двуязычный экономический и общественно-политический пере-вод, в частности как дисциплина сугубо лингвистическая, служит своео-бразным подспорьем студентам, обучающимся в России в экономическом университете.
Кроме того, специфика группы, состоящей из студентов различных специальностей (лингвистических и нелингвистических) всегда состо-ит в том, что обучающиеся имеют различный уровень владения русским языком. Не останавливаясь подробно на бесспорной необходимости ис-
368
ключительного владения двумя языками (родным и иностранным) сту-дентами, изучающими дисциплины, связанными с переводом, и прини-мая за аксиому отличный уровень владения родным языком, подчеркнем, что, как правило, русский язык может являться для обучающихся как пер-вым, так и вторым и даже третим иностранным. Выбирая дисциплины, связанные с переводом, студенты справедливо желают поднять уровень владения языком до приемлемого, подразумевая под таковым возмож-ность не просто работать с иностранным текстом, но и интегрироваться в русскоязычное пространство.
Для студентов выбор такой переводческой дисциплины, в дополне-ние к работе с курсом русского языка как иностранного, читаемого в рос-сийских университетах иностранным студентам как часть обязательной программы обменных стажировок, дает уникальный эффект не простой «сопричастности», но и редкий опыт профессионального, многоаспект-ного изучения языка, безусловно, не представляющегося возможным вне подобного образовательного комплекса.
Еще одним, бесспорно, важным аспектом данный работы является во-прос включения иностранных студентов в группы российских студентов – лингвистов, получающих специальность, связанную с экономическим переводом. В первую очередь обозначим, что данная процедура не пред-усмотрена никакими образовательными актами – ни на уровне универси-тета, ни на более высоком законодательном уровне. В этом смысле, такая работа может представляться лишь факультативной для отечественных студентов. Вместе с тем для студентов первого и, особенно, второго се-местра второго курса лингвистического бакалавриата (именно тогда по-являются переводческие дисциплины, пример – практика языка в сфере экономики и финансов) такая работа может быть первой ступенью инте-грации в франкоязчную образовательную среду (на 3 или 4 курсе студен-ты кафедры романских языков и перевода проходят семестровые стажи-ровки в одном из четырех европейских университетов, подразумевающих включение во французские, а не отдельные русскоязычные группы). Для иностранных студентов же, такая практика может быть незаменимым опытом образовательной работы с сокурсниками, имеющими достаточно высокий уровень владения языком. Такое равенство в неравенстве (пере-вод с родного на неродной для каждого студента – свой) создает уни-кальную образовательную систему, в которой студент учится не только у опытных преподавателей по заранее прописанной рабочей программе, но и у своих сверстников, в свою очередь, реализуется действенная схема – «объясняя, обучаюсь». Обучающиеся в таких комбинированных группах имеют возможность слушать живую иностранную речь, видеть ошибки, совершаемые сокурсниками, анализировать их, тем самым не только по-вышая личный уровень владения иностранным, но и что очень важно, задумываться над типичными трудностями родного языка.
369
Вне всякого сомнения, в начале курса для студентов, не имеющих опыт специального перевода, следует первые несколько занятий посвя-тить отработке простейших предпереводческих упражнений – комплекса предпереводческой подготовки. Такими упражнениями могут быть, на-пример, устный перевод чисел – начиная с простых и заканчивая много-значными, переводимых имен собственных, простых предложений, и, безусловно, небольшие рассказы на неродном языке по названной неэко-номической тематике. Полезно добавить такую работу переводом этих кратких сообщений на родной язык (или — наоборот) одногруппниками.
Затем, проработав лингвистический базис более глубокой переводческой работы, следует перейти к переводу с/на родной язык небольших термино-логических определений, раскрывающих сущность ведущих понятий со-временной экономики, взятых из толковых лексикографических ресурсов, направленных на повышение общеэкономической культуры населения или учебных пособий по экономике для средней школы, постепенно переходя к профессиональным толковым специальным словарям [7], [8], [9]. Такие определения не только дадут возможность тренировки переводческих навы-ков, но и дадут определенное представление о важных экономических яв-лениях тем студентом, которые не имею базового экономического профиля.
В заключительной части курса следует использовать упражнения, взятые из учебных пособий для лингвистов-переводчиков, посвященные экономической и общественно-политической тематике [1], [2], [3], [5], [6]. Незаменимым источником для такого рода работы является также «Учебник по устному последовательному переводу», автором которого является известный переводчик-синхронист и преподаватель перевода к.ф.н., доцент Г.П. Скворцов [4].
В завершение работы следует отметить, что специальные обменные программы, осуществляющие деятельность в рамках межуниверситет-ских международных договоров, подписанных при участии ведущих ка-федр современных инновационных университетов – ключевой элемент интеграции нашей страны в международное образовательное простран-ство. Именно потому, следует на всех уровнях высшего учебного заведе-ния контролировать и развивать эту важную работу, составлять, редакти-ровать, развивать учебно-методические комплексы – рабочие программы и календарно-тематические планы, учебные пособия дисциплин для ино-странных студентов.
Более того, необходимо расширять список дисциплин, которые могут предложить, в частности, и языковые кафедры университета таким сту-дентам, учитывая специализацию и квалификацию профессорско-препо-давательского состава.
Данная работа, бесспорно, поднимающая современное отечественное образование на принципиально новый уровень, также будет способство-вать его популяризации и продвижению в мире.
370
ЛИТЕРАТУРА:1. Колотилкин Е.В. Французский экономический дискурс: Пособие по
языку и переводу для студентов IV–V курсов. I часть. – Нижний Новго-род: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2008. – 74 с.
2. Кручинина А.А. и др. Пособие по французскому языку для магистра-туры. – С-Пб.: СПБГУЭФ, 2010. – 164 с.
3. Матвиишин В.Г., Ховхун В.П. Бизнес-курс французского языка: учебное пособие. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2010. – 384 с.
4. Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному переводу. Французский язык. – С-Пб.: Издательство Союз, 2000. – 160 с.
5. Тихонов С.П. Приобщение к экономике: Учебник французского языка для студентов экономических факультетов университетов. – С-Пб.: АРС Лонга, 2001. – 148 с.
6. Фокин С.Л. Введение в профессию: учебное пособие по француз-скому языку для студентов экономических вузов. – С-Пб.: Издательство СПБГУЭФ, 2002. – 47 с.
7. Brennemann R., Vinard P. Le dico de lʼéconomie. Paris: Librio, 2009. – 96 p.8. Lexique dʼéconomie / sous la direction de Ahmed Silem (Professeur à lʼ
Université Jean-Moulin -Lyon III). – Paris: Dallos, 2010. – 858 p.9. Peyrard J., Peyrard M. Dictionnaire de finance. 2e édition. – Paris:
Librairie Vaubert, 2011. – 306 p.
Faibushevski Maxim Vladimirovich
PECULARITIES OF TEACHING TRANSLATION DISCIPLINES TO FOREIGN STUDENTS
Methods of teaching translation; foreign students; Russian as a foreign language; in-ter-university exchange programs.
The article is devoted to the peculiarities of teaching translation disciplines (French-Russian and Russian-French translation in economics, socio-political translation, etc.) to students from French universities, who are enrolled in UNECON exchange programs.
371
Цао Ноаспирант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия[email protected]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИТест, банк тестовых заданий, структура, регулярная диагностика.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью использования банка тестовых заданий при диагностике, обучении и контроле китайских студен-тов-русистов. В статье даётся определение банка тестовых заданий, описывается его структура, приводится минимальная лингводидактическая единица банка.
При обучении китайских филологов-русистов большую роль играет регулярная диагностика, контроль и оценивание полученных знаний, на-выков, и умений. Существенную помощь в этом может оказать банк те-стовых заданий.
Социально-экономические изменения в Китае привели к необходимо-сти модернизации системы образования. Перед преподавателем русского языка в современном вузе стоит главная задача – не только преподнести учащимся знания по предмету, но и научить их применять знания на практике. Важно сформировать у учащегося уверенность в возможности выполнения им тестовых заданий на высокую отметку. Это возможно лишь в случае упорной работы над тестами. Существенную помощь в организации обучения, проведения диагностики, контроля и оценивания может оказать банк тестовых заданий.
В 2000-е годы в методике РКИ появились работы, связанные с изуче-нием и разработкой банка тестовых заданий [1,3,4]. Исследования таких учёных, как Т.М. Балыхина, В.Ф. Караушев, Л.В. Терентьева, Т.Н. Тягу-нова, Р.М, Чудинский внесли существенной вклад в разработку теории банка тестовых заданий.
Так, Балыхина Т.М. в своей монографии «Основы теории тестов и практика тестирования» описала содержание банка тестовых зада-ний по русскому языку как иностранному и показала разновидности тестовых заданий, которые могут быть использованы для банка тесто-вых заданий. Это четыре основные формы тестовых заданий: задания закрытой формы (ЗЗФ), задания открытой формы (ЗОФ), задания на установление соответствия(ЗУС), задания на установление правильной последовательности(ЗУПП).
372
Большую важность в учебном процессе имеют обучающие, контроли-рующие и диагностические тестовые задания, которые могут быть также использованы для банка тестовых заданий.
Кроме функции проверки и контроля знаний, тесты можно исполь-зовать для обучения. Обучающий тест – определённая группа заданий в тестовой форме, объединенных принципом соответствия последова-тельности изложения материала в учебнике. Как правило, обучающий тест охватывает материал отдельного параграфа учебника. Обучающий тест может быть создан и по тематическому принципу. Такой тест мо-жет иметь разное назначение: ориентирование в изучаемом материале и формирование знаний (тест-репетитор); многократное повторение язы-кового и речевого материала и формирование на основе этого навыков и умений (тест-тренажер); контроль материалов пройденного цикла (тест-экзаменатор) [2, с.55].
Контролирующий тест – тест, выступающий в качестве метода или способа измерения уровня и структуры знаний обучающихся. Диагно-стический тест – тест, измеряющий достижения и пробелы в знаниях по конкретной дисциплине [2, с.17]. Если контролирующие тесты целесо-образно разрабатывать на основе принципа расширяющихся областей, то диагностические тесты – на основе сужающихся областей. Если кон-тролирующий тест позволяет установить факт незнания, то диагностиче-ский тест локализует место неисправности [4, с.20].
Т.М. Балыхина в «Словаре терминов и понятий тестологии» даёт опре-деление банку тестовых материалов: «Совокупность централизованно накопленных данных для дальнейшего их использования, в том числе с помощью электронных и других средств связи» [2, с.8]. В данном опреде-лении акцентируется внимание на том, что банк тестовых заданий – это, в первую очередь, совокупность тестовых заданий как таковых, но они могут существовать и в электронном виде. Об этом говорится в работе В.Ф. Караушева, Л.В.Терентьева, Т.Н. Тягунова «Проектирование банка программно-дидактических тестовых заданий» : банк тестовых заданий (БТЗ) – упорядоченное множество сертифицированных программно-ди-дактических тестовых заданий, позволяющее осуществить адекватную целям изучения учебной дисциплины проверку степени усвоения ее со-держания и обеспечивающее возможность формирования программно-дидактических тестов различного объема и назначения [3, с.6].
Очень важно учитывать процесс создания банка, он может быть пред-ставлен как единство двух взаимосвязанных этапов: 1) разработка содер-жательной структуры банка, 2) проектирование программно-дидактиче-ских тестовых заданий [3]. При конструировании банка тестовых заданий необходимо выделять минимальную единицу банка тестовых заданий – лингводидактическую единицу (ЛДЗ) системы знаний, навыков, умений, образующую коммуникативную компетенцию и составляющую языко-
373
вую компетенцию учащегося на том или ином этапе (уровне) обучения. К лингводидактическим единицам относятся, например, раздел, подраздел, тема и другие части содержания дисциплины [3].
Р.М. Чудинский в своей работе «Проектирование и разработка банка тестовых и практических заданий» дает теоретические и практические рекомендации, приводит значительное количество конкретных примеров тестовых заданий, образцы инструкций, рекомендации по организации работы по составлению банков тестовых заданий.
Создание банка тестовых заданий невозможно представить без его структуры. Структура БТЗ – это строение банка тестовых заданий, опре-деляющее принадлежность каждого из тестовых заданий соответству-ющей дидактической единице и уровню трудности. Одной из первых и важнейших стадий в процессе разработки БТЗ является разработка со-держательной структуры банка. Содержательная структура должна на-глядно отображать содержания дисциплины с составом разрабатываемых тестовых заданий и их основными показателями – назначением, кон-структивными формами, уровнем трудности и др.
Каждый БТЗ должен сопровождаться спецификацией со следующей информацией: содержательная часть, качественные показатели и харак-теристики ТЗ. К содержательной части БТЗ относятся: цели применения теста, предметная область, авторский коллектив, структура и специфика-ции теста; дата сертификации и утверждения БТЗ. К качественным пока-зателям относятся: валидность, количество заданий в различной форме. Если мы говорим о компьютерном тестировании, то добавляются еще и физические характеристики теста: физическое расположение теста, объ-ём памяти носителя теста, наименование и размер файла (файлов), необ-ходимых для проведения тестирования.
Тестовые задания в БТЗ должны быть представлены в различных фор-мах и ранжированы по трём категориям трудности (легкие, средней труд-ности, сложные). БТЗ должен пройти экспериментальную проверку, на основании которой будут определены показатели валидности и верности оценки, зафиксированные в сопроводительной к тесту документации.
В настоящее время в Китае огромное значение придается регулярному проведению контроля при определении результатов обучения. Поэтому од-ной из задач современной методики преподавания РКИ является разработка системы объективного контроля. Создание и применение банка тестовых за-даний может сыграть в этом большую роль как средство диагностики труд-ностей языкового материала для учащихся, мерой определения уровня об-ученности и способом прогнозирования успешности или неудач обучения.
ЛИТЕРАТУРА:1. Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в
аспекте русского языка как иностранного). – М.: МГУП, 2004.
374
2. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. – М.:МГУП.2000.
3. Караушев В.Ф, Терентьева Л.В, Тягунова Т.Н. Проектирование бан-ка программно-дидактических тестовых заданий. – М.:2005.
4. Чудинский Р.М. Проектирование и разработка банка тестовых и практических заданий. – М.:2010.
Cao Nuo
USE THE DATABASE OF TEST TASKS ON THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN CHINESE TO THE AUDIENCE
Test, database of tests, structure regular diagnosis.
The article discusses issues related to the possibility of using the database of test tasks in the diagnosis, training and control of the Chinese students-specialists in Russian Philology. The article gives the definition of database of test tasks, describes its structure, provides minimal linguodidactic unit of the database.
Шутова Марина Николаевнад. пед. наук, профессор
Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаМосква, Россия
ИНТОНАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТАВ ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Интонационный анализ текста, синтагматическое членение, обучение коррект-ной речи студентов-иностранцев.
В статье рассматриваются вопросы обучения иностранных студентов инто-национному анализу текстов: синтагматическому членению и интонационному оформлению синтагм. Умение анализировать интонацию высказывания способ-ствует закреплению навыков корректной речи студентов-иностранцев.
Интонационное оформление, так же как акцентно-ритмический аспект, имеет решающее значение в интегративном формировании куль-туры русской звучащей речи иностранца.
Известно, что русская речь иностранных студентов даже при более или менее правильном произнесении звуков, звукосочетаний в слове,
375
все-таки оставляет впечатление какой-то неправильности, невыразитель-ности, что затрудняет общение. Это происходит оттого, что иностранные учащиеся не владеют интонационными нормами русского языка: неверно расставляют фразовые ударения и паузы, неправильно выбирают мелоди-ческие средства, перенося на русскую речь особенности родного языка.
Обучение интонации является наиболее сложным аспектом препода-вания русского языка нерусским. Интонация является эмоционально-ло-гической основой звучащей речи. Без интонации нет ни предложения, ни речи. Иностранный учащийся сталкивается с очень большими трудностя-ми при изучении русской интонации. И это, в первую очередь, обуслов-лено неразрывной связью интонации высказывания с мыслями, намере-ниями и чувствами человека. Кроме того, интонация является достаточно сложным объектом для изучения, потому что представляет совокупность таких элементов, как изменение высоты голоса(мелодика), ритмику, от-носительную длительность отдельных звуков, тембр голоса и звучание синтагм в зависимости от их лексического объема [6, с.158]. «Много-аспектность интонации определяет ее коммуникативную, смысловую, языковую, акустическую и артикуляционную функции, что и обусловли-вает определение интонемы «как связанный пучок значений отдельных просодических величин»[3, с.35].
Практический опыт убедительно показывает, что эффективность обу-чения иностранных учащихся русской интонации особенно высока, если обучение проводить на базе интонационной теории Е.А. Брызгуновой. По словам И.М. Логиновой, ее исследования воплотились «в стройную концепцию звучащей речи на основе единства функционирования всех языковых средств в рамках вариативных рядов высказываний и функци-ональной и эмоционально-экспрессивной стилистики русской речи» [4, с.25]. Поэтому учебный материал по интонации должен включать по-нятия интонационной конструкции (ИК), центра ИК, предцентровой и постцентровой частей ИК, средний тон, движение тона, а также понятие синтагмы, синтагматического членения предложения, т.е. уметь анализи-ровать текст с точки зрения интонации.
Уже на начальном этапе студенты должны научиться делить пред-ложения на синтагмы и уметь интонационно правильно оформлять эти синтагмы, т.е. овладеть умением синтагматического членения. Не владея основами синтаксического строя языка, студенты допускают искусствен-ное членение высказывания, объединяя в группы слова, синтаксически не связанные. Поэтому после усвоения всех семи типов ИК студентов необходимо познакомить с наиболее устойчивыми синтаксическими кон-струкциями, которые выделяются в самостоятельные синтагмы.
В простом предложении это:- группа подлежащего при простом и составном сказуемом (Белое зда-
ние /– это поликлиника. Девушка с косой/ стояла у открытого окна.);
376
- обстоятельственные группы (В середине июня/ детей отправили на дачу. Недалеко от озера/ проходила главная дорога на Москву. Из-за бо-лезни артиста/ спектакль пришлось отменить.);
- распространенное дополнение, стоящее в начале предложения (Та-кое отношение к коллегам/ я не приветствую.);
- группы дополняемых членов предложения перед дополнениями со словами: кроме, за исключением, вместо, помимо и др. (За исключением отца/ все поехали на море. Кроме трех журналов /пришлось взять еще две книги.);
- причастный оборот в препозиции перед личным местоимением (Убежавшие от грозы,/ они весело занимали места в автобусе);
- деепричастный оборот в препозиции (Сверкая на солнце,/ река стре-мительно сбегала с гор);
- распространенное дополнение в начале предложения (Цветок, вы-росший без солнца,/ был мелкий и слабый.);
В сложном предложении:- в сложносочиненном предложении: с союзом «и» в значении последовательности и результативности
действия (Подул ветер,/ и листок оторвался от ветки); при сопоставлении и противопоставлении (Мы едем в Москву,/ а он в
Петербург. Слон большой,/ но не злой);- в сложноподчиненном предложении: с препозицией придаточного с союзами и союзными словами (Когда
мы сели в поезд,/ было почти восемь часов. Чтобы быть здоровым,/ надо заниматься спортом);
с соотносительными членами в главной и придаточной частях (Сде-лай это так, /чтобы все были довольны. Я сделаю все так,/ как вы хоти-те.);
в бессоюзных сложноподчиненных предложениях со значением усло-вия и времени (Жизнь прожить –/ не поле перейти. Сделал дело –/ гуляй смело).
Основной метод работы над интонацией на продвинутом этапе обуче-ния (уровень В1–В2) – метод коммуникативного анализа звучащего пред-ложения, текста, так как «значение звучащего предложения (высказыва-ния) является результатом взаимодействия значений, выражаемых син-таксической конструкцией, лексическим составом, интонацией, а также смысловым взаимодействием предложения с одним из последующих или предшествующих» [1, с.58]. Коммуникативный анализ текста основыва-ется на следующих принципах: 1) основная единица обучения – предло-жение (высказывание); 2) анализируемое высказывание комментируется со стороны всех его составляющих: синтаксической конструкции, инто-нации, смысловых связей с контекстом; 3) высказывание рассматривается в динамическом аспекте с учетом возможных ситуативно обусловленных
377
трансформаций как лексико-грамматических, так и интонационных, при этом учитываются смысловые и эмоционально-стилистические оттенки; 4) конечной целью работы над высказыванием является активное его ус-воение в единстве лексико-грамматического и интонационного оформле-ния. Такой анализ высказывания превращает работу над интонацией по сути дела в работу по развитию речи, что является конечной целью обуче-ния иностранных учащихся русскому языку [5]. Учитывая, что студенты уже владеют на этом этапе обучения определенным речевым уровнем, материал по интонации следует давать при соответствующем обобще-нии. Так, интонационное оформление синтагм повествовательного пред-ложения можно представить в таблице и затем разобрать на примере, как работает эта таблица.
Интонация повествовательного предложенияКонечная синтагма Завершенная синтагма ИК-1
Неконечная синтагмаЗавершенная синтагма ИК-1,2,3,4,6Незавершенная синтагма ИК-3,4,6
У русского деревянного зодчества / есть свои традиции, / своя история.Синтагма «у русского деревянного зодчества» – неконечная незавер-
шенная, оформляется ИК-3,4,6.Синтагма «есть свои традиции» – неконечная завершенная, оформля-
ется ИК-1,2,3,4,6. Синтагма «своя история» – конечная завершенная, оформляется ИК-1.Данная схема интонационного оформления синтагм и предложений
может быть применена и в стихотворных текстах. Следует только отме-тить, что ИК-4 не используется в стихах, т.к. характерна для официально-го делового общения. Например:
Отговорила роща золотая/Березовым весёлым языком,/И журавли, печально пролетая,/Уж не жалеют больше ни о ком.// (С. Есенин)Первая строчка «Отговорила роща золотая» – неконечная, завершен-
ная синтагма, оформляется ИК-1,2,3,6. Далее синтагма «Березовым ве-селым языком» произносится с ИК-1. Синтагма «И журавли печально пролетая» является неконечной, незавершенной, поэтому может оформ-ляться ИК-3,6. И наконец, последняя синтагма произносится с ИК-1, так как это конечная, завершенная синтагма.
Ритмика и интонация звучащего текста не является чем-то случай-ным, произвольным, а определяются рядом лингвистических факторов: лексикой текста, его грамматикой, особенно синтаксисом, порядком слов и актуальным членением, стилистикой, а также экспрессивной окрашен-ностью, модальностью и другими семантическими категориями, привне-сенными в звучащий текст говорящим [2]. Всему этому необходимо об-
378
учать иностранных студентов, способствуя совершенствованию речевых умений, приближению их к умениям носителей языка.
ЛИТЕРАТУРА:1. Брызгунова Е.А. Смысловое взаимодействие предложений. – В сб.
Синтаксис текста/ Под ред. Г.А. Золотовой. – М.: 1979. – С.58–64.2. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи: интонация, паузиро-
вание, логическое ударение, темп, ритм: Учебное пособие. – 5-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 200 с.
3. Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация (учебное пособие по фо-нетике русского языка для иностранцев). – 2-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1986. – 270 с.
4. Логинова И.М. Концепция Е.А. Брызгуновой. Традиции и нова-торство./ Аспекты изучения звучащей речи. Сб. научных статей к юби-лею Е.А. Брызгуновой. – Вопросы русского языкознания. Вып.XI. – М.: 2004. – С.12–26.
5. Муханов И.Л. Пособие по интонации для иностранных студентов-филологов старших курсов. Учебное пособие. – М.: Рус. яз., 1989. – 400 с.
6. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: 1974. – 428 с.
Shutova Marina Nikolaevna
Intonational text analysis; syntagmatic division; learning the correct speech of foreign students.
The article deals with the education of foreign students intonation analysis of texts: syntagmatic articulation and intonation syntagmas registration. The ability to analyze the tone of statements perpetuates proper speech skills of foreign students.
379
СОДЕРЖАНИЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИАгафонова Ольга ВладимировнаСРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ РАЗГОВОРНОСТИВ МАТЕРИАЛАХ БЛОГОВ ....................................................................... 3Bocale PaolaTHE USE OF ТАМ IN CONTEMPORARY RUSSIAN: A CASE OF SEMANTIC BLEACHING? ......................................................................... 8Борзенко Екатерина ОлеговнаОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ КОМПАРАТИВА ОТ МЕСТОИМЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ ................................................. 16Васильева Анна АлександровнаРАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ ........................................................................................ 20Изместьева Ирина АлексеевнаСПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ИСТОРИИ ГЛАСНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА .. 24Каверина Валерия ВитальевнаСЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ОМОФОНОВ: ПРОБ-ЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ......................................................................... 29Мельничук Виктория АлександровнаАКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА КОМПОЗИТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ СЛОВА БЛАГОВЕРНЫЙ ................................ 34Ольховская Александра ИгоревнаКЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ «РУССКОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ» ................................................................................................. 37Редькин Сергей ВитальевичЕСТЬ ЛИ ПРИСТАВКА В ГЛАГОЛАХ ТИПА ИСКЛЮЧИТЬ, ИЗВЕРГНУТЬ? ........................................................................................... 43Роговнева Юлия ВасильевнаРЕГИСТРОВО-МАРКИРОВАННЫЕ СИНТАКСЕМЫ В СОСТАВЕ ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ ................................................... 47Таратина Елена Геннадьевна«УБЕГЛЫЙ» ГЛАСНЫЙ Е В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (об утрате глас-ного е в заимствованных словах с финалью -стер) .............................. 51Тимофеева Ольга НиколаевнаРАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРАНКАЦИИ ............................................................................................ 57
380
ЯЗЫК – КУЛЬТУРА – ОБЩЕСТВОКонстантинова Алла Юрьевна, Алексеева Ольга Вячеславовна,Инь Сяо, Назаров Орифжон Шавкатович, Чистова Елена Васильевна РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР: ПО СЛЕДАМ АНКЕ-ТИРОВАНИЯ ............................................................................................. 63Богатурова Лилия Анатольевна, Страмнова Татьяна ВладимировнаГОВОРИМ О ПОЛИТИКЕ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ИНФОРМА-ЦИОННЫМИ ТЕЛЕПРОГРАММАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИ-ЦИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ............................................................. 69Ван ШупинРЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ «УДИВЛЕНИЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ... 74Вахрушева Мария Александровна, Нестерова Татьяна ВячеславовнаНЕОЛОГИЗМЫ В ТЕКСТАХ СМИ ........................................................ 76Врыганова Ксения АлександровнаОСОБЕННОСТИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН РУССКОЙ ЛИНГВО-КУЛЬТУРЫ ................................................................................................ 82Герасименко Ирина ЕвгеньевнаГЕНДЕР В КОННОТАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ ................................................................................ 84Дермановски КириллНЕДОСТАТОК ИНФОРМАТИВНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТАХ .................................................................................... 86Жукова Арина ГеннадьевнаОБ ЭВФЕМИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЭРГОНИМОВ ....................... 91Жуковская Лариса Игоревна МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВА-НИЯ ЛЕКСЕМ МЕНТАЛИТЕТ И МЕНТАЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ ЯЗЫКОВОГО ОСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО КОНЦЕПТА ................ 96Картушина Елена Александровна ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК, НАРУШЕНИЕ ТАБУ И ЯЗЫ-КОВАЯ ЭКСПРЕССИЯ КАК ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВА-НИЯ ЯЗЫКОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ...................................... 101Константинова Алла Юрьевна, Купрещенко Ольга ФёдоровнаКОНЦЕПТЫ И МОДНЫЕ СЛОВА РУССКОГО ЛИБЕРАЛЬНОГО ДИСКУРСА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ .......... 106Котова Ирина Сергеевна, Нестерова Татьяна Вячеславовна«ЯЗЫКОВАЯ ИГРА» В КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИВЕТСТВИЯ И ЗНАКОМСТВА ...................................................... 112Кошкарова Наталья НиколаевнаМЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ: РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ КОНФЛИКТНОГО И КООПЕРАТИВ-НОГО ТИПОВ ДИСКУРСА ................................................................... 119
381
Куликова Элла ГермановнаИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И СУБСТАНДАРТ В СВЕТЕ ИДЕЙ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ ................................................................. 124Лиеу Тхи Хонг ФукОТ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ К ЛОГОЭПИСТЕМЕ ............................ 129Лужная Мария Михайловна, Нестерова Татьяна ВячеславовнаКОСВЕННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИИ УПРЕКА В ОБИХОД-НОМ ОБЩЕНИИ ..................................................................................... 134Мануйлова Инесса ВладимировнаПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА .. 140Матвеева Елена ОлеговнаСЕМИОТИКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛО-ГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ......................................................................... 143Пожидаева Елена ВалерьевнаГЛЮТТОНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ .. 148Радбиль Тимур БеньюминовичКОНЦЕПТУАЛЬНОЕ «ДВОЕМИРИЕ» КАК ОСНОВА РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО МЕНТАЛИТЕТА ............................................................ 153Сайгин Вадим ВикторовичГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЛИ-КАЦИИ КОНЦЕПТА «ГРЕХ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ......................... 158Скорикова Татьяна ПетровнаОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕН-НОСТЬЮ .................................................................................................. 163Смирнова Валентина ГригорьевнаСТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В СТИЛИС-ТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ .......................................................................... 167Шестёркина Наталья ВикторовнаМИФОЛОГЕМА «НЕБО»: ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙКОД КУЛЬТУРЫ ..................................................................................... 172
ЯЗЫК – МЫШЛЕНИЕ – ЛИЧНОСТЬБайрамукова Аджуа Измаиловна ..................................................................ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Д.И. ФОНВИЗИНА .......... 178Волкова Мария ИгоревнаЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ РЕЖИССЕРА М.А. ЗАХАРОВА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУССКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ЛИНГВО-КУЛЬТУРНОГО СООБЩЕСТВА .......................................................... 182Коноваленко Ирина Владимировна, Петренко Елена ЕвгениевнаКЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА, ВЕРБАЛИЗУЕМЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА ................................................................................ 187
382
Сунь ЧжэньцянДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КИТАЙСКИХ ГИДОВ В ПРО -ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРБИЗНЕСЕ ................. 192Цалко Татьяна ВасильевнаОБ ОСНОВНЫХ ЧЕРТАХ ИДИОСТИЛЯ ЖУРНАЛИСТА ИРИНЫ ПЕТРОВСКОЙ ......................................................................................... 197
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПУБЛИЦИСТИКИЗемляник Татьяна ВалерьевнаРЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ АВТОРА В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ Б. ПАСТЕРНАКА К М. ЦВЕТАЕВОЙ .................................................. 201Калугина Татьяна ВасильевнаВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ПОЭЗИИ Б.Л. ПАСТЕРНАКА ................................................................................ 206Мартынюк Ольга Александровна ..................................................................РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРЦА ЗОСИМЫ КАК «ВНЕ-КОНФЛИКТНОГО» ГЕРОЯ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» .................................................................... 211Шелкова Ирина АлександровнаЗООНИМЫ В ПРОЗЕ А.Г. АЛЕКСИНА .............................................. 215
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКАГорбич Ольга ИвановнаДИАЛОГ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-КОММУНИКА-ТИВНЫХ УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПО-ДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ ............................................ 221Далян Наира ЕрвандовнаФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕ-НИЯ ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ............................................. 226Ерошевич Анна ВикторовнаСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ .................................. 230Загрядская Вера ИвановнаКАК ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕНИЯ НА УРОКЕ ........ 235Кузьмина Ольга ВладимировнаФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ........... 240Лобова Ирина ВикторовнаПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКОВ В ИССЛЕ-ДОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ .................................................................. 245
383
Маркевич Елена ВладиславовнаВИДЫ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ И ИХ РОЛЬ В КУРСЕ ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ ..................................................................................... 249Попова Наталья ВитальевнаЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ НОВО ГО ПОКОЛЕНИЯ) ......................................................................................... 254Телкова Валентина АлексеевнаКАКИМ ВИДЕЛ А.Б. ШАПИРО КУРС СИНТАКСИСА РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ? (К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) ........... 258Чуносова Ирина СтаниславовнаКОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ .... 263Щукин Анатолий Николаевич, Вохмина Лилия ЛеонидовнаМЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГАК ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ .......................................... 268
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ И ВУЗЕБелкина Юлия АлексеевнаФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА ........ 274Гетманская Елена ВалентиновнаМУЛЬТИГРАМОТНОСТЬ И ЗАПАДНЫЕ ТЕКСТООРИЕНТИ-РОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................................................. 279Логвинова Ирина ВладимировнаИЗУЧЕНИЕ ПОЭЗИИ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА НА УРОКАХ ЛИТЕ-РАТУРЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ (АНАЛИЗ ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ) ............................................................................... 285Локтионова Наталья Петровна«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» ЖИЗНИ ПОДРОСТКА (ИЗ ОПЫТА ИЗУ-ЧЕНИЯ РОМАНА Д. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ») ................................................................................................. 289Цыганова Татьяна ФедоровнаИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 295Яковлева Ольга ВасильевнаО ТРАДИЦИЯХ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫХ ГОСТИНЫХВ ШКОЛЕ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА ................................................... 298
384
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИАль Анбаги Шайма Тамер ХасанФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В АРАБС-КОЙ АУДИТОРИИ .................................................................................. 304Антонникова Ирина Ивановна, Сипунова Ирина Владимировна,Гаврилова Елена ПетровнаРОЛЬ И МЕСТО ГРАММАТИКИ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА .................................................................... 306Азимов Эльхан Гейдарович, Ярославская Ирина ИгоревнаЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА ....................... 310Асонова Галина АнатольевнаФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИ-КЕ РКИ ..................................................................................................... 314Баятян Эвелина АматуновнаКОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И СИНЕРГЕТИ-ЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕС-КИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ-БИЛИНГВАМ ............................ 317Ермакова Наталья АндреевнаОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НЕМЕЦ-КИМ СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ С РУССКОЯЗЫЧНЫМ ФОНОМ: ЭТАП ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ................................................................................................... 321Жильцов Владимир АлександровичВИРТУАЛЬНЫЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МИРЫ И ИГРО-ВЫЕ МЕХАНИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ ............... 326Кулибина Наталья ВладимировнаИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО .......................................................... 333Недбайлик Сабина Рудольфовна, Гридин Илья Андреевич, Спирин Вадим Анатольевич, Исаева Вера АнатольевнаК ВОПРОСУ О ВЕБ-КВЕСТАХ КАК ОДНОМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................... 338Орлов Алистер АлександровичОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ . ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ............... 343
385
Синяев Анатолий Романович«ТРЕНИРОВКА В КОММУНИКАЦИИ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВТОР-СКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ». «РУССКИЙ ДЛЯ ВСЕХ». КНИ -ГА 1 «РУССКИЙ МИР. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ». УРОВЕНЬ С1/С2 ... 349Трихина Яна ВалерьевнаО ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ПОЛИ-КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА КАЗАХСТАНА ................................... 353Фазылянова Ханифя МихайловнаСОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ФОНЕТИКИ И ИН-ТОНАЦИИ ДЛЯ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ УРОВНЯ А-2 ............................................................................................ 357Фазылянова Ханифя МихайловнаСРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ ... 361Максим Владимирович ФайбушевскийОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ДИС-ЦИПЛИН ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ ....................................... 366Цао НоИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ ........................ 371Шутова Марина НиколаевнаИНТОНАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ................................................ 374
Компьютерная верстка – О.А. Лужков
Издательство «Ремдер» ЛР ИД № 06151 от 26.10.2001.г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 1Тел.: (4852) 58-80-28, факс 58-80-29.
E-mail: [email protected]
Сдано в набор 0.00.2016. Подписано в печать 00.00.2016.Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 24,125. Усл. изд. л. 22,25. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс Нью Роман»Тираж 100. Заказ.
Научное издание
Филологическое образование в современных исследованиях:
лингвистический и методический аспекты
Материалы Международной научно-практической конференции
«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XVII Кирилло-Мефодиевские чтения»,
24 мая 2016 года.
Печатается в авторской редакции участников сборника