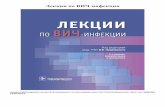Хрестоматия по ОНИ
Transcript of Хрестоматия по ОНИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие посвящено основамнаучных исследований.
Цель пособия – формирование и дальнейшеесовершенствование теоретических и практическихнавыков при работе с научными методами.
В данном пособии автор рассматривает базовыевопросы курса (метод, сравнительно-историческоеязыкознание, пражская школа, копенгагенскаяшкола, американская школа структурнойлингвистики, компонентный анализ,контекстуальный анализ).
Основными задачами пособия являютсяследующие:
– закрепление и расширение знаний студентов обазовых категориях и понятиях метода;
– ознакомление студентов с современнымиподходами к основам научных исследований, сметодикой, системой исследовательских приемов;
– обучение методике самостоятельногоиспользования методов при дальнейшем написаниикурсовых и дипломных работ.
Дополнительная задача – расширение кругозора,повышение культурного уровня, обогащениедуховного мира студентов, развитиесамостоятельной критической мысли.
Пособие имеет следующую структуру:– теоретическое описание проблемы;– вопросы для самопроверки;– практикум (примерные темы рефератов, эссе;
варианты контрольных работ; контрольные вопросы
3
по каждой теме учебной программы; контрольныевопросы по всему курсу; экзаменационные вопросы;
– глоссарий (словарь терминов и словарьперсоналий);
– хрестоматия.В учебном пособии размещен библиографический
список рекомендуемой литературы; указаннаялитература может помочь в написании рефератов икурсовых работ.
4
Лекция 1. Понятие метода. Краткий обзор развитияметода в языкознании.
Современное языкознание – сложная наука,располагающая большим арсеналомисследовательских приемов. Однако несмотря наразнообразие теоретических концепций и целыйкомплекс методов необходимо отдавать отчет втом, что современная лингвистика выросла напочве лингвистики прошлого.
Обычно становление науки о языке связывают споявлением в 19 веке сравнительно-историческогометода как осознанного инструмента в описаниифактов языка. Как известно, наука признаетсянаукой, если налицо имеется два фактора: предметнауки и система методов исследования предмета науки.
Метод – это способ познания природы, общества имышления (с гр. Methodos – путь исследования).
Метод как средство познания раскрываетсущностное содержание изучаемых объектов,помогает человеку овладеть многообразнымипроцессами природы.
Методы познания бывают общими и частными: Общие методы – обобщенные совокупности
теоретических установок, приемов, методик исследованияязыка, связанные с определенной лингвистической теориейи с общей методологией.
Частные методы – отдельные приемы, методики,операции, опирающиеся на определенные теоретическиеустановки, как техническое средство, инструмент дляисследования того или иного аспекта языка.
Каждый общий метод вычленяет именно тусторону (или те стороны) языка как объектаисследования, которые признаются важнейшими в
5
данной теории языка. В этом смысле методомсоздается предмет исследования.
Весь период до 19 века определяют какдонаучное языкознание. Данный термин можнопринять лишь с целым рядом оговорок, так какмногие современные проблемы науки о языке уходятсвоими корнями в глубокую древность.
Языкознание начало развиваться на ДревнемВостоке – в Месопотамии, где исследовалисьграмматические структуры шумерского языка, вСирии, Малой Азии (по мере распространенияклинописи в 3 – 2 тыс. до н. э.) и Египте, атакже в Индии и Китае. Сознательное изучениеязыка стало необходимым в связи с изобретениемписьменности и с появлением обусловленныхсоциальной структурой особых языков, отличных отразговорных (литературных и культовых письменныхязыков в Передней Азии и специальноразработанного литературного языка – санскрита –в Индии).
Необычайно высокого уровня описательное итеоретическое языкознание достигло в древнейИндии. Грамматика санскрита, составленная Панини(ок. 5 века до н.э.), является одновременнонаиболее полным и предельно сжатым описаниемязыковой системы (преим. на фонологическом играмматическом уровнях).
Анализ языка в древнеиндийской научнойтрадиции строился на методе обобщения иразложения, на выявлении сходств и различий вязыковых явлениях. С помощью этого методаустанавливались общие категории на основеанализа большого количества отдельных явлений.
6
Древнегреческие исследования языка, как идревнеиндийские, своими истоками уходят виндоевропейские мифологические представления оязыке. Античная языковая традиция возникла впроцессе рассмотрения одной из основныхфилософских проблем др.-греч. мировоззрения. –проблемы соотношения между «вещью», «словом» и«мыслью». В этот период (7-6 вв. до н.э.) ещенет понятия о языке как о некой сущности,отдельной от мысли. Разум и речь понимаются вединстве как единый logos.
В системе наук, предложенной Аристотелем,язык стал предметов изучения логики(“диалектики”), грамматики и риторики.Аристотель выделил во всяком словесном изложенииследующие части: элемент, слог, союз, имя,глагол, падеж, предложение, сделав их основойграмматического изучения языка. Имена и глаголыон разграничивал прежде всего как субъект ипредикат суждения с присущими им категориальнымимодификациями.
Развитие грамматических учений греков ииндийских фонетических теорий было осуществленов средневековом арабском языкознании.
Арабская языковедческая традиция зарождаетсяна Ближнем Востоке (7 – 14вв.) в периодстановления науки об арабской словесности, онахарактеризуется практической направленностью.
При анализе и описании словообразовательныхпроцессов широко применяется методмоделирования. Словоизменительные явленияизучаются с точки зрения как формы, так изначения; установление нормативности словоформ
7
сопровождается выявлением их собственно языковой(функциональной) семантики.
Средние века в Европе характеризуютсятеоретическим застоем. Единственным языком,который являлся объектом пристального изучения,был латинский язык.
Потребовалось много веков, прежде чем ученыепреодолели схоластический подход к изучениюязыка, отказались от установленных догм и пришлик плодотворной идее сравнительно-историческогоязыкознания.
Контрольные вопросы и задания1. Дайте определение термина «метод».2. Что понимается под «общими и частными методами»?3. Как разграничивают предмет и объект науки?4. В чем заключаются особенности древнеиндийскойнаучной традиции?5. Назовите характерные черты метода обобщения иразложения.6. Раскройте понятие «логос».7. Проиллюстрируйте учение Аристотеля.8. Охарактеризуйте арабское языкознание.
Лекция 2. Сравнительно-исторический методСравнительно-историческое языкознание (С.И.Я) –
область языкознания, объектом которой являютсяродственные, то есть генетические связанные, языки.
С.И.Я пользуется как основным инструментомисследования сравнительно-историческим методом.
С помощью сравнительно-исторического методапрослеживается диахроническая эволюция
8
генетически близких языков на основедоказательства общности их происхождения.
Основной целью С.И.М. является воссозданиемодели праязыковых состояний отдельных семей игрупп родственных языков мира их последующегоразвития и членения на самостоятельные языки, атакже построение сравнительно-историческихописаний языков, входящих в ту или инуюгенетическую общность.
К числу главных приемов С.И.М. относятся: – определение генетической принадлежности
языковых данных,– установление системы соответствий и
аномалий на разных уровнях в сравниваемыхязыках,
– моделирование исходных праязыковых форм(архетипов),
– хронологическая и пространственнаялокализация языковых явлений и состояний
– предпринимаемая на этой основегенеалогическая классификация языков.
Конкретные приемы и процедуры базируются насистемном анализе. Наиболее существеннымявляется принцип ретрогностики, то есть накоплениезнаний о предшествующих этапах историческогоразвития языков. Важнейшей процедурой СИМ служитреконструкция первоначальных и промежуточныхязыковых состояний, осуществляемая посредствомустановления соответствий на всех уровняхязыка.) Русский болгарский польский Литовский НемецкийМать майка matka matina Mutter
9
Вода вода woda vanduo WasserОбычно возникновение СИЯ, прежде всего его
ядра – сравнительно-исторической грамматики,связывают со знакомством европейских лингвистовс санскритом в конце 18в., недооценивая рольтого общего идейно-интеллектуального контекста,который складывался в научно-философской,литературно-художественной и общественной жизниЕвропы во 2 половине 18в.
Важную роль в выработке общих идей сыграларабота И.Г. Гердера «Исследование опроисхождении языка» (1770), которая явиласьодним из самых серьезных подступов к будущемуисторическому языкознанию. Выступая противраспространенных тезисов об исконности языка,его божественном происхождении и неизменяемости,И.Г. Гердер был одним из первых провозвестниковисторизма в языкознании.
И.К.Аделунг в начале 19 века выдвигает своисоображения о причинах исторического развитияязыка и формулирует критерии различия в степеняхязыкового родства, предполагающие не простосравнение языков, считающихся родственными, но,по сути дела, сравнение их грамматическихструктур.
Характерно, что У.Джоунз, познакомившись ссанскритом и обнаружив его сходство в глагольныхкорнях и в грамматических формах с греческим,латински, готским и другими языками, в 1786году уже смог предложить совершенно новуюконцепцию лингвистического родства; наличиедостаточного количество подобных совпадений в
10
сравниваемых языках позволяет заключить об ихгенетическом родстве и, следовательно, об ихпроисхождении из общего праязыка.
С.И.Я много занималось реконструкциейпраформ, отработав до совершенство методикуисследования. Крупнейший ученый А.Шлейхерпытался восстановить всеобщие законы развитиязвукосочетаний индоевропейских языков. Обращаявнимание на звуковые соответствия разных языковиндоевропейской семьи. А.Шлейхер представилпроцесс формирования индоевропейских языков ввиде дерева (так называемое генеалогическоедерево Шлейхера). / Схема родословного дерева индоевропейских языков по А. Шлейхеру (1821-1868) .
__________________________________________________________________________
Наиболее успешно метод С.И.Я применяется приисследовании звукового строя и морфемногостроения слов, особенно системы словоизменения.
11
Не менее успешным является изучение корнейродственных языков, этимологии слов.
Strike – инд.-евр. корень - streig -
латынь двн. русский др-фризийский
stringere strihhan стригу strikaкасатьсялегко
гладить легкокасаться
гладить
Контрольные вопросы и задания1. Что такое СИЯ?2. Дайте определение сравнительно-историческому
методу.3. Назовите основные приемы сравнительно-
исторического метода.4. В чем заключается принцип ретрогностики?5. Охарактеризуйте основные взгляды следующих
ученых: И.Г.Гердер, И.Г.Аделунг, У.Джоунз.6. Выучите генеалогическое дерево А.Шлейхера.7. Назовите области применения сравнительно-
исторического метода
Лекция 3. Языкознание 20 столетия. ИдеиФердинанда де Соссюра. Пражская школафункциональной лингвистики. Метод оппозиции.
Основу теоретических воззрений современногоязыкознания заложили труды таких ученых, какФ.Ф.Фортунатов, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф.деСоссюр, Л.Блумфилд, Н.С.Трубецкой, Л.Ельмслев идр. Новые направления в языкознании 20 векаполучили общее наименование структурнойлингвистики. С понятием структурной лингвистики
12
в первую очередь связывают достижения пражской,американской и копенгагенской школ.
На развитие европейского языкознания 20 векаогромное влияние оказали идеи Ф.де Соссюра. Егоединственный труд «Курс лингвистики» былопубликован посмертно его учениками-аспирантамипо лекциям. Соссюр считал, что
1. Термины язык, речь, речевая деятельность,система языка имеют свое содержание. Речь и речеваядеятельность – это проявление творческоймыслительной активности говорящего коллектива,из речи извлекается система, система языка исистема проявления себя, манифестируемая в речи.
2. Ф. де Соссюр дал точное определениесинтагматики и парадигматики.
Парадигма – это совокупность форм(грамматических, смысловых) одной и той же единицы.
Синтагма – интонационно-смысловое единство,которое выражает в данном контексте и в даннойситуации одно понятие и может состоять из одногослова, группы слов и целого предложения.
Речь – это цепочка либо звуков, либо написанныхсимволов, в которой каждая единица употребляется водной форме, в одном слоге.
3. Ф. де Соссюр ввел понятия синхронии идиахронии.
Синхронический подход – это изучение фактов языкав одну эпоху.
Диахрония – это изучение фактов языка во времени,минимум в 2 эпохи, где должен обязательноприсутствовать элемент эволюции.
С точки зрения Ф.де Соссюра для лингвистапревалирующее значение имеет синхронный поход.
13
Такой взгляд Ф. де Соссюра на синхронию вомногом определил характер современных школ,которые отказались от диахронического подхода иизучали только то, что можно наблюдать в языке вданный момент времени.
Пражцы вводят принцип разграничения теории иконкретного анализа языкового материала.Пражская школа – это определенный этап вразвитии европейского структурализма с егостремлением выработать новую точку зрения наязык и новые методы анализа. Развивая идеюсистемной организации языка, Пражскаялингвистическая школа отвергла взгляд Ф. деСоссюра о непреодолимости преград междусинхронией и диахронией, настаивая на системномподходе к эволюции языка, с одной стороны, и надинамической концепции языка, рассматриваемого всинхронном аспекте, - с другой.
Центральное место в фонологической концепцииПражской лингвистической школы(систематизированной в труде Н.С. Трубецкого«Основы фонологии», 1939) занимает понятиеоппозиции, предполагающее противоположение,противопоставление, основанное не только на техпризнаках, которыми отличаются члены оппозиции, но ина признаках, являющихся общими для членов оппозиции исоставляющих основание для сравнения. Оппозицииподразделяются на 3 типа: привативные, градуальныеи эквиполентные:
а) привативными оппозициями Н.С.Трубецкойназывает такие, у которых один элементхарактеризуется наличием, а другой – отсутствиемпризнака. Элемент оппозиции, обладающий
14
признаком, называется маркированным, а элементоппозиции, у которого признак отсутствует, –немаркированным;
б) градуальными называются оппозиции, элементыкоторых характеризуются различной степенью одного итого же признака;
в) эквиполентными (или равнозначными)называются такие оппозиции, оба элемента которыхявляются равноправными. привативные градуальны
еэквиполентные
p – bмаркированность/немаркиро-ванность
a – o– u p – t
Объем различительной силы оппозиции, которойони обладают в разных положениях, различен влюбой языке. С этой точки зрения оппозицииделятся на постоянные и нейтрализуемые.Фонологическое учение Н.С.Трубецкого выдержалопроверку временем. Метод оппозиции широкоприменяется при исследовании явлений всехуровней языка: семантики, грамматики исинтаксиса.
В современной лингвистике оппозицииН.С.Трубецкого применяются при анализесемантических отношений, которые описываются втерминах дифференциальных семантическихпризнаков.
Bright – full of light, shiningGlittering – shining attractively, esp. under the light, with
very bright, small points of lightEX.: Jewels glittered in the dimness of the cave.
15
Glaring – (of light) hard and too brightEX.: This glaring light hurts my eyes.
Контрольные вопросы и задания1. В чем заключалась специфика развития языкознания
20 столетия?2. Дайте определения основным понятиям, введенным
Ф. де Соссюром.3. Каковы отличительные особенности пражской
школы функциональной лингвистики?4. Что такое «оппозиция»?5. Назовите три типы оппозиций. Приведите
примеры.6. В чем заключается позиция нейтрализации?7. Где может быть применен метод оппозиции.
Приведите примеры.
Лекция 4. Копенгагенская школа глоссематики(теория «знаков» и «фигур» как прообразкомпонентного анализа)
Теоретическим лидером копенгагенской школыназывают Л.Ельмслева, одного из крупнейшихлингвистов Европы 20 столетия. Одной из основныхзадач лингвистики Ельмслев считал созданиеуниверсальной теории языка.
В современной лингвистике широкопользуются терминами «план выражения» и «плансодержания», введенные Л. Ельмслевым. Этипонятия являются своеобразным преломлением идеиФ.де Соссюра о языке, системе языка и речи.
Знаки – это единицы плана выражения. Их числопрактически беспредельно в любом языке. Это –слова, морфемы, словосочетания, фразы и т.д.
16
Фигуры – это единицы плана содержания. Они являютсяминимальными частицами смысла, содержаниязнаков. Число фигур не столь беспредельно, какколичество знаков. Фигуры, по-разномукомбинируясь, могут составить содержание легионазнаков.
Учение Л. Ельмслева о знаках и фигурахоткрыло новых гибкий подход к рассмотрениюсемантических явлений и стало прообразомструктурного подхода в семантике. Дальнейшееразвитие и уточнение понятий знаков и фигурпривело к утверждению компонентного анализа,являющегося сегодня одним из наиболееэффективных способов исследования семантическойстороны языковых явлений.
Понимание языка как системно-структурногообразования привело семасиологов к мысли окомпонентной структуре лексического значенияслова. Достижением современной семасиологииявляется понимание значения как сложногообразования, состоящего из иерархическиорганизованных «атомов» смысла. «Атомы» смысланазывают по-разному: дифференциальнымисемантическими множителями, семантическимикомпонентами, семами и т. д.
Семантическими компонентами (семами и т. д.)называются элементарные единицы смысла, на которыеможет быть расчленено значение слова.
Сема является единицей содержания, и кактаковая она соотносится со значением.
Компоненты, на которые может быть разложенозначение слова, характеризуются прежде всего потому, какие аспекты значения они представляют:
17
предметно-логический (аспект отражениядействительности) или коннотативный (аспектотношения говорящего к предмету). Семыпредметно-логического плана иерархическиорганизованы, т. е. между ними наблюдаются родо-видовые отношения.
Так, во-первых, выделяются архисемы, т. е.семы, которые свойственны целым группам слов (цвет =синий, зеленый, красный…). Во-вторых, в значенияхслов обнаруживаются дифференцирующие семы, т. е.такие семы, которые отличают (дифференцируют)значение данного слова от семантически близкого к немуслова (шептать = говорить + очень тихо; кричать +говорить + очень громко).
Семы, несущие эмоционально-оценочнуюинформацию, коннотативные элементы значенияотражают особенности представления о называемомпредмете, различные ассоциации, культурныетрадиции носителей языка.
Компонентный анализ применяется дляисследования лексико-семантических групп,объединенных общим компонентом, и, такимобразом. Осознается, что метод являетсяплодотворным для изучения системных отношений влексике.
Методом компонентного анализа описываютсяотношения внутри синонимического ряда,взаимоотношения различных лексико-семантическихвариантов одного и того же слова и связиполисемантического слова с другими словами, таккак в каждом из своих значений слово может бытьчленом различных лексических парадигм.
To strike – to his s.o., esp. on a particularly part of their body18
To hit – to hit s.o. with your hand or with something thanyou are holding in your hand
To beat – to repeatedly hit s.o. with your hand, with a sticketc. As a punishment
To knock – to hit s.o. so hard that they fall downTo pound – to hit repeatedly, heavily and noisilyTo thrash – to hit hard with a whip or a stick as a
punishmentTo box – to hit s.o. on the ears with the hands, esp. as a
punishmentTo slap – to hit s.o. esp. on their face with the flat part of
your open hand Инструментальность
Ритмичность
Причин-ность
Интенсивность
Результат
Сопровождениезвуком
локативность
TostrikeTohitTobeatToknockTopoundTothrashTobox
19
Toslap
Контрольные вопросы и задания1. Дайте характеристику копенгагенской школы.2. Почему теория знаков и фигур рассматривается как
прообраз компонентного анализа?3. Что такое компонентный анализ значения?4. Какие аспекты значения можно выделить?5. Назовите и охарактеризуйте типы сем, выделяемых
в значении слова.6. Дайте определение национально-культурного
компонента значения?7. Каким образом можно применить компонентный
анализ для исследования лексико-семантической группы?
Лекция 5. Американская школа дескриптивнойлингвистики. Основные понятия трансформационногоанализа
Американская лингвистика 20 века представляетсобой комплекс различных течений и концепций.Основное место среди них занимает дескриптивнаялингвистика, описывающая явления всех уровнейязыка, исключая из описания смысловые критерии.
Разновидностью структурной лингвистикиявляется школа трансформационного анализа (ТА).Трансформационная методика входит основнойчастью в общую систему процедур описания языка,разработанную американской школой дескриптивнойлингвистики. Другими ее частями являются анализпо непосредственно составляющим (НС) идистрибутивный метод (ДА).
20
Трансформацией принято называть преобразованиепредложения, проводимое по определенным правилам, входе которого получается новое предложение (трансформпервого), не отличающееся от первого лексическимсоставом и семантическим статусом, но отличающеесяпо структуре.
Трансформационная грамматика, являясь частьюметодики дескриптивной лингвистики, состоит изнескольких частей, каждая из которых «порождает»грамматически отмеченные структуры современногоанглийского языка:
–трансформации в простых предложениях;– трансформации номинализации.Для того чтобы практически владеть методикой
ТФ, нужно знать, что такое ядерная структура иуметь разбираться в правилах преобразования.
Ядерные структуры – это такие предложения,структура которых объясняет структуру другихпредложений, но сами они не могут быть объясненыструктурой других предложений. В английскомязыке существует 7 ядерных предложений:
1. NV Ben ran2. NVN Ben sees Bob.3. NV prep N Ben looks at Bob.4. N be A Bob is handsome.5. N be N Ben is a teacher.6. N be D Ben is out.7. N be prep N Ben is in the garden.Основными процедурами трансформационного
метода являются следующие операции (правила):– опущение (deletion) – (the girl is pretty – the pretty girl)– замещение (replacement) – (the friend came – he came)
21
– введение (embedding) – (the pretty girl – the prettiness ofthe girl)
– перемещение (permutation) – (I do love summer – Do Ilove summer?)
Трансформации в простых предложенияхпредставляют собой преобразования, в результатекоторых получается новых коммуникативный видпредложения. Например: I do love summer – Do Ilove summer?
Трансформации номинализации (нома – имя)превращают фразу (предложение), содержащуюглагол, во фразу, способную замещать позициюимени существительного: the man is wise – the wisdom ofthe man.
Трансформационная методика применяется впереводе. В случае несовпадения объемов значенийслов, переводчики прибегают к лексическимтрансформациям.
Fix your eyes on something in the room. Stareat it then close your eyes – this calms themind.
Do something physical on the eve of the exam likeswimming or going for a run.
Переводчики прибегают к лексическимтрансформациям при переводе слов с определеннымисуффиксами: machinery, rocketry; an unswimmable river, aclimbable mountain, a quotable book.
Контрольные вопросы и задания1. Как можно охарактеризовать американскую школу
дескриптивной лингвистики?2. В чем заключается методика трансформационного
анализа?22
3. Что обозначает термин «трансформация»?4. Как можно объяснить понятие «ядерная
структура»?5. Какие основные процедуры трансформационного
анализа? Приведите примеры.6. Что понимается под трансформацией
номинализации?7. Каковы возможности применения приемов
трансформационного анализа при переводе?
Лекция 6. Контекстуальный анализСлова в потоке речи вступают в сложные
взаимодействия, динамично и гибко реагируя насвое окружение: эта способность словпредопределяет и жесткий выбор в плане сочетанияи возможность большого семантическоговарьирования.
Так, английское слово train в сочетании сглаголом miss – miss the train – означает «опоздать напоезд»; в конструкции the train of thoughts, в которомближайшим синтаксическим «соседом» trainвыступает thoughts, train имеет значение «поток»; ваналогичной структуре train переводится нарусский словом «шлейф», если синтаксическиблизким ему словом оказывается «dress»: the train of herdress.
Контекстуальный анализ оказывается важным,например, при разграничении значениймногозначного слова, когда определение егосмысловой структуры и четкий перечень значенийопирается не на интуицию, а на определенныеформальные показатели, содержащиеся в контексте.Формальный показатель – это совокупность типовых
23
контекстов, однотипная сочетаемость, синтаксическаяструктура.
«oстрый» – «умный» (слово, замечание ум, реплика)to want sth. vs to want to so sth.В работах В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого,
позднее в трудах Н.Н. Амосовой, Д.Н. Шмелева идругих содержатся основные положенияконтекстуального анализа, который сводится кнахождению языковых условий и средств,проводящих границы между отдельными лексико-семантическими вариантами. Тщательнуютеоретическую разработку контекстологическогометода находим в работах Н.Н. Амосовой и в ееосновополагающем труде «Основы английскойфразеологии».
Н.Н. Амосова дает следующее определениеконтекста: «Связное языковое целое, определяющеезначение (грамматическое, лексическое, фразеологическое)отдельно входящего в него слова или фразы, или отрезкатекста».
Наиболее широким является деление контекстовна лингвистические и экстралингвистические, которыеимеют еще и другие названия, соответственно:вербальный, словесный и бытовой, ситуативный.
«Какой ты путь выбрал?»«Этот путь в эксперименте кратчайший. Какой путь
ты себе выбрал?»Для того чтобы уметь проводить
контекстологический анализ, нужно внимательноизучать языковые условия, в которыхвоспроизводится значение единиц языка. Такимиязыковыми условиями являются определенные наборылексически сочетающихся с анализируемой
24
единицей слов, модели ее синтаксическойсочетаемости.
Таким образом, лингвистический илисемантический контекст, включает в себяследующие компоненты:
1) семантически реализуемое слово; 2) ключевое слово,или индикатор (как правило, оно лексически сочетается среализуемым словом); 3) модель лексической сочетаемости;4) модель синтаксической сочетаемости.
Контрольные вопросы и задания1. Что следует понимать под термином «контекст»?2. В чем заключается особенность контекстуального
анализа?3. Что такое «формальный показатель»?4. В чем отличие лингвистического и
экстралингвистического контекстов?5. Перечислите компоненты лингвистического
контекста.6. Что такое индикатор значения?7. Что подразумевается под лексической
сочетаемостью?
Лекция 7. Типы семантического контекстаОперируя понятием лингвистического контекста,
необходимо различать переменный и постоянныйконтекст. Эти типы контекста обусловленыграницей, существующей между свободными ифразеологически связанными сочетаниями.
Лингвистический (семантический) контекстможет быть нескольких типов: лексический,морфологический, синтаксический.
25
Лексическим, согласно определению Н.Н.Амосовой, называется контекст, указательнымминимумом которого является одно ключевое слово. Ономожет быть зависимым или ведущим членомсловосочетания, в которое входит данноереализуемое слова. Такой контекст Н.Н. Амосованазывает лексическим контекстом 1-й степени.
Для этого контекста характерным является то,что исследуемое и ключевое слова могутнаходиться в разнообразных связях: агент – егодействие, действие – его объект, предмет –признак предмета, признак – признак признака.Например:
а) «агент – его действие»: N+V: вода бежит,трамвай бежит, человек бежит
б) «действие – его объект»: V+N: видеть сон,видеть ошибку, видеть друга
в) «предмет – признак предмета»: Adj.+N:тонкая нить, тонкая стена, тонкое лицо, тонкоезамечание
г) «действие – признак действия»: V+Adj.:говорить смешно, говорить громко, говорить умно,говорить красиво.
KNIFE, FORK, TEETHSHARP SMELL, FLAVOUR
WIND, FROSTЛексический контекст может содержать
несколько слов-указателей. Такой контекстназывается контекстом второй степени.
A fair woman to look atA fair woman A fair woman to act
like that
26
A fair woman is nevergrey
Грамматическим контекстом называется такойконтекст, когда синтаксические функции слов,порядок их следования, форма слова являютсяуказательным минимумом значения.
Custom – customsColour – colours
To make sth.To make smb.To make smb. do sth.Правильный контекстологический анализ с его
четно выработанным аппаратом способенпредоставить исследователю необходимыеформальные показатели для реализации значенияслова или словоформы. Это анализ семантическихсвойств языка, поэтому области его применения –семантика и перевод, хотя с его помощьюанализируются и значения грамматических форм.
Контрольные вопросы и задания1. Назовите типы семантического контекста.2. Чем отличаются переменный и постоянный
контекст?3. В чем специфика лексического контекста 2-ой
степени?4. Что понимается под лексико-морфологическим
контекстом?5. Дайте характеристику лексико-синтаксическому
контексту.
27
Вопросы к зачету1. Понятие метода. Общие и частные
методы.2. Древнеиндийская научная традиция.3. Древнегреческие исследования языка.4. Арабское языкознание.5. Сравнительно-историческое
языкознание. Основные приемы сравнительно-исторического метода.
6. Причины возникновения сравнительно-исторического языкознания.
7. Идеи И.Г.Гердера.8. Идеи И.К.Аделунга.9. Идеи У.Джоунза.10. А.Шлейхер и его генеалогическое
дерево.11. Идеи Ф. де Соссюра.12. Пражская школа функциональной
лингвистики. Метод оппозиции.13. Теория «знаков» и «фигур» как
прообраз компонентного анализа.14. Значение слова. Семантические
компоненты (семы).15. Основные аспекты компонентного
анализа.16. Американская школа дескриптивной
лингвистики. Основные понятия трансформационногоанализа.
17. Контекстуальный анализ. 18. Типы семантического контекста.
28
Примерные темы рефератов
1. Наука как особый вид духовной деятельностичеловека.
2. Наука как специфическая форма познания иотражения действительности.
3. Древнеиндийская научная традиция.4. Древнегреческие исследования языка как
средство познания.5. Арабское языкознание.6. Понятие сравнительно-исторического метода
и его основные приемы.7. И.Г.Гердер. Связь языка с культурой и
обществом.8. И.Г.Аделунг. Причины исторического
развития языка.9. У.Джоунз. Происхождение языков из общего
праязыка.10. Генеалогическое дерево А.Шлейхера.11. Идеи Ф.де Соссюра.12. Пражская школа функциональной
лингвистики.13. Метод оппозиции. Н.С.Трубецкой.14. Теория «знаков» и «фигур» как прообраз
компонентного анализа.15. Исследование лексико-семантической группы
с помощью компонентного анализа.16. Американская школа дескриптивной
лингвистики.17. Трансформационные механизмы языка.18. Применение трансформационных методов в
синтаксических и семантических исследованиях.19. Контекстуальный анализ. С.Ульманн.
29
Варианты контрольных работРабота №1
1. Дайте определение следующих терминов:семантика; СИМ; общие методы; схоластика; синхрония;сема
2. Приведите примеры: парадигмы; знаков
3. В чем заключались заслуги следующих ученых вразвитии языкознания: Панини; И.Готфрида; У.Джоунза;Ф. де Соссюра?
4. Проведите компонентный анализ следующихглаголов, подробно опишите методикуисследования: to laugh – to produce sounds with the voice while smilingto guffaw – to laugh loudlyto chuckle – to laugh quietly, with pleasure or satisfactionto giggle – to laugh repeatedly in an uncontrolled wayto titter – to laugh quietly in a nervous or silly wayto snigger – to laugh quietly in an unpleasant or rude way
31
Работа №2
1. Дайте определение следующих терминов:семантика; СИМ; речь; оппозиция; частные методы;синтагма
2. Приведите примеры: трех видов оппозиции; фигур
3. В чем заключались заслуги следующих ученых вразвитии языкознания: Аристотеля; И.Аделунга;А.Шлейхера; Н.Трубецкого?
4. Проведите компонентный анализ следующихглаголов, подробно опишите методикуисследования: to scour – to search very carefully and thoroughly through anarea, a document etc looking for something that is veryimportant to you and that is difficult to find to comb – to thoroughly examine a large area in great detail,especially by moving across it, looking for something or someonethat is difficult to findto ransack – to search a room, house, cupboard etc verythoroughly and roughly, usually in order to steal things andusually causing a lot of untidiness or damageto raid – if the police raid a place, such as a house, a club theyvisit it suddenly in order to look for criminals or illegal goodsto go through – to examine a group of things, a piece of writingvery carefully in order to find something or to make sure thatthere are no mistakes
32
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Архисема – сема, свойственная целым группамслов.
Градуальные оппозиции – оппозиции, элементыкоторых характеризуются различной степеньюодного и того же признака.
Диахрония – изучение фактов языка во времени,минимум в две эпохи, где должен обязательноприсутствовать элемент эволюции.
Дифференцирующая сема – сема, котораяотличает значение данного слова от семантическиблизкого к нему слова.
Знак – единица плана выражения.Значение – сложное образование, состоящее
из иерархически организованных «атомов» смысла.Лексический контекст (1-й степени) –
контекст, указательным минимумом которогоявляется одно ключевое слово.
Лексический контекст (2-й степени) –контекст, содержащий несколько слов-указателей.
Лингвистический контекст – контекст,содержащий необходимые указания в семантикеслова или слов, находящихся в речевом отрезке, вструктуре предложения, в морфологической формеслова.
Метод – способ познания природы, общества имышления
Общие методы – обобщенные совокупноститеоретических установок, приемов, методик
33
исследования языка, связанные с определеннойлингвистической теорией и общей методологией.
Оппозиция – противопоставление,противоположение, основанное не только на техпризнаках, которыми отличаются члены оппозиции,но и на признаках, являющихся общими дляэлементов оппозиции и составляющих основание длясравнения.
Парадигма – совокупность грамматических формодной и той же единицы.
План выражения – способ манифестациичеловеческой мысли.
План содержания – мир мыслей.Позиция нейтрализации – положение, при
котором исчезает противопоставление.Привативные оппозиции – оппозиции, у которых
один элемент характеризуется наличием, а другой– отсутствием признака.
Принцип ретрогностики – накопление знаний опредшествующих этапах исторического развитияязыков.
Сема – элементарная единица смысла, накоторую может быть расчленено значение слова.
Семантика – раздел языкознания, изучающийзначения слов и выражений и изменения этихзначений.
Синхрония – изучение фактов языка в однуэпоху.
Синтагма – интонационно-смысловое единство,которое выражает в данном контексте и в даннойситуации одно понятие и может состоять из одногослова, группы слов и целого предложения.
34
Синтаксический контекст – контекст, в которомсинтаксические функции слов, порядок ихследования, морфологическая форма словаявляются указательным минимумом.
Сравнительно-исторический метод –совокупность приемов и процедур историко-генетического исследования языковых семей игрупп, а также отдельных языков для установленияисторических закономерностей развития языков.
Сравнительно-историческое языкознание –область языкознания, объектом которой являютсяродственные, то есть генетически связанные,языки.
Существенные признаки – признаки, необходимыеи достаточные для того, чтобы с их помощьюотличить данный предмет и данное понятие от всехостальных.
Схоластика – формальное знание, оторванное отжизни и практики.
Трансформация – преобразование предложения,проводимое по определенным правилам, в ходекоторого получается новое предложение (трансформпервого), не отличающееся от первого лексическимсоставом и семантическим статусом, ноотличающееся по структуре.
Фигура – единица плана содержания.Формальный показатель – совокупность типовых
контекстов, однотипная сочетаемость,синтаксическая структура.
Частные методы – отдельные приемы, методики,операции, опирающиеся на определенныетеоретические установки как техническое
35
средство, инструмент для исследования того илииного аспектов языка.
Эквиполентные оппозиции – оппозиции, обаэлемента которых являются равноправными.
Экстралингвистический контекст – ситуативныйконтекст, где семантические указатели – эторазнообразные элементы действительности, лежащиеза пределами речевого высказывания.
Ядерная структура – предложение, структуракоторого объясняет структуру другогопредложения, но само оно не может быть объясненоструктурой других предложений.
36
СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ
Аделунг И.К. (Adelung J. Gh.), (1732—1806) —немецкий лингвист, создавший совместно сИ.С.Фатером так называемый «Митридат иливсеобщее языкознание» — перевод «Отче наш» на500 языков и диалектов (4 тома, 1806—1817). Вначале 19 века выдвигает свои соображения опричинах исторического развития языка иформулирует критерии различия в степеняхязыкового родства, предполагающие не простосравнение языков, считающихся родственными, но,по сути дела, сравнение их грамматическихструктур.
Аристотель (384–322 до н. э.), древне-греческий философ и ученый. Учился у Платона вАфинах; в 335 основал Ликей, илиперипатетическую школу. Воспитатель АлександраМакедонского. Сочинения Аристотеля охватываютвсе отрасли тогдашнего знания. Основоположникформ, логики, создатель силлогистики. «Перваяфилософия» (позднее называлась метафизикой)содержит учение об основных принципах бытия:возможности и осуществлении, форме и материи,действующей причине и цели.
Блумфилд (Bloomfield) Леонард (1887–1949),американский языковед. Труды по романо-германскому языкознанию, языкамполисинтетического строя (Юго-Восточной Азии иСеверной Америки). Рассматривал языковые явленияс точки зрения бихевиоризма. Взгляды Блумфилдаразвиты дескриптивной лингвистикой.
37
Бодуэн де Куртенэ (Baudouin de Courtenay)Иван Александрович (1845–1929), русский ипольский языковед, член-корреспондентПетербургской Академии наук (1897). Первымобосновал теорию фонем и фонетическихчередований, разграничил диахронию и синхронию,рассматривая их в неразрывной связи. Оказалбольшое влияние на развитие общего языкознания.Труды по славянскому языкознанию, русского ипольского языкознания. Отредактировал и дополнил«Толковый словарь живого великорусского языка»В.И.Даля (3 изд., 1903–09); 4 изд., 1912–14).
Вахек (Vachek) Йозеф (родился в 1909),чешский языковед. Труды в области общегоязыкознания (динамическая концепция языка идр.), фонологии, социолингвистики,функциональной стилистики. Лингвистическийсловарь Пражской школы (русский перевод, 1964).
Виноградов Виктор Владимирович (1894/95–1969), советский языковед. Литературовед,академик АН СССР (1946). Директор Институтаязыкознания (1950–1954). Института русскогоязыка АН СССР (1958–68). Исследовал русский язык(грамматику, лексику и другие), историю русскоголитературного языка и стиль русских писателей19–20 вв. (А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского и др.), проблемыпоэтики, стилистики. Труды по теории частейречи, словообразования, фразеологии, типологиилексических значений.
Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744–1803),немецкий философ, критик, эстетик. В 1764–69пастор в Риге, с 1776 – в Веймаре, теоретик «Бури
38
и натиска», друг И.В.Гете. Проповедовал социальнуюсамобытность искусства, утверждал историческоесвоеобразие и равноценность различных эпохкультуры и поэзии. Трактат о происхожденииязыка, сочинения по философии истории, которая,по Гердеру, есть осуществление «гуманности».Собирал и переводил народные песни. Оказалвлияние на немецкий романтизм.
Джоунз Уильям (Jones, Sir William) (1746–1794), британский историк и филолог. В 1772 былизбран членом Королевского общества, а в 1773стал членом «Клуба» Сэмюэла Джонсона. В 1785Джоунз начал изучать санскрит; 2 февраля 1786 впрезидентском обращении к Азиатскому обществузаявил, что санскрит обнаруживает с греческим илатинским языками «как в корнях, так и вграмматических формах сильное сходство, котороене может быть случайным; это сходство настолькоразительно, что любой филолог, сравнив эти триязыка, придет к выводу, что они возникли изнекоего общего источника, который, возможно, ужене существует». Джоунз высказал такжепредположение, что готский, кельтские иперсидский языки относятся к той же самойязыковой семье (которую лингвисты теперьназывают индоевропейской).
Ельмслев (Hjeimsley) Луи (1899–1965), датскийязыковед. Труды по общему языкознанию.Основатель и руководитель копенгагенскоголингвистического кружка (с 1931) икопенгагенской (датской) школы структурализма –глоссематики.
39
Карцевский Сергей Осипович (1884–1955),русский языковед. Большую часть жизни работал вШвейцарии. Один из основоположников женевскойшколы языкознания. Труды по общему языкознанию,описательной грамматике русского языка.
Панини (санскр. Раnini) – знаменитыйиндийский грамматик, живший, вероятно, за 4 векадо Pождества Христова, автор грамматики,названной по его имени Паниниям (Pаniniyam).Труд его окружен таким почтением и уважением,что его считают вдохновенным свыше. Древниеиндусы помещали Панини в числе ведийскихмудрецов рши: позже утверждали, что большуючасть своих произведений он написал по прямомувнушению бога Шивы. Грамматика Панини – повыражению Вильсона, «может быть самоеоригинальное произведение индийского ума»,написана в форме сутр или афоризмов (числом3996), разделенных на восемь книг (adhyaya),откуда ее иногда встречающееся названиеАштадхьяи (Ashtadhyayi = восьмикнижная).
Скаличка (Skalicka) Владимир (родился в1909), чешский языковед. Заложил основысистемно-функционального направления влингвистической типологии. Работы по проблемамобщего языкознания.
Смирницкий Александр Иванович (1903–54),советский языковед, профессор МГУ (1942–51).Труды по английской и скандинавской филологии,сравнительно-историческому и общему языкознанию.
Соссюр (Saussure) Фердинанд де (1857–1913),швейцарский языковед. Исследовал индоевропейскиеязыки, проблемы общего языкознания. Впервые
40
предложил рассматривать язык как систему(структуру), разграничил лингвистику языка илингвистику речи, синхронию и диахронию. Раскрылприроду знака языкового, считая лингвистику частьсемиологии. Основной труд – «Курс общейлингвистики» (1916). Оказал значительное влияниена развитие языкознания (основоположникструктурной лингвистики в Европе), некоторыхнаправлений зарубежной семиотики,литературоведения, эстетики).
Трнка (Trnka) Богумил (родился 3.6.1895,Клетечна), чешский языковед и литературовед.Доктор филологических наук. Окончил Карловуниверситет (1919). Профессор Карловауниверситета (с 1930). Член Пражскоголингвистического кружка. Основные труды в областигерманистики, главным образом английского языка(фонология, синтаксис). В области теоретическогоязыкознания Трнка развивает идеи функциональногоподхода к языку. Автор исследований подиахронической фонологии; исследовательанглийской литературы («История английскойлитературы», т. 1—4, 2 изд., 1959–65).
Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938),князь, русский языковед. Сын С.Н.Трубецкого.Один из теоретиков Пражского лингвистическогокружка. Разработал принципы фонологии иморфонологии как особых лингвистическихдисциплин. Славист и компаративист. Изучалкультуру и языки народов Северного Кавказа.Исследования о русской литературе.
Шлейхер (Schleicher) Август (1821–68),немецкий языковед, иностранный член-
41
корреспондент Петербургской АН (1857).Придерживался натуралистических взглядов наязык, рассматривал его как организм, которыйнеобходимо исследовать методами естественныхнаук. Труды по сравнительной грамматикеиндоевропейских языков, литовского,славянского языков.
Шмелев Дмитрий Николаевич (1926–1993),языковед, лексиколог и лексикограф, академик АНСССР (1987; член-корреспондент с 1984). С 1951вёл научно-педагогическую работу в различныхпедагогических вузах, в том числе в МГПИ, МГУ идругих. С 1970 в Институте русского языка АНСССР. Основные труды по общему языкознанию,исторической лексикографии, синтаксису истилистике русского языка. Одним из первых врусистике сформулировал принципы системногосемантического анализа русской лексики.Разработал классификацию функциональных стилейсовременного русского литературного языка. Авторпособия по лексикологии современного русскогоязыка («Лексикология», 1977), одного из основныхучебников для филологических факультетовуниверситетов и педагогических институтов.Научный редактор и автор ряда коллективныхмонографий по современному русскому языку.Популяризатор науки о русском языке.
Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914),русский языковед, академик Петербургской АН(1898). Основоположник московскойлингвистической школы, сыгравшей большую роль вразвитии общего и сравнительно-историческогоязыкознания, в изучении русского языка (история,
42
морфология, синтаксис). Труды поиндоевропеистике, славистике, санскриту,проблемам общего языкознания, ведийскойфилологии. Заложил основы формальной грамматики.
Якобсон Роман Осипович (родился в 1896),русский и американский языковед, литературовед.С 1921 за границей. Один из основателейМосковского, Пражского, Нью-Йоркскоголингвистических кружков, один изосновоположников структурализма в языкознании илитературоведении. Основные труды по общемуязыкознанию, славянским языкам (главным образомрусскому), поэтике.
43
ХРЕСТОМАТИЯ
Ф. Ф. ФОРТУНАТОВСРАВНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)ЗАДАЧИ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ И СВЯЗЬ ЕГО С ДРУГИМИ
НАУКАМИПредметом, изучаемым в языковедении, является
не один какой-либо язык и не одна какая-либогруппа языков, а вообще человеческий язык в егоистории. Следовательно, все отдельныечеловеческие языки, будут ли то языки народовцивилизованных или дикарей, — все они содинаковым правом входят в область языковедения,и все они изучаются здесь по отношению к историиязыка. Язык состоит из слов, а словами являютсязвуки речи, как знаки для нашего мышления и длявыражения наших мыслей и чувствований. Отдельныеслова языка в нашей речи вступают в различныесочетания между собою, а с другой стороны — всловах языка могут выделяться для сознанияговорящего те или другие части слов; поэтомуфактами языка являются не только отдельные словасами по себе, но также и слова в их сочетанияхмежду собой и в их делимости на те или другиечасти. Я сказал, что предметом языковеденияявляется человеческий язык в его истории. Дело втом, что существование каждого языка во временисостоит в постоянном, хотя и постепенном,видоизменении данного языка с течением времени,т. е. каждый живой язык в данную эпоху егосуществования представляет собой видоизменение
44
языка предшествующей эпохи. Это постоянноеизменение языка состоит, во-первых, в постоянномизменении составных элементов языка, т. е. какзвуков слов, так и их значений, причем то идругое изменение происходит независимо одно отдругого; во-вторых, изменение языка с течениемвремени состоит в приобретении языком новыхфактов, не существовавших в нем прежде, и, в-третьих, изменение языка обнаруживается в утратеязыком тех или других фактов, существовавших внем прежде. Изучение каких-либо фактов впреемственности их изменения во времени мыназываем историческим изучением этих фактов, илиисто рией этих фактов, причем то же название —«история» — мы переносим и на самое изменениеэтих фактов во времени.
Языковедение, имеющее предметом изучениячеловеческий язык в его истории, может быть,следовательно, определяемо иначе как историячеловеческого языка или как историческоеизучение человеческого языка, т. е. историческоеизучение всех доступных для исследованияотдельных человеческих языков является вместе стем необходимо сравнительным изучением отдельныхязыков. Каждый язык принадлежит известномуобществу, известному общественному союзу, т. е.каждый язык принадлежит людям как членам тогоили другого общества. Те изменения, которыепроисходят в составе общества, сопровождаются ив языке соответствующими изменениями: дроблениюобщества на те или другие части соответствуетдробление языка на отдельные наречия, а
45
объединению частей общественного союзасоответствует и в языке объединение его наречий.
Понятно поэтому, что чем более разъединяютсячасти общественного союза, тем большуюсамостоятельность приобретают отдельные наречия,а как скоро исчезает всякая связь междуразъединившимися частями общества, бывшиенаречия одного и того же языка, продолжаясуществовать, обращаются в самостоятельныеязыки. Таким образом, изучая историю известногоязыка, лингвист путем правильного сравненияэтого языка с языками, родственными попроисхождению, открывает то прошлое в жизниизучаемого языка, когда он составлял еще одноцелое с другими родственными с ним языками.Изучая, например, французский язык в егоистории, лингвист сравнивает его с другими такназываемыми романскими языками, как-то:итальянским, испанским и некоторыми другими, — иприходит таким, путем к родоначальнику этихязыков — языку латинскому, из которогообразовались эти языки. Подобным же образомизучение русского языка в связи с другимиславянскими языками, как-то: старославянским,или древним церковнославянским, сербским,болгарским, польским, чешским и некоторымидругими, — это сравнительное изучение открываетперед нами то прошлое в жизни нашего языка,когда он вместе с другими славянскими языкамисоставлял один общий язык, именно праславянский,или общеславянский, язык. Этот праславянскийязык, открываемый таким путем, находится в своюочередь, как показывает наука, в родстве с
46
языками: литовским, немецким, греческим,латинским, а также и с языками: индийскими,иранскими и некоторыми другими. Все эти языкивместе образуют так называемую индоевропейскуюсемью языков, или семью индоевропейских языков.
Путем сравнительно-исторического изучениявсех языков этой семьи лингвист восстановляеттот язык, который был родоначальником этой семьиязыков, — язык общий индоевропейский. Такимобразом, например, история русского языка можетпривести исследователя к той отдаленной эпохе,когда предки славян, немцев, греков и т. д.составляли еще один общий народ. Итак, задачаязыковедения — исследовать человеческий язык вего истории — требует, как вы видите,определения родственных отношений междуотдельными языками и сравнительного изучения техязыков, которые имеют в прошлом общую историю,т. е. родственны по происхождению. При этом отобщей истории данных языков, т. е. от родстваданных языков по происхождению, нужно отличатьтакое родство между собою тех или других фактовв различных языках, которое происходитвследствие приобретения, заимствования этихфактов одним языком из другого языка.Возможность такого влияния одного языка надругой является, понятно, тогда, когда членыразличных общественных союзов, имеющих различныеязыки, вступают в сношения между собою.
Не одно только сравнение языков или ихотдельных фактов в генеалогическом отношении, т.е. по отношению к их родству по происхождению,требуется в лингвистике: факты различных языков
47
должны быть сравниваемы и по отношению к темсходствам и различиям, которые зависят отдействия сходных и различных условий. Этого родасравнение лингвистических фактов нельзя,конечно, смешивать с тем сравнением, о котором яговорил до сих пор и которое основано нагенеалогическом отношении отдельных языков илиотдельных фактов в языках. Когда говорят, чтопредметом изучения в лингвистике служитчеловеческий язык в его истории, то единственнымчислом — «язык» — вовсе не указывается на то,будто все отдельные языки, существовавшие исуществующие в человечестве, сводятся по учениюлингвистики к одному общему праязыку. Такогообщего праязыка лингвистика не знает, да и неможет знать в настоящее время при тех средствах,какими она владеет. Тем не менее, как бы ни быловелико число тех праязыков, которые не могутбыть сведены в генеалогическом отношении, мыимеем право говорить об одном человеческомязыке, имея в виду единство человеческойприроды, т. е. общие физические и духовныеявления.
Поэтому мы можем и должны сравнивать языки нетолько в генеалогическом отношении, но и поотношению к тем сходствам и различиям, которыезависят от сходных и различных физических идуховных условий.
То обширное применение, какое имеет всовременной лингвистике сравнительный метод,достаточно объясняет, почему эта науканазывается, между прочим, «сравнительнымязыковедением», но только в названии
48
«сравнительное языковедение» не следует видетьуказания на отличие этой науки от какого-либодругого научного исследования языка в егоистории: есть только одна наука о языке — танаука, которая имеет предметом изучениячеловеческий язык. Исследование того или другогоотдельного языка или той или другой отдельнойсемьи языков входит в состав языковедения какизвестная часть этой науки, а успешное занятиеодной частью науки возможно лишь тогда, когда нетеряется связь с другими частями ее и с ееобщими основаниями. Понятно поэтому значениеязыковедения, или лингвистики, для филологии втесном смысле этого термина: филолог,останавливаясь на известном народе, изучает егов различных проявлениях его духовной стороны, апотому, между прочим, изучает и язык этогонарода. В этой области по отношению к языкуизучаемого народа филолог должен бытьлингвистом, и языковедение для него не побочнаянаука, но та, которая одной своей частью входитв его специальность. Точно так же филолог долженбыть историком при изучении других отделовфилологии.
Итак, научное исследование какого бы то нибыло языка входит в область языковедения, но невсякое изучение языка является научным:языковедение как науку, задача которой познатьязык в его истории, нельзя смешивать, понятно, сизучением какого-либо языка для практическойцели, т. е. с целью владеть этим языком каксредством для достижения других целей, напримердля обмена мыслей.
49
Л. ШЛЕЙХЕРКОМПЕНДИЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ (ПРЕДИСЛОВИЕ)Грамматика составляет часть языкознания, или
глоттики. Эта последняя есть часть естественнойистории человека. Ее метод в основном — методестественных наук вообще; он состоит из точногонаблюдения над объектом и выводов, которыеустанавливаются на основе наблюдения. Одной изглавных задач глоттики является установление иописание языковых родов или языковых семейств,т. е. языков, происходящих от одного и того жепраязыка, и классификация этих родов поестественной системе. Относительно немногиеязыковые семейства точно исследованы на сегодня,так что разрешение этой главной задачи глоттики— дело будущего.
Грамматикой мы называем научное рассмотрениеи описание звуков, форм, функций слова и егочастей, а также строения предложения.
Грамматика, следовательно, состоит из ученияо звуках, или фонологии, учения о формах, илиморфологии, учения о функциях, или учения означениях и отношениях, и синтаксиса. Предметомизучения грамматики может быть язык вообще, илиопределенный язык, или группа языков: общаяграмматика и частная грамматика. В большинствеслучаев она изучает язык в процессе егостановления и, следовательно, должна исследоватьи описать жизнь языка в ее законах. Если оназанимается исключительно только этим и,следовательно, имеет своим предметом описание
50
жизни языка, то ее называют историческойграмматикой или историей языка; правильнее былобы именовать ее учением о жизни языка о жизнизвуков, форм, функций, предложений), которое всвою очередь может быть как общим, так и болееили менее частным.
Грамматика индоевропейских языков есть,следовательно, частная грамматика. Так как она,далее, рассматривает эти языки в процессестановления и исходит из их более или менеедревних состояний, то ее правильнее было быназвать частной исторической грамматикойиндоевропейских языков.
Примечание 1. Вошло в обычай именоватьсравнительной грамматикой не только описательнуюграмматику, но также и грамматику, повозможности объясняющую языковые формы ипоэтому, как правило, не ограничивающуюсяотдельным языком.
Примечание 2. Настоящий труд охватываеттолько две стороны, доступные научномурассмотрению при изучении языка, — звуки иформы. Функции и строение предложенияиндоевропейских языков мы еще не в состоянииобработать в такой же степени научно, как этооказалось возможным в отношении более внешних иболее доступных сторон языка — его звуков иформ.
Невозможно установить общий праязык для всехязыков, скорее всего существовало множествопраязыков. Это с очевидностью явствует изсравнительного рассмотрения ныне еще живущихязыков. Так как языки все более и более исчезают
51
и новые при этом не возникают, то следуетпредположить, что первоначально было большеязыков, чем ныне. В соответствии с этим иколичество праязыков было, по-видимому,несравненно большим, чем это можно полагать наоснове еще живущих языков.
Жизнь языка (обычно именуемая историей языка)распадается на два периода.
1. Развитие языка — доисторический период.Вместе с человеком развивается язык, т. е.звуковое выражение мысли. Даже простейшие языкиесть результат постепенного процессастановления. Все высшие формы языка возникли изболее простых: агглютинирующие из изолирующих,флективные из агглютинирующих.
2. Распад языка в отношении звуков и формпричем одновременно происходят значительныеизменения в функциях и строении предложения —исторический период. Переход от первого периодако второму осуществляется постепенно.Установление законов, по которым языкиизменяются в течение их жизни, представляет однуиз основных задач глоттики, так как без познанияих невозможно понимание форм языков, вособенности ныне живущих.
Посредством различного развития в разныхобластях своего распространения один и тот жеязык распадается на несколько языков (диалектов,говоров1) в течение второго периода, началокоторого, однако, также выходит за пределыисторических свидетельств. Этот процессдифференциации может повторяться многократно.
52
Все это происходит в жизни языка постепенно втечение длительного времени, так как всесовершающиеся в жизни языка измененияразвиваются постепенно.
Языки, возникшие первыми из праязыка, мыназываем языками-основами; почти каждый из нихдифференцируется в языки, а языки могут далеераспадаться на диалекты и диалекты — наподдиалекты.
Все языки, происходящие из одного праязыка,образуют языковой род, или языковое дерево,которое затем делится на языковые семьи, илиязыковые ветви.
Индоевропейскими языками называютопределенную группу языков Азии и Европы,которые обнаруживают настолько тождественные иотличающиеся от всех прочих языков свойства, чтопроисхождение их от одного общего праязыка невызывает сомнений.
В результате неравномерного развития вразличных областях своего распространенияиндоевропейский язык разделился на две части.
Сначала выделилcя cлaво-гepмaнcкий (которыйпозднее расчленился на германский и славо-литовский); оставшаяся часть праязыка — арио-греко-итало-кельтский — разделилась на греко-итало-кельтский и арийский, из которых первыйрасчленился на (албано-)греческий и итало-кельтский, а второй, т. е. арийский, еще долгооставался неразделенным. Позднее славо-литовский, арийский (индо-иранский) и итало-кельтский разделились еще раз. Не исключено, чтопри некоторых или даже при всех делениях
53
возникало больше языков, чем теперьпредставляется возможным установить, так как стечением времени некоторые индоевропейские языкимогли исчезнуть.
Чем восточнее живет индоевропейский народ,тем более древним остался его язык, и чемзападнее, тем менее древних черт и болееновообразований содержит он. Отсюда, так же каки из других данных, следует, что славо-германцыпервыми начали свои переселения на запад,за нимипоследовали греко-итало-кельты. Из оставшихсяарийцев индийцы направились на юго-восток, аиранцы распространились в юго-западномнаправлении. В соответствии с этим родинуиндоевропейцев следует искать на Центрально-Азиатском плоскогорье.
Относительно индийцев, покинувших своюисконную родину последними, мы знаем сабсолютной достоверностью, что они на своейновой родине вытеснили неиндоевропейский народ,из языка которого переняли некоторые черты.Применительно к другим индоевропейским народамэто также в высшей степени возможно. Древнейшиеделения индоевропейского вплоть до возникновенияязыков-основ и языковых семейств, образующихродословное дерево, можно проиллюстрироватьследующей схемой. Длина линий обозначает на нейдлительность периода, а отдаленность их друг отдруга — степень родственной близости.
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮРКУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ...Резюмируем характеристику языка:
54
1. Язык есть нечто вполне определенное вразносистемной совокупности фактов речевойдеятельности. Его можно локализовать вопределенном отрезке рассмотренного намикругового движения, а именно там, где слуховойобраз ассоциируется с понятием. Он естьсоциальный элемент речевой деятельности вообще,внешний по отношению к индивиду, который сам посебе не может ни создавать язык, ни егоизменять. Язык существует только в силу своегорода договора, заключенного членами коллектива.Вместе с тем, чтобы пользоваться языком, индивиддолжен ему научиться; дитя овладевает им лишьмалопомалу. Язык до такой степени есть нечтообособленное, что человек, лишившийся дара речи,сохраняет язык, поскольку он понимает слышимыеим языковые знаки.
2. Язык, обособленный от речи, составляетпредмет, доступный обособленному же изучению. Мыне говорим на мертвых языках, но мы отличноможем овладеть их языковым организмом. Не тольконаука об языке может обойтись без прочихэлементов речевой деятельности, но она вообщевозможна лишь, если эти прочие элементы к ней непримешаны.
3. В то время как речевая деятельность вцелом имеет характер разнородный, язык, как оннами определен, есть явление по своей природеоднородное: это система знаков, в которойединственно существенным является соединениесмысла и акустического образа, причем оба этиэлемента знака в равной мере психичны.
55
4. Язык не в меньшей мере, чем речь, естьпредмет конкретный по своей природе, и этовесьма способствует его исследованию. Языковыезнаки хотя и психичны по своей сущности, новместе с тем они не абстракции; ассоциации,скрепленные коллективным согласием, совокупностькоторых и составляет язык, суть реальности,имеющие местонахождение в мозгу. Более того,знаки языка, так сказать, осязаемы; на письмеони могут фиксироваться посредством условныхначертаний, тогда как представляется невозможнымво всех подробностях фотографировать акты речи;произнесение самого короткого слова представляетсобой бесчисленное множество мускульныхдвижений, которые чрезвычайно трудно познать иизобразить. В языке же, напротив, не существуетничего, кроме акустического образа, которыйможет быть передан посредством определенногозрительного образа. В самом деле, если отвлечьсяот множества отдельных движений, необходимых дляреализации речи, всякий акустический образоказывается, как мы далее увидим, суммойограниченного числа элементов или фонем, могущихв свою очередь быть изображенными на письме припомощи соответственного числа знаков. Вот этасамая возможность фиксировать относящиеся кязыку явления и приводит к тому, что верным егоизображением могут служить словарь и грамматика,ибо язык есть склад акустических образов, аписьмо — осязаемая их форма.
ЛУИ ЕЛЬМСЛЕВМЕТОД СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА В ЛИНГВИСТИКЕ
56
Логистическая теория языка была разработанабез всякого внимания к результатам лингвистики,и совершенно очевидно, что логисты, постоянновысказываясь о языке, довольно непростительнымобразом игнорируют достижения лингвистическогоизучения языка. Это имело плачевные последствиядля логистической теории языка. Так, например,понятие знака, на которое ссылаются сторонникиэтой школы, имеет у них значительные недостаткии, несомненно, менее удачно, чем у де Соссюра;логисты не понимают, что языковой знак имеет двестороны — сторону содержания и сторонувыражения, причем обе эти стороны могут бытпредметом чисто структурного анализа…
Если понимать язык как структуру, то уженельзя довольствоваться определением его спомощью понятий звук и значение, как этопостоянно делалось и делается в традиционномязыковедении. Де Соссюр ясно понимал, чтоструктурное определение языка должно привести ктому что структуры, до сих пор не признававшиесятрадиционным языковедением как языки, будутпризнаны как таковые и что те языки, которыерассматривались как таковые традиционнымязыковедением, будут признаны только какразновидности языков вообще. Де Соссюр поэтомустремился к тому, чтобы превратить языковедениеили лингвистику в одну из ряда возможныхдисциплин в составе более широкой науки ознаковых системах вообще, которая оказалась быдействительной теорией языка в структурномзначении этого слова. Такую более широкую наукуон назвал семиологией…
57
В своей работе, вышедшей в 1943 г., я ипопытался дать такое структурное определениеязыка, которое имело бы силу для основнойструктуры каждого языка в обычном смысле этогослова. Впоследствии я проделал глоссематическийанализ ряда весьма несложных структур, взятых изповседневного быта и не являющихся, правда,языками в традиционном смысле этого слова, ноудовлетворяющих (частью или полностью) моемуопределению основной языковой структуры. Яподверг следующие пограничные явлениятеоретическому разбору: во-первых, световыесигналы на перекрестках улиц для регулированиядвижения, имеющиеся в большинстве большихгородов и в которых чередование света красного,желтого, зеленого и желтого в плане выражениясоответствует чередованию понятий «стой»,«внимание», «свободный ход», «внимание» в планесодержания; во-вторых, телефонный диск в городахс автоматическим обслуживанием аппаратов; в-третьих, бой башенных часов, отбивающих часы ичетверти. Кроме этих случаев, я в своихисследованиях привел ряд еще более простыхпримеров, как-то: азбука Морзе, стуковая азбуказаключенных в тюрьме и обыкновенные стенныечасы, бьющие только каждый час. Эти примеры яближе разобрал в лекциях, недавно читанных мноюв Лондонском и в Эдинбургском университетах, нестолько забавы ради или по чисто педагогическимсоображениям, сколько именно для того, чтобыглубже вникнуть в основную структуру языка иязыкоподобных систем; сравнивая их с языком втрадиционном смысле слова, я использовал их для
58
того, чтобы пролить свет на пять основных черт,входящих по моему определению в основнуюструктуру каждого языка в традиционном смыслеслова, а именно:
1. Язык состоит из содержания и выражения.2. Язык состоит из последовательного ряда
(или текста) и системы.3. Содержание и выражение взаимно связаны в
силу коммутации.4. Имеются определенные соотношения в тексте
и в системе.5. Соответствие между содержанием и
выражением не является прямым соответствиеммежду определенным элементом одного плана ипределенным элементом другого, но языковые знакимогут разлагаться на более мелкие компоненты.Такими компонентами знаков являются, например,так называемые фонемы, которые я предпочел быназвать так семами выражения и которые сами посебе не имеют содержания, но могут слагаться вединицы, имеющие содержание, например в слова.
ВЛАДИМИР СКАЛИЧКАКОПЕНГАГЕНСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ И «ПРАЖСКАЯ
ШКОЛА»Теперь мы перейдем к главным принципам
лингвистики Ельмслева и будем их сопоставлять срезультатами работ пражской школы. КонцепциюЕльмслева мы будем оценивать главным образом поего книге «Основы теории языка» (Копенгаген,1943), а также по некоторым его статьям,опубликованным в «Acta linguistica», «CahiersFerdinand de Saussure» и др.
59
Переходим к отдельным пунктам.I. Профессор Ельмслев хочет подвести под
языковую теорию прочную основу. Он справедливосчитает, что нынешние языковедческие работыявляются membra disjecta («разобщенные части»)различных явлений, из которых одни близки кистории, другие — к психологии, физике, логике ифилософии. От этой раздробленности Ельмслевхочет избавиться посредством освобожденияязыкознания от груза других наук.
Основным требованием Ельмслева является, какон говорит, требование имманентного изученияязыка, т. е. требование лингвистики чистолингвистической, Он полагает, что язык внастоящее время является средством длятрансцендентного познания, т. е. для познанияявлений внеязыковых. Подобное отношение являетсяестественным в практической жизни. Но этоповторяется и в науке о языке. Ельмслев приводитследующие примеры: классическая филологиязанималась скорее изучением литературы икультуры, чем изучением языка; сравнительноеязыкознание занималось скорее изучением истории.
Лингвистическая теория должна стремиться кпознанию языка не как конгломерата неязыковых(т. е. физических, физиологических,психологических, логических и социологических)явлений, а как замкнутой в себе целостнойструктуры, как структуры sui generis (особогорода). Уже здесь мы видим первое основноеотличие между пражской лингвистикой икопенгагенской. Мы согласны с Ельмслевым в томотношении что наивное и естественнонаучное
60
знание видит в языке только средство к познаниювнеязыковых явлений. Но с точки зрения пражскихязыковедов и при научном познании языка следуетисходить из этого же. Сам Ельмслев подчеркивает,что язык представляет собой определенное орудие.Но мы не имеем права его изменять. Если принаучном изучении мы пренебрегаем егореальностью, мы ее деформируем. Лингвистическоемышление в понимании Ельмслева становитсясвободным от всех ограничений. Он сбрасывает сплеч весь огромный груз многообразных отношенийк действительности (что учитывают пражскиелингвисты). Однако при таком понимании языкстановится всего лишь бесцельной игрой. Дляхарактеристики позиции пражских исследователеймы процитируем начало статьи Вилема Матезиуса«Язык и стиль», опубликованной в книге «Лекции оязыке и литературе», I (1942): «Не знаю,задумывался ли кто-нибудь над тем, с какойопределенностью и с какими подробностями мы всостоянии при помощи языковых средств выражатьмногообразие действительности. Этообстоятельство может удивить вдумчивогонаблюдателя и оно заслуживает самогопристального нашего внимания. При ближайшемрассмотрении мы видим, что выразительность языкаобусловливается двумя моментами. Во-первых, припомощи языка мы выражаем действительность не вовсей ее действительной полноте, но всегда вопределенных границах, которые определяютсяцелями коммуникации; во-вторых, для языковоговыражения мы используем замечательную системувзаимосвязанных знаков, т. е. язык» и т. д.
61
Несмотря на популярность изложения, основнаяпозиция автора совершенно ясна.
II. Мы здесь употребили слово «игра» дляобозначения языка, лишенного его отношения кдействительности. Тем самым мы подходим кпонятию «язык» (langue), которое Л. Ельмслевпытается по-новому осветить в «Cahiers F. deSaussure», II. Он различает в своей статье«язык» как схему, которая является чистойформой, не зависящей от социальной реализации иматериальной манифестации, и «язык» — как узус,который является совокупностью навыков, принятыхв данном социальном коллективе и определяемыхфактами наблюдаемых манифестаций.
Ельмслев подчеркивает, что де Соссюр в своемизвестном сравнении для объяснения того, чтотакое «язык» (langue), использовал игру вшахматы, а не экономические понятия. Язык каксхема в конечном счете — это игра и большеничего, говорит Ельмслев.
Но именно против подобного понятия игры мы ивозражаем. Игра в шахматы не сводится кнескольким правилам, которым может легконаучиться десятилетний школьник. Смысл шахматнойигре придают трудно уловимые и постоянноизменяющиеся ситуации, которые надо осмыслять,чтобы успешно закончить партию. Зависимость отсоциальной реализации здесь также очевидна, каки в экономической жизни.
Совершенно естественно, что шахматная играизменяется в зависимости от того, является лиона развлечением для небольшого числа людей, илиже она носит массовый характер и т. д. Эта
62
зависимость от социальной реализации имеет тембольшее отношение к языку.
III. Для Ельмслееа основой теоретическогоизучения является эмпирический принцип, которыйзаключается в том, что при анализе текстаприменяются три требования (заимствованные изтеории математики, как на это любезно обратилнаше внимание проф. Б. Трнка): 1)Непротиворечивость. 2) Полнота описания. 3)Простота. Для характеристики позиции Ельмслеванаиболее важным является второй пункт — полнотаописания. Это требование совершенно естественно,если смотреть на язык как на самостоятельнуюструктуру, оторванную от всего социального,лишенную взаимоотношений с другими структурнымиобразованиями. Но, поскольку нам известны всесложнейшие отношения языка к литературе, кобществу, культуре, искусству и т. д., мы неможем говорить об изолированном, исчерпывающемописании текста. Мы знаем, что в тексте мы можемполностью проследить в лучшем случае развитиеотдельных букв или же звуков. Значение же текстапостоянно меняется. Один и тот же текст кажетсяиным старому человеку и молодому, человеку собразованием и без образования, современномучеловеку и человеку, который будет жить черезсто лет. Гомер кажется совершенно иным длясовременника, для афинянина V века, длякомментатора аллегорий, для К. Лахманас еготеорией миннезанга, дляфилолога-классика нашеговремени и для студента, который читает «Илиаду».Можно только пожалеть, что Ельмслев недостаточно
63
хорошо знаком с работами Я. Мукаржовского и егошколы.
IV. Эмпирический принцип не означает дляЕльмслева индукцию. Наоборот, против нееЕльмслев. резко выступает. Он считает, чтоиндукция приводит к опасному пути реализма всредневековом его понимании (номинализму).Латинский и греческий генитив, перфект,конъюнктив в каждом конкретном случае означаютразное. И, таким образом, если мы применяемтермин «генитив» в отношении очевидной фикции,мы становимся на позицию такого рода реализма.Напротив, Ельмслев выдвигает то, что можноназвать дедукцией. Под этим он разумеет переходот целого к части. От целого, т. е. от целоготекста к абзацу, от абзаца к предложению, далеек слову и к звуку. Этот переход безусловнополезен: целое всегда больше, чем совокупностьчастей. Но это не может нас удовлетворить, таккак части не являются всего лишь частями целого,у них своя самостоятельная жизнь и своесамостоятельное отношение к внеязыковому миру.
V. У нас много говорят об отношении языка кдействительности. Тем более нас удивитсодержание главы, посвященной теории языка идействительности. Языковая теория является дляЕльмслева, с одной стороны, целесообразной,реалистической, т. е. она должна быть таковой,чтобы быть исчерпывающей; с другой стороны, онапроизвольна и нереалистична, так как онаоперирует данными, добытыми эмпирическим путем,причем процедура оперирования не обусловленасамими данными.
64
VI. Чрезвычайно важным является понятиефункции. Для нас функция примерно то же, что ицелеустановка. Гавранек в статье «Оструктурализме в языкознании» говорит о языке,что «он постоянно и как правило выполняетопределенные цели или функции».
Для Ельмслева и его школы понятие функцииблизко к понятию функции в математике. У негофункция представлена как выражение строгойзависимости. В своих «Основах теории языка» онговорит, что функция — это зависимость, котораяобусловливает условия для анализа.
В понимании пражских лингвистов термин«функция» употребляется тогда, когда речь идет означении (функция слова, предложения) или оструктуре смысловых единиц (функция фонемы). Впонимании Ельмслева функция имеет многоразновидностей. Функцией, например, являетсякатегория слов и глагольное управление, функциейявляется отношение подлежащего и сказуемого,одной из функций является также отношение плановвыражения и содержания, как говорит Ельмслев,употребляя это вместо «означающего» и«означаемого». В языке, по мнению Ельмслева,огромное множество функций. Ельмслевустанавливает также типы этих функций. Мы небудем их здесь рассматривать одну за другой.Будет достаточно, если мы укажем, например, наотношение планов «выражения» и «содержания». Этафункция относится к разряду «солидарности», т.е. функции двух постоянных величин.
Совершенно очевидно, что понимание термина«функция» у Ельмслева тесно связано с его общим
65
взглядом на язык и лингвистику. Ельмслев недопускает в язык ничего, что не является чистымотношением. Таким образом, от языка у негоничего не остается, кроме множества отношений,которые он называет функциями.
VII. Переходим к проблеме семасиологии. ЗдесьЕльмслев находится в полной зависимости отСоссюра. Соссюр представляет себе язык каксоединение двух аморфных масс — мирамыслительного и мира звукового. В результатесоединения этих двух миров возникает язык,который является только формой, но никоимобразом не субстанцией. На этом положенииЕльмслев и его сотрудники строят все. Чтобы ещеболее подчеркнуть свою точку зрения, Ельмслеввместо терминов signifiant и signifieупотребляет термины udtryk и inhold, фр.expression и contenu, т. е. «выражение» и«содержание». Тем самым он полностью изолируетсяот внешнего мира. В качестве доказательства он,помимо всего прочего, ссылается на цветовойспектр. Тут, согласно Ельмслеву, имеет местоаморфная непрерывность, которая в разных языкахпо-разному оформляется. Нечто подобное можнонаблюдать и в отношении чисел. В одних языкахпредставлена категория единственного имножественного числа, другие языки различаютединственное, двойственное и множественноечисло, третьи — единственное, двойственное,тройственное и множественное.
Попытаемся посмотреть на эти вещи с точкизрения пражских языковедов. Им, насколько мнеизвестно, никогда не приходило в голову
66
размышлять над тем, является ли язык формой илисубстанцией. Однако пражские языковедырешительно не могут согласиться с тем, чтовнеязыковый мир является аморфной субстанцией.Гавранек указывает, что структуральнаялингвистика «понимает язык как структуруязыковых знаков, т. е. систему знаков, имеющихпрямое отношение к действительности».
VIII. Наконец, мы хотим заняться еще однимпунктом, а именно языковым различием, которомуЕльмслев также уделяет внимание и которое онрешает в соответствии со своими тезисами. Онговорит, что сходство и различие языков являютсявзаимно дополняющими сторонами одного и того жеявления. Сходство языков является принципом ихструктуры. Различие языков является воплощениемэтого принципа in concrete. Все языки в принципесформированы одинаково, различия касаются толькочастностей. Может показаться, что втождественных элементах языка проявляется общеезначение. Но это только иллюзия. Значение неоформлено и недоступно познанию.
Ясно, что взгляды Ельмслева значительноотличаются от взглядов пражских лингвистов.Работы, которые у нас ведутся над проблемамиязыкового развития, исходят из того принципа, чтоотдельные языки имеют прямое отношение кдействительности. Отдельные языки стремятсяпостичь и передать действительность как можноточнее, но к этой цели, разумеется, они идутразными путями. У Матезиуса в книге «Чешский языки общее языкознание» (Прага, 1947, стр. 157) мычитаем: «Чтобы с успехом пользоваться методом
67
аналитического сравнения, мы должны подходить котдельным языкам исключительно с точки зренияфункциональной, ибо только таким образом можнопроизвести точное сравнение различных языков.Общие потребности в выражении и коммуникации,свойственные всему человечеству, являютсяединственным общим знаменателем, под который мыможем подвести выразительные и коммуникативныесредства, различные в каждом языке».
Этим я заканчиваю краткое сопоставлениевзглядов Ельмслева со взглядами, которые впоследние годы были характерны для Пражскоголингвистического кружка.
ВИЛЬГЕЛЬМ ГУМБОЛЬДТО СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К РАЗЛИЧНЫМ ЭПОХАМ ИХ РАЗВИТИЯВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКАВсе преимущества благозвучных и богатых
звуковых форм, даже и в сочетании супорядоченностью их произношения, еще не способнысоздать достойные духа языки, если тольколучистая ясность направленных на язык идей ненаполнит их своим светом и теплотой.
Именно эта совершенно внутренняя и чистоинтеллектуальная сторона звуковых форм,собственно, и составляет язык; она есть не чтоиное, как употребление, которое делает иззвуковой формы языковое творчество; именнопосредством нее язык оказывается способнымпридать выражение всему, к чему в процессеобразования идей стремятся лучшие умы каждого
68
поколения. Это ее свойство зависит от согласия исовместного действия, которые наблюдаются как взаконах функционирования этой стороны, так имежду законами созерцания, мышления и чувства.Духовная способность, однако, имеет свое бытиелишь в своей деятельности, которая представляетсобой следующие друг за другом вспышки силы,взятые в своей совокупности и направленные поопределенному пути.
Эти законы, следовательно, не что иное, какпути, по которым идет духовная деятельность вязыковом творчестве, или, употребляя другоесравнение, формы, в которых эта последняявыражает звуки. Не существует ни одной силы духа,которая не принимала бы в этом участия; нетничего внутри человека настолько глубокого,настолько тонкого и всеобъемлющего, что непереходило бы в язык и не было бы через егопосредство познаваемым. Интеллектуальныепреимущества языков поэтому покоятсяисключительно на упорядоченной, твердой и яснойдуховной организации народов в эпохи ихобразования или преобразования, они представляютих картину или даже непосредственный отпечаток.
Может показаться, что все языки винтеллектуальном отношении одинаковы. Бесконечноемногообразие звуковых форм представляетсяпонятным, так как в чувственном и телесномотношениях индивидуальность обусловливается такимколичеством разнородных причин, что невозможнодаже перечислить все богатство их разнообразия.
Но что касается интеллектуальной стороныязыка, то она в силу того, то
69
покоится только на независимой духовнойдеятельности, а кроме того, имеет своимоснованием равенство целей и средств у всехлюдей, должна была бы быть одинаковой. Идействительно, эта сторона языка обладает большойоднородностью. Но и в ней обнаруживаютсязначительные различия, обусловленные множествомпричин. С одной стороны, эти различияобусловливаются наличием разных степеней влиянияязыкотворческой силы как в общем плане, так иприменительно к ее взаимодействиям спроявляющимися в ней тенденциями. С другойстороны, здесь действуют силы, деятельностькоторых не представляется возможным измеритьпосредством разума и определить с помощьюпонятий. Фантазия и чувство вызываютиндивидуальные образы, в которых отражаетсяиндивидуальный характер народа, и в этом случае,как это имеет, место во всех индивидуальныхявлениях, многообразие форм, в которое облекаетсяодно и то же содержание, может быть бесконечным.
Но и в собственно идеальной стороне языка,зависящей лишь от связи понятий, обнаруживаютсяразличия, которые происходят в результатенеправильных или несовершенных комбинаций. Чтобыубедиться в этом, достаточно обратиться ксобственно грамматическим законам. Так, например,формы, образующиеся в системе глагола всоответствии с потребностями речи, должны были быбыть одинаковыми во всех языках как вколичественном отношении, так и в отношении ихпризнаков, по которым они классифицируются поопределенным разрядам, так как эти формы можно
70
определить как простые производные понятий. Авместе с тем, сравнивая в этом отношении санскритс греческим, мы с удивлением видим, что всанскрите понятие наклонения осталось не тольконеразвитым, но было неправильно истолковано присамом образовании языка, так как не былоотграничено от понятия времени. Именно поэтомуоно неудачно связывается с понятием времени инеполно проводится по всем временам.
...Как в звуковой форме важнейшими моментамиявляются обозначение понятий и законысловосочетаний, так и во внутренней,интеллектуальной стороне языка дело обстоитподобным же образом. При обозначении здесь, как итам, следует различать два момента: ищутсявыражения для совершенно индивидуальных предметовили же изображаются отношения, которые,прилагаясь к целому ряду предметов, сводятся поформе к одному общему понятию. Таким образом,фактически приходится иметь дело с тремяслучаями. Обозначение понятий, к которымотносятся первые два случая, у звуковой формыприводит к созданию слов, которым во внутреннейстороне языка соответствует образование понятий.Чтобы артикуляционное чувство могло найтинеобходимые для обозначения звуки, нужно, чтобыво внутренней сфере каждое понятие было отмеченокаким-либо свойственным ему признаком или былопоставлено в связь с другими понятиями. Такобстоит дело даже и в отношении внешних,телесных, чувственно воспринимаемых предметов. Ив этом случае слово не является эквивалентомчувственно воспринимаемого предмета, но
71
пониманием его, закрепляемым в языке посредствомнайденного для него слова. Здесь находитсяглавный источник многообразия обозначения одногои того же предмета. Если, например, в санскритеслон называется либо дважды пьющим, либодвузубым, либо снабженным рукой, то в данномслучае обозначаются различные понятия, хотяимеется в виду один и тот же предмет. Этопроисходит потому, что язык обозначает не самипредметы, а понятия, которые дух независимо отних образует в процессе языкотворчества. И именнооб этом образовании понятий, которое следуетрассматривать как глубоко внутренний процесс,опережающий чувство артикуляции, и идет в данномслучае речь. Впрочем, это разграничениепроводится в целях анализа языка, а в природе ононе существует.
С другой точки зрения, два последних случаяиз трех вышеописанных находятся в более близкихотношениях. Общие отношения подлежащихобозначению отдельных предметов и грамматическиеформы основываются большей частью на общих формахвоззрения и логических отношениях понятий. Тутналичествует, следовательно, определеннаясистема, с которой можно сопоставлять системуязыка. При этом определяются опять-таки двамомента: полнота и правильное разграничениеобозначаемых явлений, с одной стороны, иотобранное для каждого такого понятия обозначение— с другой. Здесь повторяется изложенное выше. Нотак как в данном случае речь идет об обозначениинечувственных понятий, часто всего толькоотношений, то понятие, чтобы войти в язык, должно
72
принять, хотя и не всегда, образную форму. И какраз в соединении простейших понятий,пронизывающих весь язык до основания, ипроявляется вся глубина гения языка. Понятиелица, а следовательно, местоимения ипространственные отношения играют здесь главнуюроль; часто оказывается возможным показать, какоба эти элемента соотносятся друг с другом исоединяются в еще более простое представление.Отсюда следует, что язык, как таковой, самымсвоеобразным и вместе с тем инстинктивным образомобусловливается духом. Для индивидуальныхразличий здесь почти не остается места, и всеразличие языков в этом отношении сводится к тому,что одни языки оказываются более изобретательнымив этом плане, а в других почерпнутые из этойглубины обозначения определены яснее и нагляднеедля coзнaния.
Обозначение отдельных внутренних и внешнихпредметов оказывает более глубокое воздействиена чувственное восприятие, фантазию, чувство ипосредством взаимодействия этих явлений — нахарактер вообще, так как в данном случаедействительно соединяются природа и человек,подлинно материальное вещество с формирующимдухом. В этой области особенно четко проступаетнациональное своеобразие. Это объясняется тем,что человек, познавая природу, приближается кней и самопроизвольно вырабатывает своивнутренние восприятия в соответствии с тем, вкакие отношения друг с другом вступают егодуховные силы. И это также находит своеотражение в языке, поскольку он для слов
73
образует понятия. Разграничивающим моментомздесь является то, что один народ вносит в языкбольше объективной реальности, а другой — большесубъективных элементов. Хотя это различиестановится ясным постепенно, в поступательномразвитии языков, однако зародыш его заложен ужев самых их начатках. Звуковая форма также носитна себе следы этого различия. Чем больше света иясности вносит чувство языка в изображениечувственных предметов, чем чище и нематериальнейиспользуемые им определения духовных понятий,тем отчетливее формируются звуки и темполнозвучней складываются в слова слоги, ибо то,что мы разделяем в отвлеченном мышлении, вглубине души составляет единство.
NOAM CHOMSKYNEW HORIZONS IN THE STUDY OF LANGUAGENew horizons in the study of languageThe study of language is one of the oldest
branches of systematic inquiry, tracing back toclassical India and Greece, with a rich andfruitful history of achievement. From adifferent point of view, it is quite young.
The major research enterprises of today tookshape only about 40 years ago, when some of theleading ideas of the tradition were revived andreconstructed, opening the way to what hasproven to be very productive inquiry.
That language should have exercised suchfascination over the years is not surprising.Thehuman faculty of language seems to be a true“species property,” varying little among humans
74
and without significant analogue elsewhere.Probably the closest analogues are found ininsects, at an evolutionary distance of abillion years. There is no serious reason todayto challenge the Cartesian view that the abilityto use linguistic signs to express freely-formedthoughts marks “the true distinction between manand animal” or machine, whether by “machine” wemean the automata that captured the imaginationof the seventeenth and eighteenth century, orthose that are providing a stimulus to thoughtand imagination today.
Furthermore, the faculty of language enterscrucially into every aspect of human life,thought, and interaction. It is largelyresponsible for the fact that alone in thebiological world, humans have a history,cultural evolution and diversity of anycomplexity and richness, even biological successin the technical sense that their numbers arehuge. A Martian scientist observing the strangedoings on Earth could hardly fail to be struckby the emergence and significance of thisapparently unique form of intellectualorganization. It is even more natural that thetopic, with its many mysteries, should havestimulated the curiosity of those who seek tounderstand their own nature and their placewithin the wider world.
Human language is based on an elementaryproperty that also seems to be biologicallyisolated: the property of discrete infinity,which is exhibited in its purest form by the
75
natural numbers 1, 2, 3, . ..Children do not 4New horizons in the study of language and mindlearn this property; unless the mind alreadypossesses the basic principles, no amount ofevidence could provide them. Similarly, no childhas to learn that there are three and four wordsentences, but no three-and-a half wordsentences, and that they go on forever; it isalways possible to construct a more complex one,with a definite form and meaning. Such knowledgemust come to us from “the original hand ofnature,” in David Hume’s phrase, as part of ourbiological endowment.
This property intrigued Galileo, who regardedthe discovery of a means to communicate our“most secret thoughts to any other person with24 little characters” (Galileo 1632/1661, end offirst day) as the greatest of all humaninventions.The invention succeeds because itreflects the discrete infinity of the languagethat these characters are used to represent.Shortly after, the authors of the Port RoyalGrammar were struck by the “marvellousinvention” of a means to construct from a fewdozen sounds an infinity of expressions thatenable us to reveal to others what we think andimagine and feel – from a contemporarystandpoint, not an “invention” but no less“marvellous” as a product of biologicalevolution, about which virtually nothing isknown, in this case.
The faculty of language can reasonably beregarded as a “language organ” in the sense in
76
which scientists speak of the visual system, orimmune system, or circulatory system, as organsof the body. Understood in this way, an organ isnot something that can be removed from the body,leaving the rest intact. It is a subsystem of amore complex structure. We hope to understandthe full complexity by investigating parts thathave distinctive characteristics, and theirinteractions. Study of the faculty of languageproceeds in the same way.
We assume further that the language organ islike others in that its basic character is anexpression of the genes. How that happensremains a distant prospect for inquiry, but wecan investigate the genetically determined“initial state” of the languagea cfulty in otherways. Evidently, each language is the result ofthe interplay of two factors: the initial stateand the course of experience. We can think ofthe initial state as a “language acquisitiondevice” that takes experience as “input” andgives the language as an “output” – an “output”that is internally represented in themind/brain. The input and the output are bothopen to examination: we can study the course ofexperience and the properties of the languagesthat are acquired. What is learned in this waycan tell us quite a lot about the initial statethat mediates between them.
Furthermore, there is strong reason tobelieve that the initial state is common to thespecies: if my children had grown up in Tokyo,they would speak Japanese, like other children
77
there. That means that evidence about Japanesebears directly on the assumptions concerning theinitial state for English. In such ways, it ispossible to establish strong empiricalconditions that the theory of the initial statemust satisfy, and also to pose several problemsfor the biology of language: How do the genesdetermine the initial state, and what are thebrain mechanisms involved in the initial stateand the later states it assumes? These areextremely hard problems, even for much simplersystems where direct experiment is possible, butsome may be at the horizons of inquiry.
The approach I have been outlining isconcerned with the faculty of language: itsinitial state, and the states it assumes.Suppose that Peter’s language organ is in stateL. an think of L as Peter’s “internalizedlanguage.”When I speak of a language here, thatis what I mean.
So understood, a language is something like“the way we speak and understand,” onetraditional conception of language.
Adapting a traditional term to a newframework, we call the theory of Peter’slanguage the “grammar” of his language. Peter’slanguage determines an infinite array ofexpressions, each with its sound and meaning.
In technical terms, Peter’s language“generates” the expressions of his language. Thetheory of his language is therefore called agenerative grammar. Each expression is a complexof properties, which provide “instructions” for
78
Peter’s performance systems: his articulatoryapparatus, his modes of organizing his thoughts,and so on. With his language and the associatedperformance systems in place, Peter has a vastamount of knowledge about the sound and meaningof expressions, and a corresponding capacity tointerpret what he hears, express his thoughts,and use his language in a variety of other ways.
Generative grammar arose in the context ofwhat is often called “the cognitive revolution”of the 1950s, and was an important factor in itsdevelopment. Whether or not the term“revolution” is appropriate, there was animportant change of perspective: from the studyof behavior and its products (such as texts), tothe inner mechanisms that enter into thought andaction. The cognitive perspective regardsbehavior and its products not as the object ofinquiry, but as data that may provide evidenceabout the inner mechanisms of mind and the waysthese mechanisms operate in executing actionsand interpreting experience. The properties andpatterns that were the focus of attention instructural linguistics find their place, but asphenomena to be explained along with innumerableothers, in terms of the inner mechanisms thatgenerate expressions. The approach is“mentalistic,” but in what should be anuncontroversial sense. It is concerned with“mental aspects of the world,” which standalongside its mechanical, chemical, optical, andother aspects. It undertakes to study a realobject in the natural world – the brain, its
79
states, and its functions – and thus to move thestudy of the mind towards eventual integrationwith the biological sciences. The “cognitiverevolution” renewed and reshaped many of theinsights, achievements, and quandaries of whatwe might call “the first cognitive revolution”of the seventeenth and eighteenth century, whichwas part of the scientific revolution that soradically modified our understanding of theworld. It was recognized at the time thatlanguage involves “the infinite use of finitemeans,” in Wilhelm von Humboldt’s phrase; butthe insight could be developed only in limitedways, because the basic ideas remained vague andobscure. By the middle of the twentieth century,advances in the formal sciences had providedappropriate concepts in a very sharp and clearform, making it possible to give a preciseaccount of the computational principles thatgenerate the expressions of a language, and thusto capture, at least partially, the idea of“infinite use of finite means .” Other advancesalso opened the way to investigation oftraditional questions with greater hope ofsuccess. The study of language change hadregistered major achievements. Anthropologicallinguistics provided a far richer understandingof the nature and variety of languages, alsoundermining many stereotypes. And certaintopics, notably the study of sound systems, hadbeen much advanced by the structural linguisticsof the twentieth century.
80
The earliest attempts to carry out theprogram of generative grammar quickly revealedthat even in the best studied languages,elementary properties had passed unrecognized,that the most comprehensive traditional grammarsand dictionaries only skim the surface.The basicproperties of languages are presupposedthroughout, unrecognized and unexpressed.Tha tis quite appropriate if the goal is to helppeople to learn a second language, to find theconventional meaning and pronunciation of words,or to have some general idea of how languagesdiffer.
But if our goal is to understand the languagefaculty and the states it can assume, we cannottacitly presuppose “the intelligence of thereader.”
Rather, this is the object of inquiry. The study of language acquisition leads to
the same conclusion. A careful look at theinterpretation of expressions reveals veryquickly that from the earliest stages, the childknows vastly more than experience has provided.That is true even of simple words. At peakperiods of language growth, a child is acquiringwords at a rate of about one an hour, withextremely limited exposure under highlyambiguous conditions. The words are understoodin delicate and intricate ways that are farbeyond the reach of any dictionary, and are onlybeginning to be investigated. When we movebeyond single words, the conclusion becomes evenmore dramatic. Language acquisition seems much
81
like the growth of organs generally; it issomething that happens to a child, not that thechild does.And while the environment plainlymatters, the general course of development andthe basic features of what emerges arepredetermined by the initial state. But theinitial state is a common human possession. Itmust be, then, that in their essentialproperties and even down to fine detail,languages are cast to the same mold. The Martianscientist might reasonably conclude that thereis a single human language, with differencesonly at the margins. As languages were morecarefully investigated from the point of view ofgenerative grammar, it became clear that theirdiversity had been underestimated as radicallyas their complexity and the extent to which theyare determined by the initial state of thefaculty of language. At the same time, we knowthat the diversity and complexity can be no morethan superficial appearance.
These were surprising conclusions,paradoxical but undeniable. They pose in a starkform what has become the central problem of themodern study of language: How can we show thatall languages are variations on a single theme,while at the same time recording faithfullytheir intricate properties of sound and meaning,superficially diverse? A genuine theory of humanlanguage has to satisfy two conditions:“descriptive adequacy” and “explanatoryadequacy.” The grammar of a particular languagesatisfies the condition of descriptive adequacy
82
insofar as it gives a full and accurate accountof the properties of the language, of what thespeaker of the language knows. To satisfy thecondition of explanatory adequacy, a theory oflanguage must show how each particular languagecan be derived from a uniform initial stateunder the “boundary conditions” set byexperience. In this way, it provides anexplanation of the properties of languages at adeeper level.
There is a serious tension between these tworesearch tasks. The search for descriptiveadequacy seems to lead to ever greatercomplexity and variety of rule systems, whilethe search for explanatory adequacy requiresthat language structure must be invariant,except at the margins. It is this tension thathas largely set the guidelines for research. Thenatural way to resolve the tension is tochallenge the traditional assumption, carriedover to early generative grammar, that alanguage is a complex system of rules, eachspecific to particular languages and particulargrammatical constructions: rules for formingrelative clauses in Hindi, verb phrases inSwahili, passives in Japanese, and so on.
Considerations of explanatory adequacyindicate that this cannot be correct.
The central problem was to find generalproperties of rule systems that can beattributed to the faculty of language itself, inthe hope that the residue will prove to be moresimple and uniform. About 15 years ago, these
83
efforts crystallized in an approach to languagethat was a much more radical departure from thetradition than earlier generative grammar hadbeen. This “Principles and Parameters” approach,as it has been called, rejected the concept ofrule and grammatical construction entirely:there are no rules for forming relative clausesin Hindi, verb phrases in Swahili, passives inJapanese, and so on. The familiar grammaticalconstructions are taken to be taxonomicartifacts, useful for informal descriptionperhaps but with no theoretical standing. Theyhave something like the status of “terrestrialmammal” or “household pet.” And the rules aredecomposed into general principles of thefaculty of language, which interact to yield theproperties of expressions. We can think of theinitial state of the faculty of language as afixed network connected to a switch box; thenetwork is constituted of the principles oflanguage, while the switches are the options tobe determined by experience. When the switchesare set one way, we have Swahili; when they areset another way, we have Japanese. Each possiblehuman language is identified as a particularsetting of the switches – a setting ofparameters, in technical terminology. If theresearch program succeeds, we should be ableliterally to deduce Swahili from one choice ofsettings, Japanese from another, and so onthrough the languages that humans can acquire.The empirical conditions of language acquisitionrequire that the switches can be set on the
84
basis of the very limited information that isavailable to the child. Notice that smallchanges in switch settings can lead to greatapparent variety in output, as the effectsproliferate through the system. These are thegeneral properties of language that any genuinetheory must capture somehow.
This is, of course, a program, and it is farfrom a finished product. he conclusionstentatively reached are unlikely to stand intheir present form; and, needless to say, onecan have no certainty that the whole approach ison the right track. As a research program,however, it has been highly successful, leadingto a real explosion of empirical inquiry intolanguages of a very broad typological range, tonew questions that could never even have beenformulated before, and to many intriguinganswers. Questions of acquisition, processing,pathology, and others also took new forms, whichhave proven very productive as well.Furthermore, whatever its fate, the programsuggests how the theory of language mightsatisfy the conflicting conditions ofdescriptive and explanatory adequacy. It givesat least an outline of a genuine theory oflanguage, really for the first time.
Within this research program, the main taskis to discover and clarify the principles andparameters and the manner of their interaction,and to extend the framework to include otheraspects of language and its use. While a greatdeal remains obscure, there has been enough
85
progress to at least consider, perhaps topursue, some new and more far-reaching questionsabout the design of language. In particular, wecan ask how good the design is. How close doeslanguage come to what some super-engineer wouldconstruct, given the conditions that thelanguage faculty must satisfy?
The questions have to be sharpened, and thereare ways to proceed.
The faculty of language is embedded withinthe broader architecture of the mind/brain. Itinteracts with other systems, which imposeconditions that language must satisfy if it isto be usable at all.W e might think of these as“legibility conditions,” in the sense that othersystems must be able to “read” the expressionsof the language and use them as “instructions”for thought and action.The sensorimotor systems,for example, have to be able to read theinstructions having to do with sound, that isthe “phonetic representations” generated by thelanguage.
The articulatory and perceptual apparatushave specific design that enables them tointerpret certain phonetic properties, notothers. These systems thus impose legibilityconditions on the generative processes of thefaculty of language, which must provideexpressions with the proper phonetic form. Thesame is true of conceptual and other systemsthat make use of the resources of the faculty oflanguage: they have their intrinsic properties,which require that the expressions generated by
86
the language have certain kinds of “semanticrepresentations,” not others.
We may therefore ask to what extent languageis a “good solution” to the legibilityconditions imposed by the external systems withwhich it interacts. Until quite recently thisquestion could not seriously be posed, evenformulated sensibly. Now it seems that it can,and there are even indications that the languagefaculty may be close to “perfect” in this sense;if true, this is a surprising conclusion.
What has come to be called “the MinimalistProgram” is an effort to explore thesequestions. It is too soon to offer a firmjudgment about the project. My own judgment isthat the questions can now profitably be placedon the agenda, and that early results arepromising. I would like to say a few words aboutthe ideas and the prospects, and then to returnto some problems that remain at the horizons.
The minimalist program requires that wesubject conventional assumptions to carefulscrutiny. The most venerable of these is thatlanguage has sound and meaning. In currentterms, that translates in a natural way to thethesis that the faculty of language engagesother 10 New horizons in the study of languageand mind systems of the mind/brain at two“interface levels,” one related to sound, andthe other to meaning. A particular expressiongenerated by the language contains a phoneticrepresentation that is legible to thesensorimotor systems, and a semantic
87
representation that is legible to conceptual andother systems of thought and action.
One question is whether there are levelsother than the interface levels: Are therelevels “internal” to the language, inparticular, the levels of deep and surfacestructure that have been postulated in modernwork? (see, for example, Chomsky 1965; 1981a;1986).The minimalist program seeks to show thateverything that has been accounted for in termsof these levels has been misdescribed, and is aswell or better understood in terms of legibilityconditions at the interface: for those of youwho know the technical literature, that meansthe projection principle, binding theory, Casetheory, the chain condition, and so on.
We also try to show that the onlycomputational operations are those that areunavoidable on the weakest assumptions aboutinterface properties. One such assumption isthat there are word-like units: the externalsystems have to be able to interpret such itemsas “Peter” and “tall.” Another is that theseitems are organized into larger expressions,such as “Peter is tall.”A third is that theitems have properties of sound and meaning: theword “Peter” begins with closure of the lips andis used to refer to persons. The languagetherefore involves three kinds of elements:
• the properties of sound and meaning, called“features”;
• the items that are assembled from theseproperties, called “lexical items”; and
88
• the complex expressions constructed fromthese “atomic” units.
It follows that the computational system thatgenerates expressions has two basic operations:one assembles features into lexical items, thesecond forms larger syntactic objects out ofthose already constructed, beginning withlexical items.
We can think of the first operation asessentially a list of lexical items. Intraditional terms, this list – called thelexicon – is the list of “exceptions,” arbitraryassociations of sound and meaning and particularchoices among the inflectional properties madeavailable by the faculty of language thatdetermine how we indicate that nouns and verbsare plural or singular, that nouns havenominative or accusative case, and so on. Theseinflectional features turn out to play a centralrole in computation. Optimal design wouldintroduce no new features in the course ofcomputation. There should be no indices orphrasal units and no bar levels (hence nophrase-structure rules or X-bar theory; seeChomsky New horizons in the study of language 111995c).W e also try to show that no structuralrelations are invoked other than those forced bylegibility conditions or induced in some naturalway by the computation itself. In the firstcategory we have such properties as adjacency atthe phonetic level, and argument-structure andquantifier-variable relations at the semanticlevel. In the second category, we have very
89
local relations between features, and elementaryrelations between two syntactic objects joinedtogether in the course of computation: therelation holding between one of these and theparts of the other is the relation of c-command;as Samuel Epstein (1999) has pointed out, thisis a notion that plays a central role throughoutlanguage design and has been regarded as highlyunnatural, though it falls into place in anatural way from this perspective. But weexclude government, binding relations internalto the derivation of expressions, and a varietyof other relations and interactions.
As anyone familiar with recent work will beaware, there is ample empirical evidence tosupport the opposite conclusion throughout.Worse yet, a core assumption of the work withinthe Principles-and-Parameters framework, and itsfairly impressive achievements, is thateverything I have just proposed is false – thatlanguage is highly “imperfect” in theserespects, as might well be expected. So it is nosmall task to show that such apparatus iseliminable as unwanted descriptive technology;or even better, that descriptive and explanatoryforce are extended if such “excess baggage” isshed. Nevertheless, I think that work of thepast few years suggests that these conclusions,which seemed out of the question before that,are at least plausible, and quite possiblycorrect.
Languages plainly differ, and we want to knowhow. One respect is in choice of sounds, which
90
vary within a certain range. Another is in theassociation of sound and meaning, which isessentially arbitrary. These are straightforwardand need not detain us. More interesting is thefact that languages differ in inflectionalsystems: case systems, for example.
We find that these are fairly rich in Latin,even more so in Sanskrit or Finnish, but minimalin English and invisible in Chinese. Or so itappears; considerations of explanatory adequacysuggest that here too appearance may bemisleading, and in fact, recent work indicatesthat these systems vary much less than appearsto be the case from the surface forms. Chineseand English, for example, may have the same casesystem as Latin, but the phonetic realization isdifferent. Furthermore, it seems that much ofthe variety of language can be reduced toproperties of inflectional systems. If this iscorrect, then language variation is located in anarrow part of the lexicon.
Legibility conditions impose a three-waydivision among the features assembled intolexical items:
1) semantic features, interpreted at thesemantic interface;
2) phonetic features, interpreted at thephonetic interface; and
3) features that are not interpreted ateither interface.
In a perfectly designed language, eachfeature would be semantic or phonetic, not
91
merely a device to create a position or tofacilitate computation.
If so, there are no uninterpretable formalfeatures. That is too strong a requirement, itseems. Such prototypical formal features asstructural case – Latin nominative andaccusative, for example – have no interpretationat the semantic interface, and need not beexpressed at the phonetic level. And there areother examples as well within inflectionalsystems.
In the syntactic computation, there seems tobe a second and more dramatic imperfection inlanguage design, at least an apparent one: the“displacement property” that is a pervasiveaspect of language: phrases are interpreted asif they were in a different position in theexpression, where similar items sometimes doappear and are interpreted in terms of naturallocal relations. Take the sentence “Clintonseems to have been elected.”We understand therelation of “elect” and “Clinton” as we do whenthey are locally related in the sentence “Itseems that they elected Clinton”: “Clinton” isthe direct object of “elect,” in traditionalterms, though “displaced” to the position ofsubject of “seems”; the subject and verb agreein inflectional features in this case, but haveno semantic relation; the semantic relation ofthe subject is to the remote verb “elect.”
We now have two “imperfections”:uninterpretable features, and the displacementproperty. On the assumption of optimal design,
92
we would expect them to be related, and thatseems to be the case: uninterpretable featuresare the mechanism that implements thedisplacement property.
The displacement property is never built intothe symbolic systems that are designed forspecial purposes, called “languages” or “formallanguages” in a metaphoric usage: “the languageof arithmetic,” or “computer languages,” or “thelanguages of science.” These systems also haveno inflectional systems, hence no uninterpretedfeatures. Displacement and inflection arespecial properties of human language, among themany that are ignored when symbolic systems aredesigned for other purposes, which may disregardthe legibility conditions imposed on humanlanguage by the architecture of the mind/brain.The displacement property of human language isexpressed in terms of grammaticaltransformations or by some other device, but itis always expressed somehow. Why language shouldhave this property is an interesting question,which has been discussed since the 1960s withoutresolution. My suspicion is that part of thereason has to do with phenomena that have beendescribed in terms of surface structureinterpretation; many of these are familiar fromtraditional grammar: topic-comment, specificity,new and old information, the agentive force thatwe find even in displaced position, and so on.If that is correct, then the displacementproperty is, indeed, forced by legibilityconditions: it is motivated by interpretive
93
requirements that are externally imposed by oursystems of thought, which have these specialproperties (so the study of language useindicates).These questions are currently beinginvestigated in interesting ways, which I cannotgo into here.
From the origins of generative grammar, thecomputational operations were assumed to be oftwo kinds: • phrase-structure rules that formlarger syntactic objects from lexical items, and• transformational rules that express thedisplacement property.
Both have traditional roots, but it wasquickly found that they differ substantiallyfrom what had been supposed, with unsuspectedvariety and complexity. The research programsought to show that the complexity and varietyare only apparent, and that the two kinds ofrules can be reduced to simpler form. A“perfect” solution to the problem of variety ofphrase-structure rules would be to eliminatethem entirely in favor of the irreducibleoperation that takes two objects already formedand attaches one to the other, forming a largerobject with just the properties of the target ofattachment: the operation we can call Merge.Recent work indicates that this goal may well beattainable.
The optimal computational procedure consists,then, of the operation
Merge and operations to construct thedisplacement property: transformationaloperations or some counterpart. The second of
94
the two parallel endeavors sought to reduce thetransformational component to the simplest form;though unlike phrase-structure rules, it seemsto be ineliminable. The end result was thethesis that for a core set of phenomena, thereis just a single operation Move – basically,move anything anywhere, with no propertiesspecific to languages or particularconstructions. How it applies is determined bygeneral principles interacting with the specificparameter choices – switch settings – thatdetermine a particular language. The operationMerge takes two distinct objects X and Y andattaches Y to X. The operation Move takes asingle object X and an object Y that is part ofX, and merges Y to X.
The next problem is to show that it is,indeed, the case that uninterpretable featuresare the mechanism that implements thedisplacement property, so that the two basicimperfections of the computational system reduceto one. If it turns out that the displacementproperty is motivated by legibility conditionsimposed by external systems of thought, as Ijust suggested, then the imperfections areeliminated completely and language design turnsout to be optimal after all: uninterpretedfeatures are required as a mechanism to satisfya legibility condition imposed by the generalarchitecture of the mind/brain.
The way this unification proceeds is quitesimple, but to explain it coherently would gobeyond the scope of these remarks. The basic
95
intuitive idea is that uninterpretable featureshave to be erased to satisfy the interfacecondition, and erasure requires a local relationbetween the offending feature and a matchingfeature that can erase it. Typically these twofeatures are remote from one another for reasonshaving to do with the way semanticinterpretation proceeds. For example, in thesentence “Clinton seems to have been elected,”semantic interpretation requires that “elect”and “Clinton” be locally related in the phrase“elect Clinton” for the construction to beproperly interpreted, as if the sentence wereactually “seems to have been electedClinton.”The main verb of the sentence, “seems,”has inflectional features that areuninterpretable: it is singular/thirdperson/masculine, properties that add nothingindependent to the meaning of the sentence,since they are already expressed in the nounphrase that agrees with it, and are ineliminablethere. These offending features of “seems”therefore have to be erased in a local relation,an explicit version of the traditionaldescriptive category of “agreement.”To achievethis result, the matching features of theagreeing phrase “Clinton” are attracted by theoffending features of the main verb “seems,”which are then erased under local matching.
But now the phrase “Clinton” is displaced.Note that only the features of “Clinton” are
attracted; the full phrase moves for reasonshaving to do with the sensorimotor system, which
96
is unable to “pronounce” or “hear” isolatedfeatures separated from the phrase in which theybelong. However, if for some reason thesensorimotor system is inactivated, then thefeatures alone raise, and alongside of suchsentences as “an unpopular candidate seems tohave been elected,” with overt displacement, wehave sentences of the form “seems to have beenelected an unpopular candidate”; here the remotephrase “an unpopular candidate” agrees with theverb “seems,” which means that its features havebeen attracted to a local relation with “seem”while leaving the rest of the phrase behind. Thefact that the sensorimotor system has beeninactivated is called “covert movement,” aphenomenon with quite interesting properties. Inmany languages – Spanish for example – there aresuch sentences. English has them too, though itis necessary for other reasons to introduce thesemantically empty element “there,” giving thesentence “there seems to have been elected anunpopular candidate”; and also, for quiteinteresting reasons, to carry out an inversionof order, so it comes out “there seems to havebeen an unpopular candidate elected.” Theseproperties follow from specific choices ofparameters, which have effects through thelanguages generally and interact to give acomplex array of phenomena which are onlysuperficially distinct. In the case we arelooking at, all reduce to the simple fact thatuninterpretable formal features must be erasedin a local relation with a matching feature,
97
yielding the displacement property required forsemantic interpretation at the interface.
I’d like to finish with at least briefreference to other issues, having to do with theways the internalist study of language relatesto the external world. For simplicity, let’skeep to simple words. Suppose that “book” is aword in Peter’s lexicon. The word is a complexof properties, phonetic and semantic. Thesensorimotor systems use the phonetic propertiesfor articulation and perception, relating themto external events: motions of molecules, forexample. Other systems of mind use the semanticproperties of the word when Peter talks aboutthe world and interprets what others say aboutit.
There is no far-reaching controversy abouthow to proceed on the sound side, but on themeaning side there are profound disagreements.Empirically-oriented studies seem to me toapproach problems of meaning rather in the waythey study sound, as in phonology and phonetics.
They try to find the semantic properties ofthe word “book”: that it is nominal not verbal,used to refer to an artifact not a substancelike water or an abstraction like health, and soon. One might ask whether these properties arepart of the meaning of the word “book” or of theconcept associated with the word; on currentunderstanding, there is no good way todistinguish these proposals, but perhaps someday an empirical issue will be unearthed. Eitherway, some features of the lexical item “book”
98
that are internal to it determine modes ofinterpretation of the kind just mentioned.
Investigating language use, we find thatwords are interpreted in terms of such factorsas material constitution, design, intended andcharacteristic use, institutional role, and soon. Things are identified and assigned tocategories in terms of such properties – which Iam taking to be semantic features – on a parwith phonetic features that determine its sound.The use of language can attend in various waysto these semantic features. Suppose the libraryhas two copies of Tolstoy’s War and Peace, Petertakes out one, and John the other. Did Peter andJohn take out the same book, or different books?If we attend to the material factor of thelexical item, they took out different books; ifwe focus on its abstract component, they tookout the same book. We can attend to bothmaterial and abstract factors simultaneously, aswhen we say that “the book that he is planningwill weigh at least five pounds if he everwrites it,” or “his book is in every store inthe country.”
Similarly, we can paint the door white andwalk through it, using the pronoun “it” to referambiguously to figure and ground. We can reportthat the bank was blown up after it raised theinterest rate, or that it raised the rate tokeep from being blown up. Here the pronoun “it,”and the “empty category” that is the subject of“being blown up,” simultaneously adopt both thematerial and institutional factors.
99
The facts about such matters are often clear,but not trivial. Thus referentially dependentelements, even the most narrowly constrained,observe some distinctions but ignore others, inways that vary for different types of words incurious ways. Such properties can beinvestigated in many ways: language acquisition,generality among languages, invented forms, etc.What we discover is surprisingly intricate; and,not surprisingly, known in advance of anyevidence, hence shared among languages. There isno a priori reason to expect that human languagewill have such properties; Martian could bedifferent. The symbolic systems of science andmathematics surely are. No one knows to whatextent the specific properties of human languageare a consequence of general biochemical lawsapplying to objects with general features of thebrain, another important problem at a stilldistant horizon.
An approach to semantic interpretation insimilar terms was developed in interesting waysin seventeenth- and eighteenth-centuryphilosophy, often adopting Hume’s principle thatthe “identity which we ascribe” to things is“only a fictitious one”, established by thehuman understanding. Hume’s conclusion is veryplausible. The book on my desk does not havethese strange properties by virtue of itsinternal constitution; rather, by virtue of theway people think, and the meanings of the termsin which these thoughts are expressed. Thesemantic properties of words are used to think
100
and talk about the world in terms of theperspectives made available by the resources ofthe mind, rather in the way phoneticinterpretation seems to proceed. Contemporaryphilosophy of language follows a differentcourse. It asks to what a word refers, givingvarious answers. But the question has no clearmeaning. The example of “book” is typical. Itmakes little sense to ask to what thing theexpression “Tolstoy’s War and Peace” refers, whenPeter and John take identical copies out of thelibrary. The answer depends on how the semanticfeatures are used when we think and talk, oneway or another. In general, a word, even of thesimplest kind, does not pick out an entity ofthe world, or of our “belief space.”Conventional assumptions about these mattersseem to me very dubious.
I mentioned that modern generative grammarhas sought to address concerns that animated thetradition; in particular, the Cartesian ideathat “the true distinction” between humans andother creatures or machines is the ability toact in the manner they took to be most clearlyillustrated in the ordinary use of language:without any finite limits, influenced but notdetermined by internal state, appropriate tosituations but not caused by them, coherent andevoking thoughts that the hearer might haveexpressed, and so on. The goal of the work Ihave been discussing is to unearth some of thefactors that enter into such normal practice.Only some of these, however. Generative grammar
101
seeks to discover the mechanisms that are used,thus contributing to the study of how they areused in the creative fashion of normal life. Howthey are used is the problem that intrigued theCartesians, and it remains as mysterious to usas it was to them, even though far more isunderstood today about the mechanisms that areinvolved.
In this respect, the study of language isagain much like that of other organs. Study ofthe visual and motor systems has uncoveredmechanisms by which the brain interpretsscattered stimuli as a cube and the arm reachesfor a book on the table. But these branches ofscience do not raise the question of how peopledecide to look at a book on the table or to pickit up, and speculations about the use of thevisual or motor systems, or others, amount tovery little. It is these capacities, manifestedmost strikingly in language use, that are at theheart of traditional concerns: for Descartes inthe early seventeenth century, they are “thenoblest thing we can have” and all that “trulybelongs” to us. Half a century before Descartes,the Spanish philosopher-physician Juan Huarteobserved that this “generative faculty” ofordinary human understanding and action isforeign to “beasts and plants” though it is alower form of understanding that falls short oftrue exercise of the creative imagination.
Even the lower form lies beyond ourtheoretical reach, apart from the study ofmechanisms that enter into it. In a number of
102
areas, language included, a lot has been learnedin recent years about these mechanisms. Theproblems that can now be faced are hard andchallenging, but many mysteries still lie beyondthe reach of the form of human inquiry we call“science”, a conclusion that we should not findsurprising if we consider humans to be part ofthe organic world, and perhaps one we should notfind distressing either.
103