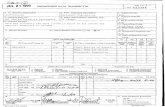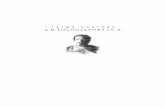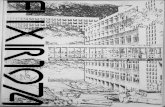Furmanov I A Psikhologicheskie osnovy povedeni
Transcript of Furmanov I A Psikhologicheskie osnovy povedeni
ФУРМАНОВ И.А.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ
Курс лекций2002
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ4Виды активности 4Параметры личностной детерминации действия 7Различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей 9Индивид и ситуация 9Взаимодействие индивида с ситуацией 10Взаимодействие как процесс взаимовлияния 12Поведение: ситуация и действие 13ПСИХОАНАЛИЗ 17Влечения - движущая сила поведения 18Характеристики влечений 19Закономерности проявления влечений 21Ошибочные действия 22Случайные и симптоматические действия 38ТЕОРИЯ ПОЛЯ 39Основные понятия теории поля 39Модель личности.40Модель окружения46Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля 48ТЕОРИЯ НАУЧЕНИЯ 57Теория классического (респондентного) обусловливания 58Принципы классического обусловливания 58Феномены респондентного обусловливания 60Теория оперантного обусловливания 62Процесс: оперантного обусловливания 62Типы подкреплений 64Генерализация и различение стимулов 65Режимы подкрепления 68Виды подкрепления 72Контроль поведения посредством аверсивных стимулов 73СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ 77Предвиденные последствия 78Саморегуляция и познание в поведении 79Научение через моделирование 80Основные процессы научения через наблюдение 82Подкрепление в научении через наблюдение 86Косвенное обусловливание 87Самоподкрепление89
ВВЕДЕНИЕЖизнь любого человека представляет собой непрерывный поток
активности. Этот поток включает не только разного рода действия илисообщения, но и переживания—психическую активность в виде восприятий,представлений, чувств и мыслей, даже если она и недоступна внешнемунаблюдению и не производит каких-либо непосредственных изменений вовнешнем мире. Формы активности варьируют от образов и представлений,возникающих во снах и грезах, до действий, произвольно осуществляемыхпо заранее намеченному плану.
Если исходить из этого, то перед исследователями человеческогоповедения встает масса вопросов. Например: по каким основаниям можновычленять в потоке активности отдельные единицы и относить их копределенным классам? Как внутренне структурирована каждая единица?Какие процессы лежат в основе той или иной их организации? и т. д.Вопросы такого рода стоят как перед психологией в целом, так и передлюбой из ее частных областей. Часть этих вопросов связана спсихологией мотивации, но к ее проблематике относятся лишь такие формыактивности, которые характеризуются направленностью на достижениенекоторой цели. Исследования мотивации призваны обосновать расчленениепотока активности на единицы прежде всего с точки зрения вопроса«Зачем?» – это потребности, мотивы, цели. Конкретно этот вопрос можносформулировать весьма различным образом. Например: насколькоправомерно соотнесение различных единиц активности с единицами одноготипа или отграничение их от единиц другого типа? Как изменяютсяпотребности, мотивы и цели одного типа в течение жизни индивида икакими могут быть индивидуальные различия? Почему в одних ситуационныхусловиях человек выбирает один стиль поведения, а не какую-то инуюактивность и некоторое время с определенной настойчивостью стремитсядостичь определенных целей?
Разумеется, есть важные проблемы, которые исследования мотивациине затрагивают, поскольку их разрешение почти не связано с ответом навопрос «Зачем?». К ним относится проблема структуры активности,единиц, стадий и процессов, из которых она складывается, и координацииэтих компонентов. В частности, всевозможные функциональныеспособности, такие, как восприятие, переработка информации, речь,моторные навыки, без которых активность не могла бы осуществляться, висследованиях мотивации даже не затрагиваются. Их изучением занимаютсядругие разделы психологии, прежде всего психология познавательныхпроцессов.
ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
Виды активности
Виды активности можно различать не только по тому, исчерпываютсяли они переживанием или включают также поведение (поведение безэлемента переживания представить трудно). В психологии мотивацииразличают произвольную и непроизвольную активность в зависимости от ихсоответствия интенции переживающего или действующего субъекта, отконтроля их целесообразности и коррекции (или возможности такойкоррекции).
Произвольной активностью можно назвать поведение человека, когдаизвестно, что отдельные ее стадии согласуются с меняющимися условиямиситуации и продолжаются ровно столько, сколько необходимо длядостижения определенного результата. Это активность, при которойосознаны преследуемая цель, возможность контроля за ходомразворачивающихся процессов. Только применительно к подобным единицамактивности имеет смысл ставить вопрос «Зачем?» и искать мотивацию.Произвольная активность всегда проходит на фоне более или менееотчетливых ожиданий предполагаемого результата действий или возможныхпоследствий такого результата. Наиболее явно эти ожидания выступают вволевых действиях, однако они прослеживаются и в сугубо импульсивныхреакциях. Даже когда волевые действия автоматизируются до уровнянавыков, ожидания продолжают имплицитно играть свою роль в регуляцииактивности, что сразу же становится очевидным при нарушении протеканияавтоматизма.
Непроизвольными (или, по меньшей мере, промежуточными) являютсяединицы активности, связанные с переживаниями типа сна или грезы,когда человек предается размышлениям. К непроизвольному поведениюотносятся как чисто рефлекторные ответы (например, мигательный рефлекси ориентировочная реакция), так и условные сигнальные реакции. Следуеттакже выделить единицы поведения, нежданно, наподобие инородного тела,вклинивающиеся в упорядоченную последовательность действия и иногдадаже разрушающие ее. Они напоминают то, что в психоанализеобозначалось как ошибочные или симптоматические действия, происходящиес субъектом непредвиденно и необъяснимо. Применительно кнепроизвольной активности, видимо, лишен смысла вопрос «Зачем?»,поскольку ей нельзя приписать никакого намерения. Это, однако, незначит, что подобная активность беспричинна, нецелесообразна и неподдается объяснению. Ее объяснение связано с ответом на вопрос«Почему?», а не «Зачем?», например с раскрытием причинных зависимостейорганизмических процессов.
Среди единиц произвольного поведения следует различать действия инавыки.
В действиях находит выражение не только присущая поведениюживотных целенаправленность, но еще и нечто характеризующееисключительно человека. Речь идет о так называемой рефлексивностидействия. Рефлексивность означает, что действие сопровождается особого
рода «обратной связью» — субъект осознает свое действие. До и во времянего он может оценивать намеченную цель с точки зрения перспективуспеха, корректировать ее с учетом различных норм, чувствовать себяответственным за возможные результаты, продумывать их последствия длясебя и окружающих, а также сообщать все это другим людям.
Напротив, устоявшиеся способы действия (привычки, навыки), как,например, фиксированные в субкультуре процедуры приветствия или, скажем,навыки вождения автомобиля, есть активность, ставшая настолько заученной, чтопревратились в автоматизмы. Навыки лишены рефлексивности, которая, однако,восстанавливается при нарушении протекания деятельности. Действия, какправило, включают в себя отдельные сегменты в форме навыков.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРСС начала столетия интенсивно изучается научение у животных,
прежде всего закрепление в виде навыков реакций. Под воздействиемголода подопытные животные постепенно сводили свою активность ктаким «реакциям», которые обеспечивали их кормом. Посколькуактивность с самого начала считалась обусловленной стимуляцией, топод поведением понималось простое реагирование. Так как при этомрассмотрение внешне ненаблюдаемой деятельности — переживания —исключалось как ненаучное, вся изучаемая активность редуцировалась кдвижениям и секреторным выделениям организма. При попытках перенестиполученные таким образом бихевиористские теории «стимул— реакция» начеловека его поведение также рассматривалось как реакции иформирование навыков, а не как действие.В то время когда Уотсон [J. Watson, 1913; 1914] в исследовательскойпрограмме бихевиоризма определял поведение как реакции и навыки,Вебер [М. Weber, 1921], разведя действие и реактивное поведение,сделал первое центральным понятием социологии. Действие, по Веберу,—это любое человеческое поведение, которое обладает для субъектасмыслом. С точки зрения внешнего наблюдателя возможность понятьсмысл или побуждения поведения служит основанием для егоквалификации как действия. Если же попытаться свести поведение корганическим процессам, то хотя эта попытка и может привести кпричинному объяснению, но на ее основе нельзя установить смысловуюсвязь, а значит, и понять действие.
Активность еще можно различать и по тому, насколько онанормативна [rule-following; R. Peters, 1958] или индивидуальна, т. е.отклоняется от правил, от привычного.
Нормативность. Почти к любым жизненным ситуациям применимыправила поведения, обязательные в данной субкультуре и восходящие к еетрадициям. Причины поступков, их цели и средства часто очевидны длясовременников, принадлежащих к той же культурной среде, поэтому принормативном поведении вряд ли кому-нибудь, исключая психологов,вздумается ставить вопрос «Зачем?». Люди определенным способом утоляютголод и жажду, вступают в союз с партнером противоположного пола,воспитывают детей, приобретают друзей, пытаются улучшить для себя(иногда и для других) социальные и экономические условия, стремятсяпобольше узнать и понять, а также делают многое другое.
Индивидуальность. Действие становится индивидуальным, когда егонельзя отнести к конвенциональным ни на стадии целеполагания, ни настадии его осуществления. В отличие от нормативного индивидуальноедействие требует ответа на вопрос «Зачем?», т. е. ответа на вопрос омотивах. Заметим, что иногда такое действие требует от человека иоправдания своего поступка. Так, в случае преступления ищут его мотив,а преступнику приходится отвечать за содеянное. Индивидуальнымдействие является:
когда ни влияние, ни принуждение, ни отрицательные последствияне могут заставить человека отклониться от избранного курса;
когда человек, столкнувшись с привычной для него ситуацией,ведет себя в ней иначе, нежели раньше;
когда действие само по себе оказывается противоречивым; когда человек в различных ситуациях ведет себя не нормативно-
различно, как другие, а одинаково.Разумеется, между нормативным и индивидуальным действием нет
жесткой границы. И в нормативном действии можно при ближайшемрассмотрении обнаружить индивидуальные различия, которые могут вызватьвопросы «Зачем?» или «Почему?». Так, действия разных людей водинаковых условиях могут определяться одними и теми же целями, норазличаться по степени энергичности и упорства; или, скажем, одни людина разнообразные ситуации отвечают разнообразными действиями, в товремя как другие в тех же ситуациях действуют более однообразно.
Индивидуальным действие делает то, что оно всецело неопределяется условиями ситуации. Такое впечатление часто возникает,когда психологу приходится обращать внимание на различия между людьми,действующими в одинаковых условиях. По-видимому, нечто находящееся улюдей где-то «внутри» побуждает, толкает или заставляет их в даннойситуации поступать так, а не иначе.
Параметры личностной детерминации действияВероятно, существуют специфические свойства, определяющие
индивидуальные различия в человеческих желаниях, влечениях,стремлениях, намерениях, мотивах или в чем-то еще. Конкретно речь идето личностной детерминации действия. Здесь следует опираться наследующие параметры.
Параметр 1. Степень соответствия данного действия действиям другихлюдей (индивидуальные различия). Чем меньше согласуется действиечеловека с действиями большинства людей в той же ситуации, тем вбольшей степени оно обусловлено личностными факторами. Пример: толпалюдей неподвижно стоит вокруг жертвы аварии, и лишь один наклоняется,чтобы помочь. Этого человека, по-видимому, отличает большая готовностьк помощи.
Параметр 2. Степень соответствия данного действия действиямчеловека в других ситуациях (стабильность по отношению к ситуациям).Чем однотипнее действует человек в различных ситуациях, тем сильнееего поведение обусловлено личностными факторами. Пример: человекобсуждает свои профессиональные дела не только на работе, но и на
загородной прогулке, более того, он готов превратить любую вечеринку врабочее совещание. Скорее всего, у этого человека очень высокамотивация достижения.
Параметр 3. Степень соответствия данного действия действиямчеловека в аналогичных ситуациях в прошлом (стабильность во времени).Чем чаще и чем заметнее человек при повторных ситуациях меняет своеповедение, тем в большей степени оно детерминировано личностнымифакторами (при условии, что на ситуацию не влияют дополнительныевнешние обстоятельства). Пример: школьник впервые побарывает искушениесписать контрольную, хотя возможности для этого по-прежнемублагоприятны, а способности его не улучшились. Вероятно, он сталчестнее, достиг более высокой ступени морального развития.
По мере того как по всем трем параметрам действие становится всеболее индивидуальным, оно все в меньшей степени начинает определятьсявнешними обстоятельствами и все сильнее зависит от своеобразия илиличностных особенностей действующего субъекта. Поэтому либо субъектыобладают различными по виду и формам проявления мотивационнымидиспозициями, либо причины меняющейся мотивации обусловлены самойситуацией (например, изменившимися внешними обстоятельствами); впротивном случае действия следует охарактеризовать как случайные.Именно такое устранение «Случайно-Появляющегося», «Сразу-Не-Объяснимого» питает любую (наивную или научную) теорию мотивации. Кэтому стремится любая концепция психологии личности, дифференциальнойпсихологии и психодиагностики. Прежние же характерологии и типологииличности тем более полны объяснений причин, оснований, мотивов, целейили смысла индивидуального действия.
Логика психологических ответов на вопрос «Зачем?» в своей основепроста. Если рассматривать действия (или их результаты) как следствия,то в простейшем случае их причины можно отнести либо к ситуации, либок личности. Но эти причины не всегда локализуются так просто. Чаще изуказанных потенциальных источников детерминации истинным оказываетсятот, который ковариирует с наблюдаемым воздействием. Если в разныхситуациях все люди (или большая их часть) действуют по-разному, то сдействием ковариирует не личность, а ситуация, и причину разнообразияактивностей следует искать в ситуациях. Если, например, в разныхситуациях одна часть людей постоянно действует одним образом, а другая— другим, то с действиями ковариирует не ситуация, а личность, ипричину следует искать в ней. Между этими двумя экстремальнымислучаями находятся и такие действия, причины которых следует искатьотчасти в ситуации, а отчасти в личности. Иными словами, эти дваисточника детерминации непосредственно связаны между собой.
Здесь можно рассмотреть следующие закономерности взаимосвязанностиличностных и ситуативных детерминант :
Более сложным представляется случай, когда при повторениичерез некоторое время той же ситуации наблюдается изменение поведения.Очевидно, либо ситуация не является значимой, либо ее повторениевсякий раз сопровождается ковариирующими с действием разнымиобстоятельствами.
Если такие обстоятельства оказываются неизвестными, топовторяющаяся ситуация может рассматриваться как искомый детерминант –действие ковариирует с частотой ее повторения. Правда, иногда в этомслучае по мере своего повторения ситуация все в меньшей степениопределяет поведение (например, может играть роль привыкание илипереосмысление ситуации субъектом).
Если же изменение поведения в повторяющейся ситуацииковариирует с возрастом, то причину такого изменения следует искать вличности, в ее развитии.
Если же, отсутствует ковариация со специфическимиобстоятельствами повторяющейся ситуации, с последовательностью ееповторений, с возрастом человека, но наблюдается ковариация с самимисубъектами (лишь некоторые из них проявляют неповторяемость действия).В этом случае напрашивается предположение о личностных изменениях этихиндивидов, например изменениях мотивов или установок.
С выяснением особенностей этой взаимообусловленности связаныисследования атрибуции, многочисленные модели объяснения причинуспехов или неудач действия и пр.
Различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей
Три указанных параметра связаны с двумя проблемными областями:межиндивидуальные и интраиндивидуальные различия поведения.
Межиндивидуальные различия: соответствие действия поведению других людей (параметр 1); стабильность по отношению к ситуациям, особенно, если
постоянство действий в разных ситуациях, скорее, выглядит какотклонение от естественного поведения, а не как обусловленноевременем изменение (параметр 2).
Интраиндивидуальные различия стабильность во времени (параметр 3). Было замечено, что при внешнем наблюдении человек в рамках одной
ситуации более склонен сопоставлять одновременные или почтиодновременные события, а не события, изрядно отстоящие друг от другаво времени. Кроме того, желание сравнить действия разных людейвозникает, пожалуй, чаще, чем желание сравнить поступки одногочеловека в разные периоды времени.
Вероятно, является закономерным, что на чем бы ни строилосьнаивное объяснение поведения других людей, оно скорее будет связано смежиндивидуальной, чем с интраиндивидуальной проблематикой, вероятно,потому, что суждения об интраиндивидуальных изменениях строятся наинформации, охватывающей длительный период времени. Внешнийнаблюдатель редко располагает подобными сведениями.
Индивид и ситуацияНекоторое время пользовалась популярностью теория свойств,
которая пыталась свести причины поведения исключительно к личности(точнее, к ее диспозициям). Вместе с тем сторонниками этой теории было
упущено из виду иное влияние на человеческое поведение, а именно –давление со стороны ситуации. Действительно, разве люди изначальноделятся на честных и бесчестных? Разве не в определенных ситуациях онистановятся таковыми?
Подобная локализация причинности имеет под собой ряд оснований: совершенно очевидно, что нельзя свести все к объяснению
человеческого поведения, основанному на наивном внешнем наблюдении(когда наблюдатель при объяснении руководствуется эпизодическимисвидетельствами и примерами отклонения в поступках);
очевидная неоднородность поведения по отношению к ситуациям(например, в схожих ситуациях поведение одного человека не так ужоднотипно, как можно было ожидать при предположении, что действиецеликом основывается на имеющихся диспозициях);
невозможность исключения влияния на поведение человекаособенностей ситуации (в частности, в самом субъекте имеют местоизменяющиеся и обусловливающие поведение состояния и процессы. Онивызываются ситуацией и часто обозначаются как мотивации. К примеру,так называемые «динамические» теории поведения – психоанализ Фрейда итеория поля Левина – первоначально в своей проблематике исходили изэтой позиции;
использование методов внешнего наблюдения с контролемусловий, (будь то в эксперименте или при планомерном сборе данных)позволило непосредственно заняться изучением влияния ситуационныхособенностей, стимулов, на поведенческие изменения (например, черезвыведение «чистых линий» подопытных животных или через сравнениемонозиготных близнецов). Экспериментальное выявление условийосуществления действия означает планомерное вмешательство дляограничения влияния всего, что поддается внешнему воздействию.Воздействию, однако, поддаются не понимаемые как нечто неизменноеличностные диспозиции, а ситуации, в которых совершается действие. Этиситуации и есть те «независимые» переменные, которые систематическиварьируются в эксперименте таким образом, что их влияние становитсяочевидным.
Таким образом, ясно, что в исследовании ситуационных причиндействия интерес направлен на выявление причин, обусловливающихизменение поведения во времени: приспособление живого существа кменяющимся ситуационным условиям. К этому сводится все научение, равнокак и индивидуальное развитие в ранние, пластичные, периоды жизни.Индивидуальные различия остаются вне сферы внимания. Как бы они нивозникали (например, как различные исходные предпосылки,предшествующие фазе научения), их элиминируют или контролируют.Действие в целом оказывается при этом в значительной степениобусловлено ситуацией, и во времени оно изменяется вследствиенакопления опыта.
Взаимодействие индивида с ситуацией
Объяснение поведения с этой позиции представляет собой синтез,
преодолевающий крайности односторонней локализации причин поведениякак личностно центрированной теории свойств, так и ситуационноцентрированного ситуационизма. Конечно, можно представить предельныеслучаи, когда поведение определяется только свойствами личности илитолько ситуацией: в первом случае это нечто специфическипсихопатологическое, во втором – нечто крайне автоматизированное,поведение по типу «стимул—реакция». Но, как правило, в промежуточныхслучаях поведение обусловлено как личностными, так и ситуационнымифакторами и, более того, является при этом результатом взаимовлиянияиндивидуальных диспозиций и особенностей актуальной ситуации.
Целый ряд экспериментальных исследований подтвердили тезис остатистическом взаимодействии личности и поведения, т.е. те или иныеповеденческие паттерны не объяснимы простым суммарным вкладом личностных иситуационных факторов – одинаковые особенности ситуации при различныхдиспозициях по-разному, порой даже противоположно, влияют на поведение.
Экспериментальное исследование Е. French (1958)Итоговым действием в этом эксперименте выступал результат
группы. В двух группах из четырех человек каждому испытуемомудавалось по 5 предложений, из которых всем вместе нужно былосоставить связный рассказ. Группы были подобраны однородно посочетанию двух мотивационных диспозиций. У испытуемых одной группыбыл силен мотив достижения и слаб мотив сотрудничества, у испытуемыхдругой группы— наоборот. Кроме того, в одной и той жеэкспериментальной ситуации варьировался характер поощрения. Вперерыве экспериментатор делал одобрительные замечания, касавшиесялибо трудолюбия, либо слаженности работы группы. Как показываютрезультаты эксперимента, группы с преобладанием мотива достиженияпоказывали лучшие результаты при поощрении их трудолюбия, а группы спреобладанием мотива сотрудничества – при поощрении слаженности.
Общую формулу поведения (V) как функции (f) актуальногосостояния субъекта (Р) и актуально воспринимаемого окружения (U) далв 1936 г. Левин:
V=f (Р, U).Влияние актуального состояния субъекта и состояния ситуации(окружения) обоюдно зависят друг от друга. В первом примере силамотива достижения, повышающая эффективность соответствующихдействий, проявляется больше всего при подкреплении главного мотиваситуационным стимулом, по своему содержанию сопряженным с этиммотивом, например при поощрении трудолюбия в группе с преобладаниеммотива достижения и кооперации в группе с преобладанием мотивасотрудничества для них предпочтениях.
Вместе с тем, К. Бауэрсом (1973) были получены интересныерезультаты исследований, позволившие выяснить, насколько различия вповедении обусловлены различиями индивидуальными, ситуационными иливзаимодействием тех и других. Подсчеты по всем исследованиям показали,что чисто личностными факторами объясняется всего лишь 12,7% дисперсииповедения. Доля ситуационных факторов еще меньше—10,2%. Оснований,
чтобы решительно солидаризоваться с теориями свойств или сситуационизмом, как видим, мало. Напротив, взаимодействием междуличностью и ситуацией объясняется значительно большая доля дисперсии,а именно 20,8%. В остальном поведенческие зависимые переменные недавали никаких оснований предпочитать как более влиятельный одинисточник детерминации другому.
Действительно, если продолжить разбор причин поведения, то вконце концов можно столкнуться со сложной гносеологической проблемой.Разве возможно полностью и в абсолютно объективной форме разграничитьличностные и ситуационные факторы? Действующий субъект без ситуациистоль же немыслим, как и ситуация без субъекта. Уже само по себевосприятие и понимание ситуации является результатом специфическогоповедения, в основе которого лежат личностные особенности переработкиинформации. При таком понимании любое поведение должно рано или позднораствориться в непрерывном, двустороннем процессе взаимодействия.«Ситуации есть функция личности в той же степени, в какой поведениеличности есть функция ситуации» [К. Bowers, 1973].
Взаимодействие как процесс взаимовлияния
Предположение о взаимодействии в данном случае весьмаестественно. Его можно трактовать так, что личностные диспозиции иособенности ситуации не противостоят друг другу как внешнее ивнутреннее. И то и другое в психологическом взаимодействиирепрезентировано в когнитивных схемах, которые исключительно важны дляпонимания особенностей актуальных ситуаций и собственных личностныхтенденций (диспозиций). Когнитивные схемы непрестанно конструируются иреконструируются в циклических процессах, включающих действие ивоспринимаемую обратную связь с его последствиями.
Понимание взаимодействия как процесса взаимовлияния выходит запределы рассмотренного выше статистического понятия взаимодействия.При статистическом взаимодействии каждая независимая переменная(личность или ситуация) оказывает лишь однозначно направленное влияниена зависимую переменную (поведение). Последняя может меняться,сочетаясь с другими независимыми переменными. Итоговое поведение неоказывает обратного влияния на независимые переменные – ни наличность, ни на ситуацию. То и другое рассматриваются какизолированные и неизменные целостности. То же имеет место, когда речьидет не о статистическом взаимодействии, а о двух суммарных эффектах.
Еще одно близкое к только что изложенному пониманиевзаимодействия, неявно включающее промежуточные когнитивные процессытипа ассимиляции и аккомодации схем, подчеркивает осуществляемое черездеятельность обратное влияние на личность и на ситуацию. Наши действиявлияют на ситуационные переменные, которые меняют личностныепеременные так, что меняется само действие, и т. д. В результатевозникает циклический процесс непрерывного взаимного воздействия ипреобразования, в котором субъект, поведение и ситуация обусловливаютдруг друга и обусловлены друг другом [W. Overton, H. Reese, 1973].
В этом смысле Д Магнуссоном и Н. Эндлером [1977] были
сформулировали четыре «базисных элемента» психологически адекватногопонятия взаимодействия:
1. Актуальное поведение есть функция непрерывногомногонаправленного процесса взаимодействия или обратной связи междуиндивидом и ситуациями, в которые он включен.
2. В этом процессе индивид выступает активным деятелем,преследующим свои цели.
3. На личностной стороне взаимодействия существенными причинамиповедения оказываются когнитивные и мотивационные факторы.
4. На стороне ситуации решающей причиной становится топсихологическое значение, которое ситуация имеет для индивида.
Понимаемое таким образом взаимодействие позволяет расстаться спредставлением, согласно которому ситуация всегда предшествует вовремени действию и поэтому является ничем не обусловленным стимулом,на который реагирует индивид. Отношения следования и зависимостинеобходимо перевернуть. Индивиды отыскивают и даже формируют наличныеситуации в соответствии со своими личностными диспозициями. Они,следовательно, сами создают собственную ситуационную специфичность,априори ограничивают множество возможных ситуационных влияний, лавируямежду ними и расставляя акценты.
Например, это очевидное направление анализа взаимодействияиндивида и ситуации Р. Уочтел (1973) описал следующим образом.
«... следует выяснить, почему некоторые люди так часто попадают впохожие ситуации. Почему один человек предпочитает находиться вобществе властных женщин, а другой весь поглощен работой и умудряетсяпревратить любые сборища в рабочие совещания, а третий постоянно имеетдело с более слабыми, запуганными им людьми, от которых ему труднождать искренности?».
Поведение: ситуация и действиеТеории не только могут быть более или менее «экономичными», т. е.
использовать большее или меньшее число переменных и приписывать имкачество когнитивных процессов, процессов переработки информации.Такие теории восходят прежде всего к «психологическому бихевиоризму»Толмена [Е. Tolman, 1932; 1955] и теории поля Левина [К. Lewin, 1938],большее или меньшее значение, в их основе могут также лежать различныеобъяснительные модели поведения. Это становится заметно при подробномразборе того, как трактуются основные понятия, используемые дляанализа поведения.
Таблица 1.5Четыре группы теорий по Вайнеру [1972, р. 9]
Классификация Структура Тип объясненияМеханистическая S—R Поведение объясняется на
основании связи «стимул—реакция» (S—R). При анализеповедения гипотетические
промежуточные конструкты неиспользуются. Представители:Уотсон, Скиннер и другиеассоциационисты и бихевиористы
Механистическая S—конструкт—R Поведение объясняется наосновании связи «стимул—реакция». При его анализевводятся опосредующиегипотетические конструкты:потребность и мотив.Представители: Халл, Спенс,Миллер, Браун и другиенеобихевиористы
Когнитивная S—когнитивныепроцессы—R
Между поступающей информацией иконечной поведенческой реакциейпредполагается действиемыслительных процессов. Влияниена поведение главным образомоказывает «ожидание».Представители: Толмен, Левин,Роттер, Аткинсон и другие
Когнитивная S—когнитивныепроцессы—R
Между поступающей информацией иконечной поведенческой реакциейтакже предполагается действиемыслительных процессов, ноповедение обусловливаетсямногими когнитивными структурамии процессами, например поискоминформации, стратегиямипричинного объяснения(каузальная атрибуция),личностными конструктами и т. п.Представители: Хайдер,Фестингер, Келли, Лазарус идругие
Ситуация. В самом общем смысле под ситуацией понимается актуальноеокружение живого существа, определяющее в данный момент времени поведениеэтого существа. Ситуация предполагает, следовательно, поток информацииоб актуальном окружении. В бихевиористских теориях вместо ситуацииупотребляется термин «стимул». Независимо от того, какой из этихтерминов используется, обнаруживаются как минимум четыре проблемы.
Во-первых, какую часть своего актуального окружения регистрируетживое существо? Конечно, не все, а лишь часть, в первую очередь новое,неожиданное, заметное. Все эти качества, однако, представляют собойрезультат переработки информации при восприятии ситуации. Они зависятот особенностей деятельности воспринимающего субъекта (например, отспособов кодирования, отбора и означивания информации).
Во-вторых, насколько элементарна или сложна воспринятаяинформация? Гипотезы, которым отдается предпочтение, колеблются ввесьма широком диапазоне: от восприятия простых сигналов («стимул») довосприятия целостных смысловых конфигураций. Скорее всего, имеет местонечто вроде схватывания «ситуации в целом», и это схватываниеопределяет, какое значение будут иметь детали.
В-третьих, как выделить информацию в мотивационных особенностяхситуации? Есть три принципиально различные системы описания:физикалистская констатация, интерсубъектное сообщение (т. е.согласованное мнение нескольких наблюдателей или то, чтоэкспериментатор считает таковым) и субъективные (феноменальные)особенности, как они воспринимаются данным индивидом в соответствующейситуации. Выбор одной из трех систем крайне важен для построенияпсихологической теории. Не только физикалистски идентичные, но иинтерсубъектно воспринимаемые как тождественные ситуации (в их общем,очевидном значении), как правило, будут переживаться разнымииндивидами по-разному (т. е. будут иметь разное личностное значение).Точное определение психологически значимых особенностей ситуацииосуществимо в конечном счете лишь на уровне личностных значений, т. е.на уровне тех смыслов, которые реально существуют для субъекта [Н.Heckhausen, 1973a]. Для психологии важно то, что дано субъекту каксущественное для него переживание, а не то, что дано физикалистски илиинтерсубъективно, т. е. не то, что считают важным другие. Требованиеоценивать ситуации в соответствии с их личностным значением влечет засобой методологическую проблему, с которой связана основная трудностьпсихологического исследования поведения.
В-четвертых, где проходит граница между индивидом и егоокружением? Часто ее просто отождествляют с поверхностью тела. Однакоимеется еще информация о внутренних состояниях (таких, как голод илиболь), которые в переживании (или даже по отношению к центральнойнервной системе, принимающей и обрабатывающей эту информацию)представляют собой нечто внешнее и поэтому должны быть отнесены кситуации.
Действие. С понятием «действие» связано не меньше проблем, чем с понятием «ситуация».
Во-первых, обращает ли субъект на свои действия такое жевнимание, как и на ситуацию, в которой находится? При всейрефлексивности действия внимание, как правило, направлено на тефрагменты ситуации, которые представляются значимыми и на которыедействие ориентировано. Субъект может наблюдать за самим собой лишь ввиде исключения.
Во-вторых, в какой системе описывать и определять действие: спомощью физикалистского измерения, интерсубъективного внешнегонаблюдения или субъективного внутреннего восприятия? Предпочтениеодной из систем весьма заметно влияет на то, что относится к действию.При физикалистском (или физиологическом) измерении в него можновключить не замечаемую субъектом непроизвольную активность организма,такую, как деятельность желез внутренней секреции, изменения
электрического сопротивления кожи, и, напротив, исключить такие вещи,как представления и мыслительные процессы. В сущности, внешнеенаблюдение ограничится регистрацией моторной активности (в том числесловесного и внеречевого общения). Самонаблюдению могут быть открыты(с учетом упомянутых выше ограничений) отдельные аспекты и содержаниясобственных действий, которые контролируются или принципиальноконтролируемы сознанием. К ним относятся как «внутренние действия»,например представления и мыслительные процессы, так и «внешниедействия» в форме двигательных реакций и коммуникативного поведения.
В-третьих, в зависимости от выбора одной из трех указанных системдается ответ на вопрос: насколько элементарны или сложны,структурированы и протяженны во времени единицы активности? Так, нафизикалистско-физиологическом уровне описания действие можно разложитьдо элементарных мышечных сокращений, в то время как на уровне внешнегонаблюдения и самовосприятия в качестве элементов действия можнопредставить весьма сложные, разнообразные и протяженные во временипоследовательности движений. На уровне описания конкретных данныхразличают поэтому «молекулярные» и «молярные» .единицы описания. То жеприложило к строящимся на их основе теориям.
Лишь в самое последнее время расчленение непрерывного потокаактивности на единицы стало предметом более пристального изучения.
ПСИХОАНАЛИЗ
Психоаналитическая теория выросла из интенсивной работы сотдельными людьми и в свою очередь повлияла на практическую работу сними. Психоанализ является примером психодинамической теории, посколькурешающая роль в поведении человека в нем отводится взаимодействию сил.Согласно психоаналитической теории, поведение есть результат борьбы икомпромиссов между мотивами, потребностями, влечениями и конфликтами. Вповедении мотив может доражаться прямо или замаскированно, скрыто.Одно и то же поведение может удовлетворять у одних людей Одни мотивы,а у других — другие или множество различных мотивов одного и того жечеловека. Например, потребление пищи может удовлетворять голод, носимволически оно может удовлетворять и потребность в любви; работаврача может удовлетворять потребность помогать людям, но в то же времяможет служить и средством снятия собственной тревоги, вызваннойопасениями заболеть или получить травму. Именно эта особенностьповедения составляет главный пункт психодинамической теории личности.И последнее, поведение имеет разные уровни осознанности: люди могут вбольшей или в меньшей степени осознавать те силы, которые стоят за ихразнообразными действиями.
В центре психоаналитического учения о человеке находитсяпонимание того, что человек есть энергетическая система.Постулируется, что существует система, в которой энергия либо течетсвободно, либо находит обходные пути, либо накапливается, как водаперед плотиной. Количество энергии ограничено, и если она тратится наодно, то ее остается существенно меньше на другое. То есть энергия,используемая для достижения культурных целей, недоступна более длясексуальных целей, и наоборот. Если один из каналов выхода энергиизаблокирован, то она находит другой, в основном по линии наименьшегосопротивления. Цель всего поведения — удовольствие, т.е. уменьшениенапряжения, или разрядка энергии.
Усилия Фрейда были направлены на объяснение казавшихсянепонятными поступков, для чего им использовалось клиническоенаблюдение, а также методика провоцирования и истолкования странных,необычных содержаний сознания. В связи с этим З.Фрейдсконцентрировался на изучении такого состояния психики как«бессознательное», в котором он видел ключ к объяснению поступковчеловека и которое представлял как непрерывное изменение истолкновение влечений, получающих свое фрагментарное и завуалированноевыражение в поведении и сознательном переживании.
Влечения - движущая сила поведенияПсихоаналитическая теория основывается на представлении, согласно
которому люди являются сложными энергетическими системами. Сообразуясьс достижениями физики и физиологии XIX века, Фрейд считал, чтоповедение человека активируется единой энергией, согласно закону
сохранения энергии (то есть она может переходить из одного состояния вдругое, но количество ее остается при этом тем же самым). Фрейд взялэтот общий принцип природы, перевел его на язык психологическихтерминов и заключил, что источником психической энергии являетсянейрофизиологическое состояние возбуждения. Далее он постулировал: укаждого человека имеется определенное ограниченное количество энергии,питающей психическую активность; цель любой формы поведенияиндивидуума состоит в уменьшении напряжения, вызываемого неприятнымдля него скоплением этой энергии. Например, если значительная частьвашей энергии расходуется на постижение смысла того, что написано наэтой странице, то ее не хватит на другие виды психической активности —на то, чтобы помечтать или посмотреть телевизионную передачу.Аналогично, причиной, заставляющей вас читать эти строки, можетслужить стремление ослабить напряжение, вызванное необходимостьюсдавать экзамен на следующей неделе.
Таким образом, согласно теории Фрейда, мотивация человекаполностью основана на энергии возбуждения, производимого телеснымипотребностями. По его убеждению, основное количество психическойэнергии, вырабатываемой организмом, направляется на умственнуюдеятельность, которая позволяет снижать уровень возбуждения,вызванного потребностью. По Фрейду, психические образы телесныхпотребностей, выраженные в виде желаний, называются влечениеами. Ввлечениеах проявляются врожденные состояния возбуждения на уровнеорганизма, требующие выхода и разрядки. Фрейд утверждал, что любаяактивность человека (мышление, восприятие, память и воображение)определяется влечениями. Влияние последних на поведение может быть какпрямым, так и непрямым, замаскированным. Люди ведут себя так или иначепотому, что их побуждает бессознательное напряжение — их действияслужат цели уменьшения этого напряжения. Влечения как таковые являются«конечной причиной любой активности».
Фрейд считал, что у человека следует вскрыть ту биологически-витальную динамику влечений, которая лежит в основе поведения всехживых существ. В этом и состоят, собственно, действующие в неразрывнойпоследовательности психические процессы, т. е. бессознательное. Впотоке сознания бессознательные процессы не составляют исключения,напротив, содержание сознания представляет собой фрагментарное ивидоизмененное производное от непрерывной деятельностибессознательного. Такая деятельность построена не на пассивномреагировании организма на воздействия окружающей среды, а на активномустремлении и противоборстве заложенных в живом существе сил.
Теория мотивации поведения в ее окончательном виде быласформулирована Фрейдом только в 1915 г. в труде «Влечения и ихсудьбы», хотя основные положения уже можно найти в вышедшем в 1895 г.«Проекте психологии». Согласно этой психологии, «психический аппарат»должен прежде всего справиться не с внешними, а с внутреннимираздражителями, от которых нельзя уклониться, так как они возникают всамом организме. Потребности той или иной части организма постояннопорождают энергию раздражения, которая аккумулируется и от которой
требуется «избавиться».«Нервная система—это аппарат, функцией которого является
устранение накопившегося раздражения, снижение его до возможно болеенизкого уровня, а если бы это было реально – то и поддержание ворганизме полного отсутствия такового» [1915, S. 213].
О фрейдовской теории мотивации дает представление модель редукциивлечения. Модель редукции влечения построена на гомеостатическом игедонистическом представлениях. Согласно первому из них, равновесиеорганизма тем выше, чем ниже уровень накопившегося раздражения.Согласно второму, всякое, снижение этого уровня сопровождаетсячувством удовлетворения, всякое повышение – чувством неудовлетворения.Иными словами, активность психического аппарата подчинена принципуудовольствия–неудовольствия (Lust-UnLust-Prinzip).
Понятие «влечение», по Фрейду, отражает двойственность тела идуха, объединяет между собой органическое (а именно энергию) ипсихическое (аффект) представления. Кроме того, в каждом влеченииразличаются четыре аспекта. Фрейд пишет:
«Если мы от биологического начала перейдем к рассмотрениюдушевной жизни, то «влечение» явится нам как понятие, пограничноемежду душевным и соматическим, как психическая представленностьраздражений, имеющих внутреннее телесное происхождение ираспространившихся в область духа, как мера необходимой работы,которая налагается на душевное вследствие его связи с телесным."
Характеристики влеченийЛюбое влечение имеет четыре характеристики: источник, цель, объект
и стимул. Источник влечения — состояние организма (соматический процесс в
органе или части тела) или потребность, вызывающие это состояние.Источники влечения жизни описывает нейрофизиология (например, голодили жажда). Четкого определения влечениеов смерти Фрейд не дал.
Цель влечения всегда состоит в устранении или редукциивозбуждения, вызванного потребностью. Если цель достигнута, человекиспытывает кратковременное состояние блаженства. Хотя существует многоспособов достижения цели влечения, наблюдается тенденция к поддержаниюсостояния возбуждения на некоем минимальном уровне (согласно принципуудовольствия).
Объект означает любого человека, предмет в окружающей среде иличто-то в собственном теле индивидуума, обеспечивающее удовлетворение(то есть цель) влечения. Действия, ведущие к удовольствию, необязательно всегда одни и те же. Фактически, объект может меняться напротяжении жизни. Кроме гибкости в выборе объектов, индивидуумыспособны откладывать разрядку энергии влечения на продолжительныеотрезки времени.
Практически любой поведенческий процесс в психоаналитическойтеории может быть описан в терминах:
1) привязки, или направления энергии на объект (катексис). Примером
катексиса может служить эмоциональная привязанность к другимлюдям (то есть перенос на них энергии), увлеченность чьими-томыслями или идеалами.
2) препятствия, мешающего удовлетворению влечения (антикатексис).Антикатексис проявляется во внешних или внутренних барьерах,препятствующих немедленному ослаблению потребностей, связанныхс влечениями.
Таким образом, взаимодействие между выражением влечения и еготорможением, между катексисом и антикатексисом составляет главныйбастион психоаналитического построения системы мотивации.
Стимул (напряжение) представляет собой количество энергии, силыили давления, которое требуется для удовлетворения влечения. Оно можетбыть оценено косвенным образом путем наблюдения количества и видовпрепятствий, которые предстоит преодолеть человеку в поискахконкретной цели.
Ключом к пониманию динамики энергии влечениеов и ее выражения ввыборе объектов является понятие смещенной активности. Согласно этойконцепции, высвобождение энергии и ослабление напряжения происходитблагодаря смене поведенческой активности. Смещенная активность имеетместо тогда, когда по каким-то причинам выбор нужного объекта дляудовлетворения влечения невозможен. В подобных случаях влечение можетсместиться и, таким образом, сфокусировать свою энергию на каком-нибудь другом объекте.
ПРИМЕР. Преподаватель припугнул студента мерами, которыепоследуют, если он не выполните свою работу. Студент приходите домой,хлопаете дверью, пинаете собаку и кричит на своего брата. Чтопроизошло? Он выместили свою злость на объектах, не имеющих прямогоотношения к его состоянию. Это было непрямое выражение эмоций.
З.Фрейд считал, что многие социально-психологические феноменыможно понять в контексте смещения двух первичных влечений:сексуального и агрессивного. Например, социализацию ребенка можночастично объяснить как результат последовательного смещениясексуальной потребности от одного объекта к другому, как того требуютродители и общество. Сходным образом расовые предрассудки и войнымогут быть объяснены смещением агрессивных побуждений. СогласноЗ.Фрейду, все устройство современной цивилизации (искусство, музыка,литература) является продуктом смещения сексуальной и агрессивнойэнергии. Не имея возможности получать удовольствие прямо и немедленно,люди научились смещать свою энергию влечений на других людей, другиепредметы и другую деятельность, вместо тех, которые предназначалисьдля прямой разрядки напряжения. Таким образом появляются сложныерелигиозные, политические, экономические и другие институты.
Закономерности проявления влечений
В результате долгих научных исканий З.Фрейд пришел к выводу осуществовании антагонистических влечений: жизни (эрос) и смерти(танатос). Вероятно следует более подробно остановится важнейшихположений его теории, которые оказали влияние на дальнейшее развитиеисследований особенностей и объяснения причин человеческого поведения.
Первое. Влечения могут проявлять себя по-разному. Если при большойинтенсивности влечения отсутствует объект, необходимый для егоудовлетворения, то неосуществившиеся желания входят в сознание в видепредставлений о прежнем удовлетворении влечения. Влечения могутсмещаться на другие объекты, они могут сублимироваться (т. е. внешненаправляться на несексуальные цели) и, наконец, вытесняться. Впоследнем случае они оказывают скрытое влияние на переживания(проявляется в содержании сновидений) или на поведение (проявляется вошибочных действиях или невротических нарушениях).
Второе. В теоретических построениях Фрейда психическая жизнь,понимаемая как постоянный конфликт противоречивых тенденций внутриличности, предстает в виде иерархии трех механизмов. Поискуудовлетворения (Оно) противостоит моральный контроль (Сверх-Я), апримирением их через достижение компромисса занимается механизмприспособления к реальности (Я).
Третье. Взрослая личность есть результат истории влечений, причемособое значение имеет детство. Препятствия, возникающие на путиудовлетворения влечений, особенно в раннем детстве, имеют серьезныепоследствия и причиняют сильный ущерб способности человека работать илюбить. С помощью психоаналитических терапевтических приемов причинынарушений развития, коренящиеся в раннем детстве, могут быть выявленыи в какой-то степени устранены.
Четвертое. Развитие влечений проходит несколько психосексуальныхфаз в соответствии со сменой так называемых эрогенных зон(чувствительных участков кожи вокруг различных отверстий на теле). Накаждой из фаз доминирует определенная эрогенная зона, ее раздражениедоставляет максимальное чувственное удовлетворение. Порядок сменыэрогенных зон следующий: рот (оральная фаза: сосание, глотание,кусание), задний проход (анальная фаза: выделения кишечника), половыеорганы (фаллическая и генитальная фазы: мастурбация, гомосексуальные игетеросексуальные половые связи). Развитие влечения может задержатьсяна одной из фаз (явление фиксации). Травмирующие переживания могутотбросить развитие на более ранние стадии (регресс).
Пятое. Ход развития влечений подобен развитию действия в "любовномтреугольнике": супружеской пары и любовника. В роли последнеговыступает ребенок, который стремится к сексуальным отношениям сродителем противоположного пола (эдипов комплекс) и наталкивается приэтом на сопротивление и угрозы со стороны родителя одного с ним пола.При нормальном развитии конфликт разрешается путем идентификации сродителем одного с ребенком пола. Это разрешение ведет к усвоению ужев раннем детстве моральных норм, персонифицируемых с одним из
родителей, и тем самым к образованию совести (Сверх-Я) как механизма,контролирующего поведение личности.
Ошибочные действияВ поведении человека часто наблюдаются многим известные, часто
встречающиеся, но, как правило, мало привлекающие к себе вниманиеявления, которые, не имея ничего общего с болезнью, наблюдаются улюбого здорового человека. Это так называемые ошибочные действиячеловека Среди них обычно к первой группе относят:
оговорки — когда, желая что-либо сказать, кто-то вместо одногослова употребляет другое;
описки — когда то же самое происходит при письме, что может бытьзамечено или остаться незамеченным;
очитки — когда читают не то, что напечатано или написано;ослышки — когда человек слышит не то, что ему говорят, нарушения
слуха по органическим причинам сюда, конечно, не относятся.В основе другой группы таких явлений лежит забывание, но не
длительное, а временное, когда человек не может вспомнить,например, имени, которое он наверняка знает и обычно затемвспоминает, или забывает выполнить намерение, о котором позднеевспоминает, а забывает лишь на определенный момент.
В третьей группе явлений этот временной аспект отсутствует, как,например, при запрятывании, когда человек куда-то убирает какой-либопредмет, так что не может его больше найти, или при совершенноаналогичном затеривании. Здесь налицо забывание, к которому человекотносится иначе, чем к забыванию другого рода; вместо того чтобысчитать его естественным – оно вызывает удивление или досаду,. Сюдаже относятся определенные ошибки-заблуждения, которые также имеютвременной аспект, когда на какое-то время веришь чему-то, о чем до ипосле знаешь, что это не соответствует действительности, и целый рядподобных явлений, имеющих различные названия.
Можно утверждать, что ошибочные действия могут быть вызванынебольшими отклонениями функций, неточностями в психическойдеятельности при определенных условиях. Человек, который обычноговорит правильно, может оговориться: 1) если ему нездоровится и онустал; 2) если он взволнован; 3) если он слишком занят другимивещами. Это легко может подтвердить каждый человек опираясь на свойжизненный опыт. Действительно, оговорки встречаются особенно часто,когда человек устал, если у него болит голова или ощущаетнедомогание. В этих же условиях легко происходит забывание именсобственных. Для некоторых лиц такое забывание имен собственныхявляется признаком приближающейся мигрени. В волнении человек такжечасто путает слова; захватывает «по ошибке» не те предметы, забываето намерениях, да и производит массу других непредвиденных действий порассеянности, т. е. так, как если бы внимание было сконцентрировано начем-то другом. По собственному опыту для многих знакома ситуация,когда мы знаем о намерениях и обещаниях, забытых из-за того, чтонас слишком захватило какое-то другое переживание.
Условия, которые необходимы для возникновения этих феноменов,различны. Недомогание и нарушение кровообращения являютсяфизиологическими причинами нарушений нормальной деятельности;волнение, усталость, рассеянность — причины другого характера, которыеможно назвать психофизиологическими. Теоретически их легко можнообъяснить. При усталости, как и при рассеянности и даже при общемволнении внимание распределяется таким образом, что длясоответствующего действия его остается слишком мало. Тогда этодействие выполняется неправильно или неточно. Легкое недомогание иизменения притока крови к головному мозгу могут вызвать такой жеэффект, т. е. повлиять на распределение внимания. Таким образом вовсех случаях дело сводится к результатам расстройства вниманияорганической или психической этиологии.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что не все ошибочныедействия можно объяснить данной теорией внимания или, во всякомслучае, они объясняются не только ею. Опыт показывает, что ошибочныедействия и забывание проявляются и у лиц, которые не устали, не рассеяныи не взволнованы, разве что им припишут это волнение после сделанногоошибочного действия, но сами они его не испытывали. Да и вряд ли можносвести все к простому объяснению, что усиление внимания обеспечиваетправильность действия, ослабление же нарушает его выполнение.Существует большое количество действий, чисто автоматических итребующих минимального внимания, которые выполняются при этомабсолютно уверенно. Например, на прогулке человек часто не думает,куда он идет, однако не сбивается с пути и приходит, куда хотел. Вовсяком случае, обычно бывает так. Хороший пианист не думает о том,какие клавиши ему нажимать. Он, конечно, может ошибиться, но если быавтоматическая игра способствовала увеличению числа ошибок, тоименно виртуозы, игра которых совершенно автоматизирована благодаряупражнениям, ошибались бы чаще всех. Наоборот, можно обратить вниманиекак раз на обратное: многие действия совершаются особенно уверенно,если на них не обращать внимания, а ошибочное действие возникаетименно тогда, когда правильности его выполнения придается особоезначение и отвлечение внимания никак не предполагается. Можно отнестиэто на счет «волнения», но непонятно, почему оно не усиливаетвнимания к тому, что так хочется выполнить. Когда в важной речи или вразговоре из-за оговорки высказываешь противоположное тому, что хотелсказать, вряд ли это можно объяснить психофизиологической теорией илитеорией внимания 5.
В ошибочных действиях есть также много незначительных побочныхявлений, которые не поняты и не объяснены до сих пор существующимитеориями. Например, когда человек на время забудет какое-либо слово,то чувствуя досаду, хочет во что бы то ни стало вспомнить это слово иникак не можешь отделаться от этого желания. Почему жерассердившемуся не удается, как он ни старается, направить вниманиена слово, которое, как он утверждает, «вертится на языке», но этослово тут же вспоминается, если его скажет кто-то другой? Или бываютслучаи, когда ошибочные действия множатся, переплетаются друг с
другом, заменяют друг друга. Например, достаточно распространенныйпример – в первый раз человек забывает о свидании, другой раз ствердым намерением не забыть о нем оказывается, что перепутал час.Хочется окольным путем вспомнить забытое слово, в результатезабывается второе, которое должно было помочь вспомнить первое.Стараешься припомнить теперь второе, ускользает третье и т. д. То жесамое происходит и с опечатками, которые следует понимать какошибочные действия наборщика. Кроме того, оговорку можноспровоцировать и вызвать внушением.
Вместе с тем, некоторые особенности ошибочных действий нельзяобъяснить только теорией отвлечения внимания, их можно рассмотретьтакже и с другой точки зрения.
Можно начать с оговорки, которая больше всего подходит изошибочных действий. Два автора, Мерингер и Майер (один — филолог,другой — психиатр), попытались в 1895 г. подойти к вопросу объясненияпричин и классификации оговорках. Они собрали много примеров и простоописали их. Это, конечно, еще не дает никакого объяснения оговоркам,но позволяет найти путь к нему. Авторы различают следующиеискажения, возникающие из-за оговорок: перемещения, предвосхищения,отзвуки, смешения, или контаминации, и замещения, или субституции.
Однако, объяснение, которое оба автора пытаются вывести из своегособрания примеров, совершенно недостаточно. Они считают, что звуки ислоги в слове имеют различную значимость и иннервация более значимогоэлемента влияет на иннервацию менее значимого. При этом авторыссылаются на редкие случаи предвосхищения и отзвука; в случаях жеоговорок другого типа эти звуковые предпочтения, если они вообщесуществуют, не играют никакой роли. Чаще всего при оговоркеупотребляют похожее по звучанию слово, этим сходством и объясняютоговорку.
Но самой обычной и в то же время самой поразительной оговоркойявляется та, когда произносится как раз противоположное тому, чтособирался сказать. При этом соотношение звуков и влияние сходства,конечно, не имеют значения, а замену можно объяснить тем, чтопротивоположности имеют понятийное родство и в психологическойассоциации особенно сближаются. Так же предательски, как соотношениепротивоположностей, могут подвести другие привычные ассоциации,которые иногда возникают совсем некстати.
Таким образом, к соотношению звуков и сходству слов можноприбавить влияние словесных ассоциаций. Но и этого еще недостаточно.В целом ряде случаев оговорку едва ли можно объяснить без учетатого, что было сказано в предшествующем предложении или же чтопредполагалось сказать.
З. Фрейд исследовал условия, при которых оговорки вообщевозникают, определил, что влияет на особенности искажений приоговорках, но совсем не рассмотрел эффекта оговорки самого по себе,безотносительно к ее возникновению. Он отмечает, что для изученияэтого эффекта необходимо доказать, что оговорка имеет смысл. Чтозначит «имеет смысл»? Это значит, что оговорку, возможно, следует
считать полноценным психическим актом, имеющим свою цель, определеннуюформу выражения и значение. До сих пор речь шла об ошибочныхдействиях, однако теперь становится понятным, что иногда ошибочноедействие является совершенно правильным, только оно возникло вместодругого ожидаемого или предполагаемого действия.
Итак, под «смыслом» какого-то психического процесса понимается нечто иное, как намерение, которому он служит, и его место в ряду другихпсихических проявлений. В связи с этим, в большинстве случаев слово«смысл» правомерно можно заменить словом «намерение», «тенденция».
Исходя из такого понимания и целого ряда примеров, в целом рядеслучаев намерение, смысл оговорки совершенно очевиден. Это преждевсего те случаи, когда говорится противоположное тому, чтонамеревались сказать. В других случаях, когда при оговорке прямо невысказывается противоположное утверждение, в ней все же выражаетсяпротивоположный смысл. Встречаются случаи, когда оговорка простоприбавляет к смыслу намерения какой-то второй смысл. Тогдапредложение звучит так, как будто оно представляет собой стяжение,сокращение, сгущение нескольких предложений. Оговорки часто производятвпечатление сокращений.
Данной группе случаев, в которых ошибочные действия самиуказывают на свой смысл, противостоят другие, в которых оговорки неимеют явного смысла. Если кто-то при оговорке коверкает имясобственное или произносит неупотребительный набор звуков, то уже из-затаких часто встречающихся случаев вопрос об осмысленности ошибочныхдействий как будто может быть решен отрицательно. И лишь приближайшем рассмотрении этих примеров обнаруживается, что в этихслучаях тоже возможно понимание искажений, а разница между этиминеясными- и вышеописанными очевидными случаями не так уж велика.
Из данных примеров становится понятным, что и такие неясныеслучаи оговорок можно объяснить столкновением,. интерференцией двухразличных намерений 9. Разница состоит в том, что в первом случаеодно намерение полностью замещается (субституируется) другим, итогда возникают оговорки с противоположным смыслом,. в другомслучае намерение только искажается или модифицируется, так чтообразуются комбинации, которые кажутся более или менее осмысленными.
Отмеченные закономерности дают возможность понять и другиекажущиеся загадочными оговорки. Например, вряд ли можнопредположить, что при искажении имен всегда имеет место конкуренциямежду двумя похожими, но разными именами. Нетрудно, впрочем, угадать идругую тенденцию. Ведь искажение имени часто происходит не только воговорках; имя пытаются произнести неблагозвучно и внести в негочто-то унизительное — это является своего рода оскорблением, которогокультурный человек, хотя и не всегда охотно, старается избегать. Онеще часто позволяет это себе в качестве «шутки», правда,, невысокогосвойства. Нетрудно предположить, что и при оговорке может проявитьсянамерение оскорбить, как и при искажении имени. Подобные объяснения,приемлемы и в случае оговорок с комическим и абсурдным эффектом. Тоже самое относится к тем оговоркам, в которых безобидные слова
превращаются в неприличные. Существует некоторое количество людей,которые ради удовольствия намеренно искажают безобидные слова,превращая их в неприличные; это считается остроумным, и вдействительности часто приходится спрашивать человека, от которогослышишь подобное, пошутил ли он намеренно или оговорился.
Таким образом, оговорки не являются случайностями, а представляютсобой серьезные психические акты, имеющие свой смысл, они возникаютблагодаря взаимодействию, а лучше сказать, противодействию двухразличных намерений.
Можно ли такое объяснение перенести и на многие другие видыошибочных действий: на очитки, описки, забывание, захватывание вещей«по ошибке», их затеривание и т. д.? Имеют ли какое-то значение дляпсихической природы ошибочных действий факторы усталости, возбуждения,рассеянности, нарушения внимания? Можно, далее, заметить, что из двухконкурирующих намерений одно всегда проявляется в ошибочном действии,другое же не всегда очевидно. Отсюда возникает вопрос: что это занамерения или тенденции, которые мешают проявиться другим, и каковывзаимоотношения между ними?
Нет необходимости отрицать влияние на возникновение оговоркифизиологических условий легкого нездоровья, нарушений кровообращения,состояния истощения, об этом свидетельствует повседневный личный опытмногих людей. Однако, как уже отмечалось, это не обязательныеусловия для ошибочного действия. Оговорка возможна при абсолютномздоровье и в нормальном состоянии. Эти соматические условия могуттолько облегчить и ускорить проявление своеобразного психическогомеханизма оговорки.
Такие психофизиологические условия, как возбуждение,рассеянность, нарушение внимания дают очень мало для объясненияошибочных действий. Это только фразы, ширмы, за которые нужно простозаглянуть. А для этого необходимо уточнить, чем вызвано это волнение,отвлечение внимания. Влияние созвучий, сходств слов и употребительныхсловесных ассоциаций тоже следует признать важными. Они тоже облегчаютпоявление оговорки, указывая ей пути, по которым она можетпойти.
Как соотношение звуков и слов, так и соматические условия толькоспособствуют появлению оговорки и не могут ее объяснить.Действительно, существуют случаи, когда речь не нарушается из-засхожести звучания употребленного слова с другим, из-запротивоположности их значений или употребительности словесныхассоциаций. В частности, еще В. Вундт отмечал, что оговоркапоявляется, когда вследствие физического истощения ассоциативныенаклонности начинают преобладать над другими побуждениями в речи. Сэтим можно было бы легко согласиться, если бы это не противоречилофактам возникновения оговорки в случаях, когда отсутствуют либофизические, либо ассоциативные условия для ее появления 10.
Но особенно интересным кажется вопрос — каким образом можноубедиться в существовании двух соперничающих намерений? Присутствиеодного из двух намерений, а именно нарушенного, обычно не вызывает
сомнений: человек, совершивший ошибочное действие, знает о нем ипризнает его. Сомнения и размышления вызывает второе, нарушающеенамерение.
В первом случае о нарушенном намерении достаточно просто. О немчасто сообщает сам допустивший оговорку, он сразу может восстановитьто, что намеревался сказать первоначально. Во втором случае, приоговорке, оговорившийся сразу же подтверждает, что хотел сначаласказать, но сдержался и выразился по-другому. Искажающее намерениездесь так же легко установить, как и искаженное. Надо лишь спроситьговорившего, почему он сделал именно такую оговорку и что он можето ней сказать.
Если кто-то забывает хорошо известное ему имя и с трудом егозапоминает, то можно предположить, что против носителя этого именион что-то имеет и не хочет о нем думать. Рассмотрим психическуюситуацию, в которой происходит это ошибочное действие. «Господин Y былбезнадежно влюблен в даму, которая вскоре выходит замуж за господинаX. Хотя господин У давно знает господина X и даже имеет с ним деловыесвязи, он все время забывает его фамилию и всякий раз, когда долженписать ему по делу, справляется о его фамилии у других». Очевидно,господин Y не хочет ничего знать о счастливом сопернике: «И думатьо нем не хочу».
Или другой пример: дама справляется у врача о здоровье общейзнакомой, называя ее по девичьей фамилии, Ее фамилию по мужу оназабыла. Затем она признается, что очень недовольна этим замужествоми не выносит мужа своей подруги.
Случаи забывания намерений в общем-то достаточно очевидны и ихпричины всегда можно выяснить объяснив смысла ошибочного действия,исходя из психической ситуации с которой он связан. Вместе с темсуществуют и другие действия, которые можно отнести к ошибочным —затеривание и запрятывание вещей. Большинству людей кажется, чтозатеривание – это досадная случайность и вовсе не подозревают, что заэтим соит какое-то намерение. Например, предметы затериваются тогда,когда человек поссорился с тем, кто их дал и о ком неприятновспоминать, или когда сами вещи перестают нравиться и человек ищетпредлога заменить их другими, лучшими. Проявлением такого женамерения по отношению к предмету выступает и то, что его роняют,разбивают, ломают.
Тот, кто пережил много неприятного из-за того, что не могнайти вещь, которую сам же куда-то заложил, вряд ли поверит, что онсделал это намеренно. И все-таки нередки случаи, когда обстоятельства,сопровождающие запрятывание, свидетельствуют о намерении избавиться отпредмета на короткое или долгое время.
Все эти примеры свидетельствуют об одном, а именно о том, чтоошибочные действия имеют свой смысл, и показывают, как этот смыслможно узнать или подтвердить по сопутствующим обстоятельствам.
Особое внимание следует уделить двум группам ошибочных действий –повторяющихся и комбинированных.
Повторяющиеся и комбинированные ошибочные действия являются
своего рода вершиной этого вида действий. Это объясняется тем, чтоповторяемость проявлений обнаруживает устойчивость, которую почтиникогда нельзя приписать случайности, но можно объяснитьпреднамеренностью. Кроме того, замена отдельных видов ошибочных действийдруг другом свидетельствует о том, что самым важным и существенным вошибочном действии является не форма или средства, которыми онопользуется, а намерение, которому оно служит и которое должно бытьреализовано самыми различными путями. В качестве примераповторяющегося забывания З.Фрейд приводит достаточно иллюстративнуюисторию, которая произошла с американским психоаналитиком Э. Джонсом(1911). Однажды по неизвестным причинам в течение нескольких дней Э.Джонс забывал письмо на письменном столе. Наконец, он решился егоотправить, но получил письмо обратно, так как забыл написать адрес.Написав адрес, он принес письмо на почту, но оказалось, что забылнаклеить марку. Тут уж он был вынужден признать, что вообще не хотелотправлять это письмо.
В другом случае захватывание вещей «по ошибке» комбинируется сзапрятыванием. Это часто проявляется в некой «рассеянности»— когдачеловек очень хочет что-то оставить у себя.
Итак, ошибочные действия имеют смысл. Это вовсе не означает,что любое ошибочное действие имеет смысл, хотя это кажется весьмавероятным и основательным. Однако при этом достаточно того, чтотакой смысл обнаруживается относительно часто в различных формахошибочных действий. В этом отношении эти различные формы предполагаюти различные объяснения: при оговорке, описке и т. д. могутвстречаться случаи чисто физиологического характера, в случаях жезабывания имен, намерений, запрятывания предметов и т. д. едва лиможно согласиться с таким объяснением. Затеривание, по всейвероятности, может произойти и нечаянно. Однако, как было показановыше, трудно оспоримым является положение, что ошибочные действия –это психические акты, которые возникают вследствие интерференции двухразличных намерений.
Но все же предпримим попытку доказать утверждение, чтоошибочные действия являются «психическими актами». Иногда все, чтоможно наблюдать в душевной жизни, называют психическим феноменом. Всвязи с этим, важно выяснить, вызвано ли отдельное психическое явлениенепосредственно физическими, органическими, материальными воздействиями, итогда оно не относится к области психологии, или оно обусловлено преждевсего другими психическими процессами, за которыми скрывается, в своюочередь, ряд органических причин. Именно в этом последнем смысле естьоснования рассматривать явление, называемое психическим процессом.Всякое психическое явление имеет содержание, смысл. Под смысломпонимается значение, намерение, тенденция и место в ряду психическихсвязей.
Ранее было отмечено, что ошибочные действия возникают врезультате наложения друг на друга двух различных намерений, изкоторых одно можно назвать нарушенным, а другое нарушающим. И,если, нарушенные намерения не представляют собой проблему для
понимания, то вот другие вызывают некоторые вопросы. Не совсемпонятно, во-первых, что это за намерения, выступающие как помехадля первого, и, во-вторых, каковы их отношения друг к другу.
При оговорке нарушающее намерение может иметь отношение ксодержанию нарушенного намерения, тогда оговорка содержитпротиворечие, поправку или дополнение к нему. В менее же ясных иболее интересных случаях нарушающее намерение по содержанию не имеет снарушенным ничего общего.
Подтверждения отношениям первого рода можно без труда найти вуже знакомых и им подобных примерах. Почти во всех случаях оговорокнарушающее намерение выражает противоположное содержание по отношениюк нарушенному, ошибочное действие представляет собой конфликт междудвумя несогласованными стремлениями.
В уже известных вам примерах, когда оговорка производитвпечатление стяжения и сокращения слов, появляются поправки,дополнения и продолжения высказывания, в которых, наряду с первой,находит свое проявление и вторая тенденция.
Во всех этих случаях оговорка либо возникает из содержаниянарушенного намерения, либо она связана с этим содержанием.
Другой вид отношения между двумя борющимися намерениямипроизводит весьма странное впечатление. Если нарушающее намерение неимеет ничего общего с содержанием нарушенного, то откуда же оноберется и почему появляется в определенном месте как помеха?Наблюдения, которые только и могут дать на это ответ, показывают,что помеха вызывается тем ходом мыслей, которые незадолго до тогозанимали человека и проявились теперь таким образом независимо оттого, выразились ли они в речи или нет. Эту помеху действительно можноназвать отзвуком, однако не обязательно отзвуком произнесенных слов.Здесь тоже существует ассоциативная связь между нарушающим инарушенным намерением, но она не скрывается в содержании, аустанавливается искусственно, часто весьма окольными путями.
Нарушающие намерения, которые проявляются в качестве помех, содной стороны, весьма различны, но, с другой – в них можно найти ичто-то общее. Среди них можно выделить три группы:
К первой группе относятся случаи, в которых говорящемуизвестно нарушающее намерение, и он чувствовал его перед оговоркой.Например, когда, в оговорке говорящий не только не отрицает осужденияопределенных фактов, но признается в намерении, от которого он потомотказался.
Вторую группу составляют случаи, когда говорящий тожепризнает нарушающее намерение, но не подозревает, что оно сталоактивным непосредственно перед оговоркой. Он соглашается с толкованиемсобеседника, но в известной степени удивлен им. Примеры такого родалегче найти в других ошибочных действиях, чем в оговорках.
К третьей группе относятся случаи, когда сделавшийоговорку энергично отвергает толкование нарушающего намерения; он нетолько оспаривает тот факт, что данное намерение побудило его коговорке, но утверждает, что оно ему совершенно чуждо.
Общим в механизме оговорок этих трех групп является то, что впервых двух группах нарушающее намерение признается самим говорящим; впервом случае к этому прибавляется еще то, что это намерениепроявляется непосредственно перед оговоркой. Но в обоих случаях этонамерение оттесняется. Говорящий решил не допустить его выражения в речи, итогда произошла оговорка, т. е. оттесненное намерение все-таки проявилосьпротив его воли, изменив выражение допущенного им намерения, смешавшись сним или даже полностью заменив его. Таков механизм оговорки.
Оговорки, относящихся к третьей группе нетрудно полностьюсогласовать с вышеописанным механизмом. Для этого нужно толькопредположить, что эти три группы отличаются друг от друга разнойстепенью оттеснения нарушающего намерения. В первой группе этонамерение очевидно, оно дает о себе знать говорящему еще довысказывания; только после того, как оно отвергнуто, оно возмещаетсебя в оговорке. Во второй группе нарушающее намерение оттесняетсяеще дальше, перед высказыванием говорящий его уже не замечает.Удивительно то, что это никоим образом не мешает ему быть причинойоговорки! Но тем легче объяснить происхождение оговорок третьейгруппы. Оперевшись на предположение, что в ошибочном действии можетпроявиться еще одна тенденция, которая основана на том факте, чтонамерение давно, может быть, очень давно оттеснено, говорящий незамечает его и как раз поэтому отрицает. Из этого напрашиваетсяочень важный вывод – подавление имеющегося намерения что-либо сказатьявляется непременным условием возникновения оговорки.
Теперь становятся очевидны и разрешимыми многие недоразумения,связанные с пониманием ошибочных действий. Теперь известно, что ониявляются психическими актами, в которых можно усмотреть смысл инамерение, что они возникают благодаря наложению друг на друга двухразличных намерений, но, кроме того, что одно из этих намеренийподвергается оттеснению, его выполнение не допускается и в результатеоно проявляется в нарушении другого намерения. Нужно сначала помешатьему самому, чтобы оно могло стать помехой. Полное объяснение феноменов,называемых ошибочными действиями, этим, конечно, еще не достигается.Сразу же встают другие вопросы. Например, не совсем понятно: почему всеэто не происходит намного проще? Если есть тенденция оттеснитьопределенное намерение вместо того, чтобы его выполнить, то этооттеснение должно происходить таким образом, чтобы это намерениевообще не получило выражения или же оттеснение могло бы не удастсявовсе и оттесненное намерение выразилось бы полностью. Ошибочныедействия, однако, представляют собой компромиссы, они означаютполуудачу или полунеудачу для каждого из двух намерений; поставленноепод угрозу намерение не может быть ни полностью подавлено, ни всецелопроявлено, за исключением отдельных случаев. Здесь, вероятно,следует предположить, что для осуществления таких интерференции иликомпромиссов необходимы особые условия, которые пока остаютсянеизвестными.
Таким образом, для целей психологических исследований ошибочныхдействий важным является не простое описание и классификация явления,
а стремление понять их как проявление борьбы душевных сил, каквыражение целенаправленных тенденций, которые работают согласно другс другом или друг против друга. Если придерживаться динамическогопонимания психических явлений, то воспринимаемые феномены должныуступить место только предполагаемым стремлениям.
Каждое ошибочное действие имеет свои своеобразные особенности.Оговорка. Следует отметить, что к оговорке присоединяются менее
значительные аффективные явления, которые также небезынтересны. Вчастности, З.Фрейд пишет: «Никто не любит оговариваться, частооговорившийся не слышит собственной оговорки, но никогда не пропуститчужой. Оговорки даже в известном смысле заразительны, довольно труднообсуждать оговорки и не сделать ее самому. Самые незначительные формыоговорок, которые не могут дать никакого особого объяснения стоящихза ними психических процессов, нетрудно разгадать в отношении ихмотивации. Если кто-то произносит кратко долгий гласный вследствиечем-то мотивированного нарушения, проявившегося в произношении данногослова, то следующую за ней краткую гласную он произносит долго иделает новую оговорку, компенсируя этим предыдущую…При этом, по-видимому, имеет значение мнение собеседника, который не долженподумать, что говорящему безразлично, как он пользуется родным языком.Второе компенсирующее искажение как раз направлено на то, чтобыобратить внимание слушателя на первую ошибку и показать ему, чтоговоривший сам ее заметил. Самыми частыми, простыми ималозначительными случаями оговорок являются стяжения ипредвосхищения, которые проявляются в несущественных частях речи. Вболее длинном предложении оговариваются, например, таким образом, чтопоследнее слово предполагаемого высказывания звучит раньше времени.Это производит впечатление определенного нетерпения, желания поскореезакончить предложение и свидетельствует об известном противоборствующемстремлении по отношению к этому предложению или против всей речивообще». Таким образом, речь идет о приближении к пониманиюпограничных случаев, в которых различия между психоаналитическим иобычным физиологическим пониманием оговорки стираются. Можнопредположить, что в этих случаях имеется нарушающая речевое намерениетенденция, но она может только намекнуть на свое существование, невыразив собственного намерения. Нарушение, которое она вызывает,является следствием каких-то звуковых или ассоциативных влияний,которые можно понимать как отвлечение внимания от речевого намерения.Но ни это отвлечение внимания, ни ставшие действенными ассоциативныевлияния не объясняют сущности процесса. Они только указывают насуществование нарушающей речевое намерение тенденции, природу которой,однако, нельзя определить по ее проявлениям, как это удается сделатьво всех более ярко выраженных случаях оговорки.
Описка. Этот феномен по своей сути аналогичен оговорке, хотяимеются и некоторые отличия. Столь распространенные описки, стяжения,появление впереди дальше стоящих, особенно последних словсвидетельствуют опять-таки об общем нежелании писать и о нетерпении.Более ярко выраженные случаи описки позволяют обнаружить характер и
намерение нарушающей тенденции. Когда в письме обнаруживаетсяописка, можно признать, что у пишущего не все было в порядке, но невсегда определишь, что именно его волновало. Сделавший описку, также как и оговорку, часто не замечает ее. Примечательно следующеенаблюдение: есть люди, которые обычно перед отправлением перечитываютнаписанное письмо. У других такой привычки нет; но если они,однако, сделают это в виде исключения, то всегда получаютвозможность найти описку и исправить ее. Как это объяснить?Складывается впечатление, будто эти люди все же знают, что онисделали описку.
Очитка. Здесь речь идет о психической ситуацией, явноотличной от ситуации, в которой происходят оговорки и описки. Однаиз двух конкурирующих тенденций заменяется здесь сенсорнымвозбуждением и, возможно, поэтому менее устойчива. То, что следуетпрочитать, в отличие от того, что намереваешься написать, неявляется ведь собственным продуктом психической жизни читающего. Вбольшинстве случаев очитка заключается в полной замене одногослова другим. Слово, которое нужно прочесть, заменяется другим,причем не требуется, чтобы текст был связан с результатом очиткипо содержанию, как правило, замена происходит на основе словеснойаналогии. Если попытаться узнать нарушающую тенденцию, вызывающуюочитку, следует оставить в стороне неправильно прочитанный текст, аподвергнуть аналитическому исследованию два момента: какая мысльпришла в голову читавшему непосредственно перед очиткой и в какойситуации она происходит. Иногда знания этой ситуации достаточнодля объяснения очитки.
В других случаях очиток, независимых от содержания текста,наоборот, необходим тщательный анализ, который нельзя провести, незная технических приемов психоанализа. Но в большинстве случаевобъяснить очитку нетрудно. То, что занимательно и интересно, заменяетчуждое и неинтересное. Остатки предшествующих мыслей затрудняют новоевосприятие.
При очитке достаточно часто встречаются случаи другого рода, вкоторых сам текст вызывает нарушающую тенденцию, из-за которой онзатем и превращается в свою противоположность. Человек вынужден читатьчто-то для него нежелательное, и анализ убеждает нас, что интенсивноежелание отвергнуть читаемое вызывает его изменение.
В ранее упомянутых более частых случаях очиток отсутствуют двафактора, которые, по нашему мнению, играют важную роль в механизмеошибочных действий: нет конфликта двух тенденций и оттеснения одной изних, которая возмещает себя в ошибочном действии. Не то чтобы приочитке обнаруживалось бы что-то совершенно противоположное, новажность содержания мысли, приводящего к очитке, намного очевиднее, чемоттеснение, которому оно до того подверглось. Именно оба этих факторанагляднее всего выступают в различных случаях ошибочных действий,выражающихся в забывании.
Забывание намерений. Нарушающая намерение тенденция всякий разявляется противоположным намерением, нежеланием выполнить первое, и
здесь остается только узнать, почему оно не выражается по-другому именее замаскировано. Но наличие этой противоположной волинесомненно. Иногда даже удается узнать кое-что о мотивах,вынуждающих скрываться эту противоположную волю, и всякий раз онадостигает своей цели в ошибочном действии, оставаясь скрытой, потомучто была бы наверняка отклонена, если бы выступила в виде открытоговозражения. Если между намерением и его выполнением происходитсущественное изменение психической ситуации, вследствие которого овыполнении намерения не может быть и речи, тогда забывание намерениявыходит за рамки ошибочного действия. Такое забывание не удивляет;понятно, что было бы излишне вспоминать о намерении, оно выпало изпамяти на более или менее длительное время. Забывание намерения толькотогда можно считать ошибочным действием, если такое нарушениеисключено.
Случаи забывания намерений в общем настолько однообразны ипрозрачны, что именно поэтому они не представляют большого интереса.Однако кое-что новое в двух отношениях можно узнать, изучая и этоошибочное действие. Уже отмечалось, что забывание, т. е.невыполнение намерения, указывает на противоположную волю,враждебную этому намерению. Это положение остается в силе, нопротивоположная воля, как показывают психоаналитические исследования,может быть двух видов — прямая и опосредованная.
Второй момент заключается в следующем: если в большинствеслучаев можно убедиться, что забывание намерений объясняетсяпротивоположной волей, то возможно есть основания распространить этоположение на другой ряд случаев, когда анализируемое лицо непризнает, а отрицает противоположную волю. Разнообразныйпсихоаналитический опыт, тем не менее подтверждает, что у человекаесть намерения, которые могут действовать независимо от того, знаетон о них или нет.
Забывание имен собственных и иностранных названий, а такжеиностранных слов тоже можно свести к противоположному намерению,которое прямо или косвенно направлено против соответствующегоназвания. Мотивом тенденции, направленной против восстановленияназвания в памяти, здесь впервые выступает принцип, которыйвпоследствии обнаружит свое чрезвычайно большое значение дляопределения причин невротических симптомов: отказ памяти вспоминать то,что связано с неприятными ощущениями, и вновь переживать это неудовольствиепри воспоминании. Намерение избежать неудовольствия, источником которогослужат память или другие психические акты, психическое бегство отнеудовольствия следует признать как конечный мотив не только длязабывания имен и названий, но и для многих других ошибочныхдействий, таких, как неисполнение обещанного, ошибки-заблуждения идр.12
Однако забывание имен, по-видимому, особенно легко объяснитьпсихофизиологическими причинами, и поэтому есть много случаев, вкоторых мотив неприятного чувства не подтверждается. Если кто-тобывает склонен к забыванию имен, то путем аналитического
исследования можно установить, что они выпадают из памяти не толькопотому, что сами вызывают неприятное чувство или как-то напоминают онем, а потому, что определенное имя относится к другомуассоциативному кругу, с которым забывающий состоит в более интимныхотношениях. Имя в нем как бы задерживается и не допускает другихдействующих в данный момент ассоциаций. Если вспомнить искусственныеприемы мнемотехники, то с удивлением можно заметить, что именазабываются вследствие тех же связей, которые намеренно устанавливают,чтобы избежать забывания. Самым ярким примером тому являются именалюдей, которые для разных лиц могут иметь разное психическое значение.Возьмем, например, имя Александр. Для кого-то оно ничего особенногоне значит, для другого же это может быть имя отца, брата, друга илиего собственное. Опыт аналитических исследований показывает, что впервом случае нет оснований забывать это имя, если оно принадлежитпостороннему лицу, тогда как во втором будет постоянно проявлятьсясклонность лишить постороннего имени, с которым, по-видимому,ассоциируются интимные отношения. Если предположить, что этоассоциативное торможение может сочетаться с действием принципанеудовольствия и, кроме того, с механизмом косвенной причинности, товозможно получить правильное представление о том, насколько сложныпричины временного забывания имен.
В забывании впечатлений и переживаний еще отчетливее и сильнее,чем в забывании имен, обнаруживается действие тенденции устранениянеприятного из воспоминания. Полностью это забывание, конечно, нельзяотнести к ошибочным действиям, оно относится к ним только в тоймере, в какой это забывание выходит за рамки обычного опыта, т. е.,например, когда забываются слишком свежие или слишком важныевпечатления или такие, забывание которых прерывает связьсобытий, в остальном хорошо сохранившихся в памяти. Почему и какчеловек вообще забывает, в том числе и те переживания, которыеоставили в нем несомненно глубочайший след, такие, как событийпервых детских лет,— это совершенно другая проблема, в которой защитаот неприятных ощущений играет определенную роль, но объясняет далеконе все. То, что неприятные впечатления легко забываются,— факт, неподлежащий сомнению. Это заметили различные психологи, а на великогоДарвина этот факт произвел такое сильное впечатление, что он ввел длясебя «золотое правило» с особой тщательностью записывать наблюдения,которые противоречили его теории, так как он убедился, что именно онине удерживаются в его памяти.
Совершенно очевидно, что декларация этого принципа защиты отнежелательных воспоминаний путем забывания, может вызватьопределенные возражения. Не секрет, и это подтверждает опыт многихлюдей, что как раз неприятное трудно забыть, именно оно противчеловеческой воли все время возвращается, чтобы мучить, как, например,воспоминания об обидах и унижениях. И это можно принять в качествеконтраргумента против высказанного ранее утверждения. Однако, важнопонять и принять то обстоятельство, что душевная жизнь — это аренаборьбы противоположных тенденций и что, выражаясь не динамически,
она состоит из противоречий и противоположных пар. Наличиеопределенной тенденции не исключает и противоположной ей — местахватит для обеих. Дело только в том, как эти противоположные тенденцииотносятся друг к другу, какие действия вытекают из одной и какие издругой.
Затеривание и запрятывание вещей особенно интересны прежде всегосвоей многозначностью, разнообразием тенденций, вследствие которыхмогут произойти эти ошибочные действия. Общим для всех случаевявляется то, что какой-то предмет хотели потерять, но причины ицели этого действия разные. Вещь теряют, если она испортилась, еслинамерены заменить ее лучшей, если она разонравилась, если напоминаето человеке, с которым испортились отношения, или если она былаприобретена при обстоятельствах, о которых не хочется вспоминать. Сэтой же целью вещи роняют, портят и ломают. В общественной жизни былисделаны наблюдения, что нежеланные и внебрачные дети намногоболезненнее, чем законные. Для доказательства нет необходимостиссылаться на грубые приемы так называемых «производительниц ангелов»;вполне достаточно указать на известную небрежность в уходе за детьми.В бережном отношении к вещам проявляется то же самое, что и вотношении к детям.
Далее, на потерю могут быть обречены вещи, не утратившие своейценности, в том случае, если имеется намерение что-то пожертвоватьсудьбе, защитив себя этим от другой внушающей страх потери. Подобныезаклинания судьбы, по данным психоанализа, еще очень часты, так чточеловеческие потери являются добровольной жертвой. Потери могут бытьтакже проявлением упрямства и наказания самого себя; короче, болееотдаленные мотивации намерения потерять вещь необозримы.
Действия «по ошибке», как и другие ошибки часто используют длятого, чтобы выполнить желания, в которых следовало бы себе отказать.Намерение маскируется при этом под счастливую случайность. Дляиллюстрации этого феномена З.Фрейд приводит случай со своим пациентом,которому он запретил звонить любимой женщине, но пациент, желаяпозвонить психоаналитику, «по ошибке», «в задумчивости» назвалнеправильный номер и все-таки был соединен с ней.
Случайные и симптоматические действияЕсть целый ряд других явлений, очень близких к ошибочным
действиям, к которым это название, однако, уже не подходит. Мыназываем их случайными и симптоматическими действиями. Они тоже носятхарактер не только немотивированных, незаметных и незначительных, нои излишних действий. От ошибочных действий их отличает отсутствиевторого намерения, с которым сталкивалось бы первое и благодарякоторому оно бы нарушалось. С другой стороны, эти действия легкопереходят в жесты и движения, которые, по мнению З.Фрейда, выражаютэмоции. К этим случайным действиям относятся все кажущиесябесцельными, выполняемые как бы играя манипуляции с одеждой, частямитела, предметами, которые человек то берет, то оставляет, а также
мелодии, которые люди часто напевают про себя. З.Фрейд считал, чтовсе эти явления полны смысла и их можно толковать так же, как иошибочные действия, что они являются некоторым знаком других, болееважных душевных процессов и сами относятся к полноценным психическимактам.
ТЕОРИЯ ПОЛЯ
Основные понятия теории поля
Теория поля Левина является оригинальной теорией в объяснениичеловеческого поведения. Согласно ей, протекание действий целикомсводится к конкретной совокупности условий существующего в данныймомент поля.
Понятие поля охватывает факторы как внешней (окружение), так ивнутренней (субъект) ситуации. С помощью этой теории возможно не тольковыявить все условия, значимые для определения поведения ихарактеризующие как наличную ситуацию, так и состояние субъекта, но иописать их динамические взаимоотношения.
В рамках теории поля К. Левин предлагает схему психологическогоизучения человеческого поведения, которая имеет целый рядотличительных особенностей.
Во-первых, согласно ей, анализ поведения должен основываться наобщей ситуации. В объяснение поведения включается более широкий кругявлений, чем объединение отдельных элементов типа раздражителей иреакций.
Во-вторых, ситуацию следует интерпретировать так, как онапредставляется субъекту. Это означает, что объяснение должно бытьпсихологичным. При этом детерминанты поведения независимо отлокализации в окружении или субъекте должны пониматься психологически.В связи с этим к основным компонентам причинно-следственного анализаотносятся, например, не раздражители, как это пытается делатьбихевиоризм, а воспринимаемые (отраженные субъектом) особенностиокружения, которые предоставляют человеку различные возможности длядействия. Психологическому анализу должно подлежать таким образом нетолько все, что происходило с действующим субъектом в нем самом иокружении, но и другие факторы, влияющее на поведение.
В-третьих, для объяснения поведения описания простых связей всмысле ассоциации “раздражитель-реакция” явно недостаточно. СогласноК. Левину, в основе всякого поведения лежат силы, основными из которыхявляются потребности.
В-четвертых, простая классификация наблюдаемых феноменов не идетдальше описательного уровня и может стать причиной неверногообъяснения, поскольку внешне одинаковое поведение не обязательносвязано с одними и теми же причинами. Необходимо выработать общиепонятия и использовать их как конструктивные элементы, сочетаниекоторых позволяло бы объяснить каждый конкретный случай.
В-пятых, на поведение влияет только то, что действует здесь итеперь: будущие и прошлые события сами по себе не могут определятьповедение в настоящий момент, они действенны лишь как нечто актуально
припоминаемое или предвосхищаемое. Прошлые и будущие события могутлишь внести свой вклад в структуру общей ситуации и несколько изменитькомпозицию поля, но не более. Но тем не менее их влияние можетсказываться на актуальных состояниях субъекта и его окружения.
В своей модели психологического объяснения поведения К. Левинстремился преодолеть аристотелевский тип мышления, т. е. отказаться отклассификации внешних наблюдаемых характеристик, и утвердитьгалилеевский метод, т. е. осуществить анализ условий протеканияявлений и свести их к основным объяснительным конструктам. Такимиконструктами стали понятия общей динамики такие как напряжение, сила,поле (по аналогии с электромагнитным и гравитационным полями).
Еще более значительным для исследования поведения было требованиеЛевина анализировать ситуацию в целом. Результатом такого требованияанализа стало знаменитое уравнение поведения, согласно которомуповедение (В) есть функция личностных факторов (Р) и факторовокружения (Е): В=f(P,Е). Это по сути дела, оно открывает путь дляучета двустороннего влияния личностных и ситуационных факторов.
Исходя из этого, для объяснения поведения Левин разработал двеотчасти дополняющие друг друга модели: личности и окружения. Структурнымикомпонентами этих моделей являются соседствующие, отграниченные другот друга области. Несмотря на это сходство, структурные области, какэто станет ясно из дальнейшего, в каждой из моделей имеют разноезначение, которое определяется прежде всего динамическими компонентамиобеих моделей. Модель личности оперирует энергиями и напряжениями, т.е. скалярными величинами. Модель окружения имеет дело с силами ицеленаправленным поведением (в сфере действия соответствуетлокомоциям), т. е. векторными величинами. В конечном счете обетеоретические схемы базируются на представлении гомеостатическойрегуляции: создавшееся положение стремится к состоянию равновесиямежду различными областями пространственного распределения напряжений,или сил. При этом регулирующим принципом является не уменьшениенапряжения, а его уравновешивание по отношению к более общей системеили полю в целом
Модель личности.Исходным моментом при создании Левином психологической теории
личности стал следующий тезис: чтобы выученное проявилось в поведении,недостаточно образования в результате научения устойчивого сочетания«раздражитель—реакция». За поведением всегда должны стоять какие-тоактуально действующие силы. На первом плане для Левина стоял вопросэнергетизации. Под этим имелась в виду не проблема энергетическогообеспечения текущих когнитивных и моторных действий, а, скорее,проблема центрального управления поведением, точнее, того, какая извозможных в данной ситуации тенденций действия возобладает и начнетопределять поведение.
Эту проблему К. Левин [1936] пытался решить с помощью моделименяющихся состояний напряжения в различных областях структурыличности. Как видно из рис. 5.1, личность представляет собой систему,
состоящую из многочисленных непересекающихся друг с другом областей.Каждая область соответствует определенной цели действия, будь тоустойчивое стремление, которое можно обозначить как потребность(мотив), или же сиюминутное желание. Области структуры личности могуттакже представлять некоторые активности или знания субъекта. Отдельныеобласти в зависимости от степени близости имеют разную степеньсходства. Две области максимально похожи, если имеют общую границу.
Рис. 5.1. Модель личности. М– сенсомоторная пограничная зона,выполняющая роль посредника между окружающим миром (U) ивнутриличностными областями (IP). Внутриличностные областиподразделяются на центральные (Z) и периферические (P).
По своему местоположению области делятся на центральные ипериферические. Первые граничат с большим количеством областей, чемвторые. Числом пограничных областей определяется «близость к Я»,личностная значимость целей действия или представленных этимиобластями активностей, а также их влияние на другие цели и активности.Области также различаются своим внутренним и внешним положением,определяемым степенью соседства (т. е. возможностью доступа) спограничной зоной, окружающей все области структуры личности. Самапограничная зона выполняет функции восприятия и исполнения, т. е.выступает посредником между индивидом и окружением: с одной стороны,восприятие несет информацию об окружающем мире, а с другой—моторноеисполнение обеспечивает воздействие личности на окружение (сюдаотносится не только такая сравнительно грубая моторика, как локомоции,но и речь, а также мимика).
Напряженные системы в модели личностиВ целом модель личности представляет собой чистую структуру
областей с отношениями соседства и функциями опосредования внутреннегои внешнего. Следует упомянуть еще одну структурную особенность –состояние границы. Она может обладать различной прочностью и, будучипроницаемой, обеспечивать связь между соседними областями.
С этой структурной особенностью границ областей связандинамический компонент модели личности. Для его обозначения Левин ввелпонятие напряжения. Отдельные области структуры личности могутразличаться по состоянию напряжения. Напряжение областей можнопредставить себе в виде сосудов, наполненных находящейся под различнымдавлением жидкостью. Область с повышенным по сравнению с другими
областями напряжением Левин обозначает как «напряженную систему». Длятакой системы характерна тенденция к уравновешиванию напряжения с соседнимиобластями.
Уравновешивание может осуществиться двумя путями: напряженная система, побуждающая производимое действие,
разряжается, если находит доступ к пограничной зонесенсомоторной активности, т. е. она начинает определятьповедение, продолжающееся до тех пор, пока не достигается цельдействия;
если же система не находит такого доступа, то ее силывоздействуют на собственные границы. В таком случаеуравновешивание напряжения достигается путем диффузии, котораязависит от прочности границ с соседними областями и от факторавремени.
Оба вида уравновешивания напряжения не являются собственнообъяснением, а представляют собой физикалистскую метафору. Они сыгралибольшую эвристическую роль при анализе ряда феноменов поведения,который предприняли ученики Левина в ставших классическимиэкспериментах по «психологии действия и аффекта». Первый видуравновешивания напряжения через исполнение позволяет объяснить, какоедействие начнется после окончания предшествующего или какое будетвозобновлено после прерывания. Классическим в этом отношении являетсятак называемый эффект Зейгарник. Ученица Левина Б. В. Зейгарник [1927]установила, что прерванные действия удерживаются в памяти лучшезавершенных. Второй вид уравновешивания напряжения через диффузиюпозволяет объяснить столь различные феномены, как удовлетворениепотребности замещающей деятельностью [К. Lewin, 1932;К. Lissner, 1933;W. Mahler, 1933;M. Henie, 1944], а также роль утомления, эмоций гнева[Т. Dembo, 1931] и выхода в ирреальный план действий [J. F. Brown,1933] при разрядке напряженной системы. Состояния утомления,эмоционального возбуждения и ирреальность действия понимаются при этомкак условия, уменьшающие прочность границ областей, а следовательно,увеличивают их проницаемость.
Структура внутриличностных областей не задается раз и навсегда. Помере индивидуального развития и накопления опыта она дифференцируетсяи может переструктурироваться. Каждая моментальная цель действияпредставлена в этой структуре собственной областью. Как отмечает Левинв своем основополагающем труде «Намерение, воля и потребность» [1926],цели действия очень часто представляют собой «квазипотребности», т. е.производные потребности. Квазипотребности имеют преходящий характер.Они часто возникают из намерения. Намерение образует напряженнуюсистему, которая разряжается и исчезает только после достижения целидействия. Например, человек испытывает потребность в эмоциональнойблизости – он набирает номер телефона и звонит другу.
Квазипотребности могут, однако, образовываться и без актанамерения, как подлежащие исполнению деятельности, служащиенеобходимыми промежуточными ступенями к достижению целей действия исвязанные с «истинными», т. е. более общими и устойчивыми,
потребностями. Например, указания преподавателя о необходимости записиматериала лекции, как правило, принимаются студентами безпредварительного намерения. Возникает квазипотребность выполнитьзаданную деятельность, которая по сути не отличается от действия,предпринимаемого по собственной инициативе. В обоих случаях можновидеть, что деятельность после прерывания вновь спонтанновозобновляется [M. Ovsiankina; 1928]. Решающим в силе квазипотребности(или соответствующей ей напряженной системы) является не наличие илиинтенсивность акта намерения, а степень связи квазипотребности систинными потребностями (которые в нашей системе понятий имеют статусмотивов), так сказать, степень «насыщенности» ими.
Наличие напряженной системы, будь то потребность иликвазипотребность, сопровождается специфическими изменениями восприятияокружения. Объекты, которые могут служить для разрядки илиудовлетворения потребностей, приобретают так называемый побудительныйхарактер, валентность, что и выделяет их из окружения, приводит вдвижение целенаправленное поисковое поведение. Если, например, человексобирается опустить письмо, то в незнакомом месте почтовый ящик как бысам бросается в глаза, хотя осознанно его не ищут. Сила валентностизависит от степени напряжения системы. Этой зависимостью утверждаетсяединственная связь между двумя разными в своей основе моделями.
Гибкость и широта применения модели личности в значительной мереопределяются ее структурными компонентами. Модель оперирует вариантамивзаимного расположения внутриличностных областей, прочностью их граници, наконец, положением границ повышенной прочности. Рисунок 5.2.поясняет сказанное. На нем представлены три различных динамическихсостояния одного и того же индивида, а именно: (а) при отсутствиипобуждения, (в) под давлением, которому противостоит самообладание, и(с) при крайне высоком напряжении. Для каждого состояния можно вывестиразличные способы поведения, например недифференцированный аффективныйпрорыв в случае состояния (с).
Рис. 5.2. Модели трех состоянийодного и того же индивида: (а) приотсутствии побуждения периферийные зоны р внутриличностных областей IPлегко доступны воздействию окружающего мира U, а центральные зоныz ,напрoтив, доступны в значительно меньшей степени, на что указываетразная прочность границ центральных и периферических областей Gz, содной стороны, и внутриличностных областей и сенсомоторной пограничнойзоны Gp, с другой; внутриличностные области IP относительно свободновоздействуют на сенсомоторную пограничную зону M; (в) под давлением,которому противостоит самообладание, периферийные зоны p
внутриличностных областей IP не столь доступны, чем в случае (а),внешним воздействиям, периферийные (p) и центральные (z) зоны связанытеснее, коммуникации между IP и M затруднены; (с) при крайне высокомнапряжении возможна унификация (примитивизация, регресс)внутриличностных областей IP.
В теории поля недостаточно учитываются индивидуальные различия,чтобы, действительно, с ее помощью можно было перейти на уровеньобъяснения поведения с третьего взгляда, т. е. специально проследитьвзаимодействие индивидуальных различий диспозиций и ситуационныхфакторов. Тем не менее попытки описать с помощью модели личностииндивидуальные различия через разное «состояние материала» все жепредпринимались. Сам К. Левин описал в этой модели с помощью обеихособенностей «состояния материала» различие между нормальными ислабоумными индивидами. У слабоумных границы между внутриличностнымиобластями более жестки, и этих областей у них меньше, чем у нормальныхиндивидов. На рис. 5.3 представлены модели, отражающие различия винтеллекте и развитии.
Так выглядит модель личности. Ее динамический компонент—не силы инаправления, а состояния напряжения — соответствует«психогидравлическим» моделям Фрейда [S. Freud, 1895; 1915] и Лоренца[К. Lorenz, 1950]. Во всех трех моделях действует одна и та жеаналогия: накапливающаяся в емкости жидкость (как в паровом котле),повышая давление, стремится к выравниванию сил, к «оттоку». От теориивлечения Халла концепция напряженной системы Левина отличается двумяважными моментами. Во-первых, напряженные системы всегда специфичныотносительно цели и, следовательно, не обладают общей функциейвлечения; во-вторых, напряженные системы не просто активируютфиксированное привычное выполнение (сочетание «раздражитель—реакция»),которое в прошлом приводило к достижению соответствующей целидействия. Они направлены на достижение цели и в зависимости отситуации гибко вводят необходимые для этого действия.
Тем не менее остается неясным, как именно протекаютпостулированные моделью личности процессы, в частности как напряженная
система находит доступ к сенсомоторной пограничной зоне и какимобразом осуществляется предусмотренное двигательное исполнение, хотяструктурный компонент модели личности придает ей известнуюизменчивость. Полевые представления реализованы в теории в той мере, вкакой она оперирует отношениями соседства, взаимного расположения иновообразованием областей. Сюда присоединяется, скорее, техническоепредставление о прочности границ областей, т. е. их проницаемости длясостояний напряжения. Однако окружающий мир (хотя Левин указывает, чтоэтот мир находится по ту сторону пограничной сенсомоторной зоны) вмодели личности никак не представлен. Взаимодействие с ним в моделитолько предполагается. Личность, таким образом, оказываетсязаключенной в оболочку, а созданная Левином модель не удовлетворяетего же требованию анализировать совокупную ситуацию. В модели ненашлось места связывающим субъекта с окружающим миром мотивирующиможиданиям и привлекательности самих объектов (требовательный характервещей, валентности). Чтобы их ввести, Левин создал модель окружения.Несмотря на свою ограниченность, модель личности вызвала к жизни рядважных экспериментов.
Модель окруженияНаблюдая поведение людей в различных ситуациях, Левин стремился
выявить психологическую структуру окружающего мира как пространствадействия. Ему удалось установить примечательные различия междупсихологической и географической структурой мира, особенно еслипоследняя описывается в евклидовой системе координат. Наблюдениятакого рода Левин провел еще фронтовиком, во время первой мировойвойны. Они описаны в его первой психологической публикации «Военныйландшафт» [К. Lewin, 1917b]. Представления о протяженности отрезковпути в аналогичных участках ландшафта на фронте по сравнению с тыломполностью меняются. Если требуется достичь близлежащего вгеографическом отношении места, то на фронте в качестве непреодолимыхпрепятствий могут оказаться все легко преодолимые и ведущиенепосредственно к цели участки, если они не скрыты от наблюденияпротивника. В условиях возможного вмешательства неприятеля петляющая иукрытая от посторонних глаз тропинка психологически становитсянаикратчайшим путем к цели, даже если с географической точки зренияона является окольной дорогой (психологически она так непереживается). Позднее Левин часто снимал на пленку поведение детей всвободной ситуации, например на игровой площадке, а потом анализировалпсихологическое пространство передвижения детей среди окружающихобъектов (примером тому служит представленная на рис. 4.11 схемапередвижения ребенка в конфликтной ситуации: он хочет вернуть своегопопавшего в воду игрушечного лебедя, но боится волн).
Направление возможного или реально происходящего действия должнобыть представлено в модели окружения в психологическом, а не вгеографическом пространстве. Психологическое пространство, или поле,состоит из различных областей, которые структурируют не пространство всобственном (географическом) смысле слова, а психологически возможные
действия и события. Часть из таких областей соответствует возможнымпозитивным и негативным событиям: целевые регионы с позитивнойвалентностью и регионы опасности с негативной валентностью. Остальныеобласти представляют инструментальные возможности действия,использование которых приближает к целевому региону или отдаляет отрегиона опасности. Они имеют, таким образом, значение средствадействия. В одной из областей модели окружения находится сам субъект,представляемый точкой или кружком. Чтобы достичь целевого региона спозитивной валентностью, субъект должен одну за другой «перебрать» всеобласти, лежащие между ним и целевым объектом, преодолеть их вдействии. Если, например, кто-то хочет купить автомобиль исамостоятельно им управлять, он должен получить водительские права,скопить деньги, явиться в место продажи автомобилей, обратиться кпродавцу и т. д.
Модель окружения не столько объясняет, сколько описывает ведущие кдостижению искомой цели или позволяющие избежать нежелательных событийвозможные действия, какими они представляются субъекту в данномжизненном положении. Таким образом, она позволяет описать когнитивнуюрепрезентацию соотношений средств и цели, которые субъектструктурирует, исходя из своих возможных действий и их результатов.Другими словами, речь идет о мотивирующих ожиданиях, структурногокомпонента модели окружения.
Динамическим компонентом модели окружения является поле сил, центркоторого может лежать, как это изображено на рис. 5.4, в областях спозитивной или негативной валентностью. На субъекта воздействуют силыопределенной интенсивности, и их результирующий вектор определяетнаправление и силу его психических локомоций. Если же впротивоположном направлении действуют силы приблизительно такой жеинтенсивности, возникает конфликт. Направление означает при этомпоследовательность отдельных целевых действий. Часто действие разнымипутями ведет к одной и той же цели, психологическое направление в этомслучае остается неизменным, имеет место эквивалентность исходовцеленаправленного поведения.
Использовавшиеся первоначально К. Левином понятия топологии невполне удовлетворяли его, поскольку с их помощью можно оперировать
лишь отношениями соседства, но не направлениями. Он попыталсяусовершенствовать их [К. Lewin, 1934], обратившись к «годологическим»(от греческого слова «hodos»—«путь») понятиям: пути действийпредставлялись как связи между областью, в которой в данный моментнаходится субъект, и областью цели. На рис. 5.4а показаны триразличных пути достижения цели. Левин допускает, что среди возможныхвариантов обычно существует своего рода «лучший» путь, которомуотдается предпочтение, так как он требует пересечения наименьшегочисла областей, т. е. представляется «кратчайшим». Короткость, илиминимальность, психологического расстояния зависит не только от числапромежуточных областей. Пример с военным ландшафтом показывает, чтонезависимо от числа областей минимальность может определяться степеньюсложности прохождения отдельных областей, мерой необходимых усилий илиразмером грозящей опасности. В топологии не представлены нинаправления, ни расстояния. Несмотря на все усилия К. Левина [К.Lewin, 1936; 1938;-1964а], вопрос о том, как можно определить ипредставить психологическое расстояние, остался нерешенным. Неразрешен он и до сих пор, хотя ответ на него является важнейшейпредпосылкой для определения интенсивности сил, исходящих отпозитивной или негативной валентности и проявляющихся в различныхобластях поля.
Данная модель, собственно, не объясняет и не предсказываетповедение, а лишь описывает, как оно осуществлялось: она непредиктивна, а постдиктивна. Модель предполагает существующими иизвестными все мотивирующие поведение переменные, а именно: с однойстороны, мотивирующие валентности в форме областей психологическогополя, с другой – когнитивные структуры ожиданий, в качестве содержаниякоторых выступают отношения средств и цели в соответствующих путяхдействия. Эти переменные в модели представлены в виде соседствующихобластей и проходящих через них путей. Эвристическая плодотворностьмодели окружения определяется если не объяснением, то анализом условийповедения в относительно свободной ситуации. Представленные в моделиданные позволяют проследить и вывести важные факторы в совокупномпсихологическом (т. е. задействованном в поведении) поле, такие, каксилы, препятствия, пути действия, близость к области цели.
Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля
Среди порожденных идеями Левина остроумных экспериментов естьцелая группа исследований, посвященных последствиям незавершенныхдействий, будь то их лучшее удержание в памяти, предпочтительноевозобновление или их завершение в замещающей деятельности. Этиэксперименты выбраны в качестве примеров, так как в их замысле особуюроль сыграла модель личности. Модель окружения, как уже отмечалось, непородила экспериментальных работ, поскольку описывала поведение вотносительно свободных и сложных ситуациях. Исключение составляетисследование Фаянс [S. Fajans, 1933] о зависимости силы побудительногохарактера от удаленности объекта цели. Среди наиболее влиятельныхэкспериментов, порожденных теорией Левина, был эксперимент по
формированию уровня притязаний [F. Норре, 1930], теоретическаяразработка которого осуществлена десятью годами позднее созданиямодели окружения.
Последствия незавершенных действийЗ.Фрейд еще в своей «Психопатологии обыденной жизни» [S. Freud,
1901*] привел массу примеров психологических последствийнеосуществившихся желаний, т. е. нереализовавшихся действий. Будучи«вытесненными» вследствие своего запретного или предосудительногохарактера, они не просто исчезают, а находят свое выражение вмногообразных скрытых формах, будь то «свободное» вторжение, сон илитак называемые ошибочные действия, мимолетные нарушения протеканиядеятельности. На таких наблюдениях, по большей части, основываетсяпсихоаналитическая теория и техника толкования.
На сходных наблюдениях последствий незавершенных действий строилсвою модель личности К.Левин. Эксперимент строился следующим образом:испытуемому предлагали для выполнения одно за другим 16—20 различныхзаданий, половину из которых экспериментатор прерывал до их окончания,давая испытуемому следующее задание. После окончания экспериментаиспытуемого мимоходом спрашивали, какие задания он может вспомнить.Последствия незавершенных действий должны были проявиться в лучшемудержании прерванных заданий. Подтвердить это удалось ученице К.ЛевинаБ.Зейгарник [В. Zeigarnik, 1927], а установленная ею закономерностьполучила название эффекта Зейгарник. В модифицированном эксперименте,проведенном другой ученицей К.Левина – М.Овсянкиной [М. Ovsiankina,1928], для выявления последствий незавершенных действий использовалосьвместо проверки их удержания спонтанное возобновление отдельныхзаданий. Для этой цели материал заданий оставлялся разложенным передиспытуемым, экспериментатор под каким-либо предлогом покидал помещениеи скрыто наблюдал, возобновит ли испытуемый работу над теми или инымизаданиями. Подобный способ выявления последствий незавершенныхдействий имеет то преимущество, что неудовлетворенные квазипотребностипроявляются непосредственно, поскольку в этом случае инструкция навоспроизведение, предъявлявшаяся в эксперименте Б.Зейгарник как кзаконченным, так и к прерванным действиям, не конкурирует с влияниемнеудовлетворенных квазипотребностей.
Наряду с обоими классическими методами, удержания и возобновления,для учета последствий незавершенных действий были привлечены ещечетыре поведенческих индикатора.
1. Повторный выбор, т. е. выбор для дополнительного занятия одногоиз двух уже предлагавшихся заданий, одно из которых ранее было решено,а другое—нет [S. Rosenzweig, 1933; 1945; S. Coopersmith, I960].
2. Нейровегетативные изменения, наблюдающиеся при случайномупоминании незавершенного задания во время выполнения другойдеятельности [R. Fuchs, 1954]. Было замечено также, что прерываниедействия сопровождается повышением тонуса мускулатуры [D. L. Freeman,1930; A. A. Smith, 1953; D. W. Forrest, 1959].
3. Разные пороги узнавания для слов, обозначающих завершенные и
прерванные задания [L. Postman, R. L. Solomon, 1949; A. J. Caron, N.A. Vallach, 1957].
4. Возрастание привлекательности задания после прерывания [D.Cartwright, 1942; М. Gebhard, 1948].
По собственным словам К.Левина, идея изучить последствиянезавершенных действий возникла у него, когда ему стало ясно, чтоконструкт напряжения в модели личности заслуживает серьезногорассмотрения и требует конкретной реализации в эксперименте.Применительно к каждому из трех компонентов модели личности: (а)состоянию напряжения области (напряженная система), (в) подразделениюобластей (на центральные и периферические; по степенидифференцированности и (с) свойствам материала (прочность границобластей) – можно принять ряд гипотез. В дальнейшем по каждой изтеоретически выведенных гипотез были получены экспериментальныеданные.
Напряженная система:1. Лучшее удержание и предпочтительное возобновление незавершенных
квазипотребностей (оба явления позднее получили название эффектаЗейгарник). Зейгарник установила [В. Zeigarnik, 1927], чтонезавершенные задания удерживаются в среднем в два раза лучшезавершенных. При использовании в качестве критерия возобновлениедействия результаты оказались еще более выраженными [М. Ovsiankina,1928].
2. Чем сильнее не удовлетворена квазипотребность, тем выраженнееэффект Зейгарник (или обобщенно: чем сильнее мотивация, темзначительнее последствия в случае недостижения ее цели). Испытуемые, укоторых в выполнении заданий заметную роль играет честолюбие, почти втри раза лучше воспроизводят незавершенные, чем завершенные действия,а у тех, кто вообще не испытывает в ситуации эксперимента этогочувства, эффект Зейгарник зафиксировать не удается [В. Zeigarnik,1927]. Обострение мотивирующих побуждений духом соперничестваувеличивает выраженность эффекта Зейгарник [А. J. Marrow, 1938].
3. При наличии других квазипотребностей эффект Зейгарникуменьшается. Использование в качестве критерия возобновление действия,как правило, дает большую выраженность последствий, чем проверкаудержания прерванных действий в памяти. В последнем случае, еслииспытуемый воспринимает вопрос экспериментатора не как простоепоследующее обсуждение, а как проверку его памяти, то выраженностьэффекта Зейгарник заметно уменьшается. В первом случае Зейгарникполучила коэффициент (число воспроизведенных незавершенных действий кчислу воспроизведенных завершенных), равный 2,8, во втором— 1,5.
Подразделение областей:4. Центральные квазипотребности порождают более сильный эффект
Зейгарник, чем периферические. Об этом свидетельствует тот факт, чтонезавершенные задания, вызывавшие у испытуемого особый интерес,удерживались лучше [В. Zeigarnik, 1927]. Однако точных данных,подтверждающих эту гипотезу, нет, потому что различие между
периферическими и центральными областями трудно задатьэкспериментально, исключив объяснение с помощью гипотезы о различнойсиле квазипотребностей.
5. Недостаточное отграничение областей, соответствующихзавершенным и незавершенным заданиям, приводит к уменьшению эффектаЗейгарник. При большом сходстве материалов завершенных и незавершенныхзаданий выполнение похожего задания приобретает значение замещения, т.е. уменьшает последствия незавершенных заданий [см. ниже о замещающихдействиях, а также: К. Lissner, 1933; W. Mahler, 1933].
Особенности материала:6. Неудовлетворенная квазипотребность со временем разряжается
(границы напряженной системы обладают известной проницаемостью, чтоприводит к выравниванию напряжений) [см.: М. Ovsiankina, 1928; J. R.Martin, 1940;A. 0. Jager. 1959; I960].
7. Ослабление эффекта Зейгарник при утомлении (в этом состоянииповышается «текучесть» границ областей) [В. Zeigarnik, 1927].
8. Ослабление эффекта Зейгарник при аффективном возбуждении (см. пункт 7).
9. По мере онтогенетического развития эффект Зейгарник проявляетсясильнее, что объясняется увеличением с возрастом прочности границобластей (см. рис. 5.5). Б.Зейгарник установила соответствующиеразличия между детьми, подростками и взрослыми.
Кроме того, получены данные, выведенные не из модели личности, аиз модели окружения. Вместо напряженной системы в этом случаеиспользовалась психологическая сила, направляющая субъекта к целевойобласти, которая, как мы видели, зависит от валентности цели (G) ипсихологического расстояния (е). Валентность же, в свою очередь,зависит от силы потребности (t) и независимых от личности особенностейцели действия (G):
F= Va(G) = t, G Ep, G EpGЗейгарник установила, что преимущественное воспроизведение
незавершенных заданий при так называемых конечных действиях, т. е.действиях с определенным исходом, выражено сильнее, чем при действияхрядоположенных, состоящих из одной и той же операции (скажем,вычеркивание определенных букв в тексте). Здесь сказывается влияниефактора G, который обусловливает (в качестве независимой от субъектаособенности цели) величину валентности. Другие данные можно объяснитьтолько с помощью второго детерминанта психологической силы, а именнопсихологического расстояния (ер, е). Эффект Зейгарник тем выраженное,чем ближе к завершению оказалось действие в момент его прерывания [М.Ovsiankina, 1928].
Можно, впрочем, показать, что решающим для возникновения эффектаЗейгарник является не прерывание действия само по себе, а, скорее,психологическая значимость ситуаций для действующего: видит он своюцель—правильное решение задания—достигнутой или нет. Мэрроу [A. J.Marrow, 1938], используя методику обратного эксперимента (он сообщал
испытуемому, что будет прерывать его работу всякий раз, когда тотокажется на верном пути к решению, и позволит ему работать дальше,если решение будет найдено не сразу), показал, что в этих условиях«законченный» материал неудававшихся заданий удерживался лучше, чемматериал прерванных заданий (с правильно найденным ходом решения) [см.также: Е. Junker, 1960].
Замещающие действияНеудовлетворенные потребности как последствия незавершенных
действий могут быть удовлетворены через действия замещающие, т. е.напоминающие незавершенную деятельность или являющиеся производными отнее. На это явление обратил внимание З.Фрейд [S. Freud, 1915], ноК.Левин [К. Lewin, 1932] первым подверг его экспериментальномуанализу. К.Левина побудили к этой работе данные З.Фрейда,умозрительный, построенный на отдельных наблюдениях терапевтическихэффектов характер которых не мог удовлетворить К.Левина в качествеобъяснения анализировавшихся феноменов. Если влечения остаютсянереализованными, то Фрейд говорит о «судьбах влечений», т. е. или осмене собственно активности влечения через смещение первоначальногообъекта влечения на замещающий (см. обсуждение теорий конфликта в гл.4.), или о так называемой сублимации «энергии влечения», котораяразряжается тем самым в форме относительно безобидных видовактивности.
К.Левин проанализировал условия, при которых незавершенноедействие не имеет последствий в связи с завершением его в другомдействии. В каком случае вводимое дополнительно действие приобретаетзначение замещения первоначального действия? При экспериментальноманализе использовалась разработанная М.Овсянкиной методика спонтанноговозобновления задания: после его прерывания и до появления удобногослучая для возобновления работы вводилось новое задание и испытуемомупредоставлялась возможность его завершить. По тому, возобновлялась липосле этого работа над первоначально прерванным заданием, судили озамещающем характере промежуточной деятельности.
Основой для построения гипотезы здесь также стала модель личности,в частности ее постулаты о выравнивании уровня напряженности междусоседними областями вследствие относительной проницаемости границобластей и об определении меры сходства целей действия и активностейпо степени соседства представляющих их областей. Исходя из этихпостулатов, можно ожидать, что быстрее всего разрядка напряженнойсистемы произойдет через завершение возможно более схожего действия.Если область А есть напряженная система, то напряженность перетекает всоседнюю область В. Уровни напряжения выравниваются. Различие внапряжении снова увеличится, если область В после завершения действияполностью разрядится. Но в результате произойдет уменьшение напряженияв области А. (Из временных соотношений в последовательности подобныхсобытий вытекают, в свою очередь, дальнейшие гипотезы. Например, свозрастанием продолжительности времени замещающая ценность схожегопромежуточного действия должна сначала увеличиваться, так как
выравнивание напряжения требует некоторого времени. Но этопредположение до сих пор не проверено.)
Наиболее известные эксперименты по изучению условий, при которыхдополнительное действие приобретает значение замещающего, былипроведены тремя ученицами Левина: Лисснер [К. Lissner, 1933], Малер[W. Mahler, 1933] и Хенле [М. Henie, 1944]. Лисснер прерывала работудетей, например, при вылепливании какой-либо фигуры из пластилина ипросила вылепить другую фигуру. Замещающая ценность относительнопервоначального задания в целом возрастала соответственно степенисходства между обоими заданиями. Важным параметром степени сходстваоказался уровень сложности задачи. Более легкое промежуточное заданиеимело ограниченную замещающую ценность. Если, напротив, промежуточноедействие было более трудным, то его ценность оказывалась оченьвысокой; работа над прерванным заданием не возобновлялась. Кроме того,элементы ситуации, определяющие цель действия субъекта, такжеоказывают влияние. Если, например, продукт действия предназначался дляопределенного лица, то по отношению к первоначальному намерениюизготовление такой же вещи для другого лица ни в коем случае неприобретает замещающей ценности [D. L Adier, J. S. Kounin, 1939]. Понаблюдениям Лисснер, к тому же эффекту приводит предложениеэкспериментатора выполнить абсолютно такую же работу, с указанием, чтона этот раз задание будет совершенно другим.
В.Малер варьировала степень реальности замещающих действий:прерванная работа завершалась мысленно в словесном сообщении или вплане внешней деятельности. Замещающая ценность возрастаетсоответственно степени реальности промежуточной деятельности, точнее,по мере приближения плана ее исполнения к тому уровню, на которомвыполнялась прерванная деятельность (например, при предшествующемрешении задач размышления имеют более высокую степень реальности, чеммоторные действия).
М.Хенле в своих обширных исследованиях замещающих действийопиралась не только на модель личности, но и на модель окружения, вособенности на соотношение валентностей прерванного и замещающегодействий. Сначала оценивалась привлекательность заданий дляиспытуемых. На основе этих данных Хенле комбинировала прерываемые изамещающие действия. Если валентность замещающего действия была нижевалентности прерванного, то замещающая ценность оказываласьограниченной или нулевой. Наоборот, замещающая ценность возрастала темсильнее, чем больше валентность промежуточного действия превышалавалентность первоначального задания.
Независимо от того, строится экспериментальный анализ замещающейценности действия на модели личности или модели окружения, он выявляетцеленаправленный характер действия. Потому-то замещающая ценность темвыраженное, чем в большей степени промежуточное действие приближаетсяк достижению иным путем блокированной ранее цели, а не преследуетновую цель. Это особенно отчетливо видно в экспериментах Лисснер сварьированием сложности заданий. Решение более сложного вариантапрерванного задания, очевидно, потому имеет высокую замещающую
ценность, что предполагает возможность решения всех более легкихвариантов.
Психологическое расстояние и сила валентностиФаянс [S. Fajans, 1933] показывала на различном расстоянии
испытуемым двух возрастных групп, совсем маленьким детям и пятилеткам,привлекательную игрушку, но так, что она всегда была недосягаема дляребенка. При этом регистрировалась длительность целенаправленногоповедения (такого, как протягивание рук, обращение за помощью кэкспериментатору, поиск орудия), а также длительность проявленияаффективных реакций фрустрации. Через одинаковое для обеих групп времядети сдавались. Время наступления этого момента для обеих групп былотем больше, чем меньшим было расстояние до целевого объекта. У совсеммаленьких детей с уменьшением расстояния увеличивалась такжевыраженность аффективных реакций, у более старших она оставаласьнеизменной. Полученные Фаянс данные свидетельствуют о возрастаниивалентности целевого действия с уменьшением психологическогорасстояния.
Правда, как предположили Лисснер [К. Lissner, 1933] и Левин [К.Lewin, 1938], рассмотренный феномен имеет разную природу у маленьких иболее старших детей. В то время как для маленьких с удалениемжелаемого объекта просто уменьшаются направленные на него силы, уболее старших, видимо, вступает в силу когнитивное структурированиеполя, т. е. они понимают, что с увеличением расстояния до объектаинструментальные действия, такие, как использование орудий, становятсявсе более бесперспективными. В основе одних и тех же наблюдаемых(фенотипических) явлений – увеличения деятельности целенаправленногоповедения при уменьшении физической удаленности от объекта цели –лежит в зависимости от возраста разный психологический(генотипический) механизм. Для старших детей удаленность объекта какпсихологическое расстояние в большей степени определяется структуройведущих к цели возможных средств действия.
Согласно Левину, в этом случае окончательное прекращение попытокдостичь цели также имеет разные основания. При преодолении любогобарьера, т. е. любой области окружения, препятствующей достижениюцелевой области, в поле сил разворачиваются следующие события. Сначалав результате сопротивления сдерживаемая сила препятствия повышаетинтенсивность силы, направленной на целевой объект. Ребенок вынужденбыл бы бесконечно топтаться перед ним, если бы область барьера с еесдерживающими силами постепенно не приобретала негативную валентностьи не создавала негативного поля сил. Когда негативные силы поляначинают превышать позитивные, то ребенок отходит, удаляется отцелевой области и, наконец, прекращает попытки ее достичь. Объяснениеповедения младших детей полностью исчерпывается этим механизмом.
По мнению Левина, у более старших детей срабатывает еще один,когнитивный, процесс. Они понимают, что путь действия, на котором онинаходятся, не ведет к цели и переструктурируют поле соответственносредствам и цели. При этом они осознают, что совершенно независимо от
пространственной близости желаемый объект недосягаем, потому чтонастоящий барьер заключается в экспериментаторе, блокирующем подступык цели. Положение Левина о когнитивном переструктурировании поляподтверждается данными об аффективном поведении. В то время как усовсем маленьких детей по мере приближения целевого объекта оностановится более выраженным, у старших физическое расстояние не влияетна аффективные реакции. Основой аффективных реакций является конфликт,а он тем выраженное, чем ближе по величине противоположно направленныесилы. Из этого можно заключить, что только для более старших детейискомая сила (и вместе с ней конфликт) независимо от пространственнойблизости целевого объекта остается одной и той же. Этопредусматривает, однако, структурирование поля действия соответственноотношениям средств и целей, при этом обычная пространственнаяудаленность уже не имеет особого значения.
Кратко изложенное здесь теоретическое объяснение Левином данныхФаянс позволяет судить о возможностях применения модели окружения прианализе достаточно сложных феноменов. Большим достоинством теории поляявляется уже одно только теоретическое указание на психологическиразличную интерпретацию внешне одинакового поведения у разных группиндивидов.
ТЕОРИЯ НАУЧЕНИЯ
Основной постулат этой теории состоит в том, что почти всякоеповедение усваивается в результате научения. Например, любаяпсихопатология понимается как усвоение неадаптивного поведения или какнеудача при усвоении адаптивного поведения. Вместо того чтобы говоритьо психотерапии, сторонники теорий научения говорят о модификацииповедения и о поведенческой терапии. Нужно модифицировать или изменятьконкретные действия, вместо того чтобы разрешать внутренние конфликты,лежащие в основе этих действий, или реорганизовывать личность. Так какбольшинство видов проблемного поведения было когда-то усвоено, от нихможно отучиться или как-то их изменить, используя специальныепроцедуры, основанные на законах обучения.
Еще более существенной чертой этих подходов является ориентация наобъективность и научную строгость, на проверяемость гипотез иэкспериментальный контроль переменных. Это привело к тому, что главнымместом изучения поведения стала лаборатория, что простое поведениепредпочитается сложному, а в качестве испытуемых используютсяживотные, такие, как крысы и голуби. В дальнейшем ориентация натщательные манипуляции с объективными переменными привела к смещениюакцентов на силы, внешние по отношению к организму, в отличие отвнутренних сил. Сторонники теории научения, манипулируют параметрамивнешней среды и наблюдают последствия этих манипуляций в поведении. Вто время как психодинамические теории выделяют причины поведения,которые кроются внутри организма (например, влечения, защитныемеханизмы, Я-концепция), теории научения подчеркивают причины,находящиеся во внешнем окружении. В центре внимания оказываютсявнешние стимулы, которыми можно манипулировать в эксперименте, такие,например, как пищевое вознаграждение, в отличие от понятий, которымиманипулировать нельзя, — таких, как Я-концепция (Self), Я (Еgо) ибессознательное.
Предпочтение, которое бихевиоризм отдает внешним, средовымдетерминантам, связано также с акцентом на ситуативную специфичностьповедения. Вместо того чтобы признавать стабильные характеристики,проявляющиеся в широком диапазоне ситуаций, на которые делают ставкутеория черт и психодинамическая теория, бихевиористы считают, что,какая бы согласованность в поведении ни обнаруживалась, этим человекобязан сходству условий среды, в результате которых и возникают данныедействия.
При рассмотрении поведенческого подхода к поведению следуетразличать две разновидности поведения: респондентное и оперантное.Чтобы лучше понять принципы скиннеровского оперантного научения,необходимо сначала обсудить респондентное поведение.
Теория классического (респондентного) обусловливанияРеспондентное поведение подразумевает характерную реакцию,
вызываемую известным стимулом, последний всегда предшествует первойво времени. Хорошо знакомые примеры — это сужение или расширение
зрачка в ответ на световую стимуляцию, подергивание колена при ударемолоточком по коленному сухожилию и дрожь при холоде. В каждом изэтих примеров взаимоотношение между стимулом (уменьшение световойстимуляции) и реакцией (расширение зрачка) невольное и спонтанное,это происходит всегда. Также респондентное поведение обычно влечет засобой рефлексы, включающие автономную нервную систему. Однакореспондентному поведению можно и научить. Например, студент, которыйочень потеет и у которой «сосет под ложечкой» от страха передэкзаменом, возможно, демонстрирует респондентное поведение. Для того,чтобы понять, как можно изучать то или другое респондентноеповедение, полезно обратиться к трудамм И. П. Павлова, первогоученого, чье имя связывают с бихевиоризмом.
Иван Петрович Павлов (1849-1936) был русским физиологом, который входе своих исследований процесса пищеварения разработал метод изученияповедения и принципы научения, оказавшие глубокое воздействие на всюпсихологическую науку. В конце XIX — начале XX в. Павлов занималсяисследованием секреции желудочного сока у собак. В ходе этихэкспериментов он, среди прочего, вкладывал некоторое количество кормав пасть собаки и измерял, сколько слюны выделяется в результате.Случайно он обратил внимание на то, что после нескольких таких опытовсобака начинает выделять слюну на определенные стимулы еще до того,как пища попадает ей в рот. Слюноотделение происходило в ответ натакие сигналы, как появление миски с едой или появление человека,который обычно приносил пищу. Другими словами, стимулы, которыепервоначально не приводили к данной реакции (так называемыенейтральные стимулы), затем могли вызывать слюноотделение из-за того,что ассоциировались с кормом, который автоматически заставлял собакувыделять слюну. Это наблюдение натолкнуло Павлова на идею проведениявыдающихся исследований, в результате которых был открыт процесс,получивший название процесса выработки классического условногорефлекса, или процесса классического обусловливания.
Принципы классического обусловливанияПавлов первым открыл, что респондентное поведение может быть
классически обусловленным.Суть процесса классического обусловливания втом, что изначально нейтральный стимул начинает вызывать реакциюблагодаря своей ассоциативной связи со стимулом, который автоматически(безусловно) порождает такую же или очень похожую реакцию. Иначеговоря, собака выделяет слюну на первую же порцию корма, когда онпопадает ей на язык. В этом случае нет никакой необходимости говоритьо каком-то обусловливании или научении. Еда может рассматриваться какбезусловный стимул (БС), а слюноотделение — как безусловная реакция, илибезусловный рефлекс (БР). Это происходит, потому что слюноотделение —автоматическая, рефлекторная реакция на пищу. Нейтральный стимул —например, звонок — не вызовет слюноотделение. Однако если в рядеопытов непосредственно перед предложением пищи звонит звонок, то егозвук сам по себе, без следующего за ним появления пищи может вызватьреакцию слюноотделения. В этом случае речь идет о процессеобусловливания, так как слюноотделение происходит вслед за звонком без
предъявления пищи. В этом смысле звонок можно отнести к условнымстимулам (УС), а слюноотделение — к условным реакциям, или условнымрефлексам (УР). На рис. 7-1 можно видеть процесс классического обусловливания.
Рис. 7. Парадигма классического обусловливания по Павлову.
Аналогичным образом можно выработать условные оборонительныереакции на первоначально нейтральные стимулы. В первых исследованияхпо оборонительному обусловливанию на собаку надевали специальнуюупряжь, чтобы удерживать ее в станке, а к лапе прикрепляли электроды.Подача электрического тока (безусловный стимул) на лапу вызывалаотдергивание лапы (безусловный рефлекс), которое было рефлекторнойреакцией животного. Если непосредственно перед ударом током несколькораз звонил звонок, то постепенно звук сам по себе (условный стимул)был способен вызывать оборонительный рефлекс отдергивания лапы(условный рефлекс).
Несмотря на то, что вначале Павлов проводил экперименты наживотных, другие исследователи начали изучать основные процессыклассического обусловливания на людях.
Эксперимент Уотсона и Рейнера (1920)Он иллюстрирует ключевую роль классического обусловливания в
формировании таких эмоциональных реакций, как страх и тревога. Этиученые обусловливали эмоциональную реакцию страха у 11-месячногомальчика, известного в анналах психологии под именем «МаленькийАльберт». Как и многие дети, Альберт вначале не боялся живых белыхкрыс. К тому же его никогда не видели в состоянии страха или гнева.Методика эксперимента состояла в следующем: Альберту показывалиприрученную белую крысу (УС) и одновременно за его спиной раздавалсягромкий удар в гонг (БС). После того, как крыса и звуковой сигнал былипредставлены семь раз, реакция сильного страха (УР) — плач изапрокидывание — наступала, когда ему только показывали животное.Через пять дней экспериментаторы показали Альберту другие предметы,напоминающие крысу тем, что они были белые и пушистые. Былообнаружено, что реакция страха у Альберта распространилась намножество стимулов, включая кролика, пальто из котикового меха, маскуДеда Мороза и даже волосы экспериментатора. Большинство из этихобусловленных страхов все еще можно было наблюдать месяц спустя послепервоначального обусловливания. К сожалению, Альберта выписали избольницы (где проводилось исследование) до того, как Уотсон и Рейнерсмогли угасить у ребенка страхи, которые они обусловили. О «МаленькомАльберте» больше никогда не слышали. Позже многие резко критиковалиавторов за то, что они не убедились в отсутствии у Альберта стойких
болезненных последствий эксперимента. Хотя ретроспективно этот случайможно назвать жестоким, он действительно поясняет, как подобные страхи(боязнь незнакомых людей, зубных врачей и докторов) можно приобрести впроцессе классического обусловливания.
Феномены респондентного обусловливанияЭкспериментальная процедура, разработанная Павловым для изучения
классического обусловливания, позволила ему исследовать целый рядважных феноменов:
Генерализация. Павлов обнаружил, что условный рефлекс, которыйвозник в ответ на один первоначально нейтральный стимул, будетассоциироваться и с другими похожими стимулами.
Другими словами, реакция слюноотделения на звонок будетгенерализована обобщена, распространена и на другие звуки. Точно также и оборонительая реакция отдергивания на звонок будетраспространяться на другие звуки, напоминающие звонок.
Дифференцировка. Если в многократно повторяющихся опытахбезусловный раздражитель следует только вслед за некоторыминейтральными стимулами, то животное распознает разницу междустимулами. Например, если только за некоторыми звуками следуют ударытоком и рефлекторное отдергивание лапы, то собака может научитьсяразличать звуки, за которыми следует удар током, от тех, за которымион не следует.
Таким образом, если процесс генерализации приводит ксогласованности реакций на похожие стимулы, то процесс дифференцировкиприводит к большей специфичности реакций.
Угашение. Если условный стимул перестает хотя бы иногдасопровождаться последующим безусловным стимулом, то наступаетпостепенное ослабление обусловливания, или ослабление связи междустимулами. В то время как ассоциация нейтрального стимула сбезусловным стимулом приводит к образованию условного рефлекса,многократное предъявление условного стимула без безусловного стимулаприводит к угашению условного рефлекса. Поэтому, для того чтобы собакапродолжала выделять слюну на звонок, необходимо хотя бы время отвремени совмещать звонок с последующим кормлением.
Самопроизвольное восстановление. Было также обнаружено, что еслисобаке дают длительный отдых в период угасания, то слюноотделениебудет повторяться при звуке колокольчика через некоторое время.
Хотя все примеры взяты из опытов с животными, можно видеть, чтоэти принципы приложимы и к людям. Например, возьмем ребенка, которогопокусала или сильно напугала собака. Страх ребенка перед даннойсобакой может распространяться теперь на всех собак – процессгенерализации. Предположим теперь, что с чьей-то помощью ребенокначинает различать собак разных пород и начинает бояться собак толькоопределенной породы – и это будет процесс дифференцировки. Попрошествии времени ребенок может приобрести положительный опыт общениясо всеми собаками, что приведет к угашению реакции страха. Такимобразом, классическая модель обусловливания может оказаться очень
полезной для понимания развития, сохранения и исчезновения многихнаших эмоциональных реакций.
Таким образом, респондентное поведение — это скиннеровская версияпавловского, или классического обусловливания. Он также называл егообусловливанием типа S, чтобы подчеркнуть важность стимула, которыйпоявляется до реакции и выявляет ее. Однако Скиннер полагал, что вцелом поведение животных и человека нельзя объяснять в терминахклассического обусловливания. Напротив, он делал акцент на поведении,не связанном с какими-либо известными стимулами. Пример дляиллюстрации: рассматривая поведение, вы непосредственно сейчасзанимаетесь чтением. Определенно, это не рефлекс, и стимул,управляющий этим процессом (экзамены и оценки), не предшествует ему.Наоборот, в основном на ваше поведение чтения воздействуют стимульныесобытия, которые наступят после него, а именно — его последствия. Таккак этот тип поведения предполагает, что организм активно воздействуетна окружение с целью изменить события каким-то образом, Скиннеропределил его как оперантное поведение. Он также называл егообусловливание типа R, чтобы подчеркнуть воздействие реакции на будущееповедение.
Теория оперантного обусловливанияКлючевая структурная единица бихевиористского подхода в целом и
скиннеровского подхода в особенности — это реакция. Реакции можноранжировать от простых рефлекторных реакций (например, слюноотделение напищу, вздрагивание на громкий звук) до сложного паттерна поведения(например, решение математической задачи, скрытые формы агрессии). Чтоже такое реакция? Реакция –это внешняя, наблюдаемую часть поведения,которую можно связать с событиями окружающей среды. Сущность процессанаучения — это установление связей (ассоциаций) реакций с событиямивнешней среды.
В своем подходе к научению Скиннер проводил различие междуреакциями, которые вызываются четко определенными стимулами (например,мигательный рефлекс в ответ на дуновение воздуха), и реакциями,которые нельзя связать ни с одним стимулом. Эти реакции второго типапорождаются самим организмом и называются оперантами. Скиннер считал,что стимулы среды не принуждают организм вести себя определеннымобразом и не побуждают его действовать. Исходная причина поведениянаходится в самом организме. «Не существует внешнего побуждающегостимула к оперантному поведению, оно просто происходит,осуществляется. С точки зрения теории оперантного обусловливанияоперанты порождаются организмом. Собака идет, бежит, "возится" с кем-то; птица летит; обезьяна прыгает с дерева на дерево; человеческийдетеныш лепечет. В любом случае поведение происходит без воздействиякакого-то специального побуждающего стимула... Производить оперантноеповедение — это заложено в биологической природе организма».
Процесс: оперантного обусловливанияОперантное поведение (вызванное оперантным научением) определяется
событиями, которые следуют за реакцией. То есть за поведением идетследствие, и природа этого следствия изменяет тенденцию организмаповторять данное поведение в будущем. Например, катание на роликовойдоске, игра на фортепиано, метание дротиков и написание собственногоимени — это образцы оперантной реакции, или операнты, контролируемыерезультатами, следующими за соответствующим поведением. Этопроизвольные приобретенные реакции, для которых не существует стимула,поддающегося распознаванию. Скиннер понимал, что бессмысленнорассуждать о происхождении оперантного поведения, так как намнеизвестны стимул или внутренняя причина, ответственная за егопоявление. Оно происходит спонтанно.
Если последствия благоприятны для организма, тогда вероятностьповторения операнта в будущем усиливается. Когда это происходит,говорят, что последствия подкрепляются, и оперантные реакции,полученные в результате подкрепления (в смысле высокой вероятности егопоявления) обусловились. Сила позитивного подкрепляющего стимула такимобразом определяется в соответствии с его воздействием на последующуючастоту реакций, которые непосредственно предшествовали ему.
И напротив, если последствия реакции не благоприятны и неподкреплены, тогда вероятность получить оперант уменьшается. Например,вы скоро перестанете улыбаться человеку, который в ответ на вашуулыбку всегда бросает на вас сердитый взгляд или вообще никогда неулыбается. Скиннер полагал, что, следовательно, оперантное поведениеконтролируется негативными последствиями. По определению, негативные,или аверсивные последствия ослабляют поведение, порождающее их, иусиливают поведение, устраняющее их. Если человек постоянно угрюм, вы,вероятно, попытаетесь совсем избегать его. Подобным же образом, есливы паркуете свою машину в том месте, гда есть надпись «Только дляпрезидента» и в результате на ветровом стекле машины находите штрафнойталон, вы, несомненно, скоро прекратите парковаться там.
Эксперименты СкинераДля того, чтобы изучать оперантное поведение в лаборатории,
Скиннер придумал на первый взгляд простую процедуру, названнуюсвободным оперантным методом. Полуголодную крысу поместили в пустую«свободно-оперантную камеру» (известную как «ящик Скиннера»), где былтолько рычаг и миска для еды. Сначала крыса демонстрировала множествооперантов: ходила, принюхивалась, почесывалась, чистила себя имочилась. Такие реакции не вызывались никаким узнаваемым стимулом; онибыли спонтанны. В конце концов, в ходе своей ознакомительнойдеятельности крыса нажимала на рычаг, тем самым получая шарик пищи,автоматически доставляемый в миску под рычагом. Так как реакциянажатия рычага первоначально имела низкую вероятность возникновения,ее следует считать чисто случайной по отношению к питанию; то есть мыне можем предсказать, когда крыса будет нажимать на рычаг, и не можемзаставить ее делать это. Однако, лишая ее пищи, скажем, на 24 часа, мыможем убедиться, что реакция нажима рычага приобретет, в конце концов,высокую вероятность в такой особой ситуации. Это делается при помощиметода, называющегося научение через кормушку, посредством которого
экспериментатор дает шарики пищи каждый раз, когда крыса нажимает нарычаг. Потом можно увидеть, что крыса проводит все больше временирядом с рычагом и миской для пищи, а через соответствующий промежутоквремени она начнет нажимать рычаг все быстрее и быстрее. Такимобразом, нажатие рычага постепенно становится наиболее частой реакциейкрысы на условие пищевой депривации. В ситуации оперантного наученияповедение крысы является инструментальным, то есть оно действует наокружающую среду, порождая подкрепление (пищу). Если далее идутнеподкрепляемые опыты, то есть если пища не появляется постоянно вследза реакцией нажатия рычага, крыса, в конце концов, перестанет нажиматьего, и произойдет экспериментальное угасание.
Теперь, когда мы познакомились с природой оперантного научения,будет полезно рассмотреть пример ситуации, встречающейся почти вкаждой семье, где есть маленькие дети, а именно — оперантное научениеповедению плача. Как только маленькие дети испытывают боль, ониплачут, и немедленная реакция родителей — выразить внимание и датьдругие позитивные подкрепления. Так как внимание являетсяподкрепляющим фактором для ребенка, реакция плача становитсяестественно обусловленной. Однако плач может возникать и тогда, когдаболи нет. Хотя большинство родителей утверждают, что они могутразличать плач от расстройства и плач, вызванный желанием внимания,все же многие родители упорно подкрепляют последний.
Могут ли родители устранить обусловленное поведение плача илиребенку уготована судьба быть «плаксой» на всю жизнь? Уильяме (1959)сообщает о случае, который показывает, как обусловленный плач былподавлен у 21-месячного ребенка. Из-за серьезного заболевания втечение первых 18 месяцев жизни ребенок получал повышенное внимание отсвоих обеспокоенных родителей. Фактически, из-за его крика и плача,когда он ложился спать, кто-то из родителей или тетя, жившая вместе сэтой семьей, оставались в его спальне до тех пор, пока он не засыпал.Такое ночное бодрствование обычно занимало два-три часа. Оставаясь вкомнате, пока он не засыпал, родители, несомненно, давали позитивноеподкрепление поведению плача у ребенка. Он прекрасно контролировалсвоих родителей. Чтобы подавить это неприятное поведение, врачи велелиродителям оставлять ребенка засыпать одного и не обращать никакоговнимания на плач. Через семь ночей поведение плача фактическипрекратилось. К десятой ночи ребенок даже улыбался, когда его родителиуходили из комнаты, и можно было слышать его довольный лепет, когда онзасыпал. Через неделю, однако, ребенок сразу начал кричать, когда тетяуложила его в постель и вышла из комнаты. Она возвратилась и осталасьтам, пока ребенок не заснул. Этого одного примера позитивногоподкрепления было достаточно, чтобы стало необходимым во второй разпройти через весь процесс угасания. К девятой ночи плач ребенканаконец прекратился, и Уильяме сообщил об отсутствии рецидивов втечение двух лет.
Типы подкрепленийОдним из примечательных идей скинеровской теории обусловливания
является понятие подкрепления.
Подкрепление (punishment) – это любое событие (стимул), котороеследует за реакцией и увеличивает вероятность ее появления. Когдаголубь, например, тычет клювом в диск, то это поведение являетсяоперантным, и если оно сопровождается подкреплением, таким, как еда,то вероятность клевания диска возрастает. В соответствии с этимвзглядом, подкреплениие усиливает то поведение, за которым следует, инет необходимости прибегать к биологическим объяснениям, чтобыопределить, почему так происходит. Очень важным является то, чтостимулы, которые изначально не являются подкреплениями, могут превратиться втаковые благодаря ассоциированию с другими подкреплениями. Некоторые стимулы,такие, как деньги, становятся генерализованным подкреплением,поскольку они обеспечивают доступ ко множеству других видовподкрепления.
Здесь важно понимать, что подкрепление определяется через еговоздействие на поведение — а именно через рост вероятностиповеденческой реакции. Часто трудно точно определить, что можетпослужить таким подкреплением, так как оно варьирует от индивида киндивиду, от организма к организму. Например, исследователь можетискать подкрепление путем проб и ошибок. Он может продолжатьиспытывать разные стимулы, пока не найдется такой, которыйдействительно надежно увеличивает вероятность появления даннойреакции.
Теоретики, занимающиеся научением, признавали два типаподкрепления — первичное и вторичное. Первичное подкрепление — этолюбое событие или объект, сами по себе обладающие подкрепляющимисвойствами. Таким образом, они не требуют предварительной ассоциации сдругими подкреплениями, чтобы удовлетворить биологическую потребность.Первичные подкрепляющие стимулы для людей — это пища, вода, физическийкомфорт и секс. Их ценностное значение для организма не зависит отнаучения. Вторичное, или усвоеное подкрепление, с другой стороны, — этолюбое событие или объект, которые приобретают свойство осуществлятьподкрепление посредством тесной ассоциации с первичным подкреплением,обусловленным прошлым опытом организма. Примерами общих вторичныхподкрепляющих стимулов у людей являются деньги, внимание,привязанности и хорошие оценки.
Генерализация и различение стимуловЛогическим расширением принципа подкрепления является то, что
поведение, усиленное в одной ситуации, весьма вероятно повторится,когда организм столкнется с другими ситуациями, напоминающими ее. Еслибы это было не так, то поведенческий репертуар человека был бы таксильно ограничен и хаотичен, что мы бы, возможно, проснувшись утром,долго размышляли над тем, как реагировать должным образом на каждуюновую ситуацию. В теории Скиннера тенденция подкрепленного поведенияраспространяться на множество подобных положений называетсягенерализацией стимула. Этот феномен легко наблюдать в повседневнойжизни. Например, ребенок, которого похвалили за утонченные хорошиеманеры дома, будет обобщать это поведение в соответствующих ситуацияхи вне дома, такого ребенка не нужно учить, как прилично вести себя в
новой ситуации. Обобщение стимула также может быть результатомнеприятного жизненного опыта. Молодая женщина, изнасилованнаянезнакомцем, может генерализировать свой стыд и враждебность поотношению ко всем лицам противоположного пола, так как они напоминаютей о физической и эмоциональной травме, нанесенной незнакомцем.Подобно этому, единственного случая испуга или аверсивного опыта,причиной которого явился человек, принадлежащий к определеннойэтнической группе (белый, черный, латиноамериканец, азиат), может бытьдостаточно для индивида, чтобы создать стереотип и таким образомизбежать будущих социальных контактов со всеми представителями даннойгруппы.
Характерным для условного подкрепления является то, что оногенерализуется, если объединяется с более чем одним первичнымподкреплением. Деньги — особенно показательный пример. Очевидно, чтоденьги не могут удовлетворить какое-либо из наших первичных влечений.Все же благодаря системе культурного обмена деньги являются мощным исильным фактором для получения множества удовольствий. Например,деньги позволяют нам иметь модную одежду, яркие машины, медицинскуюпомощь и образование. Иные виды генерализованных условныхподкрепляющих стимулов — это лесть, похвала, привязанности иподчинение себе других. Эти так называемые социальные подкрепляющиестимулы (включающие в себя поведение других людей) часто действуюточень сложно и едва уловимо, но они существенны для нашего поведения вразнообразных ситуациях. Например, внимание. Все знают, что ребенокможет получить внимание, когда притворяется больным или плохо себяведет. Часто дети назойливы, задают нелепые вопросы, вмешиваются вразговор взрослых, рисуются, поддразнивают младших сестер или братьеви мочатся в постель — и все это для привлечения внимания. Вниманиезначимого другого — родителей, учителя, возлюбленного – особенноэффективный генерализованный условный стимул, который можетсодействовать ярко выраженному поведению привлечения внимания.
Социальное одобрение — это еще более сильный генерализованныйусловный стимул. Например, многие люди проводят массу времени,прихорашиваясь перед зеркалом, в надежде получить одобряющий взглядсупруга или любовника. И женская, и мужская мода — это предметодобрения, и она существует до тех пор, пока есть социальноеодобрение. Студенты высшей школы соревнуются за место вуниверситетской легкоатлетической команде или участвуют в мероприятияхвне учебного плана (драма, диспут, школьный ежегодник) для того, чтобыполучить одобрение родителей, сверстников и соседей. Хорошие отметки вколледже — тоже позитивный подкрепляющий стимул, потому что ранее за этополучали похвалу и одобрение родителей. Будучи мощным условнымподкрепляющим стимулом, удовлетворительные оценки также способствуютпоощрению учения и достижению более высокой академическойуспеваемости.
Скиннер полагал, что условные подкрепляющие стимулы очень важны вконтроле поведения человека. Он также отмечал, что каждый человекпроходит уникальную науку научения, и вряд ли всеми людьми управляют
одни и те же подкрепляющие стимулы. Например, для кого-то оченьсильным подкрепляющим стимулом является успех в качестве менеджера илипреподавателя; для других важно выражение нежности; а иные находятподкрепляющий стимул в спорте, академических или музыкальных занятиях.Возможные вариации в поведении, поддержанные условными подкрепляющимистимулами, бесконечны. Следовательно, понять условные подкрепляющиестимулы у человека намного сложнее, чем понять, почему крыса, лишеннаяпищи, нажимает рычаг, получая в качестве подкрепления только звуковойсигнал.
Хотя способность обобщать реакции — важный аспект многих нашихповседневных социальных интеракций, все же очевидно, что приадаптивном поведении нужно обладать способностью делать различия вразных ситуациях.
Небольшое изменение в стандартной процедуре оперантного научениядемонстрирует, как нейтральный стимул может приобрести подкрепляющуюсилу для поведения. Когда крыса научилась нажимать на рычаг в «ящикеСкиннера», сразу же ввели звуковой сигнал (сразу после осуществленияреакции), за которым следовал шарик еды. В этом случае звук действуеткак различительный стимул (то есть животное учится реагировать толькопри наличии звукового сигнала, так как он сообщает о пищевомвознаграждении). После того, как эта специфическая оперантная реакцияустанавливается, начинается угасание: когда крыса нажимает на рычаг,не появляются ни пища, ни звуковой сигнал. Через какое-то время крысаперестает нажимать на рычаг. Затем звуковой сигнал повторяется каждыйраз, когда животное нажимает на рычаг, но шарик пищи не появляется.Несмотря на отсутствие первоначального подкрепляющего стимула,животное понимает, что нажатие на рычаг вызывает звуковой сигнал,поэтому оно продолжает настойчиво реагировать, тем самым ослабляяугасание. Другими словами, установленная скорость нажатия на рычаготражает тот факт, что звуковой сигнал теперь действует как условныйподкрепляющий фактор. Точная скорость реагирования зависит от силызвукового сигнала как условного подкрепляющего стимула (то есть отчисла случаев, когда звуковой сигнал ассоциировался с первичнымподкрепляющим стимулом, пищей, в процессе научения). Скиннердоказывал, что фактически любой нейтральный стимул может статьподкрепляющим, если он ассоциируется с другими стимулами, ранееимевшими подкрепляющие свойства. Таким образом, феномен условногоподкрепления в значительной степени увеличивает сферу возможногооперантного научения, особенно если это касается социального поведениячеловека. Иначе говоря, если бы все, чему мы научились, былопропорционально первичному подкреплению, то возможности для научениябыли бы очень ограничены, и деятельность человека не была бы стольразнообразна.
Различение стимула, составная часть обобщения, — это процесснаучения реагировать адекватным образом в различных ситуацияхокружения. Примеров множество. Автомобилист остается в живых в час пикблагодаря тому, что различает красный и зеленый цвета светофора.Ребенок учится различать домашнюю собачку и злобного пса. Подросток
учится различать поведение, находящее одобрение у сверстников, иповедение, раздражающее и отчуждающее других. Диабетик сразу обучаетсяразличать пищу, содержащую много и мало сахара. В самом деле,практически все разумное поведение человека зависит от способностиделать различение.
Способность к различению приобретается через подкрепление реакцийв присутствии одних стимулов и неподкрепление их в присутствии другихстимулов. Различительные стимулы таким образом дают нам возможностьпредвидеть вероятные результаты, связанные с изъявлением особойоперантной реакции в различных социальных ситуациях. Соответственно,индивидуальные вариации различительной способности зависят отуникального прошлого опыта различных подкреплений. Скиннерпредположил, что здоровое личностное развитие происходит в результатевзаимодействия генерализирующей и различительной способностей, спомощью которых мы регулируем наше поведение так, чтобымаксимизировать позитивное подкрепление и минимизировать наказание.
Режимы подкрепленияОсобый интерес Скиннера был сосредоточен в основном на изучении
особенностей (реакций и их связей с процентами подкреплений) иинтервалами между ними, т.е. на изучении режимов подкрепления.
Суть оперантного научения состоит в том, что подкрепленноеповедение стремится повториться, а поведение неподкрепленное илинаказуемое имеет тенденцию не повторяться или подавляться.Следовательно, концепция подкрепления играет ключевую роль в теорииСкиннера.
Для исследования связей реакций и подкреплений используетсяпростое экспериментальное устройство — ящик Скиннера. Конструкцияящика позволяет предъявлять несколько стимулов и наблюдать, как крысыдавят на рычаг или как голуби стучат клювом по ключу. По Скиннеру,именно в таких условиях лучше всего наблюдать проявления элементарныхзаконов поведения. Эти законы раскрываются через управлениеповедением, в данном случае через управление поведением крыс, давящихна рычаг, и голубей, бьющих клювом по ключу.
Поведение понятно, если его можно контролировать, вносяопределенные изменения в условия среды. Понять поведение — значитуправлять им. Управление поведением, осуществляется через выбор типареакции, которую необходимо подкрепить, и определения степенивероятности ее повторного появления.
Скорость, с которой оперантное поведение приобретается исохраняется, зависит от режима применяемого подкрепления. Режимподкрепления — правило, устанавливающее вероятность, с которойподкрепление будет происходить. Режим подкрепления можно построить,задавая определенный временной интервал или определенный интервал реакций.
Самым простым правилом является предъявление подкрепления каждыйраз, когда субъект дает желаемую реакцию. Это называется режимомнепрерывного подкрепления и обычно используется на начальном этапелюбого оперантного научения, когда организм учится производить
правильную реакцию. В большинстве ситуаций повседневной жизни, однако,это либо неосуществимо, либо неэкономично для сохранения желаемойреакции, так как подкрепление поведения бывает не всегда одинаковым ирегулярным. В большинстве случаев социальное поведение человекаподкрепляется только иногда. Ребенок плачет неоднократно, прежде чемдобьется внимания матери. Ученый много раз ошибается, прежде чемприходит к правильному решению трудной проблемы. В обоих этих примерахнеподкрепленные реакции встречаются до тех пор, пока одна из них небудет подкреплена.
В случае если задается интервал реакций, т.е. определенноесоотношение подкреплений и реакций, подкрепления появляются послетого, как выполнено определенное число реакций (например, нажатий нарычаг или на ключ).
Таким образом, подкрепления не обязательно следуют после каждогоответа, а могут подаваться лишь время от времени. Более того,подкрепления могут подаваться в регулярном, или фиксированном, режиме— всегда через определенный интервал времени или всегда послеопределенного количества реакций, либо их можно подавать в переменномрежиме — то через одну минуту, то через две, то после пары реакций,то после серии реакций. Каждая схема, или режим подкрепления, какправило, стабилизирует поведение по-разному.
Скиннер тщательно изучал, как режим прерывистого, или частичного,подкрепления влияет на оперантное поведение. Хотя возможны многиеразличные режимы подкрепления, их все можно классифицировать всоответствии с двумя основными параметрами: 1) подкрепление можетиметь место только после того, как истек определенный или случайныйвременной интервал с момента предыдущего подкрепления (так называемыйрежим временного подкрепления), 2) подкрепление может иметь место толькопосле того, как с момента подкрепления было получено определенное илислучайное количество реакций (режим пропорционального подкрепления). Всоответствии с этими двумя параметрами выделяют четыре основныхрежима подкрепления.
1. Режим подкрепления с постоянным соотношением (ПС). В данном режимеорганизм подкрепляется по наличию заранее определенного или«постоянного» числа соответствующих реакций. Этот режим являетсявсеобщим в повседневной жизни и ему принадлежит значительная роль вконтроле над поведением. Во многих сферах занятости сотрудникам платятотчасти или даже исключительно в соответствии с количеством единиц,которые они производят или продают. В промышленности эта системаизвестна как плата за единицу продукции. Режим ПС обычно устанавливаетчрезвычайно высокий оперантный уровень, так как чем чаще организмреагирует, тем большее подкрепление он получает.
2. Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ). В режимеподкрепления с постоянным интервалом организм подкрепляется послетого, как твердо установленный или «постоянный» временной интервалпроходит с момента предыдущего подкрепления. На уровне человека режимПИ действителен при выплате зарплаты за работу, выполненную за час,неделю или месяц. Подобно этому, еженедельная выдача денег ребенку на
карманные расходы образует ПИ форму подкрепления. Университеты обычноработают в соответствии с временным режимом ПИ. Экзаменыустанавливаются на регулярной основе и отчеты об академическойуспеваемости издаются в установленные сроки. Любопытно, что режим ПИдает низкую скорость реагирования сразу после того, как полученоподкрепление – феномен, названный паузой после подкрепления. Этопоказательно для студентов, испытывающих трудности при обучении всередине семестра (предполагается, что они сдали экзамен хорошо), таккак следующий экзамен будет еще нескоро. Они буквально делают перерывв обучении.
3. Режим подкрепления с вариативным соотношением (ВС). В этом режимеорганизм подкрепляется на основе какого-то в среднем предопределенногочисла реакций. Возможно, наиболее драматической иллюстрацией поведениячеловека, находящегося под контролем режима ВС, является захватывающаяазартная игра. Рассмотрим действия человека, играющего в игральныйавтомат, где нужно опускать монетку или специальной рукояткойвытягивать приз. Эти аппараты запрограммированы таким образом, чтоподкрепление (деньги) распределяется в соответствии с числом попыток,за которые человек платит, чтобы управлять рукояткой. Однако выигрышнепредсказуем, непостоянен и редко позволяет получать свыше того, чтовложил игрок. Это объясняет тот факт, почему владельцы казино получаютзначительно больше подкреплений, чем их постоянные клиенты. Далее,угасание поведения, приобретенного в соответствии с режимом ВС,происходит очень медленно, так как организм точно не знает, когдабудет следующее подкрепление. Таким образом, игрок принуждаетсяопускать монеты в прорезь автомата, несмотря на ничтожный выигрыш (илидаже проигрыш), в полной уверенности, что в следующий раз он «сорветкуш». Такая настойчивость типична для поведения, вызванного режимомВС.
4. Режим подкрепления с вариативным интервалом (ВИ). В этом режимеорганизм получает подкрепление после того, как проходит неопределенныйвременной интервал. Подобно режиму ПИ, подкрепление при этом условиизависит от времени. Однако время между подкреплениями по режиму ВИварьирует вокруг какой-то средней величины, а не является точноустановленным. Как правило, скорость реагирования при режиме ВИявляется прямой функцией примененной длины интервала: короткиеинтервалы порождают высокую скорость, а длинные интервалы порождаютнизкую скорость. Также при подкреплении в режиме ВИ организм стремитсяустановить постоянную скорость реагирования, и при отсутствииподкрепления реакции угасают медленно. В конечном итоге, организм неможет точно предвидеть, когда будет следующее подкрепление.
В повседневной жизни режим ВИ нечасто встречается, хотя несколькоего вариантов можно наблюдать. Родитель, например, может хвалитьповедение ребенка довольно произвольно, рассчитывая, что ребенок будетпродолжать вести себя соответствующим образом и в неподкрепленныеинтервалы времени. Подобно этому, профессора, которые дают«неожиданные» контрольные работы, частота которых варьирует от одной в
три дня до одной в три недели, в среднем одна в две недели, используютрежим ВИ. При этих условиях от студентов можно ожидать сохраненияотносительно высокого уровня прилежания, так как они никогда не знают,в какой момент будет следующая контрольная работа.
Как правило, режим ВИ порождает более высокую скоростьреагирования и большую сопротивляемость угасанию, чем режим ПИ.
По сути, теория оперантного научения представляет собой изощреннуюформулировку основных принципов дрессировки животных. Сложноеповедение формируется через процесс последовательных приближений, т.е.сложные действия вырабатываются благодаря подкреплению тех элементовповедения, которые соответствуют той конечной форме поведения, какуюхотят получить.
Процесс формирования, или процесс постепенного приближения,наиболее четко просматривается в обучении животных. Сложные трюки,демонстрируемые цирковыми животными, не усваиваются как законченноецелое. Вместо этого дрессировщик постепенно выстраиваетпоследовательность выученных реакций с помощью подкрепленияопределенных действий, которые затем связываются между собой илисоединяются в цепочки. То, что начинается с усвоения отдельныхдвижений, в конце концов превращается в демонстрацию цирковой публикесложных последовательностей действий. Животное непременновознаграждается за свое поведение, но итоговая награда ставится взависимость от исполнения всей серии первоначально усвоенных действий.Аналогичным образом с помощью последовательных приближений можновыработать сложное поведение у человека.
Однако вскоре стало очевидным, что стандартная методикаоперантного научения плохо подходила для большого числа сложныхоперантных реакций, которые могли спонтанно встречаться свероятностью, равной почти нулю. В сфере поведения человека,например, сомнительно, что с помощью общей стратегии оперантногонаучения можно было бы успешно научить пациентов психиатрическогоотделения приобретать соответствующие навыки межличностного общения.Для того, чтобы облегчить эту задачу, Скиннер [§1аппег, 1953]придумал методику, при которой психологи могли эффективно и быстроуменьшить время, требуемое для обусловливания почти любого поведенияв том наборе, которым располагал человек. Эта методика, названнаяметодом успешного приближения, или формированием поведения, состоит изподкрепления поведения, наиболее близкого к желаемому оперантномуповедению. К этому приближаются шаг за шагом, и поэтому одна реакцияподкрепляется, а затем подменяется другой, более близкой к желаемомурезультату.
Виды подкрепленияКак отмечалось ранее, под подкреплением понимается какое–либо
действие, призванное усилить определенную реакцию. Хотя оперантноеобусловливание опирается в первую очередь на использованиеподкрепления с положительной валентностью, основанных на приближенииорганизма к, такого, как пища, деньги или похвала, последователиСкиннера подчеркивают также важность подкреплений, основанных на
бегстве организма от, или на избегании им отвращающих (неприятных)стимулов. В таких случаях реакции подкрепляются устранением неприятныхстимулов или возможностью их избежать, а не появлением приятныхстимулов. Во всех этих случаях результатом должно быть сохранение илиусиление реакции. В связи с этим различают два вида подкреплений:
Позитивное подкрепление– это приятный стимул, который следуя зажелательной реакцией, усиливает ее или поддерживает на том же уровне,т.е. повышает вероятность ее повторения.
Негативное подкрепление– это неприятный стимул, устранениекоторого усиливает желательную реакцию.
Вместе с тем существует и множество самих способов подкрепления.К наиболее распространенным относятся поощрение (предъявление приятныхстимулов) и наказание (предъявление неприятных стимулов).
Таблица 7-1Позитивное и негативное подкрепление и наказание
Позитивное НегативноеПоощрение Предъявление положительного
стимулаУдаление аверсивногостимула
Наказание Предъявление аверсивногостимула
Удаление положительногостимула
Как поощрение, так и наказание могут выполняться двумя способами,это зависит от того, что следует за реакцией: предъявление илиустранение приятного или неприятного стимула. Обратите внимание на то,что подкрепление усиливает реакцию; наказание — ослабляет ее.
Таким образом, в практике воспитания чаще всего используютсячетыре разновидности подкрепления:
1) если вслед за желательной реакцией ребенка следует вызывающееприятные ощущения и переживания подкрепляющий стимул, торезультат – положительное поощрение;
2) если за нежелательной реакцией следует не вызывающий приятныеощущения и переживания подкрепляющий стимул, то результат –положительное наказание;
3) если вызывающий неприятные ощущения и переживанияподкрепляющий стимул устраняется после получения желательнойреакции, то результат– отрицательное поощрение;
4) если приятный стимул устраняется после той или инойнежелательной реакции ребенка, то результат– отрицательноенаказание. Контроль поведения посредством аверсивных стимулов
С точки зрения Скиннера, в основном поведение человекаконтролируется аверсивными (неприятными или болевыми) стимулами. Дванаиболее типичных метода аверсивного контроля — это наказание инегативное подкрепление. Эти термины часто используются как синонимы дляописания концептуальных свойств и поведенческих эффектов аверсивногоконтроля. Скиннер предложил следующее определение: «Вы можете
различать наказание, при котором происходит аверсивное событие,пропорциональное реакции, и негативное подкрепление, в которомподкреплением является устранение аверсивного стимула, условного илибезусловного» [Еуап§, 1968, р. 33 ].
Наказание. Термин наказание относится к любому аверсивному стимулуили явлению, которое следует или которое зависит от появления какой-тооперантной реакции. Вместо того, чтобы усиливать реакцию, которую оносопровождает, наказание уменьшает, по крайней мере временно,вероятность того, что реакция повторится. Предполагаемая цельнаказания — побудить людей не вести себя данным образом. Скиннер[8Ыппег, 1983] заметил, что это наиболее общий метод контроляповедения в современной жизни.
По Скиннеру, наказание может быть осуществлено двумя различнымиспособами, которые он называет позитивное наказание и негативное наказание(табл. 7-1). Позитивное наказание встречается всякий раз, когдаповедение ведет к аверсивному исходу. Вот несколько примеров: еслидети плохо себя ведут, их шлепают или бранят; если студенты пользуютсяшпаргалками на экзамене, их исключают из вуза или школы; если взрослыхловят на краже, их штрафуют или сажают в тюрьму. Негативное женаказание встречается всякий раз, когда за поведением следуетустранение (возможного) позитивного подкрепляющего стимула. Например,детям запрещают смотреть телевизор из-за плохого поведения. Широкоиспользуемый подход к негативному наказанию — методика приостановки. Всоответствии с этой методикой человека моментально удаляют изситуации, в которой доступны определенные подкрепляющие стимулы.Например, непослушного ученика четвертого класса, мешающего занятиям,могут выгнать из кабинета.
Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негативноеподкрепление — это процесс, в котором организм ограничивает аверсивныйстимул или избегает его. Любое поведение, которое препятствуетаверсивному положению дел, таким образом чаще повторяется и являетсянегативно подкрепленным (см. табл. 7-1). Поведение ухода — это тотсамый случай. Скажем, человек, который прячется от палящего солнца,уходя в помещение, скорее всего снова пойдет туда, когда солнце вновьстанет палящим. Следует заметить, что уход от аверсивного стимула нето же самое, что избегание его, поскольку аверсивный стимул, которогоизбегают, физически не представлен. Следовательно, другой способбороться с неприятными условиями — научиться избегать их, то естьвести себя так, чтобы предотвратить их появление. Эта стратегияизвестна как научение избегания. Например, если учебный процесспозволяет ребенку избежать домашнего задания, негативное подкреплениеиспользуется для усиления интереса к обучению. Поведение избеганиятакже имеет место, когда наркоманы разрабатывают искусные планы, с темчтобы сохранить свои привычки, но не довести дело до аверсивныхпоследствий — тюремного заключения.
Скиннер боролся с использованием всех форм контроля поведения,основанных на аверсивных стимулах. Он особо выделял наказание какнеэффективное средство контроля поведения. Причина в том, что из-за
своей угрожающей природы тактика наказания нежелательного поведенияможет вызвать отрицательные эмоциональные и социальные побочныеэффекты. Тревога, страх, антисоциальные действия и потеря самоуваженияи уверенности — это только некоторые возможные негативные побочныеявления, связанные с использованием наказания. Угроза, внушаемаяаверсивным контролем, может также подтолкнуть людей к моделямповедения даже более спорным, чем те, за которые их первоначальнонаказали. Рассмотрим, например, родителя, который наказывает ребенказа посредственную учебу. Позже, в отсутствии родителя, ребенок можетвести себя еще хуже — прогуливать уроки, шататься по улицам, портитьшкольное имущество. Вне зависимости от исхода ясно, что наказание непринесло успеха в выработке желаемого поведения у ребенка. Так какнаказание может временно подавлять нежелательное или неадекватноеповедение, основным возражением Скиннера было то, что поведение, закоторым последовало наказание, скорее всего вновь появится там, гдеотсутствует тот, кто может наказать. Ребенок, которого несколько разнаказали за сексуальную игру, совсем необязательно откажется от еепродолжения; человек, которого посадили в тюрьму за жестокоенападение, не обязательно будет меньше склонен к жестокости.Поведение, за которое наказали, может опять появиться после того, какисчезнет вероятность быть наказанным. Этому легко можно найти примерыв жизни. Ребенок, которого отшлепают за то, что он ругался в доме,может свободно это делать в другом месте. Водитель, оштрафованный запревышение скорости, может заплатить полицейскому и продолжатьсвободно превышать скорость, когда поблизости нет патруля с радаром.
Вместо аверсивного контроля поведения Скиннер рекомендовалпозитивное подкрепление, как наиболее эффективный метод для устранениянежелательного поведения. Он доказывал, что, поскольку позитивныеподкрепляющие стимулы не дают негативных побочных явлений, связанных саверсивными стимулами, они более пригодны для формирования поведениячеловека. Например, осужденные преступники содержатся в невыносимыхусловиях во многих карательных учреждения (свидетельство тому —многочисленные тюремные бунты в Соединенных Штатах за последниенесколько лет). Очевидно, что большинство попыток реабилитироватьпреступников провалились, это подтверждает высокий уровень рецидивовили повторных нарушений закона. Применив подход Скиннера, можно былобы так урегулировать условия окружения в тюрьме, чтобы поведение,напоминающее поведение законопослушных граждан, позитивноподкреплялось (например, научение навыкам социальной адаптации,ценностям, отношениям). Подобная реформа потребует привлеченияэкспертов по поведению, имеющих знания о принципах научения, личностии психопатологии. С точки зрения Скиннера, такую реформу можно было быуспешно выполнить, используя уже имеющиеся ресурсы и психологов,обученных методам бихевиоральной психологии.
Скиннер показал возможности позитивного подкрепления, и этоповлияло на стратегии поведения, используемые в воспитании детей, вобразовании, бизнесе и промышленности. Во всех этих областях появиласьтенденция к все большему поощрению желательного поведения, а не
СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯДостижения в области теории научения переместили фокус причинного
анализа с гипотетических внутренних сил на влияние окружения(например, оперантное научение Скиннера). С этой точки зрения,поведение человека объясняется в терминах социальных стимулов, которыевызывают его, и подкрепляющих последствий, которые сохраняют его. Но,по мнению Бандуры, объяснять поведение таким образом — значитвыплескивать вместе с водой ребенка. Внутренним «ребенком», о которомследует помнить, для Бандуры были самостоятельные познавательныепроцессы. Другими словами, радикальный бихевиоризм отрицалдетерминанты поведения человека, возникающие из внутренних когнитивныхпроцессов. Для Бандуры индивиды не являются ни автономными системами,ни простыми механическими передатчиками, оживляющими влияния окружения— они обладают высшими способностями, которые позволяют импредсказывать появление событий и создавать средства для осуществленияконтроля над тем, что влияет на их повседневную жизнь. Учитывая, чтотрадиционные теории поведения могли быть неверными, это давало скореенеполное, чем неточное объяснение поведению человека.
С точки зрения Бандуры, люди не управляются интрапсихическимисилами и не реагируют на окружение. Причины функционирования человеканужно понимать в терминах непрерывного взаимодействия поведения,познавательной сферы и окружения. Данный подход к анализу причинповедения, который Бандура обозначил как взаимный детерминизм,подразумевает, что факторы предрасположенности и ситуационные факторыявляются взаимозависимыми причинами поведения (рис. 8-1). Прощеговоря, внутренние детерминанты поведения, такие как вера и ожидание,и внешние детерминанты, такие как поощрение и наказание, являютсячастью системы взаимодействующих влияний, которые действуют не толькона поведение, но также на различные части системы.
Разработанная Бандурой модель-триада взаимного детерминизмапоказывает, что хотя на поведение влияет окружение, оно также частичноявляется продуктом деятельности человека, то есть люди могут оказыватькакое-то влияние на собственное поведение. Например, грубое поведениечеловека на званом вечере может привести к тому, что действияокружающих его людей будут, скорее, наказанием, а не поощрением длянего. И напротив, дружелюбный человек на том же самом вечере можетсоздать окружение, в котором для него будет достаточно поощрения имало наказания. Во всяком случае, поведение изменяет окружение.Бандура также утверждал, что благодаря своей необычайной способностииспользовать символы люди могут думать, творить и планировать, то естьони способны к познавательным процессам, которые постоянно проявляютсячерез открытые действия.
Заметим, что стрелки на рис. 8-1 указывают в обе стороны, а этозначит, что каждая из трех переменных в модели взаимного детерминизмаспособна влиять на другую переменную. Но как мы можем предсказать,какой из трех компонентов системы будет влиять на другие? Это восновном зависит от силы каждой из переменных. Иногда наиболее сильны
влияния внешнего окружения, иногда доминируют внутренние силы, аиногда ожидание, вера, цели и намерения формируют и направляютповедение. В конечном итоге, однако, Бандура полагает, что по причинедвойной направленности взаимодействия между открытым поведением иокружающими обстоятельствами люди являются и продуктом, ипроизводителем своего окружения. Таким образом, социально-когнитивнаятеория описывает модель взаимной причинности, в которойпознавательные, аффективные и другие личностные факторы и событияокружения работают как взаимозависимые детерминанты.
Рис. 8-1, Схематическое представление модели взаимногодетерминизма Бандуры. Функционирование человека рассматривается какпродукт взаимодействия поведения, личностных факторов и влиянияокружения.
Предвиденные последствияКакие факторы позволяют людям учиться? Современные теоретики
научения делают акцент на подкреплении как на необходимом условии дляприобретения, сохранения и модификации поведения. Скиннер, например,утверждал, что внешнее подкрепление обязательно для научения. АБандура, хотя и признает важность внешнего подкрепления, нерассматривает его как единственный способ, при помощи которогоприобретается, сохраняется или изменяется наше поведение. Люди могутучиться наблюдая или читая, или слыша о поведении других людей. Врезультате предыдущего опыта люди могут ожидать, что определенноеповедение будет иметь последствия, которые они ценят, другое —произведет нежелательный результат, а третье — окажетсямалоэффективным. Наше поведение, следовательно, регулируется взначительной мере предвиденными последствиями. Например, в качествевладельцев дома мы не ждем, пока дом сгорит, чтобы застраховать его отпожара. Напротив, мы полагаемся на полученную от других информацию ороковых последствиях отсутствия пожарной страховки и приходим крешению приобрести ее. Точно так же, пускаясь в рискованноепутешествие по дикой местности, мы не ждем, пока нас застигнет снежная
вьюга или проливной дождь, а сразу одеваемся по-походному. В каждомслучае мы можем заранее вообразить последствия неадекватной подготовкии принимаем необходимые меры предосторожности. Посредством нашейспособности представлять действительный исход символически будущиепоследствия можно перевести в сиюминутные побудительные факторы,которые влияют на поведение во многом так же, как и потенциальныепоследствия. Наши высшие психические процессы дают нам способностьпредвидения.
В центре социально-когнитивной теории лежит положение о том, чтоновые формы поведения можно приобрести в отсутствие внешнегоподкрепления. Бандура отмечает, что многое в поведении, которое мыдемонстрируем, приобретается посредством примера: мы просто наблюдаем,что делают другие, а затем повторяем их действия. Этот акцент нанаучении через наблюдение или пример, а не на прямом подкреплении,является наиболее характерной чертой теории Бандуры.
Саморегуляция и познание в поведенииДругой характерной чертой социально-когнитивной теории является
выдающаяся роль, которую она отводит уникальной способности человека ксаморегуляции. Устраивая свое непосредственное окружение, обеспечиваякогнитивную поддержку и осознавая последствия своих собственныхдействий, люди способны оказывать некоторое влияние на свое поведение.Разумеется, функции саморегуляции создаются и не так уж редкоподдерживаются влиянием окружения. Таким образом, они имеют внешнеепроисхождение, однако не следует преуменьшать тот факт, что однаждыустановившись, внутренние влияния частично регулируют то, какиедействия выполняет человек. Далее, Бандура утверждает, что высшиеинтеллектуальные способности, например способность оперироватьсимволами, дают нам мощное средство воздействия на наше окружение.Посредством вербальных и образных репрезентаций мы производим и сохраняемопыт таким образом, что он служит ориентиром для будущего поведения.Наша способность формировать образы желаемых будущих результатоввыливается в бихевиоральные стратегии, направленный на то, чтобы вестинас к отдаленным целям. Используя способность к оперированиюсимволами, мы можем решать проблемы, не обращаясь к действительному,открытому поведению проб и ошибок, можем, таким образом, предвидетьвероятные ' последствия различных действий и соответственно изменятьнаше поведение. Представим себе ребенка, который знает, что если онразобьет любимую игрушку младшей сестры, то она будет плакать,заставляя тем самым маму волноваться, будет обвинять того, кто разбилигрушку, создавая необходимость его наказать. Представив возможныепоследствия, ребенок предпочтет играть своими игрушками, чтобыизбежать родительского гнева и сохранить позитивное одобряющееповедение матери. Короче говоря, способность ребенка предвидетьпоследствия различных действий позволяет ему вести себясоответствующим образом.
Теперь давайте рассмотрим, какие виды научения через наблюдение,с точки зрения Бандуры, являются центральными по отношению к этим
аспектам поведения человека.
Научение через моделирование
Научение через наблюдениеТеория научения через наблюдение утверждает, что люди могут
обучаться, просто наблюдая за поведением других людей. Человек, закоторым наблюдают, называется моделью. Факты показывают, что индивидможет усвоить некоторые действия, наблюдая за тем, как выполняетсоответствующие действия модель; этот процесс называют моделированием.Так, например, ребенок может освоить язык, наблюдая за родителями идругими говорящими людьми. Типы поведения, о которых идет речь, частоназывают подражанием — имитацией или идентификацией. Однако подражаниепонимается очень узко, в основном как воспроизведение конкретнойреакции, а другая крайность — идентификация — представляет собойприсвоение и воспроизведение целых паттернов поведения. Моделирование— понятие более широкое, чем подражание, но менее диффузное, чемидентификация. Кроме того, сторонники социально-когнитивной теориипредпочитают не пользоваться этими терминами, так как ониассоциируются с теориями подкрепления по типу «стимул—реакция» и спсихоаналитической теорией, а эти теории, как считают социальныекогнитивисты, неадекватно объясняют наблюдаемые данные.
Научение было бы довольно утомительным, если не сказатьнеэффективным и потенциально опасным, если бы зависело исключительноот результата наших собственных действий. Предположим, автомобилистдолжен был бы полагаться только на непосредственные последствия(например, столкновение с другим автомобилем, наезд на ребенка) длятого, чтобы научиться не ехать на красный свет в час пик. К счастью,вербальная передача информации и наблюдение соответствующих моделей(например, других людей) обеспечивает основу для приобретения наиболеесложных форм поведения человека. Действительно, Бандура устанавливает,что фактически все феномены научения, приобретаемые в результатепрямого опыта, могут формироваться косвенно, путем наблюдения заповедением других людей и его последствиями. Нам не нужно самимумирать от рака, чтобы понять, какие эмоциональные изменения онвызывает, так как мы видели других, пораженных этой болезнью, читалисообщения об их смерти и были свидетелями драматической борьбы сраком. Таким образом, игнорировать роль научения через наблюдение вприобретении новых поведенческих паттернов — значит игнорироватьуникальные способности человека.
Каждый из нас имел опыт борьбы с какой-либо проблемой иобнаруживал, что она становится до смешного легкой, если кто-то раньшеуже решил ее. Фактор наблюдения — это ключ к проблеме. Наблюдая, детиучатся — неважно, доставляет это им удовольствие или нет — делатьповседневную домашнюю работу или играть в определенные игры. Такжечерез наблюдение они могут научиться быть агрессивными,альтруистичными, отзывчивыми или даже несносными. Во многих случаяхнеобходимо учиться моделируемому поведению именно таким образом, как
оно выполняется. Езда на велосипеде, катание на роликовой доске,печатание на машинке и лечение зубов, например, позволяют очень мало,если вообще позволяют, отойти от существующей практики. Однако вдополнение к передаче специфических форм путем моделирования можновыстроить новое поведение. Если малышка научилась делиться своимбобовым желе с куклой, ей будет нетрудно поделиться игрушками сосверстниками, оказать внимание маленькому брату, помочь маме похозяйству и, когда-нибудь позже, приходя в церковь, жертвовать деньгименее счастливым людям, которых она никогда не видела. При помощипроцессов моделирования наблюдатели извлекают общие черты из, казалосьбы, разных реакций и формулируют правила поведения, дающие имвозможность идти дальше того, что они уже видели или слышали.Действительно, научение через наблюдение может привести к стилюповедения, довольно отличающемуся от того, что человек наблюдал вдействительности.
С точки зрения Бандуры, люди формируют когнитивный образопределенной поведенческой реакции через наблюдение поведения модели,и далее эта закодированная информация (хранящаяся в долговременнойпамяти) служит ориентиром в их действиях. Он полагал, что людиизбавлены от груза ненужных ошибок и затраты времени на формированиесоответствующих реакций, так как они могут, по крайней мереприблизительно, научиться чему-то на примере. Таким образом, например,человек, который внимательно наблюдал за опытным теннисистом, будет„меть мысленный образ хорошей подачи мяча. Когда он учится подаватьмяч, то объединяет свою попытку с мысленным образом подачи мячаспециалистом.
Основные процессы научения через наблюдениеСоциально-когнитивная теория предполагает, что моделирование
влияет на научение главным образом через его информативную функцию. Тоесть во время показа образца наблюдатели (обучаемые) приобретают восновном символические образы моделируемой деятельности, котораяслужит прототипом для соответствующего и несоответствующего поведения.Согласно этой схеме, представленной в табл. 8-1, научение черезнаблюдение регулируется четырьмя взаимосвязанными компонентами:внимание, сохранение, моторно-репродуктивные и мотивационные процессы.Рассматриваемое таким образом, научение через наблюдение представляетсобой активный критический и конструктивный процесс. Четыре процесса,выделенные Бандурой рассматриваются ниже.
1 Процессы внимания: понимание модели. Человек может научитьсямногому через наблюдение, если он обратит внимание на характерныечерты поведения ; модели и правильно поймет их. Другими словами,человеку недостаточно просто видеть модель и то, что она делает:скорее индивид должен тщательно выбрать на что следует обратитьвнимание, чтобы извлечь релевантную информацию для использования вимитации модели. Процессы внимания, следовательно, влияют на то, чтовыборочно постигается в модели, к которой человек обращается, и на то,что приобретается в результате наблюдения. Любой профессор может
подтвердить; что присутствие студента в классе ни в коей мере негарантирует, что студент усваивает учебный материал. Весенняялихорадка, жуткий холод, духота в помещении, вечеринка накануне, мечтыи несметное число других факторов могут быть причиной того, чтостудент потерял ход мыслей (или даже не находил его), тем самымискажая процесс научения.
I Таблица 8-1. Компоненты научения через наблюдение
Процессывнимания
Процессысохранения
Моторо-репродуктивныепроцессы
Мотивационныепроцессы
Человек следитза поведениеммодели и точновоспринимает этоповедение
Человек помнит(долговременноесохранение)поведение модели,наблюдаемое ранее
Человекпереводитзакодированныев символахвоспоминания оповедениимодели в новуюформу ответа
Если позитивноеподкрепление(внешнее,косвенное илисамоподкрепление) потенциальноприсутствует,человексовершаетмоделируемоеповедение
Определенные факторы, одни из которых включают наблюдателя,другие – моделируемую деятельность, а третьи — структурное оформлениевзаимодействии человека, могут в большой степени повлиять навероятность того, что какая-то часть наблюдаемого поведения будетусвоена наблюдателем и закодирована в долговременной памяти. Бандурапоказывает, что среди детерминант внимания, влияющих на моделирование,ассоциативные модели являются наиболее важными. Люди, с которыми мырегулярно общаемся, определяют типы поведения, которое можно наблюдатьи, следовательно, изучить наиболее полно. Возможности для наученияальтруистическому поведению, например, у члена уличной бандысущественно отличаются от таковых у члена религиозной группы. Подобнымобразом, возможно, внутри любой социальной группы есть люди, которыепривлекают к себе большее внимание, чем другие, благодаря своейвласти, статусу и принятой роли. Функциональная ценность,соответствующая поведению, представленному различными моделями (тоесть получило поведение данной модели поощрение или наказание),оказывает существенное влияние на выбор тех моделей, которым человекбудет подражать, и тех, которые он будет игнорировать. Внимание кмодели также регулируется ее личной привлекательностью. Обычно ищутмодели, олицетворяющие харизматические качества, в то время как тех,кто демонстрирует неприятные качества, обычно не замечают илиотвергают. Тот факт, что многие чернокожие и испаноговорящие подросткив США глумятся над ценностями среднего класса белых, иллюстрирует этуистину.
Модели, представленные высококомпетентными людьми, признаннымиспециалистами, знаменитостями или суперзвездами, вероятно, должныпривлекать большее внимание, чем модели, лишенные этих качеств.Рекламодатели, предлагающие товар, начиная от обуви и кончаяпредметами женской гигиены, наживают капитал на этой идее, используятелевизионных ведущих, спортивных звезд и финансовых воротил в рекламесвоих товаров. Другие переменные, которые особенно важны на этойстадии, — это собственные способности и мотивы наблюдателя. Например,если наблюдатель-мужчина обращает внимание на физическуюпривлекательность модели-женщины, он будет особенно пристальнонаблюдать за тем, что она делает. 1о существу, любой наборхарактеристик, который превращает наблюдение за моделью в течениедлительного времени в поощрение, увеличивает вероятность продлениявнимания к модели и, следовательно, вероятность моделирования.
2. Процессы сохранения: запоминание модели. Второй набор процессов,вовлеченных в научение через наблюдение, касается долговременнойрепрезентации в памяти того, что наблюдалось когда-то. Попростуговоря, наблюдение за поведением модели не будет эффективным, есличеловек не запомнит ее. Действительно, не имея возможности вспомнить,что делала модель, наблюдатель едва ли продемонстрирует стойкоеизменение поведения.
Бандура предлагает две основные внутренние репрезентативныесистемы, с помощью которых поведение модели сохраняется в памяти ипревращается потом в действие. Первая — образное кодирование. По меретого как человек наблюдает модельные стимулы, в процессе сенсорногонаучения возникают относительно стойкие и легко воспроизводимые образытого, что было увидено. Мысленные образы формируются так, что любаяссылка на события, наблюдаемые ранее, сразу вызывает живой образ иликартину физических стимулов. Бандура предполагает, что этоповседневный феномен, и объясняет им способность человека «видеть»образ друга, с которым он обедал на прошлой неделе или образдеятельности (езда на велосипеде, игра в гольф, плавание под парусом),которой он был занят прошлым летом. Следует отметить, что визуальныеобразы играют решающую роль в научении через наблюдение на раннихстадиях развития, когда отсутствуют лингвистические навыки, а также внаучении паттернам поведения, которые не поддаются вербальномукодированию.
Вторая репрезентативная система заключается в вербальномкодировании ранее наблюдаемых событий. Наблюдая модель, человек можетповторять про себя, что она делает. Эти невокализованные речевыеописания (коды) позже могут внутренне повторяться без открытоговыстраивания поведения; например, человек может мысленно«проговорить», что надо сделать, чтобы улучшить сложные моторныенавыки (например, спуск с горы на лыжах). Фактически человек молчаповторяет последовательность выполнения моделируемой деятельности,которой надо будет заниматься позже, и когда он захочет воспроизвестиэтот навык, вербальный код даст соответствующий сигнал. Бандураутверждает, что такие вербальные коды в большой степени способствуют
научению через наблюдение, потому что они несут значительнуюинформацию, накопленную ранее.
3. Моторно-репродуктивные процессы: перевод памяти в поведение.Третий компонент научения через наблюдение — это перевод информации,символически закодированной в памяти в соответствующие действия. Несмотряна то, что человек тщательно формирует и сохраняет мысленные образыповедения модели и повторяет в уме это поведение множество раз, можетоказаться, что он все-таки будет не в состоянии выстроить поведениеправильно. Это особенно справедливо для сложных моторных действий,которые требуют последовательного вовлечения многих отдельных реакцийдля их мастерского выполнения (например, гимнастические упражнения,игра на музыкальных инструментах, управление самолетом). Этим точносбалансированным движениям можно учиться, наблюдая за кем-то(возможно, с помощью замедленного аудиовизуального воспроизведения) исимволически воспроизводя поведение модели несколько раз, но вдействительности поначалу это поведение может быть неуклюжим и плохоскоординированным. В таких случаях недостаточно простого наблюдения,чтобы гладко и точно выполнить действие. Постоянная практика ввыполнении последовательности движений (и коррекция на основеинформативной обратной связи) имеет большое значение, если наблюдательхочет совершенствовать моделируемое поведение. Конечно, и в этомслучае наблюдение и намеренный повтор в уме определенного поведениябудут способствовать научению, так как можно по крайней мере начатьвыполнять необходимые движения, основанные на том, что наблюдалосьранее. Такой молчаливый повтор полезен, например, при вожденииавтомобиля, но не принесет пользы при более сложных движениях, такихкак прыжки с 10-метровой вышки.
4. Мотивационные процессы: от наблюдения к действию. Четвертый ипоследний компонент моделирования касается переменных подкрепления. Этипеременные влияют на научение через наблюдение посредством контролясигналов моделирования, на которые человек скорее всего обратитвнимание, а также интенсивности, с которой он попытается перевеститакое научение в открытое выполнение.
Бандура подчеркивает, что неважно, насколько хорошо люди следятза моделируемым поведением и сохраняют его, и каковы их способностидля выстраивания поведения — они не будут этого делать бездостаточного стимула. Другими словами, человек может приобрести исохранить навыки, даже обладать способностями для искусноговыстраивания моделируемого поведения, но научение редко можнопревратить в открытое выполнение, если оно принято негативно. Женщина,рассматривающая себя как «королеву кухни», может не допускать мужа кприготовлению пищи, несмотря на то, что он разговаривает с ней повечерам, когда она готовит еду. Он всецело полагается на ее кулинарныеспособности до тех пор, пока она не заболеет, и тогда, под влияниемпустого желудка и хнычущих детей, он выстроит моделируемое поведениеприготовления обеда. Его поведение внимания и сохранения несомненнопроявится в будущем, когда ему нужно будет вспомнить, где хранитсяореховое масло или кислая капуста.
Вообще говоря, при наличии подкрепления моделирование илинаучение через наблюдение быстро переводится в действие. Позитивноеподкрепление не только увеличивает вероятность открытого выражения илифактического выстраивания требуемого поведения, но также влияет напроцессы внимания и сохранения. В повседневной жизни мы редко обращаемвнимание на что-то или кого-то, если нет стимула сделать это, а когдаобращаешь мало внимания, фактически нечего сохранять! Мы можем частосовершать поездки с приятелем в определенное место, но смутимся и дажерастеряемся, когда нам предложат вести машину самим. Мы не обращаливнимания на дорогу, которой раньше ехали, потому что нам это было ненужно — не мы были за рулем. Если нам приходится полагаться только насебя, чтобы добраться до нужного места, мы запоминаем дорогу.
Есть один способ усилить желание человека наблюдать, сохранять ивыстраивать моделируемое поведение — через предвидение подкрепленияили наказания. Наблюдение за поведением, которое является причинойпозитивного поощрения или предотвращает какие-то аверсивные условия,может быть сильнейшим стимулом к вниманию, сохранению и в дальнейшем(в похожей ситуации) выстраиванию такого же поведения. В этом случаеподкрепление переживается косвенно, и человек может предвидеть, чтосходное поведение приведет к сходным последствиям. Ребенок можетдобровольно подмести веранду, пропылесосить свою комнату или накрытьна стол, ожидая одобрения улыбкой или словом. Как видно из этогопримера, косвенное ожидание подкрепления у ребенка побудило его кпомогающему поведению.
Подкрепление в научении через наблюдениеБандура полагает, что хотя подкрепление часто способствует
научению, оно совсем не является обязательным для него. Существуетмножество других факторов, замечает он, отличных от подкрепляющихпоследствий, которые могут влиять на то, будет ли человек внимательнонаблюдать. Нам не нужно ждать подкрепления, например, чтобы обратитьвнимание на пожарную сирену, вспышки молнии, неприятный запах,непривычные стимулы. Действительно, когда наше внимание к моделируемойдеятельности достигается посредством абсолютного влияния физическихстимулов, даже дополнительные позитивные мотивы не усиливают научениечерез наблюдение. Этот факт доказывается исследованием, показывающим,что дети, наблюдающие модельный процесс по телевидению в затемненнойкомнате, позже ведут себя сходным образом, независимо от того, было лиим известно заранее, что такая имитация будет поощрена. Говоря короче,прямое подкрепление может помочь моделированию, но не являетсянеобходимым для него.
Бандура полагает, что понимание поведения человека только какконтролируемого исключительно внешними последствиями будет слишкомограниченным:
«Если бы действия определялись только внешними поощрениями инаказаниями, люди вели бы себя подобно флюгеру, постоянно вертясь вразные стороны, чтобы соответствовать прихотям других» [ВапсЪга, 1971,р. 27]. Таким образом, хотя теория социально-когнитивного научения
действительно признает важную роль внешних подкреплений, онапостулирует существование более широкого круга подкрепляющихвоздействий. Люди не только подвержены влиянию опыта, приобретенного врезультате своих действий, но и регулируют поведение на основеожидаемых последствий, а также создают их для себя сами. Эти две формыподкреплений — косвенное и самоподкрепление — мы вкратце обсудимдалее.
Бандура, анализируя роль подкрепления в научении черезнаблюдение, показывает его когнитивную ориентацию. В отличие отСкиннера, он утверждает, что внешнее подкрепление редко выступает вроли автоматического определителя поведения. Чаще оно выполняет дведругие функции — информативную и побудительную. Подкрепление,следующее за реакцией, указывает или, по крайней мере, может указатьчеловеку на необходимость сформировать гипотезу о том, что такоеправильная реакция. Эта информативная функция, или обратная связь,может работать, когда подкрепление переживается прямо или косвенно.Возьмем такой пример: если вы являетесь свидетелем того, как кого-тонаказывают за определенное деяние, это дает вам столько же информации,как если бы наказывали вас. Подкрепление сообщает нам, какиепоследствия можно ожидать в результате правильной или неправильнойреакции. Если, например, ученица средней школы, которая хочет статьврачом, узнает, что она может получить отличную подготовку(подкрепление) на вводном курсе по медицине в колледже — это как разтакой случай. Этот вид информации — обычно называемой побудительной —имеет значение, если нам нужно правильно предвидеть возможныепоследствия наших действий и соответственно регулировать поведение.Действительно, без способности предвидеть вероятный исход будущихпоступков люди действовали бы крайне непроизводительно, если несказать рискованно.
Косвенное обусловливаниеВо многих проведенных с тех пор исследованиях было показано, что
если вы видите, к каким последствиям приводит поведение модели, то этосказывается на исполнении действия, но не на его усвоении. Различиемежду усвоением и исполнением означает, что на детей как-то влияет то,что происходит с моделью, т.е. либо на когнитивном уровне, либо наэмоциональном уровне, либо на обоих уровнях одновременно детиреагируют на те последствия, которые имеет то или иное поведение длямодели. Предполагается, что, сочувствуя модели, т.е. косвеннымобразом, через наблюдение, дети усваивают определенные эмоциональныереакции. Иными словами, не только поведение может быть усвоено черезнаблюдение, но и условные эмоциональные реакции, такие, как страх ирадость, также могут быть выработаны косвенным образом: «Нет ничегонеобычного для человека в том, чтобы вырабатывать сильныеэмоциональные реакции на людей, места и вещи, не вступая с ними вличный контакт» (Вапйига, 1986, р. 185).
Процесс научения эмоциональным реакциям через наблюдение задругими, известный как косвенное обусловливание, был продемонстрировани на людях и на животных. Так, обнаружилось, что люди-испытуемые,которые наблюдали за тем, как модель демонстрирует условную реакцию
страха, косвенно вырабатывают у себя условную эмоциональную реакцию наизначально нейтральные стимулы (Вапйига & Козепйа!, 1966; Вег§ег,1962). Аналогичным образом, в эксперименте с животными былообнаружено, что интенсивный и стойкий страх перед змеямивырабатывается у юных обезьян в процессе наблюдения за тем, как ихродители испуганно ведут себя в присутствии настоящих или игрушечныхзмей. Что особенно поразительно в этом исследовании, так это то, чтопериод наблюдения за эмоциональной реакцией родителей был иногда оченькоротким. Более того, обнаружилось, что если уж косвенноеобусловливание произошло, то страх оказывается сильным, сохраняется напротяжении длительного времени и проявляется и в других ситуациях,далеких от той, в которой эмоциональная реакция наблюдалась в первыйраз (Мше1са е1 а1., 1984).
Хотя научение через наблюдение может оказывать очень сильноевлияние на человека, не следует думать, что оно происходитавтоматически или что мы обречены следовать по пятам за другимилюдьми. Дети, например, имеют множество моделей и могут обучаться уродителей, братьев и сестер, учителей, сверстников и у телевизионныхперсонажей. Кроме того, они обучаются и на своем непосредственномопыте. А когда дети становятся старше, они к тому же могут активновыбирать модели для наблюдения и подражания.
Косвенное подкреплениеИз предыдущего обсуждения очевидно, что люди могут получить
пользу от наблюдения успехов и поражений других так же, как из своегонепосредственного опыта. Действительно, мы, как общественные индивиды,постоянно следим за действиями других людей и за ситуациями, в которыхтех поощряют, игнорируют или наказывают. Возьмем, например, школьника,который наблюдает, как делают выговор однокласснику за то, что онмешает учителю. Данный пример, вероятно, послужит емупредостережением, если, конечно, этот ребенок не посчитает, что в егослучае последствия могут быть другими. Или, например, официант,который видит, как его коллеги получают щедрые чаевые за дружелюбнуюулыбку и веселую болтовню с клиентами. Это, несомненно, можетподвигнуть его на то, чтобы улыбнуться и поболтать с посетителем. Какпоказывают эти два примера, наблюдаемые или косвенные последствия(наказания и поощрения), подкрепляющие действия других, часто играютзначительную роль в регуляции нашего поведения. Это означает, чтопробы и ошибки оперантного обусловливания могут быть получены «извторых рук». Преимущество этого принципа в том, что он не толькопозволяет нам экономить энергию, но также дает возможность учиться наошибках и успехах других.
Косвенное подкрепление осуществляется всякий раз, когда наблюдательвидит действие модели с результатом, который наблюдатель осознает какрезультат предшествующих действий модели. Можно говорить о косвенномпозитивном подкреплении, когда наблюдатели ведут себя таким же образом,как наблюдаемые ранее модели, получившие подкрепление, в то время какпри косвенном наказании наблюдаемые аверсивные последствия снижаюттенденцию вести себя подобным образом. В каждом примере информация,
полученная от наблюдаемых последствий, позволяет наблюдателюопределить, будет отдельный внешний подкрепляющий стимул являтьсяпоощрением или наказанием. Таким образом, если вы увидите, что кого-топоощряют за какие-то действия, вы, вероятно, придете к заключению, чтополучите такой же подкрепляющий стимул, если поступите так же. Инаоборот, если вы увидите, что кого-то наказывают за что-то, вы,вероятно, придете к заключению, что то же самое случится с вами, есливы поступите сходным образом.
СамоподкреплениеДо сих пор мы рассматривали, как люди регулируют свое поведение
на основе внешних последствий, которые они либо наблюдают, либоиспытывают непосредственно. С точки зрения социально-когнитивнойтеории, однако, многие наши поступки регулируются самоналагаемымподкреплением. Бандура утверждает даже, что в основном поведениечеловека регулируется посредством подкрепления самого себя.
Самоподкрепление очевидно имеет место всякий раз, когда людиустанавливают для себя планку достижений и поощряют или наказываютсебя за ее достижение, превышение или неудачу. При работе над книгойили статьей для публикации в журнале, например, авторам не требуется,чтобы кто-то стоял сзади и заглядывал через плечо, одобряя каждоепредложение, пока не получится удовлетворительная рукопись. Онизаранее знают, что должно получиться в конце работы, и постоянноредактируют себя, часто бывая излишне строгими. Во многих другихобластях деятельности люди аналогичным образом сами оценивают своеповедение и поощряют или наказывают себя. Они поздравляют себя сосвоими мыслями и поступками; они хвалят себя или разочаровываются всвоих достоинствах; и они сами выбирают моральные и материальныепоощрения и наказания из множества доступных им. Акцент Бандуры насамоподкреплении значительно повышает возможности объяснения поведениячеловека на основе принципов подкрепления.
Как появляется саморегулированиеКак мы видели, самоподкрепление — процесс, суть которого
заключается в том, что люди награждают себя поощрениями, над которымиони имеют контроль, всякий раз, когда достигают установленной имисамими нормы поведения. Так как можно реагировать и негативно, ипозитивно, Бандура использует термин саморегулирование для обозначенияусиливающего и уменьшающего эффекта самооценки.
С точки зрения Бандуры, саморегулируемые побуждения усиливаютповедение в основном через свою мотивационную функцию. То есть, врезультате самоудовлетворения от достижения определенных целей, учеловека появляется мотив прилагать все больше усилий, необходимых длядостижения желаемого поведения. Уровень самопроизвольной мотивациичеловека обычно варьирует в соответствии с типом и ценностьюпобуждений и природой норм поведения. По Бандуре, есть три процесса,входящие компонентами в саморегулирование поведения: процесссамонаблюдения, самооценки и самоответа.
Поведение человека меняется по ряду параметров самонаблюдения(например, качество или скорость реакций). Функциональная значимость
этих величин зависит от типа рассматриваемой деятельности. Например,атлетические соревнования оценивают в терминах времени и расстояния. Аоб артистичности обычно судят, основываясь на эстетической ценности иоригинальности. Социальное поведение обычно оценивается в такихвеличинах, как искренность, девиантность, нравственность и другие.
Второй компонент, вовлеченный в поведение саморегулирования, —самооценка. Часто бывает, что поведение рассматривается как достойноеодобрения и, следовательно, поощряемое или как неудовлетворительное инаказуемое, в зависимости от того, с позиций каких личностныхстандартов оно оценивается. Вообще поступки, соответствующиевнутренним нормам, считаются позитивными, а не соответствующие —негативными. Очень часто оценка поведения по абсолютным показателямявляется неадекватной. Время, показанное при заплыве на 100 метровсвободным стилем, количество правильных ответов на экзамене побиологии или сумма, пожертвованная благотворительной организации,часто не дают достаточной информации для самооценки при сопоставлениис внутренними нормами. В этих и многих других примерах адекватностьповедения должна быть определена относительно (например, в сравнении споведением других). Эту мысль можно проиллюстрировать на примерестудентки, ответившей правильно на 85 вопросов на экзамене по биологиии желающей быть в числе 5% лучших учеников в классе. Ясно, чтоколичество ее правильных ответов не дает возможности ни дляпозитивной, ни для негативной самооценки, если она не знает, какотвечали ее одноклассники. В других случаях адекватность нашегоповедения можно определить в терминах стандартных норм или ценностейэталонной группы.
Поведение человека в прошлом также является стандартом, всоответствии с которым можно оценить адекватность его поведения насегодняшний день. Здесь ориентир для оценки адекватности илинеадекватности дает сравнение со своим собственным поведением. Бандурапредполагает, что прошлое поведение влияет на самооценку в основномпосредством его воздействия на постановку целей:
«После того, как данный уровень поведения достигнут, он больше нетребуется, и человек начинает искать нового самоудовлетворения. Людихотят повысить нормы поведения после успеха и понизить их, чтобыприблизиться к более реалистичному уровню, после неоднократныхнеудач».
Оценка деятельности – другой ключевой фактор в критическомкомпоненте саморегулирования поведения. Очевидно, например, что людиприлагают мало усилий или вообще не утруждают себя в деятельности,которая не касается их лично. А в тех сферах жизни, которые влияют наих благополучие и самоуважение, самооценка производится постоянно. То,каким образом люди воспринимают причины своего поведения, взначительной степени влияет на самооценку. Большинство людей чувствуютгордость и удовольствие от достижений, которые они относят за счетсвоих способностей и усилий. И наоборот, они редко бываютудовлетворены, когда относят свой успех за счет внешних факторов,таких как случай или везение. Это справедливо и для их суждений о
неудачах, о поведении, заслуживающем порицания. Люди самокритичнореагируют на неприятности, виной которым было их собственноеповедение, но не на ошибки, которые, как они считают, происходят из-заоправдывающих их обстоятельств или недостатка возможностей. Полагают,что достижения, не имеющие отношения к нам самим, обычно не порождаютопределенных реакций. Например, если человек достигает положенияпервой трубы в оркестре, он, вероятно, полагает, что это произошлоблагодаря его опыту и музыкальным способностям. Однако тот же самыйчеловек будет меньше гордиться своим достижением, если осознает, чтоэтим он обязан отцу-дирижеру, а не собственному дарованию. Если бы онне удостоился подобной чести, то мог бы оправдать свою плохую игрутем, что болел гриппом во время репетиций. Барабанщика же, занимающегопозицию стороннего наблюдателя, все это в целом мало волнует.
Бандура утверждает, что широкий спектр поведения человекарегулируется с помощью реакций самооценки, выражаемых в формеудовлетворенности собой, гордости своими успехами, неудовлетворенностисобой и самокритики. Таким образом, третий и последний компонент,вовлеченный в поведенческое саморегулирование, касается процессовсамоответа, в особенности результатов самооценки. При прочих равныхусловиях позитивная самооценка поведения приводит к поощряющему типуреагирования, а негативная оценка — к наказывающему. И более того,«реакции самооценки приобретают и сохраняют критерии поощрения инаказания в зависимости от реальных последствий. Люди обычноудовлетворены собой, если испытывают гордость от своих успехов, но недовольны собой, когда что-то осуждают в себе».
Бандура полагает, что адекватная теория поведения должна такжерассматривать такие сложные вопросы, как: почему люди отказываютсяпоощрять себя, почему они требовательны к себе, когда никто непринуждает их к этому, и почему они наказывают себя. Действительно,это вопросы, требующие разъяснения, и Бандура охотно признает, что ониеще не достаточно изучены [Вапс1ига, 1977Ь, 1986]. Далее следуютнекоторые гипотетические объяснения, предложенные Бандурой.
Почему мы наказываем себя. С социально-когнитивной точки зрения,люди склонны тревожиться и осуждать себя, когда нарушают своивнутренние нормы поведения. Они неоднократно переживают в ходесоциализации такую последовательность событий: проступок — внутреннийдискомфорт — наказание — облегчение. В этом случае действия, несоответствующие внутренним нормам поведения, вызывают тревожныепредчувствия и самоосуждение, не проходящие до тех пор, пока ненаступит наказание. Оно, в свою очередь, не только кладет конецстраданиям от проступка и его возможных социальных последствий, нотакже направлено на то, чтобы вернуть одобрение других.Соответственно, самонаказание избавляет от внутреннего дискомфорта идурных предчувствий, которые могут длиться дольше и переноситься болеетяжело, чем само наказание. Реакции самонаказания сохраняются долго,так как они смягчают душевную боль и ослабляют внешнее наказание.Осуждая себя за недостойные в моральном отношении поступки, людиперестают терзаться из-за прошлого поведения. Самокритика может также
уменьшить терзания по поводу неправильного или разочаровывающегоповедения. Другая причина использования самокритики — то, что оначасто является эффективным средством уменьшить негативные реакциидругих. Иначе говоря, когда есть вероятность, что определенныепоступки приведут к дисциплинарным мерам, самонаказание можетоказаться меньшим из двух зол. И наконец, вербальное самонаказаниеможет использоваться с целью услышать похвалу от других. Осуждая ипринижая себя, индивид может вынудить других людей высказаться поповоду его положительных качеств и способностей и заверить, что емунужно постараться и все будет хорошо.
Хотя самонаказание может положить конец тревожным мыслям или, покрайней мере, ослабить их, оно также может усилить личный дискомфорт.Действительно, чрезмерное или длительное самонаказание, основанное наизлишне строгих нормах самооценки, может вызвать хроническуюдепрессию, апатию, ощущение никчемности и отсутствия цели. В качествепримера можно вспомнить людей, страдающих от значительной недооценкисебя вследствие потери ловкости из-за старения или каких-то физическихувечий, но продолжающих придерживаться прежних норм поведения. Онимогут принижать себя и свои успехи настолько, что в конце концовстановятся апатичными и оставляют деятельность, которая раньшеприносила им большое удовлетворение. Поведение, являющееся источникомвнутреннего дискомфорта, может также способствовать развитию различныхформ психопатологии. Например, люди, постоянно чувствующие собственнуюнеадекватность и испытывающие неудачи, могут стать алкоголиками илипристраститься к наркотикам, таким образом пытаясь совладать сокружением. Другие могут защитить себя от самокритики, уйдя в миргрез, где они получают в несбыточных фантазиях то, что недостижимо вреальности. Бандура полагает, что неадаптивное поведение — эторезультат излишне строгих внутренних норм самооценки.
Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru