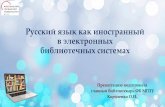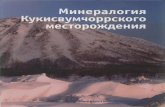язык. дискурс. текст - Портал электронных ресурсов
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of язык. дискурс. текст - Портал электронных ресурсов
ЯЗЫК. ДИСКУРС. ТЕКСТ
МАТЕРИАЛЫ I ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЗАОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(ноябрь – декабрь 2017 г.)
Ростов-на-Дону 2017
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
2
ББК 81.1
М - 34
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Печатается по решению научно-технического совета
Северо-Кавказского научного центра ВШ ЮФУ
Протокол № 12 от «04» декабря 2017 г.
Главный редактор:
доктор филологических наук, профессор Агапова С.Г.
Ответственный редактор:
кандидат филологических наук, доцент Гущина Л.В.
Редакционная коллегия:
кандидат филологических наук, доцент Кислицына Н.Н.
кандидат филологических наук, доцент Гриченко Л.В.
кандидат филологических наук, доцент Ляшенко Н.А.
кандидат филологических наук, доцент Симонова К.Н.
Рецензент:
доктор филологических наук, профессор Ленец А.В.
М – 34 Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции
(ноябрь – декабрь 2017 г.). – Ростов н/Д: Фонд науки и образования,
2017. – 120 с.
ISBN 978-5-6040506-5-1
Сборник содержит труды и материалы I Всероссийской научно-
практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст», в которой приня-
ли участие профессора, доценты, аспиранты, магистранты и молодые учѐные из
многих регионов России (г. Симферополь, г. Санкт-Петербург, г. Ростов-на-
Дону и др.). В сборник вошли статьи, связанные с разработкой актуальных тем
по таким направлениям, как семантика и языковая концептуализация мира,
специфика дискурсивной организации различных сфер использования языка,
актуальные проблемы межличностной и межкультурной коммуникации, про-
блемы теории и практики перевода, формирование иноязычной компетенции в
условиях модернизации образования и глобализации.
Сборник трудов и материалов предназначен для широкого круга лингвис-
тов, преподавателей и студентов филологических и педагогических специаль-
ностей, а также для интересующихся вопросами языка, текста и дискурса.
ISBN 978-5-6040506-5-1
© Авторы, 2017 г.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
3
СОДЕРЖАНИЕ
СЕМАНТИКА И ЯЗЫКОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МИРА
Абросимова Л.С., Исаян Г.В.
Классификация онимов в произведении Дж. Роулинг «Гарри
Поттер и философский камень»…………………………………….
6
Васильева А.С.
Топонимы в паремиях английского и русского языков…………….
11
Волкова Е.А., Сорокина В.В.
Антропонимы в произведении О. Генри «Деловые люди»………….
14
Енанова Т.Н.
Художественные символы в лирике У. Йейтса………………………
17
Ермакова О.С.
Метафора как средство характеристики персонажей………………
22
Канеева В.Р., Гущина Л.В.
Отражение переломных моментов в жизни человека в английских
фразеологизмах-эвфемизмах (на материале современных
англоязычных кинотекстов)………………………………………….
26
Кислицына Н.Н., Селезнѐва Е.В.
Понятие темпоральной семантики в лингвистике………………….
30
Костромина Е.О.
Функции цветовых эпитетов в жанре фэнтези…………………….
34
Крюкова Е.И., Дергачѐва Н.Ю.
К вопросу об исследовании репрезентации концепта «жизнь»
посредством английских паремий……………………………………
39
Погребная И.Ф.
Способность ФЕ типа GIVE UP к конверсии (на основе анализа
прилагательных микрополя конверсии)…………………………….
43
Постерняк К.П.
Репрезентация ассоциативной составляющей концепта «CCCР» в
британских СМИ (1991–1993 гг.)……………………………………
48
Сердюкова А.А.
Языковая репрезентация концепта «жизнь» в текстах современной
американской и российской прозы……………………………..
51
СПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА
Абросимова Л.С., Багарад Л.А.
Полидискурсивность библейских прецедентных имѐн…………….
58
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
4
Абросимова Л.С., Коч Ю.Г.
Рекламный дискурс и его функциональные характеристики (ин-
формативность, оценочность, персуазивность)……………………..
63
Кальченко А.А., Гущина Л.В.
Политический детектив в контексте постмодернизма……………...
68
Куцаева К.Н., Симонова К.Н.
Функционально-стилистические особенности американизмов в
британском интернет-дискурсе……………………………………..
71
Осипова О.С.
Роль иронии в англоязычном художественном дискурсе…………..
76
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Егоров В.В., Симонова К.Н.
Миграционная «война» в Европе……………………………............
86
Ковалѐва И.В.
Особенности выражения побуждения в неофициальном регистре
общения………………………………………………………………..
89
Новикова М.С.
К вопросу изучения эмоций в лингвистике…………………………
92
Омарова Л.А.
Современный конфликтогенный текст: коммуникативные тактики
и стратегии, жанр……………………………………………………..
96
Садовникова Я.А.
Роль вопроса как средства разрешения конфликта………………..
99
Шкваря К.Н.
Чиновничий сленг в России………………………………………….
103
Simonova K.N., Nozadze G.A.
Are Russians really that different from Europeans?...........................
106
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
Евтушенко А.А.
Перевод англоязычной поэзии……………………………………….
109
ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
5
Жукова Н.Ю.
Особенности игровых методик в обучении английскому языку де-
тей дошкольного возраста……………………………………………
112
Николаева И.Ю.
Особенности изучения английского языка в период раннего разви-
тия…………………………………………………………………
116
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
6
СЕМАНТИКА И ЯЗЫКОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МИРА
УДК 81.23
Л.С. Абросимова
доктор филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Г.В. Исаян студент ОП 45.03.02 – Лингвистика «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
КЛАССИФИКАЦИЯ ОНИМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ. РОУЛИНГ
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [Larisa S. Abrosimova, Galina V. Isayan The Classification of Onomastic Vocabulary in
J. Rowling’s “Harry Potter and the Philosopher's Stone”]
The purpose of the article is to classify onomastic vocabulary in J. Rowling‟s “Harry Potter
and the Philosopher's Stone”. The authors consider that a significant part of onomastic vocabulary
in literary fantasy is associated with various realia of Great Britain and serves as a peculiar key to
the discovery of the writer's artistic conception. Moreover, the analysis of the groups of onуms
proves the expressiveness of the lexicon under study.
Key words: onomastic vocabulary, anthroponym; fantasy, expressiveness.
Имена собственные играют большую роль в создании национальной и язы-
ковой картин мира, поскольку система онимов любого языка является своеоб-
разным «музеем» национальной культуры и самосознания. В связи с этим, име-
на собственные являются предметом исследований лингвистов, историков, ан-
тропологов, культурологов, этнографов и др.
В фантастике, как жанре художественной литературы, онимы представляют
собой значительный пласт лексики. Их необходимо изучать для более полного
и глубокого восприятия фантастического произведения, так как они способны
показать связь вымышленных событий с реальной жизнью, культурой, истори-
ей и традициями, дать ключ к раскрытию художественного замысла автора.
Перевод онимов представляет собой значительные трудности, и чтение
произведений в переводе часто не позволяет понять все детали того, что имен-
но стоит за именем собственным. Набор онимов в произведении Дж. Роулинг
«Гарри Поттер и философский камень» характеризуется сложностью и много-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
7
гранностью. Автор тщательно подбирает имена своим героям, местам и учреж-
дениям, где происходят события, и лингвистический анализ ономастической
лексики позволяет лучше понять характеристики героев и событий.
В романе используются имена собственные, существующие в реальном
ономастическом пространстве Британии, что помогает читателям почувство-
вать фантастические персонажи и события более реально, приближѐнно к дей-
ствительному состоянию вещей, создать ощущение реальности изображаемых
событий. Для этой цели автор использует имена реальных исторических лично-
стей, литературных и мифологических героев.
Исследование онимов невозможно без их классификации. В современной
ономастике наиболее полное структурирование ономастического пространства
предложено, на наш взгляд, А.В. Суперанской, которая выделяет следующие
типы классификаций в зависимости от лингвистических и экстралингвистиче-
ских условий их появления: 1) классификация имѐн в связи с именуемыми объ-
ектами; 2) естественно возникшие и искусственно созданные имена;
3) классификация по линии «микро – макро»; 4) структурная классификация
имен; 5) хронологическая классификация имѐн; 6) классификация в связи с
объѐмом закреплѐнных в них понятий; 7) классификация в связи с дихотомией
язык – речь; 8) стилистическая и эстетическая классификация.
Ведущей, с точки зрения А.В. Суперанской, является предметно-
номинативная классификация, поскольку «соотнесѐнность с предметом, как
правило, определяет «лицо» имени и его характеристики» [3, с. 160].
Предметно-номинативная классификация включает следующие классы
имѐн собственных:
а) имена живых существ и существ, воспринимаемых как живые (антропо-
нимы – личные имена человека; зоонимы – клички животных; мифонимы –
имена любой сферы ономастического пространства в мифах, эпопеях, сказках,
былинах);
б) наименования неодушевленных предметов (топонимы – наименования
населѐнных пунктов; космонимы и астронимы – наименования космических
объектов; фитонимы – наименования растений; хрематонимы – имена отдель-
ных неодушевленных предметов (оружия, посуды и т.д.); названия средств пе-
редвижения; сортовые и фирменные названия; товарные знаки;
в) имена собственные комплексных объектов: названия предприятий, учре-
ждений, обществ, объединений; хрононимы – имя исторически значимого от-
резка времени; названия праздников, юбилеев, торжеств; названия мероприя-
тий, войн; названия произведений литературы и искусства; документонимы; на-
звания стихийных бедствий; фалеронимы – имена собственные любого ордена,
медали [3, с. 174–206].
Большинство имѐн собственных и названий являются «говорящими». Это –
имена с историей, понять которую дано не всем, особенно в переводных произ-
ведениях. Довольно часто за простой формой кроется сложной содержание.
Проблема перевода таких имѐн остаѐтся открытой. Перевод может включать:
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
8
транскрипцию, транслитерацию или собственно перевод, целью последнего яв-
ляется передача смысла, скрывающегося за именем собственным, что часто яв-
ляется невыполнимым.
Рассмотрим некоторые классы имѐн собственных, используемых в романе
Дж. Роулинг «Harry Potter and the Philosopher's Stone».
Антропонимы представляют собой наиболее многочисленный класс имѐн
собственных, обнаруженных в произведении Дж. Роулинг «Гарри Поттер и
философский камень». Антропонимы, обладая «конкретно-номинативным зна-
чением, представляют собой единицы, степень мотивированности в семантике
которых весьма высока. Имена собственные имеют более значимый социаль-
ный коннотативный признак, чем просто слова» [1, c. 8].
Положительные или отрицательные образы героев создаются за счѐт отсыл-
ки к этимологии имен. Так, имя главного героя Harry Potter происходит от
Potter, в латинском языке «могущественный», а в староанглийском Harry озна-
чал «господина, хозяина дома», а его полная форма имени Harold, Harrison –
«управитель армии». Ron Weasley (англ. слова «weasel» – «ласка» и «wizard» –
«волшебник») – Рональд, шотландский правитель, 6-я династия, гениальный
полководец и стратег, имя которого переводится как Бегущая Ласка, Running
Weasel. Нermione Granger – имя из древнегреческой мифологии Hermione (=
«Красноречие»), которое восходит к имени древнегреческого бога Гермеса. В
истории есть несколько Hermiones, которые, возможно, стали прототипами со-
бирательного образа героини Дж. Роулинг: Гермиона – дочь Елены Троянской
и героиня «Зимней сказки» Шекспира [4]. Centaur – разумное волшебное суще-
ство, упоминающееся ещѐ в мифах Древней Греции, произошло от латинского
«центурия» – «сотня» или греческих «центрон» – «козел», «кентео» – «охотить-
ся, преследовать» и «таврос» – «бык».
Отрицательный образ также успешно создаѐтся путѐм отсылки к исходным
значениям имѐн. Voldemort – является чѐрным магом, имя которого образовано
от фр. полѐт смерти. Имя Draco Malfoy образовано от латинского «дракон»
или «змея». В данном имени используется приставка «mal», обозначающая
«злой, злокозненный, плохой»; «foe», обозначающее «враг».
Автор также использует мифонимы для именования некоторых преподава-
телей и работников Хогвартса: Minerva McGonagal, заместитель директора, де-
кан факультета Гриффиндор, преподаватель трансфигурации. В римской мифо-
логии Минерва – богиня мудрости, покровительница мирных ремесленников.
Argus Filch – смотритель. Аргусом звали греческого бога, у которого было 100
глаз, и он мог постоянно следить за всем происходящим.
Антропонимы часто представляют собой источники экспрессивных и оце-
ночных коннотаций. Описание семантики экспрессивности субъектами дейст-
вия, выраженными именами собственными, видится на современном этапе
вполне актуальным. «Особенную значимость данный вопрос приобретает в ас-
пекте кросс культурных исследований, нацеленных на выделение националь-
ной специфики и универсальности функционирования антропонимов» [2, c. 24].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
9
В романе имеется герой Neville Longbottom (англ. «bottom» – «низ, зад, заднее
место», англ. «long» – «длинный, долгий»), фамилия которого является жанро-
во-смешной и подчѐркивает несуразность, неуклюжесть персонажа.
Топонимы также представляют собой значительный пласт имѐн собствен-
ных в анализируемом произведении. Среди них Diagon Аlley, которое называет
улицу магического Лондона, место, где можно купить волшебные товары. Даже
в названии просматривается загадочность – игра слов: Diagonally (наискосок)
становится Diagon Ally. Godric‘s Hollow (англ. «hollow» – лощина, Годрик –
старинное английское имя) – населѐнный пункт, где жила семья Поттеров до
убийства родителей главного героя, назван в честь основателя факультета
Гриффиндор, Годрика Гриффиндора (Gryffindor, Godric). Privet Drive – назва-
ние улицы, где жил главный герой и дающее «физическое» описание объекта,
который легко представить исходя из значений составляющих (от англ. privet –
бирючина – кустарник, который формирует густую «живую изгородь», скры-
вающую внутреннюю часть двора).
Также в произведении автор рисует события, используя множество других
онимов: названия учреждений – банк Gringotts, школа Hogwarts (от Hogmanay,
названия древнего кельтского празднования последнего дня года с факельными
шествиями; огонь обозначает, в том числе, свет знаний), названия факульте-
тов Griffyndor – название взято с французского языка «золотой грифон»,
Ravenclaw – образовано словосложением: ворон + коготь, Slytherin – sly – хит-
рый, лукавый, slither – скользящие движения змеи, Hufflepuff – от фразеологи-
ческого оборота Huff&puff – пыхтеть от усталости после трудной работы, вто-
рой вариант – «активно не соглашаться, противостоять»; названия пабов –
Hog‘s head (Кабанья голова), Leaky Cauldron (Дырявый Котѐл); названия газет
– Daily Prophet («Ежедневный пророк» – самый крупный орган средств массо-
вой информации волшебного мира Великобритании); этнонимы – Muggle – че-
ловек, не обладающий магическими способностями. Официальное название
всех маглов – немагическое население, возможно, произошло от английского
«mug» – дурак. Goblins – волшебные существа из английской мифологии не-
большого роста с удлинѐнными ступнями и кистями. Легенда о названии этих
карликов гласит следующее: произошло племя гоблинов от одного из племени
гномов, во главе которого стоял вождь по имени Gob или Ghob. Поэтому гномы
из других подземных королевств назвали его подчинѐнных словом «ghob-
lings»; Licorice Wands; название спортивной игры Quidditch – спортивная ко-
мандная игра на овальном поле, когда скачущие на мѐтлах игроки забивают мя-
чи в кольца, расположенные в противоположных концах поля. А слово образо-
вано способом контаминации из букв, взятых из наименований мячей, которы-
ми играют в эту игру quaffle + bludger + snitch; название денежных единиц –
Galleon – cамая крупная монета волшебной Великобритании. Один золотой
галлеон равен 17 сиклям или 493 кнатам; Sickle – монета среднего достоинства
мира волшебников Великобритании, которую чеканят из серебра. Один сикль
равен 29 кнатам. 17 сиклей составляют один галлеон; Knut – мелкая монета,
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
10
достоинством около 1 пенни. Слова knut и nut (в переводе орех) – омофоны, а
орехи несколько веков назад часто использовались в качестве денег.
Таким образом, как видно из иллюстраций, значительная часть онимов свя-
зана с различными реалиями английского быта, историческими фактами, обы-
чаями и обрядами. Онимы представляют собой особый интерес в семантиче-
ской структуре фантастического текста, так как дают ключ к пониманию худо-
жественного замысла писателя. Проведѐнный анализ групп онимов также по-
зволяет сделать вывод об экспрессивности данной лексики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абросимова Л.С. Когнитивно-словообразовательные аспекты антрополексической номи-
нации // Лингвистика: традиции и современность. Материалы международной научной
конференции (20–21 октября 2009 г.). Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. С. 7–9.
2. Гриченко Л.В. Антропонимы в русских и английских пословицах: экспрессивность и
обобщенность семантики // Филология и культура. 2014. № 35(1). С. 24–30.
3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2009. 368 с.
4. Dresang Eliza T. Hermione Granger and the Heritage of Gender. 2011 // https://harrypottersum-
mer2011.files.wordpress.com/2011/05/hermione-gran-ger-and-the-heritage-of-gender.pdf (дос-
тупно на 13.12.2017).
REFERENCES
1. Abrosimova L.S. Kognitivno-slovoobrazovatel'nye aspekty antropoleksicheskoj nominacii [Cog-
nitive and Word-formation Aspects of the Anthropolexical Nomination] // Lingvistika: tradicii i
sovremennost'. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (20–21 oktjabrja 2009 g.) [Lin-
guistics: Traditions and Modern Days. Materials of the International Scientific Conference (Oc-
tober 20–21, 2009)]. Rostov-on-Don: IPO PI JuFU, 2009. Pp. 7–9 (in Russian).
2. Grichenko L.V. Antroponimy v russkih i anglijskih poslovicah: jekspressivnost' i obobshhennost'
semantiki (Antroponims in the Russian and English proverbs: Expressivity and Generality of
Semantics) // Filologija i kul'tura (Philology and Culture). 2014. № 35(1). Pp. 24–30 (in Rus-
sian).
3. Superanskaja A.V. Obshhaja teorija imeni sobstvennogo (General Theory of the Proper Name).
M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2009. 368 p. (in Russian).
4. Dresang E.T. Hermione Granger and the Heritage of Gender. 2011 // https://harrypotter-
summer2011.files.wordpress.com/2011/05/hermione-granger-and-the-heritage-of-gender.pdf
(accessed 13.12.2017).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
11
УДК 81.13
А.С. Васильева
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ТОПОНИМЫ В ПАРЕМИЯХ
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ [Anna S. Vasiliyeva Toponyms in Proverbs of English and Russian Languages]
The article is devoted to the peculiarities of toponyms in proverbs of English and Russian lan-
guages. It is known that proverbs are a significant material reflecting the centuries-old history of
language and culture. The article examines similarities and differences of geographical names in
proverbs, as well as their historical significance in two cultures.
Key words: proverb, toponym, microtoponym, English language, Russian language.
Языковые картины мира и важные концепты языка дают возможность озна-
комиться со смыслами окружающего мира. Пословицы представляют ценный
материал, отражающий особенности национального характера, восприятие раз-
ными коллективами окружающей их действительности, а так же историю наро-
да и языка. Исследование топонимов в пословичных фондах английского и рус-
ского языков позволяет изучить социолингвистические процессы в обществе,
ознакомиться с прошлой историей и понять, насколько разнообразен мир гео-
графических названий.
Актуальность исследования определяется интересом к топонимам, с точки
зрения их семантической и лингвокультурологической значимости в культурах,
как русского, так и английского языка. Пословичный фонд представляется ис-
точником информации об истории и культуре народа. Материалом исследова-
ния послужили примеры 100 пословиц, выбранных из словарей В.И. Даля и
А.И. Григорьевой.
Являясь разделом ономастики, топонимика исследует функционирование и
значение географических наименований. С.И. Ожегов понимает под топонимом
«собственное название отдельного географического места (населенного пункта,
реки, угодья и др.)» [4, c. 803].
По мнению А.В. Суперанской, топонимами являются географические на-
звания, «отражающие целый пласт языка, его историческое становление и раз-
витие» [5, с. 24]. По нашему мнению, Н.В. Подольская даѐт более конкретное
определение: «топоним – собственное имя природного объекта на Земле, а так-
же объекта, созданного человеком на Земле, который четко зафиксирован в
данном регионе (город, деревня, обработанный участок земли, территория как
часть государства, коммуникация и т.п.)» [3, c. 127]. Таким образом, под топо-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
12
нимом мы понимаем географические названия искусственно – созданных или
природных объектов на Земле.
Поскольку географическую среду обитания человека нельзя назвать неиз-
менной, нельзя и утверждать о единообразии географических наименований в
культурах английского и русского языков.
Большую часть топонимов, встретившихся в материале английского языка,
составляют названия городов и стран: A bad man in Zion City is a good man in
Chicago [1, c. 74]; Not for all tea in China [1, c.16]; All roads lead to Rome
[1, c. 80].
Также необходимо отметить, что топоним Rome на материале английского
языка является наиболее частотным: Fiddle while Rome burns. Rome was not
built in a day [1, c. 102]; When in Rome, do as the Romans do [1, c. 98].
Такое частое употребление вышеупомянутого топонима может быть связа-
но с христианизацией Великобритании, с тем, что на территории Англии начала
распространяться римская культура, а народ почитал и уважал Папу Римского.
В русском языке, так же наиболее частотной оказалась группа пословиц с
названиями городов и стран: Отогрелся в Москве, да замерз на Березине
[2, c. 43]; Живет в Туле, да ест дули [2, c. 51]; Чаем на Руси никто не подавил-
ся [2, c. 168]; Ехал в Казань, а заехал в Рязань [2, c. 576]; Копна от копны, как
от Ростова до Москвы [2, c. 312].
Москва фигурирует в пословицах неоднократно, поскольку народ восхища-
ется еѐ величавостью и сокрушается по поводу горестей выпавших на долю го-
рода: В Москве всѐ найдешь, кроме птичьего молока [2, c. 216]; Москва всем
городам мать [2, c. 176].
Хотя значительную часть топонимов составляют те, что находятся на тер-
ритории России, встречаются названия, распространѐнные на других террито-
риях: Не устала кобыла, что до Киева сходила[2, c. 412]; Один глаз на печь,
другой в Галич [2, c. 520].
Гидронимы являются одной из разновидностей топонимов и называют вод-
ные объекты (реки, озѐра, моря, заливы, и т. п.). Они имеют большую лингвои-
сторическую ценность, поскольку названия водных объектов могут оставаться
неизменными веками. Благодаря изучению гидронимов, можно проследить пу-
ти заселения народов, их передвижения и воссоздать географическую картину
местности. Проводя анализ гидронимов в паремиях английского и русского
языков, заметен большой контраст, поскольку в английском языке их встрети-
лось крайне мало, чего не скажешь о русском. Вероятно, это связано с обшир-
ностью российских территорий и любовью русского народа обращаться к при-
роде.
All‘s quite along the Potomac [1, c. 56]; В ложке Волги не переедешь
[2, c. 428]; Лежи на боку да гляди за Оку! [2, c. 651]; Два брата родные, и оба
Ивановичи, да один Дон, а другой Шат [2, c. 290]; Не Стенька: на ковре по
Волге не поплывешь [2, c.427]; Вселился, как рак в славное Ростовское озеро
[2, c. 112].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
13
Двумя самыми употребляемыми речными топонимами в русском языке ока-
зались Дон и Волга. Говоря о воле и неволе, о скромности, невыполнимости и
реальности, народ обращается к Волге: Волга всем рекам мать. Волга-
матушка широка и долга [2, c. 432]; Волга добрая лошадка: всѐ свезет
[2, c. 445]. Река Дон была очень важным торговым путѐм и символом казачест-
ва: Пришли казаки с Дону, да прогнали ляхов до дому [2, c. 203].
В паремиях обоих языков можно наблюдать наличие не крупных топоними-
ческих объектов, которые известны в более узких кругах и требуют более глу-
боких познаний в географии и культуре страны: Применил избу да к Строгано-
ву двору [2, c. 180]; В Романовщине столько барских дворов, сколько у зайца
ломов [2, c. 191]; Ушѐл в Ершову слободу [2, c. 394]; The black hole of Calcutta
[1, c. 96]; Talk to Billingsgate [1, c. 94].
Итак, проанализировав паремии английского и русского языком можно за-
ключить, что и англичане и русский народ активно использовали географиче-
ские названия в своих пословицах. Наиболее популярными оказались названия
городов: в английском языке, по историческим и религиозным причинам, са-
мым частотным оказался топоним Rome, в русском – Москва. В русских посло-
вицах названия рек, озер, морей и т.д. можно встретить чаще, чем в английских.
Самыми распространенными названиями рек в пословицах русского языка яв-
ляются Дон и Волга. Интерпретация географических названий в пословицах,
так или иначе, проходит сквозь призму действующих идеологических принци-
пов, эстетики, религии. Таким образом, можно заключить, что топонимы несут
ценный историко-географический материал, позволяющий ознакомиться с
культурой и жизнью народа в различный период времени. В пословицах доста-
точно ярко выражен дух и мудрость народности, а топонимы, являясь социаль-
ным и языковым символом, позволяют проникнуть в глубину национальных
обычаев, традиций и пережитков социальных отношений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Григорьева А.И. 1000 русских и английских пословиц и поговорок. М.: АСТ, Сова, 2010.
181 с.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. В 3-х т. Т.1. М.: Русская книга, 1993. 736 с.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
4. Подольская Н.В. Принципы топонимики. М.: Наука, 1964. С. 87–99.
5. Суперанская А.В. Что такое топонимика? М.: Наука, 1984. 182 с.
REFERENCES
1. Grigorieva A.I. 1000 russkih I angliyskih poslovic i pogovorok [1000 Russian and English Prov-
erbs and Sayings]. M.: AST, Sova, 2010. 181 p. (in Russian).
2. Dal V.I. Poslovici russkogo naroda [Proverbs of the Russian people]. V 3-h t. T.1. M: Russkaya
kniga, 1993. 736 p. (in Russian).
3. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovy slovar russkogo yazika: 80 000 slov i frazeologicheskih
virazheniy [Explanatory Dictionary of Russian: 80 000 Words and Phraseological Expressions].
M.: Azbukovnik, 1999. 944 p. (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
14
4. Podolskaya N.V. Principy toponimici [Principles of Toponymics]. M.: Nauka, 1964. Pp. 87–99
(in Russian).
5. Superanskaya A.V. Chto takoye toponimica? [What is toponymics?] M.: Nauka, 1984. 182 p.
(in Russian).
УДК 811.111
E.A. Волкова
кандидат филологических наук, старший преподаватель
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
В.В. Сорокина
студент ОП 45.03.02 – Лингвистика «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
АНТРОПОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ О. ГЕНРИ «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [Elena A. Volkova, Valeriya V. Sorokina Anthroponyms in “Strictly Business” by O. Henry]
The aim of the article is the analysis of anthroponymic role in modern linguistics and literary
works, their classification, structure, stylistic function.
Key words: anthroponym, stylistic features, proper name, onomastic field.
Современная лингвистика уделяет огромное внимание изучению языковых
средств, функция которых заключается не только в создании особого
художественного образа, но и определении этнических особенностей отдельной
культуры. Одним из важнейших структурообразующих элементов
художественного текста является антропоним. А.В. Суперанская рассматривает
антропоним как «специальное слово, служащее для обозначения отдельного
человека и данное ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь
возможность обращения к другому и его идентификации» [3, с. 174]. В свою
очередь С.П. Васильева утверждает, что антропонимы называют человека, но не
приписывают ему никаких свойств [1, с. 17]. Л.М. Щетинин полагает, что имя
собственное называет определѐнного человека, ассоциируется с его качествами
и соотносится с общим понятием «человек» [5, с. 8].
Антропонимы представляют собой важную часть ономастического
пространства, позволяющую изучить не только пути возникновения отдельного
имени, раскрыть его языковые и культурные особенности, но также
рассказать много об истории носителя, как представителя отдельной
культуры, а именно: традициях, социальных условиях, обычаях, религии и
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
15
т.д. Подбор имѐн в литературном произведении является целенаправленным
процессом, служащим воплощению авторского замысла. Как отметил
Ю.Н. Тынянов, в художественном произведении нет незнакомых имен, и
каждое имя, названное в произведении, говорит, играет всеми красками, на
которое оно способно [4, с. 27].
Как правило, имя собственное даѐт читателю дополнительную
информацию о характере и отличительных качествах персонажа
художественного произведения. Исходя из фонетической или семантической
составляющих антропонимических единиц, мы можем определить условия
жизни героя, к какому классу, национальности и религии он относится, о
какой эпохе идѐт речь в произведении.
Классифицируя имена литературных героев по их стилистической
функции, Л.М. Щетинин выделил следующие группы имѐн: нейтральные,
описательные, пародийные и ассоциативные [5, с. 28]. Нейтральные имена
образуются от прозвищ или профессиональной деятельности человека.
Описательные дают прямую или косвенную характеристику своим
носителям, наделяя их отличительными чертами. Пародийные имеют цель
наделить персонажа ярко-выраженными качествами. Ассоциативные
антропонимы вызывают у читателя ассоциацию, которая ещѐ больше
раскрывает характер героя и делает его образ более колоритным. В данном
случае важна как зрительная форма имени, так и звуковая. Антропоним
показывает, как автор осуществляет связь формы и значения, усиливает
эмоциональное впечатление от произведения [2, с. 113].
В зависимости от традиций разных народов существуют различные
ономастические системы именования. Так, например, личные имена в
англоговорящих странах имеют двучленную конструкцию и состоят из
имени и фамилии, в то время как русская модель подразумевает
использование трѐх компонентов: фамилия, имя, отчество. Обратившись к
произведению О. Генри «Деловые люди», мы выявили, что большую часть
антропонимов занимают двусоставные конструкции, относящиеся к
нейтральной и описательной группам, что свидетельствует о склонности
писателя приблизить художественное произведение и его героев к
реальному миру: Kyrle Bellew, Boyle O'Kelley, Ellen Terry, Joe Weber, Henry
Miller, Buffalo Billish, Frank Desmond, Sam Packard, Sam Griggs и т.д.
Отличительной чертой антропонимической модели в американской
литературе является добавление к именам сокращения от слова «Junior»
(Bluebeard, Jr.) и использование патронима (имя, образованное от имени
отца или другого предка добавлением определѐнного суффикса или
префикса) (John McCullough), что подчѐркивает особенность родовых имѐн
в западной культуре и выделяет еѐ среди остальных.
Антропонимы главных героев произведения (Bob Hart и Winona Cherry)
имеют описательный характер и ярко выраженную номинативную функцию.
Данная модель позволяет автору не только придать особый колорит
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
16
изображаемой реальности, но и выделить отличительные черты данных
персонажей. Например, имя главной героини (Winona Cherry) вызывает
определѐнную ассоциацию, связанную скорее с положительным образом,
чем отрицательным. Первое, что может прийти на ум читателю, это
молодость, хрупкость, наивность. Именно так автор и описывает данную
героиню: «...with all the innocent abandon, the youth, the sprightliness, and the
flawless stage art;... whisking through like a swallow into her nest». В свою
очередь антропоним Bob Hart характеризует человека, как гордого, немного
надменного, какими чертами его и наделил автор: «...his critical taste;...in his
smooth, serious tones; ...Bob Hart presented his solvent, serious, well-known
vaudevillian face at the box-office window». Данные модели являются ярким
примером воплощения сущности называемого предмета, они создают
чѐткий образ персонажей, наделяя их комическими чертами и заранее
настраивая читателя на ироничное восприятие данного произведения.
Стоит отметить, что антропонимическое поле насыщено единицами,
указывающими на этническое происхождение (японское, ирландское,
индейское) персонажей и создающие колорит иноязычной культуры: Jap,
O'Kelley, McCullough, Arapahoe. В тексте также обнаружено большое
количество «говорящих» фамилий (Helen Grimes, Prudence Wise, Jack
Valentine, Meadow Brook Hunt) и прозвищ, что особенно свойственно жанру
комедии (Fifth Avenue Girl, Old Jimmy, the New York girl, The Cool Head, Old
Sport, the Tramp Juggler). Наличие прозвищ является дополнительным
индикатором неофициального стиля общения персонажей. Эти
антропонимы несут добродушный характер, слегка ироничны и не ведут к
конфликту в общении героев.
Проанализировав антропонимическое поле произведение О. Генри
«Деловые люди», можно прийти к выводу, что имена литературных героев
не могут быть случайны, их выбор всегда мотивирован в отличие от выбора
имени в реальной жизни. Антропоним в литературе имеет свою систему
ассоциаций и смысловых оттенков, он становится отличительным знаком
персонажа, воплощением его уникального художественного образа. Что же
касается антропонимических конструкций в тексте, то мы выявили, что
основной упор делается на использование двусоставных моделей, что
свойственно традиционной англоязычной культуре и выделяет еѐ среди
остальных. Односоставная модель имени встречается редко, что, как
правило, является показателем более неофициального стиля общения
персонажей, однако именно этот приѐм придал данному рассказу
комический эффект. ЛИТЕРАТУРА
1. Васильева С.П. Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири. Красноярск:
ИПК КГПУ, 2008. 180 с.
2. Волкова Е.А., Костенко Т.Ф. Антропонимы в произведении Дж. Лондона «Межзвѐздный
скиталец» // Современное общество: проблемы, идеи, инновации. Ставрополь: Логос,
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
17
2015. С. 113–116.
3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Книжный дом «Либроком»,
2009. 368 c.
4. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 270 с.
5. Щетинин Л.М. Слова, имена, вещи: очерки об именах. Ростов-на-Дону: Издательство
Ростовского университета, 1966. 222 с.
REFERENCES
1. Vasileva S.P. Ideograficheskii slovar toponimov Prieniseiskoi Sibiri [Ideographic Dictionary of
Toponyms of Priyeniseysky Siberia]. Krasnoyarks: Krasnoyar.gos.ped.un-t.im. V.P. Astafeva:
IPK KGPU, 2008. 180 p. (in Russian).
2. Volkova E.A., Kostenko T.F. Antroponimy v proizvedenii J. Londona “Vezhzveznyi skitalets”
[Anthroponyms in J. London‟s Work “The Interstellar Wanderer”] // Sovremennoe obshchestvo:
problem, idei, innovatsii [Modern Society: Problems, Ideas, Innovations]. Stavropol: Logos,
2015. Pp. 113–116 (in Russian).
3. Superanskaya A.V. Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo [The General Theory of the Proper
Name]. M.: Knizhny-dom «Librokom», 2009. 368 p. (in Russian).
4. Tinyanov Y.N. Poetika. Istoriya literatury, kino [The History of Literature, Cinema]. M., 1977.
270 p. (in Russian).
5. Shchetinin L.M. Slova, imena, veshchi: ocherki ob imenah [Words, Names, Things: Sketches
about Names]. Rostov-na-Donu: Izdatelstvo Rostovskogo universiteta, 1966. 222 p. (in Russian).
УДК 801
Т.Н. Енанова
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ В ЛИРИКЕ У. ЙЕЙТСА [Tamara N. Enanova The Artistic Symbols in the Lyrics of W. Yeats]
The article is devoted to the description of the category of artistic symbol, as well as the pecu-
liarities of its functioning in the poetry of W. Yeats. The study is based on the descriptive method.
As a result of the investigation the main symbols (bird, rose, tower, water and stone) were singled.
The investigation reveals the insight and understanding of the meaning of the poetic heritage of W.
Yeats.
Key words: symbol, symbolic image, antinomy, discourse thinking, denotation, connotation,
imaginative poetic system.
Настоящая статья посвящена определению символа как научного понятия, а
также выявлению символических образов в стихотворениях выдающегося ир-
ландского поэта конца XIX – начала XX вв. Уильяма Батлера Йейтса, одного из
наиболее ярких представителей английского символизма.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
18
В данном исследовании делается попытка определить ценность поэтических
образов в произведениях автора, описать его индивидуально-авторскую манеру
опираясь на метод описательного анализа.
Цель работы заключается в том, чтобы раскрыть роль символов в художест-
венном произведении и проанализировать функционирование символики в ли-
рических произведениях У. Йейтса.
Конкретной задачей исследования стало выявление символических образов,
наиболее характерных для разных периодов творчества поэта, и проследить за
развитием индивидуального авторского стиля У. Йейтса.
Следует отметить, что «символ» имеет неопределенное трактование в науке.
Ещѐ А.Ф. Лосев заметил, что «понятие символа и в литературе, и в искусстве
является одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий» [4,
с. 2]. Проблемами изучения природы символа занимались многие - от Платона
и Аристотеля до М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана. Символам посвящено множе-
ство интересных работ ученых: достаточно упомянуть, например, книги А.Ф.
Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» [4, с. 2] и В.Н. Топо-
рова «Миф. Ритуал. Символ. Образ» [6, с. 446].
Обратимся к литературной энциклопедии С.С. Аверинцева; он определяет
данное понятие, как: «символ художественный (знак, опознавательная примета)
– универсальная категория эстетики, лучше всего поддающаяся раскрытию че-
рез сопоставление со смежными категориями образа, с одной стороны, и знака
– с другой» [1, с. 826].
В «Поэтическом словаре» А.П. Квятковского мы находим следующее опре-
деление: «символ – (греч, symbolon – знак, примета) многозначный предметный
образ, объединяющий собой разные планы воспроизводимой художником дей-
ствительности на основе их существенной общности, родственности»
[2, с. 263]. Символ, по П.А. Флоренскому, принципиально антиномичен, т.е.
объединяет вещи, исключающие друг друга с точки зрения одномерного дис-
курсивного мышления [8, с. 287].
Русский поэт О.О. Мандельштам, выдвинул «эллинистическое» понимание
символа как: «всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может
стать утварью, а, следовательно, и символом» [5, с. 64].
Ёмко и лаконично трактует данное понятие польский литературовед
Е. Фарино: «символ – это понятийная система, свернутая (или редуцированная)
до одного элемента, обладающего статусом реального объекта» [7, с. 639].
Поэзия У. Йейтса изобилует символами. Его прозвали «главным представи-
телем» символического движения в английской литературе [9, с. 29]. Много-
численные и столь разнообразные произведения У. Йейтса всегда привлекали к
себе особое внимание. Многие российские и зарубежные исследователи зани-
мались изучением творчества У. Йейтса с целью определить место поэта в ли-
тературном процессе, а также влияние, которое оказало на его творчество такое
литературное течение, как символизм. Среди англоязычных авторов, занимав-
шихся данным вопросом, можно назвать Р. О‟Дрисколл и Н. Фрая, а среди оте-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
19
чественных исследователей эта проблема рассматривается в работах К.О. Голу-
бович и В.В. Хорольского.
У. Йейтс использует множество символов, а иногда один и тот же символ
для разных целей в разных контекстах. Часто он вводит в произведения симво-
лы из оккультизма, ирландского фольклора и мифологии, магии, философии,
метафизики, живописи, с которыми, как правило, читатели не знакомы.
Большое влияние на У. Йейтса оказало французское символическое движе-
ние. Однако в своих произведениях У. Йейтс использует не просто символы, а
целую систему собственных сложных символов. Как говорил сам У. Йейтс:
«Символ – это, возможное выражение в действительности какой-то невидимой
сущности» [10, c. 530]. Поэт использует символы не только в денотативном, но
и также коннотативном, экспрессивном значении.
В поэзии У. Йейтса обычно встречаются символы двух видов: традицион-
ные и его собственные, например, его повторяющийся символ роза. У поэта
также просматриваются такие ключевые символы, как птица, башня, танец,
камень, вода, которые проливают свет на остальные стихотворения и более
полно раскрывают их смысл.
Символ танца тесно связан с системой У. Йетса и часто используется в его
поэзии. С одной стороны это придает смыслу узорчатого движения, радостной
энергии, а с другой стороны, порой, своеобразное единство и идеальное со-
стояние. Символ танца олицетворяет единство, например, в стихотворении
«Среди школьников», поэт задается вопросом: «How can we know the dancer from
the dance?» [3, с. 122].
Византия представляет собой совершенство и единство в стихах У. Йейтса.
Он чувствует, что Византия символизирует абсолютное совершенство, кото-
рого мир не знал прежде. Он верит, что все сферы жизни едины, нет раздроб-
ленности (анархии). В «Плаванье в Византию» Византия становится символом
идеального мира, свободного от времени, цикличности рождения и смерти.
Символ птицы – один из важнейших символов в стихотворениях У. Йейтса,
который поэт использовал во многих произведениях, таких как «Белые птицы»,
«Дикие лебеди в Куле», «Его Феникс», «Среди школьников», «Башня», «Леда и
лебедь», «Парк в Куле». Это яркий пример динамичной природы Йейтского
символа, который растѐт, меняется и приобретает большую глубину в своем
развитии. Птичья тематика позволила У. Йейтсу вложить глубокий смысл в ка-
ждое из этих произведений и выразить необъятный спектр чувств и эмоций, пе-
реживаемых им.
Конечно, в первую очередь в образе птиц У. Йейтс представлял себя и свою
возлюбленную Мод Гонн, с которой мечтал обрести вечную жизнь. В образе
страдающей птицы У. Йейтс видел порабощѐнную родину Ирландию, а также
символ птицы приобретает такие значения, как любовь, бессмертие и душа в
оккультных учениях, которыми был увлечѐн поэт.
В стихотворении «Башня» башня является как традиционным, так и личным
символом. Она является олицетворением одиночества, национального наследия
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
20
и жажды крови. В другом стихотворении «Молитва о дочери», башня высту-
пает в виде тѐмного будущего человечества.
Одним из наиболее ярких символов в поэзии У. Йейтса можно считать сим-
вол розы. У. Йейтс написал целую серию стихотворений о розе, включая «Розе,
распятой на кресте времен», «Таинственная роза», «Розовый куст» и «Роза
мира», а также «Влюблѐнный рассказывает о розе, цветущей в его сердце». Для
У. Йейтса роза сочетает в себе бренное и вечное. Поэту удается объединить эти
два понятия с помощью двух способов. Прежде всего, роза выступает как во-
площение красоты, ведь с давних времен роза является вечным символом пре-
красного. Однако настоящая живая роза проживает совсем короткий век. Роза
олицетворяет и женщину, как совершенное, божественное создание, так и на-
стоящую, чувственную натуру, объединяя их в одно целое. Символ «розы» У.
Йейтс, как правило, использует для обозначения земной любви, но в стихотво-
рении «Роза Мира» она также олицетворяет вечную любовь и красоту. В «Розе
Битвы» цветок служит пристанищем земной любви. Таким образом, символ
становится сложным и должен быть рассмотрен в контексте.
Камень же, наоборот, в отличие от розы, не унифицирует эти два противо-
положных понятия. Дуализм камня объясняется тем фактом, что качества, ко-
торые он воплощает: твѐрдость, устойчивость, уверенность могут быть как
положительного, так и отрицательного характера. Неподвижность камня, воз-
можно, указывает на силу или упрямство. В результате, символ камня часто по-
является в стихотворениях, где У. Йейтс борется со своим двойственным отно-
шением к политической ситуации в Ирландии. В стихотворении «Пасха 1916»,
У. Йейтс описывает камень посреди сильного бурлящего потока реки. Образно
камень также является частью дуализма; в то время как камень статичен, вода
же всѐ время находится в движении. Камень не меняет своей формы, в то время
как жидкое состояние воды позволяет ей преодолевать любые препятствия.
Символ воды мы также можем найти в стихотворениях У. Йейтса, однако,
его значение разнится. Иногда поэт использует его чтобы показать другой мир
и фокусирует своѐ внимание на живых существах, способных находиться в во-
де и в воздухе: дельфины, которые дышат воздухом, и лебеди, которые могут
летать и плавать. У. Йейтс проводит чѐткую параллель между движением воды
и воздуха и движением между жизнью и смертью. Как в «Диких лебедях в Ку-
ле», так и в «Византии» рассказчик – это пожилой человек, который восхища-
ется бессмертием водных обитателей. Если парк в Куле существует в реальной
жизни, море рядом с Византией выдумано поэтом и, соответственно, символы
этих двух стихотворений сильно разнятся. Лебеди, скользящие по воде в Куле,
олицетворяют вечность природы, а дельфины, плавающие в воображаемом мо-
ре, отсылают нас к римским мифам о том, что дельфины уносят души в загроб-
ную жизнь.
В результате проведѐнного исследования были выявлены такие основопола-
гающие образы, как: птица, роза, башня, танец, вода, камень. Анализ создан-
ной поэтом единой, цельной и многосложной системы образов помогает наи-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
21
более емко и полно интерпретировать смысл стихотворений У. Йейтса.
Изучение символической значимости образов позволяет найти ключ к по-
ниманию истинного смысла произведений, а также в полной мере раскрыть
такие основополагающие темы, как любовь, одиночество, справедливость,
свобода, демократия, красота и любовь, жизнь и смерть. Исходя из прове-
дѐнного анализа символических образов, можно сделать вывод о том, что
образная система поэзии У. Йейтса представляет сложный и многофунк-
циональный строй, который логически и последовательно определяет выра-
зительный и содержательные планы его поэзии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аверинцев С.С. Символ: краткая литературная энциклопедия: в 9 т., М.: Советская
энциклопедия, 1971. 826 с.
2. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1966. 263 с.
3. Кружков Г.М. У.Б. Йейтс: Исследования и переводы. М.: РГГУ, 2008. 122 с.
4. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995.
5. Мандельштам О.О. О поэзии. М.: Советский писатель, 1987. 64 с.
6. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтическо-
го: Избранное. М.: Прогресс, 1995. 446 с.
7. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб: РГПУ им А.И. Герцена, 2004. 639 с.
8. Флоренский П.А. Имяславие как философская предпосылка. М.: Мысль, 1986. 287 с.
9. Symons A.W. The Symbolist Movement in Literature, New York: Dutton, 1899. 29 p.
10. Yeats W.B. Magic. Ideas of Good and Evil // W.B. Yeats. Essays and Introductions.
London: MacMillan & Co LTD, 1961. 530 p.
REFERENCES
1. Averincev S.S. Simvol: kratkaya literaturnaya ehnciklopediya [Symbol: a Brief Literary
Encyclopedia]: v 9 t. M.: Sovetskaya Enciklopediya, 1971. 826 p. (in Russian).
2. Kvyatkovskij A.P. Poehticheskij slovar' [Poetic Dictionary]. M: Sovetskaya Ehnciklope-
diya, 1966. 263 p. (in Russian).
3. Kruzhkov G.M. W.B. Yeats: Issledovaniya i perevody [W.B. Yeats: Researches and Trans-
lations]. M: RGGU, 2008. 122 p. (in Russian).
4. Losev A.F. Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo [The Problem of a Symbol and
Realistic art]. M: Iskusstvo, 1995 (in Russian).
5. Mandel'shtam O.O. O poehzii [About Poetics]. M.: Sovetskij Pisatel', 1987. 64 p. (in Rus-
sian).
6. Toporov V.N. Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Issledovaniya v oblasti mifopoehticheskogo: Iz-
brannoe [Myth. Ritual. Symbol. Image. Researches in the Field of Mythopoetic: Selected
Works]. M.: Progress, 1995. 446 p. (in Russian).
7. Farino E. Vvedenie v literaturovedenie [Introduction to Literary Criticism]. SPb: RGPU
im. A.I. Gercena. 639 p. (in Russian).
8. Florenskij P.A. Imyaslavie kak filosofskaya predposylka [Imyaslaviye as a Philosophical
Prerequisite]: v 2 tomah. M.: Mysl', 1986. 287 p. (in Russian).
9. Symons A.W. The Symbolist Movement in Literature. New-York: Dutton, 1899. 29 p.
10. Yeats W.B. Magic. Ideas of Good and Evil // W.B. Yeats. Essays and Intriductions. Lon-
don: MacMillan & Co LTD, 1961. 530 p.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
22
УДК 80
О.С. Ермакова
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ [Olga S. Yermakova Metaphor as a Way of Characters’ Depiction]
This article is devoted to such means of depiction of characters in fiction as a metaphor. Meta-
phor is one of the main methods of cognition of objects of reality, their names, creation of fiction
images and generation of new meanings. It performs cognitive, nominative, fiction and meaningful
functions. Metaphor is a semantic transformation in which an image formed with respect to a class
of objects is attached to another one or to a specific representative of the class. Creation of meta-
phors and their use in fiction allows the author to create images, individual style and his / her own
vision of the world picture, and the literary work is a reflection of ideas, life experience and attitude
to the events of its author, which are reflected in symbols capable of conveying emotions.
Key words: metaphor, image, means of expressiveness, fiction, character.
В широком смысле персонаж – это действующее лицо спектакля, кино-
фильма, книги, игры и пр. Характеристика персонажа художественного произ-
ведения представляет собой процесс подачи информации о персонаже. Персо-
нажи можно разделить на вымышленных и основанных на реальных историче-
ских событиях. Ими могут быть люди, животные, сверхъестественное, мифиче-
ское, божественное или персонификации от абстракции [2, c. 14]. Такие персо-
нажи автор использует обязательно в таких жанрах, как: сказки, басни, балла-
ды, анималистская литература, научная фантастика и других произведениях [1,
c. 9]. Иногда под персонажем подразумевают второстепенное лицо. В таком
случае термин «персонаж» идентичен в узком смысле с термином «герой» –
центральным лицом или одним из центральных лиц произведения. Так и появи-
лось выражение «эпизодический персонаж» [1, c. 12]. Персонаж также может
основываться на архетипе, который будет являться его общим характеризую-
щим образом.
Одной из главных проблем в литературе является проблема создания образа
персонажа. Основным средством создания образа является создание портрета,
этот процесс достаточно сложный и не имеет однозначной трактовки. В связи с
этим основная задача исследователей заключается в изучении системы стили-
стических приѐмов и выразительных средств, именно они используются авто-
ром как для создания портрета, так и для более точного выражения содержания
художественного произведения. Литературный персонаж представляет собой
конкретную личность и в то же время обобщение, он органично входит в худо-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
23
жественное произведение и свободно движется в его рамках. Таким образом,
процесс создания образа персонажа заключается в наделении его определенны-
ми чертами характера, образа мышления и чувств, а также привлечения внима-
ния читателя к данному персонажу, его судьбе и окружающей среде.
В последние десятилетия растет интерес к изучению метафоры. Метафора
является одной из наиболее ярких средств выразительности, с помощью кото-
рой мы познаем характеры героев, уклад их жизни. Метафорические высказы-
вания в художественном тексте связаны с выражением индивидуального вос-
приятия окружающего мира. Метафора является также выражением внутренних
переживаний героев. Для читателя крайне важно увидеть эти переживания.
Основу художественного творчества составляет эстетический принцип: ис-
кусство – это познавательно-оценочное отражение действительности. Особен-
ностью художественного текста является тот факт, что он представляет собой
художественно измененную замыслом автора реальность, наполненную содер-
жанием и эстетическим смыслом. Таким образом, художественное произведе-
ние – это отражение объективной реальности, какой еѐ воспринимает и видит
автор. Художественное отражение включает в себя отношение художника к
изображаемому, выражение его чувств, суждений и различных ценностных ус-
тановок. Основная цель художественных произведения – достижение опреде-
лѐнного эстетического воздействия и создание необходимого художественного
образа. Художественный образ – это одно из самых великих достижений язы-
ковой сущности, которая позволяет с большей эмоционально-экспрессивной
достоверностью и эффективностью передать с помощью них замысел и своѐ
собственное отношение к изображаемым событиям [3, c. 78].
Заложенные в метафорическом переносе те или иные когнитивные пред-
ставления о действительности реализуются в определѐнных языковых формах,
которые обладают в предложении определѐнным эмоциональным, семантиче-
ским, стилистическим и информационным статусами и собственными функ-
циональными характеристиками.
Метафора появляется при уподоблении одного явления другому на базе се-
мантической близости состояний, действий или свойств, которые характеризу-
ют данные явления. С формальной точки зрения, метафорический перенос за-
ключен в употреблении лексемы (словосочетания или предложения), предна-
значенного для обозначения одних объектов действительности, для наименова-
ния или характеристики других объектов на основании условного тождества
приписываемых им признаков.
Метафоры – это не просто сущности, благодаря которым можно увидеть ха-
рактер или свойство предмета. Способность понимать смысл с помощью мета-
форы – это как одно из чувств, как видение, осязание или слух; обращение к
метафорам остается единственным способом восприятия и осознания в опыте
большей части действительности. Метафора – такая же важная и ценная часть
нашей жизни, как, например, обоняние. Внутреннее состояние героя может
быть передано с помощью различных средств выразительности, однако мета-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
24
фора наиболее полно выражает данные состояния. Метафора – это способ вы-
ражения чувственных состояний героя. Метафора создаѐт ѐмкий образ и помо-
гает читателю как бы домыслить состояние героя. При этом любой автор до-
вольно часто обращается к данному приѐму, потому как метафора придаѐт про-
изведению определѐнный колорит, метафора – это мастерство владения языка
автора [4, c. 76].
Внутренние состояния героя – это его переживания, его миропорядок. Сюда
можно отнести радость, боль, гнев, чувство стыда, одиночества, зависти, нена-
висти, т.е. те чувства, которые испытывает человек в различных ситуациях. И
данные внутренние состояния выражают метафоры. Метафоры, которые пере-
дают одновременно и внутреннее состояние героя, и его место в мире. А как
передаѐт данные образы поэт или писатель в своих произведениях – это вопрос
таланта и профессионализма творческих людей [4].
Метафора занимает важное место среди основных средств характеристики
героев пьесы. Так, например, с помощью метафоризации автор может предста-
вить поступок, определив, таким образом, характер персонажа; также могут
представлять интерес и собственные метафорические высказывания героя. При
этом естественно, что почти все персонажи в своей речи употребляют метафо-
ру, поэтому оговоримся сразу, что наша цель не связана с выявлением всех без
исключения метафор пьесы. Наша задача – проследить связи метафор на всех
уровнях поэтики произведения, поэтому мы упоминаем лишь о тех случаях ме-
тафорического словоупотребления, которые имеют отношение к характеристи-
ке героев пьесы. Из этого следует, что проанализировать мы можем не все ха-
рактеры пьесы, а лишь те из них, в отношении которых ярче всего проявлен
процесс метафоризации.
Таким образом, создание метафор и их использование в художественных
произведениях позволяет автору создавать образы, индивидуальный стиль и
собственное видение картины мира, а литературное произведение является от-
ражением идей, жизненного опыта и отношения к событиям его автора, кото-
рые отражаются в символах, способных передать эмоции. Данные символы и
эмоции автор располагает в известном только ему порядке и ритме. Именно
ритм придаѐт особую важность описанным идеям и чувствам, высказанным
словами, к тому же создаѐт иллюзию, что-то, о чѐм мы читаем, живѐт своей
жизнью во времени и является важным компонентом художественного време-
ни. Отсюда можно сделать вывод, что и метафора, и эпитет, и метонимия спо-
собны помочь автору создать тот художественный образ, который он задумал, и
воплотить его в жизнь.
ЛИТЕРАТУРА
1. Рамазанова Л.Г. Метафора в публицистическом тексте (на материале произведений
А.Н. Толстого). Махачкала: ДГПУ, 2004. 172 с.
2. Сибиряков И.В. Метафора: гносеологический статус, механизмы реализации и роль в по-
знании. Челябинск: ЧГУ, 2005. 142 с.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
25
3. Хыонг Ч.Т. Метеорологическая метафора в русской языковой картине мира. Воронеж:
ВГУ, 2011.
4. Ярославцева М.В. Темпоральные метафоры в языковых картинах мира носителей русского
и испанского языков. Краснодар: КГУ, 2011. 156 с.
REFERENCES
1. Ramazanova L.G. Metafora v publicisticheskom tekste (na materiale proizvedenij A.N. Tolsto-
go) [Metaphor in the Publicistic Text (on the material of A.N. Tolstoy‟s Works)]. Mahachkala:
DGPU, 2004. 172 p. (in Russian).
2. Sibirjakov I.V. Metafora: gnoseologicheskij status, mehanizmy realizacii i rol' v poznanii [Meta-
phor: its Gnoseological Status, Mechanisms of Realization and Role in Knowledge]. Chelja-
binsk: ChGU, 2005. 142 p. (in Russian).
3. Hyong Ch.T. Meteorologicheskaja metafora v russkoj jazykovoj kartine mira [Meteorological
Metaphor in the Russian Language Picture of the World]. Voronezh: VGU, 2011 (in Russian).
4. Jaroslavceva M.V. Temporal'nye metafory v jazykovyh kartinah mira nositelej russkogo i is-
panskogo jazykov [Temporal Metaphors in Language Pictures of the World of Carriers of the
Russian and Spanish Languages). Krasnodar: KGU, 2011. 156 p. (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
26
УДК 81
В.Р. Канеева
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»,
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Л.В. Гущина
кандидат филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ОТРАЖЕНИЕ ПЕРЕЛОМНЫХ МОМЕНТОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ-ЭВФЕМИЗМАХ
(на материале современных англоязычных кинотекстов) [Lyudmila V. Gushchina, Valeriya R. Kaneeva Reflection of Turning Points in Human Life in
English Phraseological Units-Euphemisms (in modern English film texts)]
The aim of the study is to consider the way certain phraseological euphemisms are used to de-
scribe rites of passage in English films. By comparing and contrasting spoken samples of euphem-
isms with the list of those extracted from lexicographic sources we came to the conclusion that the
phraseological units revealed in the film texts are used with varied frequency, and, besides, not all
of them registered in lexicographic sources are used in the speech of film characters.
Key words: rites of passage, phraseological unit, euphemism; phraseological euphemism, film
text.
Киноискусство прекрасно отражает действительность, отличаясь при этом
синтетичностью, ведь в нѐм соединены одновременно качества литературы и
театра, изобразительного искусства и музыки. Ему свойственно многообразие
выразительных средств.
Таким образом, киноискусство показывает жизнь человека, в которой есть и
радости и печали и, естественно, поэтому в фильмах нередко затрагиваются те-
мы или ситуации, которые по каким-либо причинам могут оскорбить или за-
деть чувства других людей. Например, упоминание каких-либо заболеваний,
смерти, беременности, намѐк на неприличные наименования, а также многое
другое. Такие темы могут породить конфликт. Поэтому во избежание подобно-
го конфликта в фильмах зачастую используются эвфемизмы.
Так как фильмы характеризуются не только предметно-логическим содер-
жанием, но и несут в себе экспрессивную, эмоциональную, оценочную и эсте-
тическую информацию, то в них нередко встречаются не просто эвфемизмы, а
именно фразеологические эвфемизмы, которые выступают основным языковым
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
27
явлением, представляющим предмет нашего исследования. Фразеологические
эвфемизмы позволяют более ярко и образно показать эмотивно-оценочное от-
ношение говорящего к определѐнной системе ценностей, а также отражают из-
менения в понимании какого-то конкретного общественного явлении. Фразео-
логические эвфемизмы также могут рассматриваться как явление, участвующее
в создании национальной картины мира.
Данное исследование посвящено анализу английских фразеологизмов-
эвфемизмов переломных моментов жизни человека (ритуалов перехода) на ма-
териале англоязычных кинотекстов.
Фразеологизмы-эвфемизмы вызывают значительный исследовательский ин-
терес. Их применение зависит от речевых ситуаций, социальных статусов ком-
муникантов, типа культуры, психологии нации, а также ценностных и нравст-
венных установок общества, так как фразеологизмы-эвфемизмы являются ва-
риативными средствами языка [9, с. 65].
Фразеологизм – это раздельнооформленная единица языка, которая соотно-
сится по общим и частным семантическим и грамматическим свойствам со сло-
вом определѐнной части речи и, являясь раздельнооформленной единицей язы-
ка, выражает единое целостное понятие [1, с. 4].
Фразеологическая эвфемизация – это замена слов и выражений, грубых, не-
приемлемых по той или иной причине, фразеологическими единицами более
мягкой или завуалированной номинации [9, с. 67].
В процессе работы нами были рассмотрена ритуальная культура в целом,
переломные моменты (ритуалы перехода) в жизни человека, а также кинотекст
и ритуалы перехода в кинотекстах как повод для применения фразеологических
эвфемизмов. Под ритуалом мы понимаем традиционный порядок проведения
какой-либо символической церемонии, выражающий связь субъекта с системой
религиозных, психологических, социальных и этнокульттуных и ценностей. В
ритуале отражаются религиозные, психологические, социальные аспекты. Так-
же ритуал имеет этнокультурное значение. Переломный момент (ритуал пере-
хода) – это традиционный порядок проведения какой-либо символической це-
ремонии, обозначающей переход индивида или группы людей в новую соци-
альную категорию и приобретение ими нового социального статуса [7, с. 6].
Кинотекст – это связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное
при помощи вербальных (лингвистических) знаков, несущее в себе определѐн-
ный смысл, заложенный его автором, зафиксированное на материальном носи-
теле и предназначенное для воспроизведения на экране в виде текста, представ-
ляющего реплики персонажей, определяемые обстоятельствами, в которых пер-
сонажи находятся и действуют, в рамках какого-либо фильма [10, с. 153].
Фильмы часто освещают тему ритуалов перехода. Так, в кинотекстах погре-
бальные церемонии (тема смерти), свадебные церемонии, беременность и роды
подвергаются фразеологической эвфемизации (далее – ФЭ). Мы рассматриваем
поэтапно ФЭ ритуалов отделения (погребальные церемонии, тема смерти), ФЭ
ритуалов включения (свадебные церемонии) и ФЭ промежуточных ритуалов
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
28
(беременность и роды), найденные в десяти выбранных нами англоязычных ки-
нотекстах.
В качестве источника материала нами было отобрано пятнадцать англоя-
зычных кинотекстов, объединѐнных по принципу наличия в них упоминаний
темы «ритуалы перехода», а именно: «The Remains of the Day», «And When Did
You Last See Your Father», «The Bucket List», «Submarine», «Autumn in New
York», «27 Dresses», «My Best Friend's Wedding», «500 Days of Summer», «The
Princess Diaries 2: Royal Engagement», «The Proposal», «Juno», «The Back-up
plan», «Knocked up», «Nine Months», «Chocolat».
В результате выявления методом сплошной выборки из указанных выше
кинотекстов нами были получены группы фразеологических эвфемизмов ри-
туалов отделения, включения промежуточных ритуалов.
Из отобранных 33 единиц фразеологических эвфемизмов ряд ФЭ оказался
наиболее частотным при упоминании соответствующих ситуаций: как to go to
heaven (отправиться на небеса), так и to tie the knot (связать себя узами брака)
используется в речи персонажей в трѐх разных фильмах, to pass away (скон-
чаться), to have a baby (иметь ребѐнка) и better half (чья-то лучшая часть,
вторая половинка) используется в речи персонажей в двух разных фильмах.
Сопоставительный анализ ФЭ из лексикографических источников и ФЭ из
кинотекстов приводит нас к выводу о том, что, относительно общего изучаемо-
го списка фразеологических эвфемизмов, не все ФЭ, выявленные в кинотек-
стах, используются с одинаковой степенью частотности и, кроме того, не все
зарегистрированные в лексикографических источниках ФЭ по изучаемой теме
представлены в речи киноперсонажей.
Итак, для более образной и завуалированной передачи информации в филь-
ме, в кинотекстах используются фразеологические эвфемизмы. Использование
последних позволяет отразить экспрессивную, эмоциональную, оценочную и
эстетическую информацию о ритуалах перехода, поскольку о них невозможно
говорить безразлично, необходимо отразить эмоции и оценку говорящего.
Таким образом, стилистическая функция фразеологизмов-эвфемизмов по-
зволяет наиболее полно отразить явление ритуалов перехода в кинотекстах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963. C. 205.
2. Ахманова О.С. Эвфемизм // Словарь лингвистических терминов. М, 1969.
3. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисципли-
ны (1946) // В.В. Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
С. 312–314.
4. Вострикова О.В. К вопросу о систематизации лексических эвфемизмов // Вестник Мос-
ковского городского педагогического университета. 2008. №1. С. 41–47.
5. Кунин А.В. Английская фразеология (теоретический курс). М., 1996. С. 381–405.
6. Лесниковская И.В. Эвфемизмы в современном английском и русском языках // Вестник
Московского государственного областного гуманитарного института. 2012. №1. С. 59.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
29
7. Мадюкова С.А. Обряды жизненного цикла: о социально-философском содержании кон-
цепта // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2008. Т.6. Вып. 3. С. 1–6.
8. Миронина А.Ю. Эвфемизмы: источники возникновения и особенности функционирования
в современной речи. СПб, 2010. С. 191–200.
9. Ройзензон Л.И., Ройзензон С.И. Эвфемизация в области фразеологии. Самара: СНТ Сам-
ГУ, 1980. С. 62–68.
10. Слышкин Г.Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). М.: Водолей
Publishers, 2004. С. 153.
11. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразео-
логического состава в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М.,
1999. С. 14.
12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов // http-
://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php (доступно на 15.12.2017).
13. Словарь иностранных слов // http://slov.h1.ru (доступно на 14.05.2016).
14. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1969. С. 418–521.
15. Cambridge Advanced Learner's Dictionary // http://dictionary.cambridge.org/ru/.
16. Holder R.W. A Dictionary of Euphemisms // How not to say what you mean. Oxford: Oxford
University Press, 2008.
17. The Oxford Concise Dictionary of Linguistics Online // https://www.google.ru/url (доступно
на 15.12.2017).
18. Urban Dictionary Online // http://ru.urbandictionary.com (доступно на 15.12.2017).
REFERENCES
1. Amosova N.N. Osnovy anglijskoj frazeologii [Theoretic Basis of English Phraseology]. L., 1963.
P. 205 (in Russian).
2. Ahmanova O.S. Jevfemizm [Euphemism] // Slovar' lingvisticheskih terminov [Dictionary of Lin-
guistic Terms]. M., 1969 (in Russian).
3. Vinogradov V.V. Osnovnye ponjatija russkoj frazeologii kak lingvisticheskoj discipliny (1946)
[Basic Concepts of the Russian Phraseology as Linguistic Discipline (1946)] // V.V. Vinogradov.
Izbrannye trudy. Leksikologija i leksikografija [V.V. Vinogradov. Selected Works. Lexicology
and Lexicography]. M., 1977. Pp. 312–314 (in Russian).
4. Vostrikova O.V. K voprosu o sistematizacii leksicheskih jevfemizmov [To the Question of Sys-
tematization of Lexical Euphemisms] // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo
universiteta [Bulletin of Moscow City Pedagogical University]. 2008. №1. Pp. 41–47 (in Rus-
sian).
5. Kunin A.V. Anglijskaja frazeologija (teoreticheskij kurs) [English Phraseology (Theoretical
Course)]. M., 1996. Pp. 381–405 (in Russian).
6. Lesnikovskaja I.V. Jevfemizmy v sovremennom anglijskom i russkom jazykah [Euphemisms in
Modern English and Russian Languages] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo
gumanitarnogo institute [Bulletin of Moscow State Regional Humanitarian Institute]. 2012. №1.
P. 59 (in Russian).
7. Madjukova S.A. Obrjady zhiznennogo cikla: o social'no-filosofskom soderzhanii koncepta [Ce-
remonies of Life Cycle: about the Social and Philosophical Maintenance of the Concept] // Vest-
nik NGU. Serija: Filosofija [Bulletin of NSU. Series: Philosophy.]. 2008. T.6. Vyp. 3. Pp. 1–6
(in Russian).
8. Mironina A.Ju. Jevfemizmy: istochniki vozniknovenija i osobennosti funkcionirovanija v sovre-
mennoj rechi [Euphemisms: Sources of Emergence and Specifics of Functioning in the Modern
Speech]. SPb, 2010. Pp. 191–200 (in Russian).
9. Rojzenzon L.I., Rojzenzon S.I. Jevfemizacija v oblasti frazeologii [Euphemization in Phraseolo-
gy]. Samara: SNT SamGU, 1980. Pp. 62–68 (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
30
10. Slyshkin G.G. Kinotekst (opyt lingvokul'turologicheskogo analiza) [Filmtext (the Experience of
Linguistic and Cultural Analysis)]. M.: Vodolej Publishers, 2004. P. 153 (in Russian).
11. Telija V.N. Pervoocherednye zadachi i metodologicheskie problemy issledovanija frazeologi-
cheskogo sostava v kontekste kul'tury [Priorities and Methodological Problems of a Research
of Phraseological Structure in the Context of Culture] // Frazeologija v kontekste kul'tury
[Phraseology in the Context of Culture]. M., 1999. P. 14 (in Russian).
12. Rozental' D.Je., Telenkova M.A. Slovar'-spravochnik lingvisticheskih terminov [Dictionary
Reference of Linguistic Terms] // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/-
index.php (accessed 15.12.2017) (in Russian).
13. Slovar' inostrannyh slov [Dictionary of Foreign Words] // http://slov.h1.ru/ (accessed
14.05.2016) (in Russian).
14. Slovar' lingvisticheskih terminov [Dictionary of Linguistic Terms]. M.: Sov. jenciklopedija,
1969. Pp. 418–521 (in Russian).
15. Cambridge Advanced Learner's Dictionary // http://dictionary.cambridge.org/ru/ (accessed
15.12.2017).
16. Holder R.W. A Dictionary of Euphemisms // How not to say what you mean. Oxford: Oxford
University Press, 2008.
17. The Oxford Concise Dictionary of Linguistics Online // https://www.google.ru/url (accessed
15.12.2017).
18. Urban Dictionary Online // http://ru.urbandictionary.com (accessed 15.12.2017).
УДК 81.37
Н.Н. Кислицына
кандидат филологических наук, доцент
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия
Е.В. Селезнѐва
магистр
Крымского федерального университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия
ПОНЯТИЕ ТЕМПОРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ [Natalya N. Kislitsyna, Elizaveta V. Selezneva The Concept of Temporal
Semantics in Linguistics]
The research is devoted to the analysis of the approaches to the study of temporal semantics in
linguistics. The article is focused on the analytical analysis of the scientific works devoted to the
study of the ways of the verbalization of the category of temporality. The importance of temporal
semantics in aspect of its functioning in a number of scientific disciplines is described.
Key words: semantics, temporal semantics, category of time, temporal signs, concept.
Темпоральная семантика языковых единиц связана с универсальной катего-
рией времени. «Время выступает не только в виде отвлеченно-теоретической,
чисто познавательной «академической» проблемы, но затрагивает реальное су-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
31
ществование человека» [2, с. 49]. Значимость изучения способов выражения ка-
тегории времени в языке обусловливает актуальность данной работы.
Целью статьи является описание основных средств выражения значения
времени в языке. Рассмотрению темпоральной семантики языковых единиц
предшествует определение содержания понятия «семантика»; темпоральная
семантика представлена не только как лингвистический феномен, но и в аспек-
те еѐ изучения другими дисциплинами.
Семантика, в силу своей природы, является междисциплинарным образова-
нием. Будучи разделом формальной логики, она определяет отношения между
выражениями и их интерпретациями в современном мире. Как раздел лингвис-
тики, семантика объясняет, как человек передаѐт информацию о мире
(Дж. Катц, Дж. Фодор, Р. Джэкендофф).
Одним из важных направлений, активно разрабатываемых современными
лингвистами, является темпоральная семантика. Данная категория определяет
реализацию временных отношений в языке. Как справедливо заметила
В.И. Казарина: «Темпоральная семантика является основополагающим компо-
нентом содержательной структуры высказывания, который характеризует его
соотнесѐнность с объективным миром в реально существующем физическом
времени, воспринимаемом человеком в отдельных «моментах, промежутках»
[3, с. 5].
Проблема вербализации категории времени – одна из самых актуальных не
только в лингвистике, но и в других науках. В ней переплетены многие фунда-
ментальные вопросы логико-философского характера (М.С. Каган) и когнитив-
ной лингвистики (А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова). В языкознании темпораль-
ность является объектом исследования как грамматического (традиционного),
так и семантического, коммуникативного и семантико-функционального на-
правлений (В.Е. Глызина, Т.И. Дешериева, М.А. Кронгауз, Е.В. Рахилина).
В работах А.В. Бондарко, категория темпоральности характеризуется как
«функционально-семантическая категория, выражающая сущность физического
и философского аспектов времени, реализуемая различными языковыми сред-
ствами репрезентации времени: совокупностью грамматических, лексических и
комбинированных средств, т.е. категория темпоральности представляет собой
целостную систему лексических, морфологических, синтаксических маркеров»
[1, c. 67].
Категория темпоральности включает в себя многообразные лексические со-
единения, одновременно с грамматическими формами категории времени и
синтаксическими структурами. Исследователь видит темпоральность как «сеть
отношений», которая связывает «языковые элементы, включающиеся в переда-
чу временных отношений и объединѐнные функциональной и семантической
общностью» [6, c. 86].
В работах Н.Д. Арутюновой объектом исследования являются лексические
средства выражения категории темпоральности как самостоятельной единицы.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
32
В аспекте нашего исследования, обращают на себя внимание работы
Н.С. Поспелова и О.А. Нечаевой, которые в своих исследованиях подробно
описали грамматические средства выражения темпоральности.
Так, Н.С. Поспелов считал, что грамматическая категория времени от-
ражает объективное время непосредственно: «Время действия в его абстра-
гированном от конкретного содержания значении, устанавливается благода-
ря отражению действительности в языке» [цит по: 7, с. 76]. Как справедливо
заметила О.А. Нечаева: «Видовременные формы глагольных предикатов яв-
ляются грамматическим способом выражения темпоральности в описании
типов речи. Значение синхронности существования признаков описываемо-
го объекта выражается глаголами в форме настоящего, прошедшего или бу-
дущего времени несовершенного вида, а также формой глаголов совершен-
ного вида в перфектном значении. Необходимым также представляется изу-
чение лексической темпоральности в единстве с пространственной характе-
ристикой как модельным свойством описательного текста» [цит. по: 5, с.
10].
Как отмечает Н.Н. Кислицына «становление когнитивного направления
в лингвистике способствовало формированию новых перспектив и для клас-
сических языковедческих наук. Так, в частности изучение семантики языко-
вых единиц вышло в новую плоскость, в которой взаимодействуют значе-
ние и смысл, представление и образ, слово, понятие и концепт» [4, с. 98].
Следует отметить, что темпоральность является одним из неотъемлемых
параметров концепта. В лингвокультурологии темпоральный концепт рас-
сматривается как основная единица культуры. Чтобы описать данный кон-
цепт необходимо применить большое количество исследовательских подхо-
дов. В их состав входят семиотический, структурный, типологический и
лингво-когнитивный подходы. Семиотический подход основывается на про-
тивопоставлении прагматики, семантики и синтактики как основных знако-
вых сторон. Структурный подход состоит из согласования временного при-
знака глагола с соответствующими признаками на уровне предложения и
целостного контекста высказывания. Типологический подход характеризу-
ется определением типов представления темпоральности в категориальных
системах языков. Использование данных подходов даѐт возможность опре-
делить главные темпоральные признаки: измеряемость, линейность, вектор-
ную направленность.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что категория вре-
мени или темпоральности является одной из ведущих категорий в совре-
менной лингвистике. Категория темпоральности может быть выявлена на
всех уровнях языка – словообразовательном, лексическом, морфологиче-
ском и синтаксическом. К основным средствам выражения значения време-
ни в языке относятся лексемы и грамматические конструкции.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
33
ЛИТЕРАТУРА
1. Бондарко А.В., Беляева Е.И. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Мо-
дальность. Л.: Наука, 1990. 263 с.
2. Глызина В.Е. Темпоральный признак в семантике имени существительного // Когнитив-
ный анализ слова. М.: ЛЕНАНД, 2017. 216 с.
3. Казарина В.И. К вопросу о темпоральной семантике модификатора должен // Вестник
Томского государственного университета. Томск: ТГУ, 2017. 231 с.
4. Кислицына Н.Н., Норец Т.М. Семантико-когнитивный анализ концепта «работа» (на мате-
риале английского, французского, украинского и русского языков) // Studia Linguistica.
Збірник наукових праць. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2012. Вип. 6. Частина 2.
С. 98–106.
5. Русакова Н.В. Темпоральные (лексические) и референциальные свойства текста типа
«описание». Улан-Уде: Бурятский Государственный Университет, 2006. С. 164.
6. Тураева З.Я. Лингвистка текста: (Текст: структура и семантика). М.: Просвещение, 1986.
127 с.
7. Шарифзаде К.Л. Выражение грамматической категории времени и объективного времени
в простом предложении. М.: Университет Дружбы Народов, 2014. 81 с.
8. Широбокова Л.П. «Темпоральность» как объект лингвистического исследования. Курск:
Провинциальные научные записки, 2015. С. 123.
REFERENCES
1. Bondarko A.V., Beljaeva E.I. Teorija funkcional'noj grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'
[The Theory of Functional Grammar. Temporality. Modality]. L.: Nauka, 1990. 263 p. (in Rus-
sian).
2. Glyzina V.E. Temporal'nyj priznak v semantike imeni sushhestvitel'nogo [A Temporal Sign in
Semantics of the Noun] // Kognitivnyj analiz slova [The Cognitive Analysis of the Word]. M.:
LENAND, 2017. 216 p. (in Russian).
3. Kazarina V.I. K voprosu o temporal'noj semantike modifikatora dolzhen [On the Question of
Temporal Semantics of the Modifier] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bul-
letin of Tomsk State University]. Tomsk: TGU, 2017. 231 p. (in Russian).
4. Kislitsyna N.N., Norets T.M. Semantiko-kognitivnyj analiz koncepta «rabota» (na materiale an-
glijskogo, francuzskogo, ukrainskogo i russkogo jazykov) [Semantico-cognitive Analysis of the
Concept “Work” (on the Basis of the English, French, Ukrainian and Russian languages] // Stu-
dia Linguistica. Zbіrnik naukovih prac'. Kiїv: VPC «Kiїvs'kij unіversitet». 2012. Vip. 6. Chastina
2. Pp. 98–106 (in Russian).
5. Rusakova N.V. Temporal'nye (leksicheskie) i referencial'nye svojstva teksta tipa «opisanie»
[Temporal (Lexical) and Referential Properties of the Text like “Description”]. Ulan-Ude: Bur-
jatskij Gosudarstvennyj Universitet, 2006. P. 164.
6. Turaeva Z.Ja. Lingvistka teksta (Tekst: struktura i semantika) [Linguistics of the Text (Text:
Structure and Semantics)]. M.: Prosveshhenie, 1986. 127 p. (in Russian).
7. Sharifzade K.L. Vyrazhenie grammaticheskoj kategorii vremeni i ob"ektivnogo vremeni v pros-
tom predlozhenii [Expression of Grammatical Category of Time and Objective Time in Simple
Sentences]. M.: Universitet Druzhby Narodov, 2014. 81 p. (in Russian).
8. Shirobokova L.P. «Temporal'nost'» kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovanija [“Temporality”
as the Object of Linguistic Research]. Kursk: Provincial'nye nauchnye zapiski, 2015. P. 123
(in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
34
УДК 81.42
Е.О. Костромина
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ФУНКЦИИ ЦВЕТОВЫХ ЭПИТЕТОВ В ЖАНРЕ ФЭНТЕЗИ [Yekaterina O. Kostromina Functions of Colour Terms in the Genre of Fantasy]
The relevance of this work is caused by the necessity of studying the role of color terms in the
creation of landscape and portrait descriptions in the genre of fantasy. The purpose of the study is to
identify the list of color terms typical for portrait and landscape descriptions and to establish the
functions of color terms in the fantasy genre. The study is based on the series of works by
J.R.R Tolkien “The Lord of the Rings”. The author comes to the conclusion that writers of the genre
of fantasy are lingua-creative. They use color term to create vivid and memorable images of
characters and landscapes.
Key words: fantasy, colour term, portrait, landscape, function.
Жанр фэнтези, сложившийся в начале XX в., сегодня является одним из са-
мых популярных и интересных творений культуры. Писатели-фантасты, рабо-
тающие в этом жанре, создают особый, параллельный реальности мир, где игра
воображения нарушает законы реального мира, и господствуют чудо и волшеб-
ство. Важную роль в создании этого мира играют пейзажные и портретные
описания, которые насыщены цветовыми эпитетами, придающими необычай-
ную яркость повествованию и повышающими его эстетическую ценность.
При построении художественного текста подбор цветовых эпитетов играет
большую роль, они передают своеобразие стиля автора, его творческую инди-
видуальность и неповторимое мировоззрение [2, с. 4]. Цветовая семантика слов
влияет на первоначальную номинацию языковой единицы, придавая ей допол-
нительную информацию, принуждая еѐ вступить в сложные взаимоотношения
между другими словами, составляющими текста. Каждая отдельная единица
цвета в определѐнном тексте выполняет свою функцию.
Цель нашего исследования состоит в выявлении инвентаря цветообозначе-
ний, типичного для портретных и пейзажных описаний в жанре фэнтези, и ус-
тановлении функций данных цветообозначений. Материалом исследования по-
служила серия произведений Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец».
Прежде всего остановимся более подробно на том, для описания каких
предметов и явлений Дж.Р.Р. Толкин употребляет тот или иной цвет в произве-
дении.
Золотой цвет используется для описания существ таинственного мира фэн-
тези (драконов, орков, гномов, животных), одежды и еѐ элементов, внешности
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
35
(глаз, волос, черт лица), музыкальных инструментов, украшений, природных
явлений (дождя, грозы, солнца), растительности (лесов, болот, лужаек, цветов),
времени суток (рассвета, заката), сезонов года (осени, лета), домов. Например:
A golden afternoon of late sunshine lay warm and drowsy upon the hidden land be-
tween [5, с. 150]. Золотой цвет используется для описания осеннего полдня.
Красный цвет используется для описания важных для повествования
предметов, внешности (глаз, волос, черт лица), одежды и еѐ элементов,
природных явлений (дождя, грозы, солнца), растительности (лесов, болот,
лужаек, цветов), сезонов года (осени), времени суток (рассвета, заката),
пламени. Например: Frodo went forward and nearly bumped into a short fat man
with a bald head and a red face [5, с. 200]. В данном примере красный цвет
используется для описания румянца.
Зелѐный цвет используется для описания внешности (глаз), одежды и еѐ
элементов, растительности (лесов, болот, лужаек), насекомых (жуков, бабочек),
гор, земли, лучей солнца, драгоценных камней и пламени. Например: The sun
was shining, and the grass was very green [4, с. 6]. Использование цветового
эпитета в сочетании с наречием «very» помогает нам представить насыщенный
зелѐный цвет травы.
Серый цвет используется для описания существ таинственного мира
фэнтези (драконов, орков, гномов, животных), одежды и еѐ элементов,
природных явлений (грома, тумана, облаков, дождя, солнца), растительности
(лесов, болот, лужаек), гор, скал, потоков воды, времени суток, мира.
Например: The leaves of trees were glistening, and every twig was dripping; the
grass was grey with cold dew [5, с. 144]. В данном примере цветообозначение
«grey» использовано для описания грустного осеннего пейзажа.
Белый цвет используется для описания растительности (лесов, цветов),
природных явлений, осадков и связанных с ними времѐн года (туман, снег,
ветер), внешности (волос, черт лица, частей тела), одежды и еѐ элементов,
животных (лошадей), звѐзд, луны, солнца, зданий, также для описания
значимых для произведения мест и героев. Например: But see how the White
Mountains are drawing near under the stars… Gandalf is the White now… He was
Saruman the White [6, с. 770]. Оба героя Gandalf и Saruman – добрые
волшебники, и цветовой эпитет «white» подчѐркивает, что они используют
магию ради благих целей.
Чѐрный цвет используется для описания одежды и еѐ элементов, внешности
(глаз, волос, бороды, черт лица, частей тела), неба, оружия, времени суток, гор,
скал, утѐсов, деревьев, дыма, животных (белок, лошадей, волков, птиц),
различных рас и групп героев, представленных в произведении (орков, чѐрных
всадников). Например: Standing near was a huge man with a thick black beard and
hair, and great bare arms and legs with knotted muscles [4, с. 291].
Чѐрный цвет волос и бороды наряду с другими деталями внешности способ-
ствует созданию образа мрачного великана. Мрачность героя достигается путѐм
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
36
описания, в котором яркие цвета отсутствуют, а доминантными являются чѐр-
ные и серые краски.
Синий цвет используется для описания одежды и еѐ элементов, внешности
(глаз), неба, воды. Например: Dead silence was around him, and over all hung a
clear blue sky, as the Sun rode up from the East [5, с. 370]. Чистое голубое небо
способствует созданию пейзажного описания, подчѐркивающего одиночество
героя.
Серебристый цвет используется для описания одежды и еѐ элементов,
деревьев. Например: It was smooth and grass clad inside, and there were no trees
except three very tall and beautiful silver-birches that stood at the bottom of the bowl
[6, с. 625]. В данном примере автор использует цветообозначение «silver»,
чтобы подчеркнуть их уникальность и ценность, наделяя деревья свойствами
драгоценного металла.
Жѐлтый и оранжевый цвет используется для описания одежды и еѐ
элементов, внешности (глаз, волос), растительности (лесов, болот, лужаек),
солнца (лучей), сезонов года. Например: They halted under an elm tree: its leaves
though fast turning yellow were still thick… [5, с. 117]. Жѐлтый цвет участвует в
создании осеннего пейзажа.
Алый и пурпурный цвет используется для описания одежды и еѐ элементов,
огня. Например: It spouted green and scarlet flames [5, с. 36]. Алый цвет помогает
изобразить пламя. Его сочетание с зелѐным цветом придаѐт описанию
необычность и способствует созданию яркого цветового пятна.
Коричневый цвет используется для описания одежды и еѐ элементов, внеш-
ности (глаз, волос, частей тела), ягод. Например: His brown hand still clutched
the hilt of a broken sword [6, с. 864].
В большинстве случаев цветообозначения употребляются в портретных и
пейзажных описаниях, что обусловливает необходимость изучения их функций
на материале именно данных описаний.
Цветообозначения выполняют различные функции в портретных описани-
ях жанра фэнтези.
Основной функцией для портрета является оценочно-характеризующая
функция. С помощью портретного описания читатель может наглядно пред-
ставить себе, как выглядит тот или иной персонаж, и понять, является ли он по-
ложительным или отрицательным. Например: The light in his eyes was like a
green flame as he sped back to murder the hobbit and recover his 'precious' [5,
с. 16]. Так, в примере представлено описание героя, который готов к убийству.
Его злые намерения отражаются в недобром зелѐном блеске его глаз. (Положи-
тельный герой создаѐтся с помощью собирательного образа. Здесь имеет боль-
шое значение описание одежды, внешности, и даже настроение героев).
Then they hung up two yellow hoods and a pale green one, and also a sky-blue
one with a long silver tassel. Their faces were good-natured rather than beautiful,
broad, bright eyed, red-cheeked, with mouths apt to laughter [4, с. 12]. С помощью
целой гаммы цветов автор рисует ярких, весѐлых, добрых героев.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
37
Портрет в жанре фэнтези часто выполняет семиотическую функцию, при
которой элементы внешности героев становятся определѐнными символами
[3, с. 39].
Так, например, персонаж, одетый в серый или чѐрный длинный плащ с ка-
пюшоном, вызывает ощущение опасности, страха, скрытности: He had a tall
pointed blue hat, a long grey cloak, a silver scarf over which his long white beard
hung down below his waist, and immense black boots [4, с. 6]. В одежде волшебни-
ка Гэндальфа преобладают оттенки серого цвета, которые в сочетании с чѐрным
цветовым пятном создают атмосферу таинственности вокруг героя.
В ходе развития сюжета Гэндальф Серый, сражаясь с Балрогом (тѐмным ду-
хом) падает в пропасть и умирает, но так как путешествие ещѐ не окончено,
высшие силы его воскрешают и он становится Гэндальфом Белым: I am
Gandalf, Gandalf the White, but Black is mightier still [6, с. 652]. Белый цвет явля-
ется символом светлых сил, добра на контрасте с чѐрным, который символизи-
рует зло.
Цветовые эпитеты также выполняют психологическую функцию, переда-
вая эмоции испытываемые персонажем. Приведѐм пример: «Revenge!» he
snorted, and the light of his eyes lit the hall from floor to cekiling like scarlet
lightning [4, с. 262]. В данном примере глаза героя пылают красным огнѐм от
гнева и ярости.
Итак, основными функциями цветообозначений в портретных описаниях в
жанре фэнтези являются: оценочно-характеризующая функция, семиотическая
и психологическая.
Цветообозначения не только используются в описании героев, но делают
повествование ярче и красочнее, создавая уникальный пейзаж, который играет
необычайно важную роль, он вплетается в названия глав, участвует в описании
сражений и даже репрезентируется в виде стихов с пейзажной доминантой [1,
с. 23].
Основной функцией цветообозначений в пейзажных описаниях в произве-
дении Дж.Р.Р. Толкина является, по данным нашего анализа, функция обозна-
чения времени и места действия. С помощью цветообозначений мы пониманием, в каком месте и в какое
время суток или сезон года происходит действие произведения. Например:
Looking back, the hobbits saw that the trees in the court had also begun to glow,
every leaf was edged with light: some green, some gold, some red as copper... [6,
с. 613]. В данном примере цветообозначения использованы, чтобы показать,
что действие происходит осенью.
Цветовые эпитеты в пейзажных описаниях в жанре фэнтези также выпол-
няют функцию эстетического воздействия, придавая красочность повество-
ванию. Даже в сером дождливом дне появляются яркие цветовые штрихи: The
sky spoke of rain to come; but the light was broadening quickly, and the red flowers
on the beans began to glow against the wet green leaves [5, с. 168]. Яркие цвета
вселяют оптимизм, надежду на перемены к лучшему.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
38
Цветообозначения в фэнтези выполняют и апеллятивную функцию, т.е.
придают минорную или, наоборот, мажорную тональность повествованию: The
black waters roared and echoed, and a wind screamed over them [5, с. 512]. Цвето-
вой эпитет участвует в создании зловещего пейзажа, придающего повествова-
нию мрачную тональность.
Цветообозначения выполняют семиотическую функцию. Цветовые эпитеты
в описании погодных явлений, осадков становятся символами, предупреждаю-
щими героев об опасности. Например: …there was a red thunderstorm and a
shower of yellow rain; there was a forest of silver spears that sprang suddenly into
the air with a yell like an embattled army, and came down again into the Water with
a hiss like a hundred hot snakes [5, с. 36].
Цветообозначения в жанре позволяют сделать фантастический мир объѐм-
ным, осязаемым. Проявляя лингвокреативность при использовании цветообо-
значений, авторы-фантасты создают яркие, запоминающиеся картины, без ко-
торых фэнтези лишился бы своего очарования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Боева-Омелечко Н.Б. Пейзаж в жанре фэнтези // Известия Южного Федерального
университета. 2014. № 3. С. 23–31.
2. Зилова М.Ю. Роль изобразительно-выразительных средств в произведе-нии Тургенева
И.С. «Бежин луг» // http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1503747.html (доступно на
25.02.2016).
3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1988. 115 с.
4. Tolkien J.R.R. The Hobbit. London: Harper Collins Publishers, 2015. 389 p.
5. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. London: Harper Collins
Publishers, 2015. 531 p.
6. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. The Two Towers. London: Harper Collins Publishers,
2015. 971 p.
REFERENCES
1. Boeva-Omelechko N.B. Peizazh v zhanre fentezi [Landscape in the Fantasy Genre] // Izvestiya
Yuzhnogo Federalnogo universiteta [Bulletin of Southern Federal University]. 2014. № 3.
Pp. 23–31 (in Russian).
2. Zilova M.U. Rol izobrazitelno-vyrazitelnykh sredstv sv proizvedenii Turgeneva I.S. «Bezhin
lug» [The Role of Graphic Means of Expression in the Work by Turgenev I.S. "Bezhin
Meadow"] // http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1503747.html (accessed 25.02.2016) (in
Russian).
3. Kucharenko V.A. Interpretasiya teksta [Text Interpretation]. Prosveshchenie. Moskow, 1988. 115
p. (in Russian).
4. Tolkien J.R.R. The Hobbit. London: Harper Collins Publishers, 2015. 389 p.
5. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. London: Harper Collins
Publishers, 2015. 531 p.
6. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. The Two Towers. London: Harper Collins Publishers,
2015. 971 p.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
39
УДК 81
Е.И. Крюкова
кандидат филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурно коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Н.Ю. Дергачѐва
студентка ОП 45.03.02 – Лингвистика «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА
«ЖИЗНЬ» ПОСРЕДСТВОМ АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЙ [Elena I. Kryukova, Natalya Y. Dergachyova On the Investigation of the Representation
of the Concept «Life» by Means of English Paroemias]
The article concentrates on the study of the representation of the concept «life» by means of
English paroemias. The term of the concept is fully described in the article, as well as the terms of
the language and conceptual pictures of the world. The article provides the results of a study of the
concept «life» on the basis of the analysis of paroemias, represented by proverbs and sayings and
the classification of markers that objectify the concept. According to the research the concept as a
basic method of storing information of an individual and society is of primal importance for the
general understanding of the peculiarities of the culture and for the successful communication as
well. By way of conclusion it can be said that the concept «life» has a leading position among other
cultural concepts and is of vital importance in social and individual consciousness of the English
speaking society, its culture and its social structure.
Key words: cognitive linguistics, lingua-cultural concept, language picture of the world, re-
presentation, conceptual picture of the world, English paroemia, national cultural consciousness.
Когнитивная лингвистика, которая получила признание и широкое распро-
странение в современной зарубежной и отечественной науке, она оперирует та-
кими понятиями, как «образ мира», «языковое сознание», «концептуальная кар-
тина мира», «концепт», «концептосфера», «образ сознания», «картина мира»,
«языковая картина мира», и др.
Современные когнитологи едины во мнении, что языковая картина мира
«отображает обиходно-эмпирический, культурный или исторический опыт не-
которого языкового коллектива» [7, с. 183]. Важным аспектом изучения когни-
тивной составляющей является возможность рассмотрения национально-
культурной специфики тех или иных фрагментов картины мира с разных науч-
ных позиций: одни ученые рассматривают – языковые явления, проводят ана-
лиз установленных фактов межъязыкового сходства или расхождения через
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
40
призму языковой системности и говорят о языковой картине мира; для других
исследователей основополагающей и исходной выступает культура и языковое
сознание членов лингвокультурной общности. В центре их научного внимания
и лингвистического анализа оказывается образ мира. По мнению значительного
количества отечественных и зарубежных исследователей, картина мира высту-
пает центральным понятием концепции человека, выражает особенности и спе-
цифику его существования. Картина мира формирует и организует в единое це-
лое тип отношения человека к миру и различным его явлениям – природе, лю-
дям, нормам поведения, определяет отношение человека к жизни.
Языковая картина мира выступает актуализацией различных картин мира
человека и отображает общую концептуальную картину мира. Если картина
мира содержит концепт, то языковая картина мира – значение. Концептуальная
картина мира первична по отношению к языковой. Вместе с тем, именно язы-
ковыми средствами актуализируются (вербализуются) различные культурные
национальные картины мира и хранятся знания о них.
В изучении концептов наметилось два основных подхода – когнитивный и
лингво-культурологический. Концепт описывается как ментальное образова-
ние, отмеченное культурной спецификой, имеющее свое языковое отражение,
либо определяется как единица человеческого мышления В.И. Карасик,
С.А. Аскольдов; З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов и др. [4; 1; 9; 10].
Теоретические исследования в области концептов принято традиционно связы-
вать с именами отечественных и зарубежных специалистов: Р. Лангакер, Дж.
Лакофф, Л. Талми, Р. Джакендофф, Е.В. Иванова, М.В. Никитин, А.П. Бабуш-
кин, В.И. Карасик, И.А. Стернин, З.Д. Попова и др.
Концепт является основным базовым способом хранения информации, как
отдельного индивида, так и общества в целом И.Т. Фролова, С.Г. Воркачѐв,
Т.В. Захарова [11; 2; 3]. Изучение концептов представляет собой бесспорный
интерес для межкультурного исследования. Изучение средств языковой объек-
тивации и описание понятийной и образной составляющей культурологически
значимых концептов чрезвычайно важно для понимания особенностей нацио-
нальной культуры, в том числе и для успешной коммуникации.
В процессе исследования были проанализированы способы объективиза-
ции концепта «life» посредством паремий английского языка, представленных
пословицами и поговорками. Паремии представляют собой неотъемлемую
часть культуры народа, всегда оставались и останутся актуальными. Пословицы
и поговорки являются одним из способов выражения национально-культурной
информации и национально-культурного сознания [5, c. 5–10]. Паремиологиче-
ские единицы являются языковым богатством народа, созданным на протяже-
нии многих веков. Трудно поспорить с тем, что пословицы и поговорки реаги-
руют на все явления действительности, помогают понять, что является главным
в жизни народа-носителя языка, образно и сжато выражают народную муд-
рость, отражают историю и мировоззрение представителей той или иной куль-
туры, еѐ обычаи, традиции, нравы, ценностные ориентиры, передают бытовые,
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
41
социальные, философские, религиозные и эстетические народные взгляды. Те-
матика паремий действительно безгранична. Они охватывают практически все
стороны жизни человека, самые разнообразные взаимосвязи между явлениями
действительности. В пословицах и поговорках представлены основные концеп-
ты культуры, как национальной, так и общечеловеческой.
На основе проведенного исследования, можно утверждать, что концепт
«life» является устойчивым, поскольку сохранился на протяжении многих ве-
ков. Представители англоязычной лингвокультуры предпочитают чаще гово-
рить о жизни, нежели о смерти.
Понятие «жизнь» является одним из самых важных понятий на бытовом
уровне, в котором аккумулируется, откладывается общественно историческая
практика людей, подытоживается и резюмируется значение, накопленное за из-
вестный период времени. Исследуемый концепт практически полностью вклю-
чает основные стороны социальной и личной жизнедеятельности представите-
лей англоязычной культуры.
Концепт обладает обширным набором маркеров (ключевые и второстепен-
ные слова-репрезентанты, объективирующие концепт), что говорит о наличии
высокой номинативной плотности, и, в свою очередь, свидетельствует о высо-
кой коммуникативной востребованности данного концепта в английском обще-
нии, что подтверждает его актуальность среди представителей британской лин-
гвокультуры.
В составе концепта «life» выявлены следующие смыслы: «the state of being
alive», «activity and energy», «the period from birth to death», «a way of living».
Данные смыслы закреплены в сознании британцев в виде базовых признаков
концептов.
Исследуемый концепт имеет полевую структуру, состоящую из ядра и пе-
риферии. Ядром концепта «life» является маркер «man».
Концепт «жизнь» занимает место среди культурных концептов. Эти лек-
сические единицы и содержащиеся в них понятия экзистенциально значимы как
для каждого человека в отдельности, так и для всех людей на Земле. В англоя-
зычной картине мира концепт «жизнь» занимает приоритетное место: едва ли
не каждый философ, писатель, поэт, художник, музыкант представил свою
концепцию экзистенции человека. Проблемы жизни, как и смерти, так же рас-
сматриваются в философии, этике, психологии и других науках.
Концепт «жизнь» является одним из универсальных концептов в языковой
картине мира многих народов. Проблема жизни и смерти на протяжении всей
истории человечества привлекала к себе внимание людей, представляла живой
и непреходящий интерес.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // От теории словесности к структуре текста. M.:
Academia, 1997. 279 c.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
42
2. Библиотека Инокентия Ахмерова онлайн. Понятие когнитивной интерпретации //
http://www.ahmerov.com/book_1065_chapter_25_1._Ponjatie_kognitivnojj_interpretaii.html
(доступно на 17.11.2017).
3. Воркачѐв С.Г. Концепт как «зонтиковый» термин // Язык. Сознание. Коммуникация. М.:
МАКС Пресс, 2003. Вып. 24. 13 с.
4. Захарова Т.В. Концепт как основная единица языковой картины мира // ФӘН-Наука. 2012.
№2. 58 с.
5. Карасик В.И., Слышкин. Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования // Ме-
тодологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 2001. 46 с.
6. Кубрякова Е.С. О типах дискурсивной деятельности // Вестник МГЛУ. 2003. Вып. 478.
C. 5–10.
7. Лихачѐв Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. М., 1997. 118 с.
8. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 183 с.
9. Павиленис Р.И. Язык, смысл, понимание // Язык. Наука. Философия. Логико-
методологический и семиологический анализ. Вильнюс, 1986.
10. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2007. 183 с.
11. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1996. 271 с.
12. Фролов И.Т. Философский словарь. М., 1991. 506 с.
REFERENCES
1. Askol'dov S.A. Kontsept i slovo [Concept and word] // Ot teorii slovesnosti k strukture teksta
[From Theory of Literature to Structure of the Text]. M.: Academia, 1997, 379 p. (in Russian).
2. Biblioteka Inokentiya Akhmerova onlain. Ponyatie kognitivnoi interpretatsii [Innokenti Akhme-
rov's library online. The Concept of Cognitive Interpretation] //
http://www.ahmerov.com/book_1065_chapter_25_1._Ponjatie_ kognitivnojj_-interpretaii.html
(accessed 17.11.2017) (in Russian).
3. Vorkachev S.G. Kontsept kak «zontikovyi» termin [The Concept as the “Umbrella” Term] //
Yazyk. Soznanie. Kommunikatsiya [Language. Consciousness. Communication]. M.: MAKS
Press, 2003. Vyp. 24, 13 p. (in Russian).
4. Zakharova T.V. Kontsept kak osnovnaya edinitsa yazykovoi kartiny mira [Concept as the Main
Unit of the Language Picture of the World] // FӘN-Nauka [FӘN-Nauka]. 2012. No 2. 58 p.
(in Russian).
5. Karasik V.I., Slyshkin. G.G. Lingvokul'turnyi kontsept kak edinitsa issledovaniya [Linguocultur-
al Concept as a Research Unit] // Metodologicheskie problemmy kognitivnoi lingvistiki [Metho-
dological Problems of Cognitive Linguistics]. Voronezh, 2001, 46 p. (in Russian).
6. Kubryakova E.S. O tipakh diskursivnoi deyatel'nosti [About types of Discoursive Activity] //
Vestnik MGLU [Bulletin of MSLU]. 2003. Vyp. 478. Pp. 5–10 (in Russian).
7. Likhachev D.S. Kontseptosfera russkogo yazyka [Conceptological Sphere of the Russian Lan-
guage] // Russkaya slovesnost' [Russian Language and Literature]. M., 1997. 118 p. (in Russian).
8. Maslova V.A. Lingvokul'turologiya [Cultural Liguistics]. M.: Izdatel'skii tsentr «Akademiya»,
2001. 183 p. (in Russian).
9. Pavilenis R.I. Yazyk, smysl, ponimanie [Language, Sense, Comprehension] // Yazyk. Nauka.
Filosofiya. Logiko-metodologicheskii i semiologicheskii analiz [Language. Science. Philosophy.
Logic, Methodological and Semiologic Analysis]. Vil'nyus, 1986 (in Russian).
10. Popova Z.D., Sternin I.A. Ocherki po kognitivnoi lingvistike [Essays on Cognitive Linguistics].
Voronezh, 2007, 183 p. (in Russian).
11. Stepanov Y.S. Osnovy obshchego yazykoznaniya [Fundamentals of General Linguistics]. M.,
1996, 271 p. (in Russian).
12. Frolov I.T. Filosofskii slovar' [A Philosophical Dictionary]. M., 1991. 506 p. (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
43
УДК 81.23
И.Ф. Погребная
кандидат филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г., Ростов-на-Дону, Россия
СПОСОБНОСТЬ ФЕ ТИПА GIVE UP К КОНВЕРСИИ
(на основе анализа прилагательных микрополя конверсии) [Irina F. Pogrebnaya The Ability of Phrasal Verbs of the “Give up” Type to Conversion
(based on the analysis of adjectives of the micro-field of conversion)]
In the article the author offers a description of the structural and semantic characteristics of
phrasal verbs of the “give up” type in both standard vocabulary and slang, including neologisms;
reveals the patterns and trends in the frequency of the second components and the ability of stems to
further derivation and building adjectives by means of conversion; the main lexico-semantic groups
of phrasal verb stems are characterized.
Key words: phrasal verb, stem, derivation, conversion, adjective, micro-field, derivative.
В лингвистической литературе имеется много исследований, посвященных
ФЕ типа give up, но нам бы хотелось заострить внимание на способности
фразовых глаголов выступать в качестве производящей базы для дальнейшей
деривации, а именно – конверсии в образовании прилагательных в
современном английском языке.
В процессе конверсии могут участвовать производящие основы разной
структуры, формы и степени производности. Без сомнения, большинство основ
являются корневыми, но тот факт, что и простые корневые основы, и
конверсионно производные глагольные основы первой степени производности
просты по структуре, объясняет широкую возможность их дальнейшей
деривации [1, c. 9]. Собственно структура основ фразовых глаголов в основном
проста, это или корневые, или даже производные глаголы-конверсивы как в
форме инфинитива, так и причастия (Participle I, Participle II).
В результате анализа фактического материала сплошной выборки из слова-
рей The Concise Oxford Dictionary of Current English, (далее – COD-95) [8]; The
Third Barnhard Dictionary of New English (далее – BDNE) [11]; Dictionary of New
Words (далее – GDNW)[6]; The Longman Register of New Words (далее – LRNW)
[9] и словарей сленга The Macmillan Dictionary of American Slang (далее –
MDAS) [10]; Thornе T. Dictionary of Modern Slang (далее – DMS) [6] нами обна-
ружено 1305 Пр (45% микрополя), образованных по конверсии от основ инфи-
нитива и словоформ, т.е. причастия I (PI) и причастия II (PII). Из них всего лишь
6% (82 ФЕ) представлены глагольными основами ФЕ стандартной лексики.
Анализ структуры ФЕ показал, что более половины из них имеют основу
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
44
инфинитива (53,6%). 1/3 Пр образовано от причастия II ФЕ . В составе ФЕ
данного типа содержатся 14 разных вторых компонентов (away, up, on, down,
back, in, about, ahead, out, off, through, around, by, for). 5 из них – самые
частотные: со вторым компонентом up (fold up) ( 20 ФЕ), on и out – в 11 ФЕ
каждый (pull on, carry out), away – в 9 ФЕ (break away). 8 ФЕ имеют в своѐм
составе компонент down (knock down). Таким образом, пять вторых
компонентов (up, on, away, out, down) самые частотные в составе глагольных
производящих основ. Остальные представлены единичными случаями: сlose in,
cast off и др.
Встречаются Пр, образованных от причастия I ФЕ, в которых второй
компонент глагольной основы из положения постпозиции к глаголу
перемещается в препозицию: inrushing Adj <- rushing in, onlooking Adj <-
looking on. Такие слова Е.С. Кубрякова называет «перевѐртышами»,
рассматривая их в одной группе с префиксальными образованиями и отмечает,
что «с одной стороны, они представляют очевидные результаты процессов
префиксации, а с другой, результаты более сложных процессов модификации
глагола с частицей и дальнейшего образования на базе такого глагольного
комплекса отглагольных имѐн путѐм конверсии» [2, c. 3–5]. Мы их относим к
конверсии.
В словарях новых слов Пр неологизмы в большинстве своѐм – 10 ФЕ
стандартной лексики и 2 ФЕ сленга образованы от основы инфинитива ФЕ.
Лишь 6 Пр неологизмов сленга образованы от причастия II ФЕ (buttoned down).
Пр неологизмы образуются от ФЕ, имеющих в своѐм составе 8 различных
вторых компонентов, причем самым многочисленным является up [4]. On, in,
out являются составной частью трѐх ФЕ каждый. Остальные 5 ФЕ являются
единичными образованиями с разными вторыми компонентами. Например,
knock off.
Пр как американского, так и британского сленга образованы преимущест-
венно от причастия II ФЕ с 6 разными вторыми компонентами, причѐм доми-
нантным вторым компонентом является up (jacked up, hung up, cooked up) и оut
(bounced out, blissed out). Основы инфинитива ФЕ в словаре американского
сленга MDAS представлены единичными случаями. Более детально структура
ФЕ по второму компоненту представлена в Tаблице 1:
Второй компонент
COD-95
Словари сленга
MDAS DMS
Словари новых
слов
Inf. P II PI Inf. PII PI Br.
PII
Am
PII
Inf
ст/сл
PII
сл
1. away 7 2 - - - - - - 1/1 -
2. up 8 12 - 2 7 - 18 4 2/- 2
3. on 8 2 1 - - - 1 2 2/- 1
4. down 6 2 - 2 - - - - - 1
5. back 1 1 - - - - - - - -
6. in 5 2 1 1 - - - - 3/- -
7. about 1 - - - - - - - - -
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
45
8. ahead 1 - - - - - - - - -
9. out 3 8 - - 1 - 5 3 -/1 2
10. off 4 2 - - - 1 3 - 1/- -
11. through 2 - - - - - - - 1/- -
12. around 1 - - - - - - - - -
13 by 1 - - - - - - - - -
14. for - 1 - - - - - - - -
Всего 48 32 2 5 8 1 27 9 10/2 6
82 50 18
В результате анализа ФЕ типа give up, выявленных в COD-95, обнаружено,
что в 66 ФЕ этого типа глаголы сочетаются только с каким-либо одним вторым
компонентом. Следует отметить, что ФЕ с глаголом drive сочетается с наи-
большим количеством вторых компонентов (4: in, on, through, by): drive in, drive
through. ФЕ со стержневым глагольным компонентом knock сочетается с 3 ком-
понентами: knock about, knock out. ФЕ с глагольными основами fold, pull и walk
сочетаются с 2 компонентами (fold up, fold away). Как основа инфинитива, так и
причастие II ФЕ close in служит базой для образования Пр (close in, closed in).
Семантические особенности базовых глаголов, определяющих семантику
отглагольных Пр, разнообразны, что и обусловливает семантические классифи-
кации глаголов по определѐнным ЛСГ [12, c. 198–228]. Мы придерживаемся
классификации глагольных основ на 7 ЛСГ П.А. Соболевой [4, c. 111–143].
1. ЛСГ глагольных ФЕ действия – самый многочисленный, более 50% стан-
дартных ФЕ и неологизмов стандартной лексики данной ЛСГ участвуют в об-
разовании Пр как от основ инфинитива ФЕ (cut down, tear off, write in, back up),
так и от PII ФЕ (closed in, bombed out, wacked out, switched on).
Из 27 глагольных ФЕ сленга подавляющее большинство Пр образуется от
причастия II (soup(ed) up – «to increase the power of smth»). И только 5 ФЕ обра-
зуют Пр сленга от основ инфинитива ФЕ, например: straight up – «подливать
спиртное».
2. ЛСГ глагольных ФЕ движения. Из 28 Пр преобладающее количество Пр
образуется по конверсии от инфинитивных основ ФЕ (25: carry out, cast off).
Основной тип СЗ «характеризующий / имеющий признаки того, что обозначе-
но основой»: drive-by – of or relating to a killing which takes place when the killer drives
by in the car, pausing only to shoot dead the target: «The first literal meaning of drive-by
shooting was „gunfire from a vehicle driving past the target».
3. ЛСГ глагольных ФЕ состояния. К данной ЛСГ относятся 8 глагольных ФЕ,
образующих Пр от причастия II ФЕ. Например: grown up, run down.
14 Пр сленга образованы от причастия II ФЕ (bliss(ed) out – «become euphoric»,
schiz(zed) out – «to lose mental control») и 1 – от причастия I: off-putting – «вызывать
отвращение». Лишь 1 Пр неологизм сленга образовано от причастия II ФЕ: space(d)
out – «to become giddy, disoriented».
По модели PhV (PII) -> A преимущественно oт основ причастия глаголов
действия образуются Пр cо значением, полученным в результате метафорического
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
46
переноса. Одно из свойств языка – его экономичность. Именно данная особенность,
«используя снятие неоднозначности плана содержания языковых единиц при
порождении текста, обращает номинативную деятельность в русло вторичной
номинации – к переосмыслению уже имеющихся в языке номинативных средств»
[5, c. 132].
Причѐм выделяется значительная группа Пр, обозначающих разные степени ал-
когольной или наркотической интоксикации / зависимости. Например: wrecked (Sl.)
«в отключке от наркотиков»; stoned (Sl.) – под воздействием алкоголя или наркоти-
ков: ―He was totally stoned and didn‘t know what he was saying‖, Carter says [3, c. 204].
ЛСГ глагольных ФЕ восприятия и умственной деятельности и ЛСГ глагольных
ФЕ коммуникации представлены единичными случаями в форме производящих ос-
нов причастия II ФЕ как в стандартной лексике, неологизмах и сленге: cook(ed) up
(Sl.) – «придумать, сочинить, сфабриковать»; hung up <- hang up (Sl.) – «зациклить-
ся» hype up (Sl.) – «перехвалить». Более детально классификация ЛСГ ФЕ пред-
ставлена в Таблице 2:
ЛСГ основ
глагольных ФЕ
COD-95 MDAS, DMS BDNE, GDNW,
LDNW
Inf PII PI Inf. PII PI Inf
ст
Inf
сл
PII
сл
1) действия 22
18 - 5 22 - 7 2 3
2) движения 25
2 1 - 3 - 3 - -
3) состояния -
8 - - 13 1 - - 1
4) восприятия и
умственной дея-
тельности
1 3 1 - 2 - - - 1
5) коммуника-
ции - 1 - - 3 - - - 1
Всего 48 32 2 5 43 1 10 2 6
82 49 18
В качестве тенденции в образовании конвертированных прилагательных от
ФЕ типа give up можно отметить закономерность, прежде всего, в частотности
участия производящих следующих основ в дальнейшей деривации: формы ин-
финитива ФЕ – для образования конвертированных прилагательных стандарт-
ной лексики и неологизмов стандартной лексики; и формы причастия II – для
образования конвертированных прилагательных сленга. Наибольшая актив-
ность присуща ЛСГ глагольных ФЕ действия, движения и состояния, имеющим
в качестве второго компоненты up и out как в стандартной лексике, сленге и
среди неологизмов современного английского языка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абросимова Л.С., Погребная И.Ф. Способность глаголов-конверсивов к дальнейшей дери-
вации // Актуальные проблемы современной лингвистики. Ростов-на-Дону: изд-во РГПУ,
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
47
2005. С. 8–10.
2. Кубрякова Е.С. «Перевѐртыши» в современном английском языке и их ономасиологиче-
ские различия // Проблемы лексической и словообразовательной семантики в современ-
ном английском языке. Пятигорск, 1986. С. 3–8.
3. Погребная И.Ф. Прилагательные сленга: варианты, тенденции, значения // Лингвистика:
традиции и современность: материалы Международной научной конференции. Ростов-на-
Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. С. 202–204.
4. Соболева П.А. Семантико-стилистические факторы, ограничивающие продуктивность
конверсии глагол-существительное в современном английском языке // Исследования по
английской лексикологии. М., 1961. С. 111–144.
5. Телия В.Н. Вторичная номинация и еѐ виды // Языковая номинация. Виды наименований.
М.: Наука, 1977.
6. Dictionary of New Words / Ed. by J. Green. М.: Veche, Persey, 1996. 352 p.
7. Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions / Ed. by R.A. Spears. Lincolnwood
(Illinois): National Textbook Company, 1989. 528 p.
8. Leech G., Svartvik J.A Communicative Grammar of English. M.: Prosveshcheniye, 1983. 304 p.
9. The Concise Oxford Dictionary of Current English / Ed. by Della Thompson. 9th Ed. Oxford: At
the Clarendon Press, 1995. 1673 p.
10. The Longman Register of New Words. Moscow: Russian Language, 1990. 426 p.
11. The Macmillan Dictionary of American Slang / Сompiled by R.L. Chapman. New York: Har-
per and Row Publishers Inc., 1987. 499 p.
12. The Third Barnhart Dictionary of New English. The H.W. Wilson Company, 1990. 565 p.
REFERENCES
1. Abrosimova L.S., Pogrebnaya I.F. Sposobnost glagolov-konversivov k dalneyshey derivatsii
[The Ability of Verbs-conversives to Further Derivation] // Aktualnyie problemyi sovremennoy
lingvistiki: materialyi [Actual Problems of Modern Linguistics]. Rostov-on-Don: izd-vo RGPU,
2005. Pp. 8–10 (in Russian).
2. Kubryakova E.S. «Perevertyishi» v sovremennom angliyskom yazyike i ih onomasiologicheskie
razlichiya [«Double-dealing ones» in Modern English and their Onomasiologic Distinctions] //
Problemyi leksicheskoy i slovoobrazovatelnoy semantiki v sovremennom angliyskom yazyike
[Problems of Lexical and Word-formation Semantics in Modern English]. Pyatigorsk, 1986.
Pp. 3–8 (in Russian).
3. Pogrebnaya I.F. Prilagatelnyie slenga: variantyi, tendentsii, znacheniya (Slang Adjectives: Op-
tions, Tendencies, Values] // Lingvistika: traditsii i sovremennost: materialyi Mezhdunarodnoy
nauchnoy konferentsii [Linguistics: Traditions and Modern Days: Materials of the International
Scientific Conference). Rostov-on-Don: IPO PI YuFU, 2009. Pp. 202–204 (in Russian).
4. Soboleva P.A. Semantiko-stilisticheskie faktoryi, ogranichivayuschie produktivnost konversii
glagol-suschestvitelnoe v sovremennom angliyskom yazyike [Semantic-Stylistic Factors Limit-
ing Efficiency of Conversion a Verbnoun in Modern English] // Issledovaniya po angliyskoy lek-
sikologii [Researches on the English Lexicology]. M., 1961. Pp. 111–144 (in Russian).
5. Teliya V.N. Vtorichnaya nominatsiya i ee vidyi [Secondary Nomination and its Types] // Yazyi-
kovaya nominatsiya. Vidyi naimenovaniy [Language Nomination. Types of Names]. M.: Nauka,
1977 (in Russian).
6. Dictionary of New Words / Ed. by J. Green. М.: Veche, Persey, 1996. 352 p.
7. Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions / Ed. by R.A. Spears. Lincolnwood
(Illinois): National Textbook Company, 1989. 528 p.
8. Leech G., Svartvik J.A Communicative Grammar of English. M.: Prosveshcheniye, 1983. 304 p.
9. The Concise Oxford Dictionary of Current English / Ed. by Della Thompson. 9th
Ed. Oxford: At
the Clarendon Press, 1995. 1673 p.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
48
10. The Longman Register of New Words. Moscow: Russian Language, 1990. 426 p.
11. The Macmillan Dictionary of American Slang / Сompiled by R.L. Chapman. New York: Har-
per and Row Publishers Inc., 1987. 499 p.
12. The Third Barnhart Dictionary of New English. The H.W. Wilson Company, 1990. 565 p.
УДК 80
К.П. Постерняк
аспирант ОП 45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АССОЦИАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КОНЦЕПТА «CCCР» В БРИТАНСКИХ СМИ (1991–1993 гг.) [Kseniya P. Posternyak Representation of Associative Constituent of the Concept «USSR»
in British Mediadiscourse]
The article deals with syntagmatic associations connected with the USSR formed by British
mass media in the minds of British people at the beginning of the 90ies. The author analyzes both
threatening associations and positive ones to identify the image of the country at a turning point in
its history.
Key words: USSR, conceptology, toponymical concept, mass media, mediadiscourse, syntag-
matic association.
В связи со сложной политической ситуацией в мире такая стремительно
развивающаяся наука как концептология стала активно изучать различные то-
понимические концепты. Именно в сложные и переломные моменты истории
можно проследить формирование и начало развития новых концептов, связан-
ных с той или иной страной у носителей языка. В такие моменты концепты, об-
разы, связанные с этой страной, изменяются вместе с событиями, происходя-
щими там. Для нашей страны одним из таких переломных моментов стали
1991–1993 гг. – начало распада Советского Союза и формирование на его руи-
нах новых государств, в том числе Российской Федерации. Нам интересно
знать, как оценивали за рубежом происходившие в нашей стране события и как
к этому относились именно в Великобритании. Анализ топонимического кон-
цепта «СССР», получившего новое наполнение в британской прессе в то время,
позволяет составить представление об изменениях, происходивших в таком го-
сударстве, как СССР в проекции языковой картины мира британского лингво-
культурного сообщества.
Взяв за основу понимание концепта, как его понимает профессор
Н.Ф. Алиференко, а именно как совокупность его парадигматических, синтаг-
матических и этнокультурных ассоциаций [1, с. 9], мы считаем важным вы-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
49
явить именно те синтагматические ассоциации, которые формировали СМИ в
сознании британцев, чтобы добиться определѐнного отношения к нашей стране.
В результате нашего исследования нами было выявлено, что несмотря на
социалистическую направленность развития нашей страны, СССР продолжали
называть Империей (The bitter end of Empire) (Jonathan Steele, the Guardian,
14.12.93); (President M. Gorbachev has clearly chosen to give priority over all else
to preserving the integrity of the Soviet empire) (Dod Miller, the Observer. Sunday,
20.01.91). Можно сказать, что словосочетание «Советская империя» является
своеобразным оксюмороном (Soviet empire in Europe had become «exceptionally
burdensome politically, economically, military and psychologically») (the Observer.
Sunday, 17.02.91). Часто газеты целенаправленно использовали в отношении
этой «империи» эпитет «зловещая» (What went West with the Evil Empire)
(Charles Moore, the Daily Telegraph, 27.08.91).
Сразу после августовских событий в большой статье «The Daily Telegraph»
СССР был назван бедной, жестокой, обанкротившейся отвратительной сис-
темой, которая держала в плену нации (The west has nothing to gain from helping
the Communists hold captive nations inside a seedy, brutal, bankrupt and hated sys-
tem) (the Daily Telegraph, 21.08.91). А сама система федеративности в Совет-
ском Союзе была названа насильственной (The Soviet Union has always been a
forced federation) (David Owen, the Daily Telegraph, 21.08.91).
Несколько иного характера ассоциацию, подтверждающую величие и мощь
нашей державы, мы нашли в прокоммунистической газете того времени «the
Morning Star» – «СССР – великая держава» (The USSR is a great power) (Fred
Weid, the Morning Star, 17.07.91), а в «the FT» признавали еѐ даже «супердер-
жавой» (…and a desperate desire to go on being a superpower) (Jan Davidson, the
FT, 17.06.91); (It also promised to restore the pride of the Soviet Union as a super-
power) (Anthony Robertson, the FT, 07.08.91).
Отдавая должное Советскому Союзу, британские журналисты называют его
«мощной и мотивирующей силой» (Soviet Union was the most potent motivating
force) (Pr. Geoffrey Lee Williams, the Times, 21.01.92).
СССР из-за своих размеров всегда поражал умы британцев. Это отражается
в определениях, которые используются в отношении нашей страны: огромный,
обширный. (The Soviet Union is a huge state – one sixth of the earth-s land mass)
(Roy Medvedev, the Morning Star, 06.11.91); (unbreakable unity of the vast Soviet
empire) (William Millinship, the Observer. Sunday, 08.12.91).
Наряду с ассоциативными рядами, где страна признается сильной и вели-
кой, британские СМИ вносят в концептосферу СССР другие составляющие,
формируя отрицательное отношение к ней.
Например, СССР сравнивают с самым длительным, наиболее значительным,
важным и катастрофичным социальным экспериментом в современной евро-
пейской истории (These are the remnants of the Soviet Union, the longest, most po-
werful, important and disastrous social experiment in modern European history) (Ian
Black, The Guardian, 22.03.93).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
50
Подводя итог этому «социальному эксперименту», британские журналисты
называют СССР «одним из самых жестоких и бессмысленных образований 20
века» и констатируют, что он еще не убит (The Union of Soviet Socialist
Republics, one of the 20th century‘s the most cruel and inept creations, is today not
killed) (the Times, 08.08.91).
Показывая состояние государства под названием СССР в начале 90-х, ана-
литики не скупятся на ассоциации, связанные с мрачными ужасающими по-
следствиями взрыва, коллапса: «the Soviet collapse, the disintegration of the em-
pire (Quentin Peel, the FT, 08.91), «discredited and undermined, if not entirely de-
stroyed» (Quentin Peel, the FT, 08.08.91), «an imploding empire» (Carey Shofield,
the Daily Telegraph, 3.01.92).
Были в английской прессе авторы, которые могли объективно оценить дей-
ствия руководителей Новой России, преемницы СССР. Они откровенно при-
знавали, что Егор Гайдар вверг свой народ в нищету, а промышленность и
сельское хозяйство поставил на колени, подтолкнув когда-то великую страну в
зависимость от капиталистического Запада (Yegor Gaidar are impoverishing the
people, driving industry and agriculture to its knees, and pushing a once great coun-
try into dependence on a capitalist West), (Yeltsin wants Russians to be more revolv-
ing) (Mark Frankland, The Observer, 23.04.92). А некоторые «провидцы» из СМИ
предрекали, что теперь СССР-Россия должна будет относиться к странам
третьего мира, нациям-просителям, которые ищут финансовой поддержки (the
USSR should be classed as another Third World supplicant nation seeking financial
relief (the Morning Star, Fred Weid, 17.07.91).
Дальнейшее сравнение рассматриваемых синтагматических ассоциаций
СССР и России позволит выявить динамику вербализации концепта «Россия» в
британском медиадискурсе и, соответственно, иметь верное представление об
отношении британцев к нашей стране уже в наше время.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации концепта. Волгоград: Перемена, 2003. 295 с.
2. Боева-Омелечко Н.Б., Постерняк К.П. Репрезентация ассоциативной составляющей кон-
цепта «Россия» в современных британских СМИ // Когнитивные Исследования Языка.
Тамбов: Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-
когнитологов», 2015. С. 310–312.
REFERENCES
1. Alefirenko N.F. Problemyi verbalizatsii kontsepta [Problems of Concept Verbalization]. Volgo-
grad: Peremena, 2003. 295 p. (in Russian).
2. Boeva-Omelechko N.B., Posternyak K.P. Reprezentatsiya assotsiativnoy sostavlyayuschey
kontsepta «Rossiya» v sovremennyih britanskih SMI [The Representation of the Associa-
tive Component of the Concept “Russia” in Modern British Mass Media] // Kognitivnyie
Issledovaniya Yazyika [Cognitive Researches of the Language]. Tambov: Obscheros-
siyskaya obschestvennaya organizatsiya “Rossiyskaya assotsiatsiya lingvistov -
kognitologov”, 2015. Pp. 310–312 (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
51
УДК 81
А.А. Сердюкова
аспирант ОП 45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» В ТЕКСТАХ
СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРОЗЫ [Alyona A. Serdyukova The Language Representation of the Concept “Life”
in Modern American and Russian Fiction]
The article deals with researching the concept “Life” in modern American and Russian fiction
on the examples of the modern authors. The concept “Life” is one of the main concepts in modern
society because it‟s hardly to find the culture where there is no such kind of concept. As a result of
the analysis the author proves that there are similar and different elements of a concept in his lex-
ico-semantic field in the American and Russian linguistic view of the world that proves distinction
in perception of this concept of English and Russian speaking people.
Key words: concept, linguistics, life, linguistic view of the world, American and Russian fiction.
Следует отметить, что анализируемый концепт «жизнь» содержится в кор-
невой морфеме, которая представляет собой основу словообразовательного
гнезда. В языке подобный концепт получает свою реализацию во всей словооб-
разовательной парадигме. Ключевым словом концепта следует считать языко-
вой знак, наиболее полно и адекватно передающий содержание концепта. В
нашем случае – это существительное «жизнь».
Данный концепт может быть представлен различными единицами, входя-
щими в лексико-семантическое поле представленного концепта. Словарь сино-
нимов русского языка дает более 40 дефиниций, заменяющих слово жизнь, но
мы в нашем исследовании будем использовать только некоторые из них, такие
как: 1) бытие, существование; 2) действительность; 3) жизненный путь;
4) реальность [3, с. 186].
Большой толковый словарь русского языка, а также даѐт следующие лекси-
ческие значения слова «жизнь»: 1) особая форма существования материи, глав-
ным признаком которой и отличием от неживых объектов является обмен ве-
ществ (существование); 2) физиологическое состояние живого организма от за-
рождения до смерти, полнота проявления физических и духовных сил, деятель-
ность общества и человека в тех или иных еѐ проявлениях (функционирование,
деятельность); 3) движение, оживление, вызываемые действиями живых су-
ществ, существование в развитии, движении (о природе) (движение); 4) время,
период существования кого-, чего-либо от рождения до смерти, период в суще-
ствовании кого-либо, время пребывания где-либо, срок существования чего-
либо (длительность); 5) полнота проявления физических и духовных сил, сово-
купность всех дел человека, пережитых им событий (целостность); 6) реальная
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
52
действительность (реальность); 7) образ существования, счастливое существо-
вание в полном довольстве [6, с. 453].
Анализируя толковый словарь английского языка Cambridge International
Dictionary of English мы нашли следующие дефиниции английской лексемы life:
1) living things and their activities; 2) the existence of a person; 3) the time between
a person's birth and their death; 4) a way of living; 5) one part of someone's exis-
tence; 6) energy and activity; 7) the amount of time that a machine, system, etc. exists
or can be used [9, с. 574].
Как известно, концепт «Жизнь» является ключевым в любой культуре, так
как несет в себе смысл всего человеческого существования. Жизнь может быть
веселой и беззаботной, а может стать наказанием, превратившись в существо-
вание, может приносить удовлетворение, а может принести боль и страдание,
выходом из которых является прямой антоним слова жизнь – смерть.
Изучая концепт «Жизнь», мы не можем не обратиться к таким оригиналь-
ным авторам современности как Ч. Буковски, Х. Томпсон, И. Стогов и
З. Прилепин. Своим нестандартным взглядом на жизнь они способны не только
рассказать о всех регалиях современного бытия, но и продемонстрировать вос-
приятие человека, живущего в этом мире.
Говоря о жизни, следует начать именно с Ч. Буковски, который заметно от-
личался своей необычной любовью к ней. Человек, живший одним днем и на-
слаждавшийся каждым прожитым моментом, он был гением в области прожи-
гания жизни. Не раз кодируясь от алкоголизма в различных клиниках, он до по-
следнего дня не мог отказаться от своей пагубной привычки. Про него писали в
газетах: «…он пил больше, чем нужно, имел любовниц больше, чем считается
приличным, работал не там, где работать престижно, жил не так, как при-
нято в обществе. Он никогда не писал о том, о чем приятно читать. В его
текстах – горечь. Чернорабочий, пропойца, и один из умнейших писателей
второй половины XX в.» [13].
Большинство работ этого автора являются автобиографичными; его жизнь
является основой для многих его книг. Ч. Буковски считал, что люди не долж-
ны соглашаться на меньшее, чем обладание вещами, которые делают их счаст-
ливыми. А что могло сделать счастливым человека, который всю свою созна-
тельную жизнь прожигал ее?
Оглавление его книги «South of No North» начинается с фразы «Stories of the
Buried Life» [8, c. 3]. Автор не случайно использует метафоричное выражение
по отношению к прожитым годам. Сложно ожидать от такого человека, как
Ч. Буковски, осознание того факта, что жизнь по сути прожита впустую, но он
поражает нас своей многогранностью и доказывает лишний раз, что он не про-
сто «бродяга», а личность, умеющая трезво оценивать ситуацию. Он никогда не
боялся смерти, считал еѐ своей подругой, о которой не стоит особо беспокоить-
ся. Он не мучился по поводу своего конца, использовал все преимущества жиз-
ни.
Такое же отношение к жизни он подарил и своим главным героям, предла-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
53
гая свою точку зрения в рамках параллельных конструкций, приводящих к
кульминации, заключенной в сравнительных оборотах: «It's my living, it's my
life. I'm proud of being best. It's like flying, it's like flying off into the sky and whip-
ping the sun» [8, c. 15]. С самого начала своего творческого пути, Ч. Буковски
рассматривал жизнь как однодневное пребывание в этом бренном мире, где
главными ценностями становятся алкоголь, женщины и сон. Какие бы пробле-
мы не возникали на жизненном пути главного героя (прототипа самого Буков-
ски), единственный выход он находит в алкоголе, о чем свидетельствует мета-
фора: «My mind was in riot against my lot and life, and the only way I could calm it
was to drink and drink and drink» [8, c. 24]. Здесь можно также обнаружить ал-
люзию («Education and education and education»), интерпретированную автором
следующим образом: «Drink and drink and drink».
Как уже говорилось ранее, Ч. Буковски наслаждался каждым прожитым
мгновением, даже если эти мгновения проходят в тюрьме: «I continued to win at
craps each day. I bet more heavily and still won. Life in prison was getting better and
better» [8, c. 27]. Создается впечатление, что философия Ч. Буковски состоит из
следующих компонентов: в жизни происходит множество странных и сума-
сшедших событий, однако не стоит фокусироваться на них, следует принимать
все как есть, не стоит воспринимать все слишком серьезно, так как жизнь – это
не сложности и проблемы, а веселое времяпрепровождение: «I keep
remembering the female who screamed at me: "You're so god damned negative! Life
can be beautiful!"» [8, c. 57].
В начале своего творческого пути Ч. Буковски наслаждается таким воспри-
ятием мира, но дальше в его жизни случается переворот, что отражается не
только на личной и общественной жизни автора, но и на поведении героев его
произведений. Он осознает, что такая жизнь не является нормальной, что суще-
ствует другая сторона медали: «I knew that lines were killing me. I couldn't accept
them, but everybody else did. Everybody else was normal. Life was beautiful for
them. They could stand in line without feeling pain. They could stand in line forever.
They even liked to stand in line» [8, c. 67].
Как мы знаем из биографии Ч. Буковски, его отец был склонен к жестокости
и жѐстким методам воспитания детей, что позже будет описано в романе «Ham
On Rye» как своего рода игра. Все это оставляет свой четкий отпечаток на фор-
мирование личности, жизненного и творческого пути писателя. Он не знал, бу-
дет ли завтра, и именно этот факт сформировал его по сути необычное воспри-
ятие мира. Но и такая жизнь может надоесть: «I get so tired of this life» [8, c. 85].
Как и Ч. Буковски, Х. Томпсон не был образцом для подражания. Будучи
поклонником различного рода психотропных веществ, он всегда поражал своих
читателей ярким и красочным описанием происходящих вокруг него событий.
Работая в качестве гонзо-журналиста, Х. Томпсон побывал в различных угол-
ках земного шара, повстречал много интересных людей, которых впоследствии
включил в свои романы (примером может служить роман «Ангелы Ада»). Дет-
ство Х. Томпсона не было безоблачным. Его отец рано оставил троих фактиче-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
54
ски маленьких детей на воспитание матери, которая после смерти мужа начала
серьезно злоупотреблять алкоголем. Видя всѐ это, Х. Томпсон начал работать,
но был вынужден фактически «сбежать» в армию, так как разбил рабочий ав-
томобиль. Бедное детство и пьющая мать оставили свой неизгладимый след на
творчестве и жизни столь незаурядного писателя. Он нашел выход из такого
положения в наркотиках: «There was also the socio-psychic factor. Every now and
then when your life gets complicated and the weasels start closing in, the only real
cure is to load up on heinous chemicals and then drive like a bastard from Hollywood
to Las Vegas. To relax, as it were, in the womb of the desert sun. Just roll the roof
back and screw it on, grease the face with white tanning butter and move out with the
music at top volume, and at least a pint of ether» [10, c. 51].
Но, как и у Ч. Буковски, у Х. Томпсона случается переломный момент в
жизни. Момент, когда не возможно полностью отказаться от старого и привыч-
ного, но возможно начинать потихоньку принимать новые аспекты только что
открывшегося мира, когда Х. Томпсон начинает понимать, что существует дру-
гой мир – реальный, мир, где все выглядит немного по-другому. Именно тогда
он начинает противопоставлять свою жизнь и жизнь других людей: «Indeed. But
of course that would never happen in Real Life, gentlemen» [10, c. 23].
В русской языковой картине мира концепт «Жизнь» воспринимается как яв-
ление, содержащее в себе определенную цель, иными словами, жизнь обяза-
тельно должна иметь смысл, а также включать в себя определенный набор ду-
ховных, физических, социальных и материальных благ. Отсутствие какого-либо
из вышеперечисленных компонентов, даже одного, может привести, по мнению
русского человека, к превращению идеальной размеренной жизни в существо-
вание. Русский человек глубоко привязан к своим привычкам и ему крайне
сложно что-то кардинально поменять в своей жизни, но русская душа быстро
ко всему привыкает и может спокойно смириться с новым положением дел:
«— Не скучно тебе?
— В смысле?
— Да вообще. Ты же привык к другой жизни.
— Ну, привык... Отвык уже... То, что сейчас, – это лучше» [5, c. 87].
Будучи воспитанником православной школы, И. Стогов начинает свою
творческую жизнь романами «Камикадзе» и «Череп императора», которые не
принесли ему ожидаемой славы. Тогда писатель обращается к другой крайно-
сти, которая не только сделала его самым популярным автором среди опреде-
ленного круга лиц, а также поставила его книгу «Мачо не плачут» на первое
место в список бестселлеров современности, к мужской прозе. Его роман как
часть столь правдивого, а порой грубого, находящегося на грани жестокости
жанра, интересен тем, что, помимо описаний действий «здесь и сейчас», не-
предвзято раскрывает мир российского общества 90-х гг. прошлого века и в
«ярчайших» красках рисует нам нелицеприятные картины того нелегкого вре-
мени. Немного необычно для читателя обнаружить описания событий через не-
нормативную лексику в произведениях человека, имеющего степень магистра
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
55
богословия. Переезжая с места на место, меняя учебные заведения, автор на се-
бе испытывает все тяготы жизни, позже воспроизводя это в своих романах.
С первых страниц книги перед нами раскрываются тяжелые моменты жизни
каждого персонажа. В понимании И. Стогова человек сам загоняет себя в рам-
ки, в которых жизнь имеет значение борьбы. Данная лексема раскрывается с
точки зрения опыта прожитых лет как автора, так и персонажей романа. Писа-
тель часто ссылается на то, что все тяготы и лишения – это результат неудачно-
го жизненного опыта, который преподал отличный урок, но при этом слишком
непредсказуемыми получились выводы: «Дам присутствовало немного. По-
трѐпанные жизнью, много курящие машинистки. Пара девушек с первого
этажа, связанных то ли с рекламой, то ли с бухгалтерией. Одна из них просла-
вилась тем, что как-то голая купалась в Фонтанке, напротив Лениздата. Дру-
гая любила рассказывать, что у редактора соседней газеты член маленький и
он этого стесняется. Плюс наивные молодые стажѐрки» [5, с. 38].
Нередко описывая жизнь в нелицеприятных, а иногда даже грубых красках,
автор, тем не менее, даѐт нам понять, что жизнь всегда предоставляет нам шанс
что-то исправить, ставя данный феномен первым в списке приоритетов не толь-
ко у персонажей книги, но и у себя: «Ты примешь душ, наденешь чистое белье,
и все у тебя будет чистым... свежим... в голову придут чистые мысли... ты
подумаешь о будущем... решишь, что да, чѐрт возьми, алкоголь это действи-
тельно яд!.. что можно и не пить, это будет здорово!.. жизнь откроет тебе
свою светлую изнанку... ты вспомнишь, что главного до сих пор не сделал... но
ведь можешь сделать!.. и даже знаешь как!.. ты займешься этим прямо зав-
тра!.. прямо с утра!..» [5, с. 88]. Говоря о том, что жизнь – это игра и забава, он
также утверждает, что жизнью нельзя играть. Такие противоречия характерны
для менталитета русского народа, так как в нас живѐт жажда приключений,
ощущения адреналина в крови и азарта выигрыша. Данный факт подтверждает-
ся тем, что у русских людей концепт «Жизнь» вступает не только в синоними-
ческие отношения, а также в антонимические, где антонимом слова жизнь как
«существование» выступает слово смерть как «прекращение существования».
Данные антонимы часто дополняют друг друга, так как являются крайними
точками, периодом времени, в течение которого человек либо живет, либо су-
ществует: «Если ты дал мне жизнь, то какая может быть смерть? Но я
умираю! Я умираю каждый день! Слабо умирать вместе со мной? Корчиться
и орать? Почему ты оставил меня, а? Если ты такой, как о тебе говорят, то
взял бы и умер вместе со мной. А лучше – вместо меня. А ещѐ лучше – чтобы ни-
кто никогда не умирал. Ты же сильный... или не настолько сильный?» [5, с. 131],
«Дед готовился умирать. Когда он говорил, в горле еле слышно клокотало, и слова
выходили едва внятными. – Помирать не страшно, Санькя… Жизнь очень Долгая.
Надоела уже. Лежу вот, никак не могу помереть…» [2, с. 16].
В последнем примере мы можем наблюдать, что, как и И. Стогов,
З. Прилепин также обращает внимание на антонимическую связь между двумя
понятиями, что позволяет нам говорить о вхождении понятия смерть в лексико-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
56
семантическую группу концепта жизнь. Находясь в условиях смертельной
опасности человеку свойственно вспоминать прожитые годы, подводя черту
своему пребыванию на земле, но всѐ же ему свойственно бороться за свою
жизнь и противостоять угрозе. Как человек, проведший часть своей жизни в бо-
ях, З. Прилепин как никто другой может описать всю радость и прелесть того,
что ты жив и здоров. В своем романе «Санькя» он описывает жизнь молодого
парня, в чей ещѐ не окрепший ум попадает идея вступить в партию национал-
большевиков «Союз созидающих» или сокращѐнно СС. Выступая на антипра-
вительственном митинге, он впервые за свою короткую жизнь задает себе про-
вокационный вопрос: зачем все это? Преследуемый полицейскими, он возвра-
щается в деревню, где, вспоминая детство и наблюдая за угасанием деда и су-
ществованием бабушки, не находит ничего, что может затронуть его душу. Но
приезжая обратно в город, он переосмысляет своѐ существование, впервые ду-
мая о том, что его жизнь не имеет цели. Как говорилось ранее, в русской языко-
вой картине мира жизнь всегда имеет цель, но здесь герой понимает, что все не
так как нужно, он не живет, а существует: «А сейчас и не пойму, к чему жил –
ничего нет, никого не нажил, как нежил» [2, с. 24].
В английском языке даже не рассматривается данное значение, хотя мы мо-
жем найти в словаре синонимов английского языка значение слова Life как
Experience, т.е. опыт, но не совсем в той коннотации, что представляется в рус-
ском языке.
Важно отметить, что в творчестве З. Прилепина всѐ, что тесно связано с
жизнью, также тесно связано с родом, а также женщиной, как человеком,
дающим жизнь. Автор обращает наше внимание на положение женщины в
стране, а также на то, что она способна на многое, как бы жизнь еѐ не испы-
тывала: «Характерно, что женщина во всех вышеназванных текстах всѐ-
таки, изо всех сил, живѐт и не сдаѐтся до последней минуты … Хотя
жить ей приходится, судя по некоторым внешним признакам, в настоя-
щем аду» [1, с. 18].
Как показало наше исследование в русской и английской языковых кар-
тинах мира концепт «Жизнь» является одним из основных концептов и
представляет собой не только существование или отрезок времени между
жизнью и смертью, но и насыщенная событиями действительность. Русскую
языковую картину мира отличает от американской наличие цели, другими
словами, жизнь обязательно должна иметь смысл, а также включать в себя
определѐнный набор духовных, физических, социальных и материальных
благ. Отсутствие какого-либо из вышеперечисленных компонентов, даже
одного, может привести, по мнению русского человека, к превращению
идеальной размеренной жизни в существование.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
57
ЛИТЕРАТУРА
1. Прилепин З. Женщина выходит на свет. М.: Астрель, 2008. 416 с.
2. Прилепин З. Санькя. М.: Ад Маргинем, 2008. 368 с.
3. Словарь синонимов. Под ред. А.П. Евгеньевой. Ленинград: Наука, 1975. 648 с.
4. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. (БАС). М.; Л., 1948–
1965.
5. Стогов И. Мачо не плачут. М.: Амфора, 2001. 216 с.
6. Толковый словарь русского языка. В 4-х т. Т. 2. Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996.
520 с.
7. Bukowski Ch. Ham On Rye. London: HarperCollinsPublishers, 1982.
8. Bukowski Ch. South of No North. South of No North. Stories of the Buried Life. USA: Black
Sparrow Press, CA, 1973.
9. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
1775 p. (CIDE).
10. Thompson H. Fear and Loathing in Las Vegas. A Savage Journey to the Heart of the American
Dream. Random House, 1971.
11. Webster‟s New World Thesaurus. Prepared by C.G.Laird. New York: Meridian, 1971. 678 p.
12. Wordsmyth Dictionary Thesaurus. http://www.wordsmyth.net (доступно на 15.12.2017).
13. http://historyonline.livejournal.com (доступно на 15.12.2017).
REFERENCES
1. Prilepin Z. Zhenshchina vyhodit v svet [The woman comes to light]. M.: Astrel, 2008. 416 p. (in
Russian).
2. Prilepin Z. Sankya [Sankya]. М.: Ad Marginem, 2008. 368 p. (in Russian).
3. Slovar sinonimov [A Dictionary of Synonyms] / Pod red. А.P. Yevgenijevoj. Leningrad: Nauka,
1975. 648 p. (in Russian).
4. Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka [A Dictionary of Modern Literary Lan-
guage]. V 17-ti t. М.; L., 1948–1965 (in Russian).
5. Stogov I. Macho ne plachut [Machoes don‟t Cry]. М.: Аmfora, 2001. 216 p. (in Russian).
6. Tolkovij slovar russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of the Russian Language]: V 4-h t. T.2
/ Pod red. D.N. Ushakova. М.: TERRA, 1996. 520 p. (in Russian).
7. Bukowski Ch. Ham on Rye. London: HarperCollinsPublishers, 1982.
8. Bukowski Ch. South of No North. South of No North. Stories of the Buried Life. USA: Black
Sparrow Press, CA, 1973.
9. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
1775 p. (CIDE).
10. Thompson H. Fear and Loathing in Las Vegas. A Savage Journey to the Heart of the American
Dream. Random House, 1971.
11. Webster‟s New World Thesaurus. Prepared by C.G.Laird. New York: Meridian, 1971. 678 p.
12. Wordsmyth Dictionary Thesaurus. http: // www.wordsmyth.net (accessed 15.12.2017).
13. http://historyonline.livejournal.com (accessed 15.12.2017).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
58
СПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА
УДК 81.23
Л.С. Абросимова
доктор филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Л.А. Багарад
студент ОП 45.03.02 – Лингвистика «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ПОЛИДИСКУРСИВНОСТЬ БИБЛЕЙСКИХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЁН [Larisa S. Abrosimova, Liliya A. Bagarad Polydiscoursivity of biblical precedent names]
The article is aimed at the identification of biblical precedent names of various types in the cor-
pus of modern English literature, journalism and other types of discourse (based on data from the
British Corpus of English). The analysis of some biblical precedent names allowed the authors to
draw a conclusion about the relevance of biblicalisms in different types of discourse. The biblical-
isms are most in demand in mass media sphere and in fiction.
Key words: the biblical text, biblicalisms, precedent name, polydiscoursivity.
В последние годы наблюдается активное развитие исследований прецедент-
ности с позиции сопоставления языковых картин мира носителей разных язы-
ков. С позиции теории лингвострановедения, исследователями которого явля-
лись Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, феномен прецедентности является
разноуровневым и разноплановым. Согласно Ю.Н. Караулову наблюдается не-
малое влияние прецедентного феномена на формирование образа языковой
личности.
Сохранение культурных традиций и культурного достояния являются одной
из задач разных современных наук. Очевидно, что библейский текст имеет пре-
цедентную значимость в масштабах мировой цивилизации [1, с. 20–23]. Текст
Библии не теряет своего прецедентного значения, он уникален с точки зрения
длительности своего существования и времени воздействия на все сферы куль-
туры. Данный текст живѐт в сознании миллионов носителей европейской и ми-
ровой культуры. Он бесконечно воспроизводится в произведениях, вновь про-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
59
дуцируемых на разных языках. Это, в свою очередь, подразумевает его посто-
янное динамическое варьирование [3, с. 207–212].
Прецедентные феномены – это основные (ядерные) элементы когнитивной
базы, являющие совокупность знаний и представлений носителей английского
языка, феномены, которые важны для той или иной личности в эмоциональном
и познавательном отношениях, имеют сверхличностный характер и хорошо из-
вестны не только узкому, но и широкому окружению данного носителя языка,
включая его современников и предшественников.
Для более глубокого и обширного восприятия библейских имен продолжа-
ют проводиться многочисленные исследования. Благодаря открытиям многих
современных исследователей, в сознании носителя языка постепенно вырисо-
вывается грань между вымыслом и реальным значением тех или иных преце-
дентных имен Библии, также проливается свет на истинный замысел использо-
вания данных имѐн в тексте Библии.
Существует множество классификаций использования библейских преце-
дентных имѐн (далее – БПИ) в различных дискурсах, что указывает на их функ-
ционирование в совершенно разных областях. Согласно Г.Г. Слышкину, функ-
ционирование БПИ востребовано в следующих дискурсах: в политических ло-
зунгах, афоризмах, плакатах; в текстах рекламы; в классических произведениях
зарубежной литературы, а также Библии; в зарубежных песнях; в исторических
афоризмах; в загадках, пословицах и считалках; в детских стихотворениях и
сказках; в анекдотах [4, с. 7, 72–78].
Согласно исследованиям (наиболее полным) С.Л. Кушнерук, функциониро-
вание БПИ в американском дискурсе реализуется в политике; экономике; спор-
те; науке; телевидении; киноискусстве; художественной литературе; мифоло-
гии; музыке; живописи; моде; играх [2, с. 11–13].
Е.А. Нахимова классифицирует БПИ по сферам-источникам следующим
образом: социальная сфера, к которой относятся экономика, политика, крими-
нал, война, медицина, образование, спорт и развлечения; сфера религии, к ко-
торой относятся тексты религиозного характера; научная сфера, к которой от-
носятся история, география, филология, математика, биология, химия и физика;
сфера творчества или искусств (литература, мифология, фольклор, кино, театр,
музыка, архитектура и изобразительные искусства) [3, с. 89–90].
Известно, что любые изменения в обстановке в стране, будь то политиче-
ской или культурной, оказывают влияние на использование тех или иных пре-
цедентных имѐн, расширяют их значения или порождают новые, а иногда пре-
цедентные имена устаревают и выходят из употребления.
Согласно анализу БПИ по данным British National Corpus (далее – BNC) и
Corpus of Contemporary American English (COCA) сфера СМИ наиболее активна
в использовании БПИ. Сегодня они часто употребляются политиками, журна-
листами, общественными и культурными деятелями (30% согласно данным
BNC). Второй по частотности употребления БПИ является сфера художествен-
ной литературы.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
60
Приведѐм более развернутый анализ некоторых прецедентных имѐн.
Spirit (6310 словоупотреблений) – дух, душа, настроение, спиритический,
воодушевлять. Это одно из древнейших прецедентных имѐн Библии. Это слово
пронизывает всю Библию и является одним из самых частотных имѐн в Библии.
С ним читатель сталкивается уже в первой главе первой книги, где, исходя из
контекста, можно предположить, что данное слово знаменует движение, трепе-
тание (в значении синонимичном тому, как трепещет мать над младенцем),
привнесение жизни и света, вдохновение жизни, восстановление жизни (из
«пустыни», «пустоты», «тьмы»). Это же имя мы видим и в последней главе по-
следней книги Библии. But the earth became waste and emptiness, and darkness
was on the surface of the deep, and the Spirit of God was brooding upon the surface
of the waters (Genesis 1:2). Но земля стала пустыней и пустотой, и была тьма
над поверхностью пучины, и Дух Божий трепетал над поверхностью вод (Быт
1:2).
Среди рассматриваемых единиц встречаются слова разных частей речи: су-
ществительное spirit со значениями душа; дух; натура, личность, индивидуаль-
ность; человек, индивидуум; моральная; сила, энергия, решительность; жи-
вость, горячность, задор; глагол to spirit – оживлять; подбадривать, придавать
смелости, решительности; воодушевлять, вдохновлять; (разг.) тайно унести,
увести, похитить. Слово spirit используется в следующих словосочетаниях: to
case-harden the spirit – закалить дух; to catch the character, spirit – уловить ха-
рактер, дух; to deject smb.'s spirit – портить кому-л. настроение; to enter into
the spirit of smth. – проникаться духом чего-л.; kindred spirit – родственная ду-
ша; the spirit of the law – дух закона; sinners, in other words those who are poor in
spirit – грешники, другими словами, нищие духом; refractory spirit – непокорный
человек; revolted spirit – мятежный дух.
Из статистического анализа были исключены однокоренные слова, такие,
как inspirit – вдохнуть, воодушевить, воодушевлять, ободрять; spirited – энер-
гичный, живой, горячий, оживленный, смелый; spiritism – спиритизм; spiritless
– безжизненный, вялый; spirits – настроение.
Приведѐм данные частотности употребления spirit в различных дискурсах
(по данным BNC): spoken – 442; fiction – 881; magazine – 409; newspaper – 512;
non-academic – 888; academic – 650, miscellaneous – 2528.
Библейское прецедентное имя Hell (5005 словоупотреблений) амер. – шеол,
ад (древнегреч. – «преисподняя, подземное царство»), Геена Огненная. Приме-
чательно то, что впервые данное слово употребляется в самой первой книге
Библии – Бытии. Surely I will go down to Sheol to my son, mourning. Thus his fa-
ther wept for him. (The Book of Genesis ch.37 v.35b) (…Поистине я сойду с пла-
чем к моему сыну в Шеол. – Так его отец оплакивал его (Бытие 37:35б). Инте-
ресен тот факт, что слово Sheol в Библии Короля Якова опускается, и вместо
него используется выражение – go down into the grave, что является буквальным
переводом еврейского нарицательного имени. Возраст данного библеизма на-
считывает почти две тысячи лет. С тех пор данное имя расширило круг своих
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
61
значений: ад, преисподняя; горный дом; притон; дешѐвый ресторан или бар;
что-л. очень сложное или неприятное; мука; ящик, куда портной бросает обрез-
ки; полигр. ящик для сломанных литер; амер. печь для сжигания отходов про-
изводства (на лесозаводах и т.п.). Глагол имеет следующие значения: мчаться,
нестись, (разг.) гулять, кутить (обыкн. hell around). Выявлены примеры с меж-
дометиями Hell no! – 100% нет! / Ни за что в жизни! Hell yes/ Yeah! – Естест-
венно/ Конечно, да!/ Иначе быть не могло! А hell of a comedown! – дьявольски
не повезло! Чертовская неудача! Также обнаружены следующие словосочета-
ния: a hell of a team – отличная команда; black as hell (night, pitch, my hat) –
тьма кромешная; hell of a noise – адский шум; the devil (and hell) to pay – куча
неприятностей, всевозможные беды; hell of a way – чертовски далеко; heaven-
or-hell bond – двухвалютная облигация (изменяется в зависимости от измене-
ния валютного курса); casted into hell – ввергнутый в ад и др.
Слово hell активно употребляется в паремиях: give someone hell – задать
жару, поставить на место, ругать; the/ to hell with him /her/ it – да, черт/ фиг с
этим! Like hell – мигом, очень быстро, торопливо; when hell freezes over – ко-
гда рак на горе свистнет; for the hell of it – делать что-то просто так, ради
веселья и забавы.
Из статистического анализа были исключены однокоренные слова, такие,
как hellish – адский, отвратительный, злобный, противный, бесчеловечный,
дьявольский; hellion – озорник, беспокойный человек, шаловливый ребѐнок, не-
послушный ребѐнок.
Приведѐм данные частотности употребления hell в различных дискурсах (по
данным BNC): spoken – 1222; fiction – 2369; magazine – 333; newspaper – 330;
non-academic – 175; academic – 110; miscellaneous – 466.
Библейское прецедентное имя Holy (2925 словоупотреблений) – святой,
священный, праведный, безгрешный, святыня, святилище. Данное слово изна-
чально употреблялось как прямое качество Бога. Так, в Псалмах 71:22 говорит-
ся: I will also praise You with the harp, I will praise Your faithfulness, my God; I will
sing psalms to You with the lyre, O Holy One of Israel. (Я тоже буду хвалить Тебя
под арфу, Хвалить Твою верность, Бог мой; Я буду петь Тебе псалмы под лиру,
Святой Израилев).
В BNC обнаружены примеры с прилагательным holy (часто Holy) со значе-
ниями святой; священный; святейший; (Holy) священный; праведный, безгреш-
ный; непорочный; святой; благочестивый; (эмоц.-усил.) ужасный, крайний,
чрезвычайный; с существительным holy со значениями: святыня; святилище;
(Holy) господь, всевышний. Также обнаружены следующие словосочетания: ho-
ly ground – священная земля; holy day – религиозный праздник; the Holy Writ –
уст.; рел. Священное Писание, Библия; by the holy poker! – ей-ей! ей-богу! holy
terror – надоедливый ребенок; the holy ampulla – священный сосуд; chest with ho-
ly relics – ларец с мощами; holy cow – священная корова; holy-day – церковный
праздник; Holy Spirit – Святой Дух; Holy matrimony – священные узы брака;
Holy City – Священный город (Иерусалим, Рим и т.п.); Holy Father – Святей-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
62
ший отец (папа римский); Нoly relics – священные реликвии; Holy mackerel! –
Ничего себе! Вот это да!
Из статистического анализа были исключены однокоренные слова, такие,
как holiness – святость, благочестие, праведность; holily – свято, благочести-
во, добросовестно, торжественно.
Приведѐм данные частотности употребления holy в различных дискурсах
(по данным BNC): spoken – 281; fiction – 454; magazine – 121; newspaper – 141;
non-academic – 484; academic – 245; miscellaneous – 1199.
Таким образом, исходя из вышеприведенных данных, можно сделать, вы-
вод, что библейские прецедентные имена прочно укоренились во многих сфе-
рах английского языка. Больше всего данные имена реализованы в массмедий-
ной сфере и в художественной литературе. Ярким показателем востребованно-
сти библеизмов является их интенсивное употребление в научном дискурсе.
Это еще раз подтверждает тот факт, что библейский текст является одним из
центральных в английской культуре и использование библейских имен в раз-
личных дискурсах является частью их традиции. Но к сожалению, часто ис-
пользование библейских прецедентных имен в той или иной сфере лингвокуль-
туры основывается на содержании, которое никак не связанно с сакральностью,
в связи с чем и наблюдается продуцирование многочисленных, не связанных с
оригиналом, значений определенного БПИ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Илюшкина М.Ю. Прецедентные феномены в российской и британской печатной рекламе
услуг для туристов: дисс. … докт. филол. наук. Екатеринбург. 2008. 23 с.
2. Кушнерук С.Л. Сопоставительное исследование прецедентных имен в российской и аме-
риканской рекламе: дисс. … канд. филол. наук. Челябинск. 2006.
3. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. Екатеринбург. ГОУ ВПО
«Урал. гос. пед. ун-т»; Ин-т социального образования. 2007. 207 с.
4. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов. М.: Academia. 2000.
78с.
5. British National Corpus (BYU-BNC) // https://corpus.byu.edu/ (доступно на 20.12.2017).
6. King James Bible // https://www.kingjamesbibleonline.org/ (доступно на 12.12.2017).
7. The Holy Bible Recovery Version // http://online.recoveryversion.bible (доступно на
20.11.2017).
REFERENCES
1. Iljushkina M.Ju. Precedentnye fenomeny v rossijskoj i britanskoj pechatnoj reklame uslug dlja
turistov [Precedent phenomena in the Russian and British print advertizing of services for tour-
ists]: diss. … dokt. filol. nauk. Ekaterinburg. 2008. 23 p. (in Russian).
2. Kushneruk S. L. Sopostavitel'noe issledovanie precedentnyh imen v rossijskoj i amerikanskoj
reklame [Comparative research of case names in the Russian and American advertising]: diss. …
kand. filol. nauk.Cheljabinsk, 2006 (in Russian).
3. Nahimova E.A. Precedentnye imena v massovoj kommunikacii [Precedent names in mass com-
munication]. Ekaterinburg. GOU VPO Ural. gos. ped. un-t; In-t social'nogo obrazovanija. 2007.
207 p. (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
63
4. Slyshkin G.G. Lingvokul'turnye koncepty precedentnyh tekstov [Linguocultural concepts of
precedent texts]. M.: Academia, 2000. 78 p. (in Russian).
5. British National Corpus (BYU-BNC) // https://corpus.byu.edu (accessed 20.12.2017).
6. King James Bible // https://www.kingjamesbibleonline.org (accessed 12.12.2017).
7. The Holy Bible Recovery Version // http://online.recoveryversion.bible (accessed 20.11.2017).
УДК 81.23
Л.С. Абросимова
доктор филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Ю.Г. Коч магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС
И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ИНФОРМАТИВНОСТЬ, ОЦЕНОЧНОСТЬ, ПЕРСУАЗИВНОСТЬ) [Larisa S. Abrosimova, Juliya G. Koch Advertising discourse and its functional characteristics
(informative, evaluative, persuasive)]
The purpose of the article is to identify and describe the aims and the main features of advertis-
ing discourse. The authors distinguish three main functional characteristics of the advertising dis-
course: informative, evaluative, persuasive and illustrate them with Russian and English colouro-
nims.
Key words: discourse, advertisement, advertising discourse, axiology, informativeness, persu-
asiveness.
В современной жизни реклама играет большую роль, существенно форми-
руя наши взгляды, предпочтения и отношение к окружающему миру, а также
предлагая ситуационные формы поведения.
История возникновения рекламы корнями восходит к Древнему Египту, ко-
гда, например, на папирусе размещали объявления о продаже рабов, описывали
и восхваляли разные предметы: от оливкового масла до предметов оружия.
Долгий период существования рекламы не мог не изменить еѐ целей, каче-
ства и функциональных особенностей. По мнению психологов, она прошла
путь от простого информационного сообщения к попыткам увещевания, от
увещеванию – к созданию условного рефлекса, от выработки условного реф-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
64
лекса – к подсознательному внушению, от подсознательного внушения – к про-
ецированию изображения [3].
В мире реклама представляет форму коммуникации, на эффективность ко-
торой влияет множество факторов: 1) условий коммуникации, 2) статуса адре-
сата как группы социума: принадлежности адресата к тому или иному уровню
потребителя, 3) религиозных, политических, гендерных и других социальных
особенностей общества, 4) профессиональных и личностных потребностей, 5)
субъективных особенностей рекламируемого товара.
Основной целью рекламы является продвижение рекламируемого продукта
на рынке услуг или товаров. Достижение целей происходит путѐм создания
общения между рекламодателем и потенциальным потребителем, т.е. путѐм
создания рекламного дискурса.
В современном коммуникативном пространстве в информационную эпоху
рекламный дискурс представляет собой один из наиболее активно развиваю-
щихся типов дискурса. В современной лингвистике выделяют два основных ти-
па дискурса: персональный и институциональный [1, с.5]. В персональном дис-
курсе на первое место выступают личностные характеристики и потребности
говорящего; в институциональном дискурсе языковая личность выступает пред-
ставителем того или иного общественного института.
Современный «рекламный дискурс является институциональным типом
дискурса, ориентированным на продвижение товаров и услуг на рынке и в соот-
ветствии с этим в явной или неявной форме пропагандирующий ценности и ус-
тановки общества потребления, а также определѐнный стиль жизни» [2, с.5].
Персональный и институциональный виды дискурса имеют схожие цели, одна-
ко существует некоторое отличие рекламного дискурса как институционально:
коммуникативная среда других типов дискурса предполагает включение участ-
ников в результате возникшей потребности или личного желания, в коммуника-
тивную среду рекламного дискурса они часто попадают вопреки желанию [2].
Следовательно, можно прийти к заключению, что рекламный дискурс пред-
ставляет собой социокультурный феномен и является неотделимой частью бо-
лее обширного социального взаимодействия, при этом охватывая многие сферы
жизни и деятельности современного социума.
Анализ научной литературы по проблеме позволил выделить основные цели
рекламного дискурса: 1) воздействующая, целью которой является создание оп-
ределѐнных шаблонов и мотивов поведения и закрепление ценностных ориен-
тиров в сознании личности; 2) социальная, формирующая общественное созна-
ние, и в целом, нацеленная на улучшение качество жизни; 3) информационная,
направленная на масштабное распространение информации о товарах и услугах,
их характере, свойствах и местах продажи; 4) экономическая, заключается в
распространения товаров и получении финансовой прибыли (за исключением
социальной рекламы); 5) оценочная, цель которой сводится к передаче реципи-
енту положительного отношения к товару [2, с.12].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
65
К наиболее важным функциональным характеристикам рекламного дискур-
са относятся: 1) оценочность; 2) информативность; 3) персуазивность.
Оценочный компонент – необходимый элемент рекламного дискурса. Самая
часто встречающаяся здесь оппозиция – хороший-плохой, при этом часто в рек-
ламном сообщении используется лексема хороший и еѐ синонимы градацион-
ного характера: великолепный, прекрасный, волшебный, изумительный, фанта-
стический и т.д. Они типичны как для русского, так и для английского языков.
Английское слово good употребляется при характеристике предмета или яв-
ления и обозначает привлекательное качество. Например, в рекламном слогане:
Is your film as good as Gold? (Kodak advertising slogan) компонент good даѐт ха-
рактеристику товара как соответствующего норме, в то же время реклама пред-
ставляет более высокую оценку предмета, поэтому прилагательное хороший
усиливается за счет слова gold.
Привлекательность рекламы достигается и другими примерами эмотивной
лексики: Mystical blues. Mysterious eye-catching cool tones! В данном случае к
словам mystical и mysterious для усиления эффекта добавлено слово eye-
catching.
Для языка русской рекламы также характерны общеоценочные прилага-
тельные, которые образуют синонимичный ряд (прекрасный, отличный, пре-
восходный, великолепный, волшебный, королевский, ослепительный):
«Чѐрный жемчуг» оказывает поистине волшебное действие.
Орифлейм. Мой секрет красоты – «Королевский чѐрный бархат». Моника
Беллучи.
Orbit White. Ослепительная улыбка и защита от кариеса.
Информативность опирается на значение бытийности, наличие конкретной
информация о товаре является обязательным. В работе «Национально-
культурная специфика языка маркетинга: рекламное послание в лингвистиче-
ском аспекте» [4, с. 22] выделяют 16 образцов словосочетаний: 1)конкретное
наименование товара; 2) наименование товара + его происхождения;
3) наименование товара + его предназначения; 4) наименование товара + кон-
кретизатор места продаж; 5) наименование товара + конкретизатор упаковки;
6) наименование товара + социально-психологического адресата;
7) наименование товара + конкретизатор его цены; 8) наименование товара +
конкретизатор уровня его исполнения; 9) наименование товара + конкретизатор
характера продаж или оплаты; 10) наименование товара + технологический
конкретизатор; 11) наименование товара + конкретизатор его исходных мате-
риалов; 12) наименование товара + конкретизатор ассортимента;
13) наименование товара + дополнительные услуги; 14) наименование товара +
конкретизатор количества товара; 15) наименование товара + конкретизатор
торговой марки; 16) наименование товара + комплексный конкретизатор
[4, с. 24].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
66
В нашем материале, опирающемся на рекламные сообщения с использова-
нием цветообозначений, наиболее распространенными являются следующие
модели:
1) наименование товара + конкретизатор его происхождения: Icy mint trend
for the summer – made by MANGO;
2) наименование товара + конкретизатор социально-психологического адре-
сата: От рукава до пят: пять мужских спортивных костюмов цвета хаки (Ru
Marc Fashion); New fragrance for women «GOLD» – TRANSCEND THE ORDI-
NARY;
3) наименование товара + конкретизатор его уровня: Сверхкомпактная ка-
мера Nikon Coolpix Black;
4) наименование товара + конкретизатор уровня его исполнения: «The Green
Fold» – Water Saver jeans. Product made by consuming per cent less water;
5) наименование товара + конкретизатор его исходных материалов: Faberlic
Aquamarin: Тушь Aquamarin с материалами;
6) наименование товара + конкретизатор количества товара: Apple два новых
iPhone: золотой и серебристый;
7) наименование товара + торговая марка: Feel the Velvet. Smooth as Velvet;
Жевательная «Орбит Белоснежный».
Третья функциональная характеристика рекламного дискурса – персуазив-
ность. Ранее было отмечено, что рекламный дискурс и реклама в целом направ-
лена на формирование устойчивых стереотипов и установок в сознании адреса-
та. Основополагающая установка персуазивности – это побуждение покупателя
приобрести тот или иной товар или услугу. Приведѐм следующий пример: Pra-
da. They say every girl has to own a little black dress because of its timeless style and
universally flattering appeal. В данной рекламе авторы слогана при помощи со-
четания has to own убеждают реципиента в необходимости приобрести данный
товар, при этом давая положительную оценку продукта: because of its timeless
style and universally flattering appeal. Таким способом реклама не описывает то-
вар или продукт, что характерно для информативности как функциональной
характеристики рекламного дискурса, а создает положительный имидж у адре-
санта.
Вследствие этого внимание клиента сосредоточено на имиджевых характе-
ристиках продукта, в большинстве своѐм преувеличенных, но положительно
«заряженных». Так, в рекламе стоматологической клиники: BluePhantDental.
The fastest, longest warrantied repairs on digital sensors in the world! с помощью
прилагательных the fastest, the longest и особенно сочетания in the world создан
образ рекламируемого продукта, который привлекает внимание покупателя.
В следующей рекламе за счѐт игры слов affordable – luxury – modern, рекла-
модатель очень удачно создаѐт положительный образ: Grey Velvet online!
Affordable Аfrican luxury for modern womеn. Здесь у реципиента формируется ус-
тановка «доступной роскоши».
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
67
Проанализировав основные функциональные характеристики рекламного
дискурса, можно сказать, что рекламный дискурс – это «завершѐнное сообще-
ние», направленное исключительно на привлечение внимания покупателя. Осо-
бенностью рекламного дискурса является описание продукта, при этом главной
целью всей рекламы является побуждение адресата к принятию решения о при-
обретении товара. Именно поэтому особое внимание уделяется функциональ-
ным характеристикам рекламного дискурса. Удачный рекламный текст – это
такое описание товара, при котором любая информация формирует устойчи-
вые положительные стереотипы и установки в сознании адресата.
ЛИТЕРАТУРА
1. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональ-
ный дискурс. Волгоград, 2000. С.5–20.
2. Рекламный дискурс и рекламный текст: коллективная монография / науч. ред. Т.Н. Коло-
кольцева. М.: Флинта: Наука, 2011. 296с.
3. Салюков М.А. Влияние образа мира личности на еѐ отношение к рекламной информации в
экономической сфере: автореферат дис. ... кандидата психол. наук. Сочи: Науч.-образоват.
центр РАО, 2005. 23с.
4. Фаст Л. Национально-культурная специфика языка маркетинга: рекламное послание в
лингвистическом аспекте // Русский язык за рубежом. 2003. №1. С. 22–25.
REFERENCES
1. Karasik V.I. O tipah diskursa [About discourse types] // Jazykovaja lichnost': institucional'nyj i
personal'nyj diskurs [Language personality: institutional and personal discourse]. Volgograd,
2000. Pр. 5–20 (in Russian).
2. Reklamnyj diskurs i reklamnyj tekst: kollektivnaja monografija [Advertizing discourse and ad-
vertizing text: collective monograph] / nauch. red. T.N. Kolokol'ceva. M.: Flinta: Nauka, 2011.
296 р. (in Russian).
3. Saljukov M.A. Vlijanie obraza mira lichnosti na ee otnoshenie k reklamnoj informacii v jekono-
micheskoj sfere [The influence of the personality's image of the world on its relation to adver-
tisement in the economic sphere]: avtoreferat dis. ... kand. psihol. nauk. Sochi: Nauch.-
obrazovat. centr RAO, 2005. 23 р. (in Russian).
4. Fast L. Nacional'no-kul'turnaja specifika jazyka marketinga: reklamnoe poslanie v lingvisti-
cheskom aspekte [National and cultural specifics of the marketing language: the advertizing
message in the linguistic aspect] // Russkij jazyk za rubezhom [The Russian Language Abroad].
2003. № 1. Pр. 22–25 (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
68
УДК 81
A.A. Кальченко
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»,
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Л.В. Гущина
кандидат филологических наук, доцент
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА [Alexandra A. Kalchenko, Lyudmila V. Gushchina Political Detective
in the Context of Postmodernism]
The article deals with the concepts of the detective and its subgenre – the political detective sto-
ry, gaining its special popularity during the postmodernism era, as well as the structure of a detec-
tive story and its specifics. The political detective story, based on real events, does not claim to
show the true situation, it avoids concrete interpretation of political and social processes and mini-
mizes the value of the author‟s judgments. The detective plot plays a supporting role and is neces-
sary only to create a kind of art world in the literary work.
Key words: detective, political detective, postmodernism, genre.
В современном мире традиционные жанры литературы всѐ чаще видоизме-
няются, трансформируются и делятся на подвиды под влиянием запросов ауди-
тории. Период конца ХХ – начала ХХI в. ознаменовался большим количеством
событий, имеющих международное значение. Многие из исторических событий
того периода до сих пор являются предметом дискуссий политологов, социоло-
гов и историков. Глобальные политические события находят своѐ отражение в
художественной литературе различных авторов.
В конце ХХ в. жанр детектива вступает в эпоху постмодернизма, отходя от
своей классической структуры. И именно тогда политический детектив стано-
вится одним из самых популярных поджанров детектива. Для того чтобы изу-
чить взаимосвязь фактов вступления жанра детектива в эпоху постмодернизма
и развития политического детектива, на наш взгляд, следует более детально
рассмотреть сущность понятия «детектив» в литературе, структуру детективно-
го произведения и особенности данного жанра в различные эпохи.
Детектив всегда являлся одним из самых популярных жанров в литературе,
рассчитанной на массового потребителя: «детектив – жанр литературы, осно-
ванный на описании истории совершения и разоблачения преступления, выяв-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
69
ления преступника» [2]. Действие детектива традиционно разворачивается во-
круг совершѐнного преступления, разгадка которого становится финалом про-
изведения. Необходимо отметить, что одной из основных особенностей детек-
тива является то, что центральное событие эмпирически не явно для читателя в
завязке произведения, при этом аудитория постепенно получает подтверждения
свершившегося преступления (так называемые улики). Таким образом, всѐ дей-
ствие разворачивается в обратном временном порядке, от результата действия –
к причине этого действия. «В силу этого внешний сюжет детектива выстраива-
ется как история раскрытия преступления, а внутренний – как когнитивная ис-
тория решения логической задачи» [1]. Главным героем произведения в жанре
детектива является сыщик, следователь или случайный свидетель какого-либо
преступления. Обобщив, необходимо сказать, что главное действующее лицо в
детективном романе – это субъект, решающий логическую задачу. Именно от-
ношения сыщика и преступника являются основополагающими в детективе.
При этом рассматриваемый жанр допускает другие социальные, лирические
или психологические линии сюжета, однако, они не являются первостепенны-
ми.
На сегодняшний день возможным представляется выделить три основных
этапа развития детектива как жанра: классический детектив (до середины
ХХ в.), модерн (1950-е – 1970-е гг.) и постмодерн (с середины 70-х гг. ХХ в.).
Классический детектив базируется на имплицитном положении о том, что
существует некая истинная картина преступления. В основе такой картины
преступления находится преступник, выступающий демиургом реальности ли-
тературного произведения. Драматургия классического детектива заключается
в том, что улики, которые находит следователь или сыщик, интерпретируются
неправильно в ходе всего повествования, либо неизвестны ни читателю, ни ге-
рою произведения. Ещѐ одним положением детектива классического периода
является обязательное торжество справедливости в заключение романа. При
этом справедливость не всегда предстаѐт в правовом плане, а часто является
нравственной справедливостью. Последняя тождественна понятию нормы:
«всегда, в конце концов, торжествует норма – интеллектуальная, социальная,
юридическая и моральная» [4].
В период модерна детектив подвергает сомнению постулат о торжествую-
щей норме и порядке устройства мира, в котором существуют литературные
герои. Главным героем детективного романа эпохи модерна становится субъ-
ект, находящийся в дисгармонии с окружающей действительностью. «Идеал
классической культуры в условиях культуры неклассической не просто подвер-
гается сомнению, – в фокусе внимания искусства оказываются условия воз-
можности выживания человека в условиях его конфликта с бытием: в парадок-
сальной гармонии с дисгармонией мира оказывается имманентная дисгармония
разорванного сознания» [3]. Кроме того, модернистский детектив предлагает
читателю смириться с невозможностью абсолютно точного воссоздания истин-
ного ряда событий, а значит, и реконструкции картины преступления. Один и
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
70
тот же субъект детективного романа может выступать жертвой и преступником
в течение всего произведения. В модернистском романе смещается акцент на
интерпретацию фактов. Если в классическом детективе основную значимость
имела расстановка фактов в правильной последовательности для того, чтобы
прийти к решению логической задачи, то теперь особенная значимость видится
в правильной интерпретации фактов и улик. В финале модернистского детекти-
ва, как правило, читатель в той или иной мере сам делает выводы о том, как
произошло преступление, таким образом, читатель частично становится соав-
тором.
Детектив в эпоху постмодернизма приобретает черты, характерные для по-
стмодернистской культуры в целом. Весь детективный роман строится на це-
почке интерпретаций, при этом каждая из возможных интерпретаций может
претендовать на истинность, однако, при этом сам процесс поиска разгадки
может быть обречен на неудачу. Следует отметить, что в постмодернистском
романе, в отличие от романа модернистского, полностью отрицается возмож-
ность выбора правильной реконструкции преступления, равно как и становится
невозможной норма и справедливость в нравственном плане. Вся действитель-
ность детективного романа становится симулякром, как и действительность
любого постмодернистского литературного произведения.
Именно в контексте постмодернизма политический детектив может полно-
стью реализоваться. Политический детектив, часто основанный на реальных
событиях, не претендует на то, чтобы показать истинное положение дел. Кроме
того, политический детектив не строится вокруг единственной цели разгадать
загадку преступления. На первый план выходят политические и социальные
процессы, которым не даѐтся конкретная интерпретация, а оценочные суждения
автора сводятся к минимуму. Сам детективный сюжет становится второстепен-
ной частью романа, необходимой лишь для создания художественного мира
внутри литературного произведения. Таким образом, следует говорить о том,
что развитие и популяризация политического романа возможны только в усло-
виях культуры постмодернизма.
ЛИТЕРАТУРА
1. Грицанов А.А. Идеология // Новейший философский словарь. Минск: Изд-во ВМ Скакун.
1998. С. 256–257.
2. Литовская М., Николина Н., Купина Н. Массовая литература сегодня. М.: Litres, 2017.
3. Можейко М.А. Детектив как художественный жанр и его трансформации в современной
культуре. М., 2011.
4. Эко У. Метафизика детектива // www.ruthenia.ru/volsky/txt/eco.doc (доступно на
12.12.2017).
REFERENCES
1. Gricanov A.A. Ideologija (Ideology) // Novejshij filosofskij slovar' [The Latest Philosophical
Dictionary]. Minsk: izd-vo VM Skakun. 1998. Pp. 256–257 (in Russian).
2. Litovskaja M., Nikolina N., Kupina N. Massovaja literatura segodnja [Popular Literature Today].
M.: Litres, 2017 (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
71
3. Mozhejko M.A. Detektiv kak hudozhestvennyj zhanr i ego transformacii v sovremennoj kul'ture
[The detective as an Art Genre and its Transformations in Modern Culture]. M., 2011 (in Rus-
sian).
4. Jeko U. Metafizika detektiva [Metaphysics of the Detective] // www.ruthenia.ru/volsky/txt/eco.-
doc (accessed: 12.12.2017) (in Russian).
УДК 808
К.Н. Куцаева магистрант ОП 45.04.02 – Сопоставительное изучение культур
и инновационные стратегии профессиональной коммуникации
Донского государственного технического университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
К.Н. Симонова
кандидат филологических наук, доцент
Донского государственного технического университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АМЕРИКАНИЗМОВ В БРИТАНСКОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ [Klavdiya N. Kutsaeva, Karina N. Simonova Functional and Stylistic
Aspects of Americanisms in British Internet-Discourse]
This article is devoted to the analysis of americanisms in British Internet- discourse on the basis
of a comparative analysis of the functioning of the borrowed items. The newspaper discourse im-
plemented by the media, particularly the press, constructs a world of people and their actions as an
event. The representation of events in the newspaper discourse can be carried out through language.
Having explored americanisms we came to the conclusion that an integral part of the semantic
structure of americanisms is a stylistic component that serves as the implementation of certain sty-
listic features.
Key words: newspaper discourse, Internet-discourse, americanism, thematic group, functional
and stylistic features.
Данная статья посвящена изучению американизмов в британском Интернет-
дискурсе на основе анализа функционирования заимствованных единиц – аме-
риканизмов.
В современном мире многие печатные газеты, в том числе и британские,
при возрастающей роли Интернета в формировании массового сознания и
влияния на общественное мнение, создают сетевые версии своих изданий, что-
бы увеличить свою аудиторию. Система средств массовой коммуникации за
последние несколько десятилетий претерпевает качественные изменения. Это
связано с эволюцией коммуникационных каналов под действием социально-
культурных и технико-экономических факторов, появлением наряду с традици-
онно сформировавшимися двумя родами коммуникации – устной и документ-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
72
ной – электронной коммуникации, основанной на космической радиосвязи,
микроэлектронной и компьютерной технике, оптических устройствах записи
[3, c. 106].
Е.В. Костенко утверждает, что содержание сетевых изданий представляет
собой новую своеобразную видоизмененную форму текстов традиционных
средств массовой информации. С одной стороны, они содержат признаки пуб-
лицистических текстов печатных изданий, а с другой – тексты сетевых изданий
имеют специфические лингвостилистические черты, связанные с техническими
особенностями функционирования сетевых изданий и тонкостями восприятия
их Интернет-пользователями [2, с. 65].
Прежде чем говорить о функционально-стилистических особенностях аме-
риканизмов в британском Интернет-дискурсе, следует пояснить термин «аме-
риканизм». Американизмы – это лексика, входящая в литературный язык, но
имеющая территориальные ограничения в пределах американского варианта
английского языка [1, c. 73].
В данной статье мы рассмотрим примеры американизмов в британском Ин-
тернет-дискурсе в соответствии с тематическими группами. Следует остано-
виться на понятии «тематическая группа» и обозначить еѐ отличия от лексико-
семантической. Тематические группы – это группы слов, объединѐнные каким-
либо общим родовым понятием и, в отличие от лексико-семантических групп,
основываются не на лексико-семантических связях, а на классификации самих
предметов и явлений [4, c. 206]. Поэтому можно сделать вывод, что тематиче-
ская группа в отличие от лексико-семантической группы чаще всего является
более обширной. В тематической группе слова имеют нейтральную семантиче-
скую связь между собой и опираются на связи самих явлений, процессов или
предметов. На наш взгляд, в данной работе распределение лексики по темати-
ческому принципу даѐт возможность систематизировать слова по смысловому
сходству. Все приведѐнные ниже примеры можно разбить по следующим тема-
тическим группам: 1) общественно-политическая лексика; 2) музыкальная
культура; 3) мода; 4) реклама; 5) компьютерные технологии; 6) экономическая
лексика; 7) криминальная лексика.
Представленные тематические группы американизмов описывают социаль-
ные и культурные явления, которые актуальны в общественной практике и по-
этому представляют особый интерес для их отражения в газетных статьях.
При исследовании функционально-стилистической нагрузки американизмов
в британском Интернет-дискурсе нами были выделены три основные функции:
эмотивно-эмоциональная, выразительная и экспрессивная, оценочная.
1. Общественно-политическая лексика: «But that is much harder than it
seems and may come to be seen as yesterday‘s principal success. What is sure is that
he should return to the barnstorming – on fundamental Conservative principles of
less spending, sound finances and lower taxes» [6].
Но ситуация намного сложнее, чем кажется, и может теперь рассматривать-
ся лишь как выдающийся успех прошлого. Можно быть уверенным лишь в том,
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
73
что он должен вернуться к игре на публику, основную на консервативных
принципах – уменьшение расходов, устойчивость финансов и снижение нало-
гов.
В данном случае слово barnstorming несет эмотивную функцию, потому что
вместо британского grandstanding употреблен американизм.
«His announcement followed a flurry of gaffes, policy missteps and scandals that
have rocked the three-week-old Brazil administration, including the resignation of
two ministers» [7].
Его заявление было сделано после множества оплошностей, политических
просчетов и скандалов, которые потрясли трехнедельное бразильское прави-
тельство, в том числе и отставка двух министров.
В данном случае слово administration несѐт эмотивную функцию, потому
что вместо британского government употреблен американизм.
2. Музыкальная культура: «However, Jane couldn't resist teasing the crowds
as she added an extra pop of colour to her look with a contrasting scarlet manicure»
[7].
Тем не менее, Джейн не могла не подразнить толпу, как она сама добавила,
что дополнительный шик еѐ образу прибавляет контрастный алый маникюр.
В этом примере американизм pop также употреблен в переносном значении,
и употребление американизма придает экспрессивность высказыванию.
3. Мода: «Will Ferrell is making the most of his supermodel looks by promoting
a new brand of sunscreen» [6].
Уилл Феррелл делает большинство луков своих супермоделей, продвигая
новый бренд солнцезащитного крема.
В данном случае слово «brand» несѐт эмотивную функцию, потому что по-
казано субъективное отношение к содержанию сообщения.
4. Реклама: «The day will equip small businesses with the knowledge and skills
needed to boost exports and better position their brand nationally and globally» [5].
В ближайшее время в малом бизнесе появятся знания и навыки, необходи-
мые для стимулирования роста экспорта, что улучшит положение брендов на
национальном и глобальном уровнях.
В данном случае употребление американизма boost придаѐт экспрессив-
ность высказыванию.
«The ads, which have been posted in London tube stations, feature unattributed
quotes from classics including Henry David Thoreau» [5].
Объявления, которые были размещены в станциях метро Лондона – цитаты
из классики неопределѐнного происхождения, в том числе и Генри Дэвид Торо.
В данном случае слово ad несѐт эмотивную функцию, потому что вместо
британского advertisement употреблен американизм.
5. Компьютерные технологии: «Eight out of 10 18-year-olds worldwide be-
lieve young people are in danger of being sexually abused or taken advantage of on-
line, a study suggests» [5].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
74
В исследование выяснилось, что 80% 18-летних подростков во всѐм мире
считают, что молодые люди находятся под угрозой сексуального насилия он-
лайн из-за чрезмерного пользования Интернетом.
В данном случае слово «online» несет эмотивную функцию.
6. Экономическая лексика: «Children are big business these days» [5].
Дети – это большой бизнес в наши дни.
В данном случае употребление американизма big business придает экспрес-
сивность высказыванию, так как явно выражено эмоциональное отношение ав-
тора к предмету высказывания.
7. Криминальная лексика: «Bootleg sales of alcohol and tobacco are costing
the small shopkeeper an average of £700 a week» [5].
Контрабандные продажи алкоголя и табака в мелких магазинах составляют
в среднем 700 £ в неделю.
В данном случае слово bootleg несѐт эмотивную функцию, потому что вме-
сто британского contraband употреблен американизм.
Следует отметить, что эмотивная функция очень часто реализуется в пуб-
лицистическом стиле. Она воплощает стремление отправителя воздействовать
непосредственно на эмоциональную сферу психики адресата посредством
«эмоционального заражения». В нашем случае эмотивная и эмоциональные
функции дублируются, эмоциональная функция выражается с помощью эмо-
тивной. Чаще всего эмотивную функцию выполняют американизмы, которые
используются вместо британских или общеанглийских эквивалентов, чтобы
придать большую эмоциональность высказыванию. Американизмы, выпол-
няющие эмотивную функцию, можно наблюдать во всех представленных тема-
тических группах.
Выразительная и экспрессивная функции служат для передачи отношения,
чувств и эмоций автора. В данном исследовании подмечено, что экспрессивную
функцию выполняют американизмы, относящиеся к социальным ролям и про-
фессиям, экономической и криминальной лексике, музыкальной культуре и мо-
де. Примеры американизмов, выполняющих выразительную функцию, пред-
ставлены в общественно-политической лексике. Обе функции служат для пере-
дачи эмоциональности высказывания, но можно отметить, что американизмы,
выполняющие экспрессивную функцию чаще всего можно отнести к разговор-
ному стилю речи.
Можно выделить оценочную функцию представленных американизмов в
тех случаях, когда речь идет об американских реалиях: политике, технических
инновациях. Поэтому можно сказать, что в данном случае оценочная функция
служит больше для выразительности, чем для эмоциональности.
Следует отметить, что из всех трѐх функций преобладает эмотивная функ-
ция. Это связано с тем, что многие американизмы стали привычны для британ-
ского читателя, поэтому чаще всего вместо британского эквивалента предпоч-
тительней использовать американизм. Также большое количество американиз-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
75
мов отражают реалии, созданные на территории США, поэтому их использова-
ние в британском Интернет-дискурсе можно отнести к эмотивной.
В заключение к данной статье необходимо отметить, что газетный стиль яв-
ляется активным каналом языковых и вариантных контактов, результатом ко-
торых является заимствование языковых единиц (американизмов).
Исследованные американизмы, будучи лексическими единицами, в их при-
надлежности к определенной сфере общения – газете, обладают свойствами це-
лого, то есть способностью выполнять функции и задачи, связанные с данной
сферой общения.
Неотъемлемой частью смысловой структуры американизмов, таким обра-
зом, является стилистический компонент, который служит выполнению опре-
делѐнных стилистических функций, таких как эмотивная, эмоциональная, вы-
разительная, экспрессивная и оценочная.
ЛИТЕРАТУРА
1. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. М., 1989. 126 с.
2. Костенко Е.В. Лингвостилистические особенности текстов сетевых СМИ // Вестник Ма-
рийского государственного университета. 2013. №12. С. 65–67.
3. Соколов А.В. Метатеория социальной коммуникации. СПб, 2001. 106 с.
4. Филин Ф.П. О лексико-семантических группах слов. София, 1957. С. 255–257.
5. The Guardian // http://www.theguardian.com/international (доступно на 12.10.2016).
6. Telegraph // http://www.telegraph.co.uk (доступно на 09.10.2016).
7. Daily Mail // http://www.dailymail.co.uk/home/index.html (доступно на 03.10.2016).
REFERENCES
1. Zabotkina V.I. Novaya leksika sovremennogo anglijskogo yazyka [New Lexicon of Modern
English]. M., 1989. 126 p. (in Russian).
2. Kostenko E.V. Lingvostilisticheskie osobrnnosti tekstov setevyh SMI Linguistic and stylistic
specifics of network media texts [Linguostylistic Specifics of Network Mass Media] // Vestnik
Marijskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Mariyskiy State University]. 2013. № 12.
Pp. 65–67 (in Russian).
3. Sokolov A.V. Metateoriya sotsialnoy kommunikastii [Metatheory of Social Communication]. St-
Petersburg, 2001. 106 p. (in Russian).
4. Philin Ph.P. O leksiko-semanticheskih gruppah slov [About Lexico-semantic Groups of Words].
Sophiya, 1957. Pp. 255–257 (in Russian).
5. The Guardian // http://www.theguardian.com/international (accessed 12.10.2016).
6. Telegraph // http://www.telegraph.co.uk (accessed 09.10.2017).
7. Daily Mail // http://www.dailymail.co.uk/home/index.html (accessed 03.10.2017).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
76
УДК 81.11-112.2
О.С. Осипова
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
РОЛЬ ИРОНИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
[Olga S. Osipova The Role of Irony in English Fiction Discourse]
The article attempts to reveal the role of irony in the English-language fiction discourse. With
the help of descriptive and historical methods, the main stages of the development of English fiction
discourse (during the Middle Ages, the Renaissance, the 17th
century, the Age of Enlightenment, the
18th
century, etc.) are examined, and the role of irony for each of the periods under consideration is
analyzed. In relation to the epochs, those writers are mentioned whose works were inextricably
linked with the ironic outlook and who made a great contribution to the development of English
irony.
Key words: irony, fiction discourse, English, development, epoch, genre, movement.
В последнее время в лингвистике становятся актуальными исследования
художественного дискурса, целью которого является создание художественных
образов при помощи языковых средств [12]. Ирония, как концептуальная кате-
гория, позволяющая выразить авторское отношение к действительности, явля-
ется важной частью художественного дискурса. Выбор данной темы обоснован
тем, что в настоящее время существует небольшое количество научно-
исследовательских работ, посвящѐнных изучаемому вопросу, и данная статья
может стать полезным теоретическим материалом для изучения иронии в рам-
ках художественного дискурса.
В английском художественном дискурсе ирония стала открыто проявляться
только к XIV в.; до этого времени ирония в художественном дискурсе англий-
ского языка практически не присутствовала. Это объясняется, во-первых, исто-
рическими причинами (постоянные завоевания земель, набеги на остров племен
с других континентов, междоусобные войны внутри страны), во-вторых, при-
чинами религиозными (переход от язычества к христианству при одновремен-
ном сохранении языческой культуры, выражающейся в мифологических и ска-
зочных мотивах) и, в-третьих, причинами языковыми (население Великобрита-
нии с самого начала испытывало влияние других культур и соответственно,
других языков, поэтому единого общепринятого языка не существовало).
Во второй половине XIV в. формируется письменный литературный анг-
лийский язык, который многим обязан Д. Чосеру. Именно его можно считать
литератором, который одним из первых стал использовать иронию в англий-
ском художественном дискурсе и заложил основы демократического бытового
реализма.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
77
В эпоху Возрождения XV-XVI вв. гуманистические идеи предопределяли
философские и культурные течения. В этот период Англия значительно улуч-
шает своѐ экономическое положение, однако, укрепление королевской власти и
усиление абсолютизма приводит к ущемлению прав низших сословий. Ирония
этого периода становилась средством обличения монархии, правящих верху-
шек, церкви, становилась на сторону бедняков и угнетенных классов. Сущест-
вующие порядки отражались в художественном дискурсе Томаса Мора, кото-
рый с резкой иронией выступал против угнетения людей властными верхушка-
ми.
Проявление иронии выражалось также и в драматургии, которая в XVI в.
достигла своего расцвета. Комедии Р. Грина подчеркивали недостатки и вы-
смеивали пороки всех слоев общества [2]. У. Шекспир, который с помощью
своих творений выражал философские идеи, изучал внутренний мир личности,
затрагивал противоречивые стороны человеческой натуры, а также раскрывал
злободневные социально-политические вопросы и классовые конфликты. В его
комедиях и сонетах можно найти комическую иронию, а в трагедиях – трагиче-
скую.
Творчество Б. Джонсона явилось своеобразным итогом в истории драматур-
гии английского Ренессанса. В отличие от лирико-романтической, фантастиче-
ской шекспировской комедии, комедии Б. Джонсона носили бытовой сатириче-
ский характер [2].
Конец эпохи Возрождения в художественном дискурсе ознаменован разви-
тием жанра эссе, родоначальником которого является Ф. Бэкон. Однако именно
в творчестве Р. Бертона можно увидеть скептически-ироническое отношение к
миру, которое выражалось в его трудах.
Развитие английского художественного дискурса в XVII в. полностью опре-
делялось внутренними политическими событиями страны, которые определяли
политическую остроту художественного дискурса этого периода [2]. Свидете-
лем и современником буржуазной революции в Англии был Джон Мильтон,
который сумел очень ярко и иронично отобразить острые конфликты револю-
ционной Англии.
Существенным толчком для развития иронии было появление метафизиче-
ской школы поэтов, во главе которой стоял Д. Донн. Поэты-метафизики часто
пользовались аллегоричным представлением вещей и изображением действи-
тельности, размышляли над проблемами жизни, смерти, бессмертия, обраща-
лись к глубинам человеческого сознания и психики.
В рамках англоязычного художественного дискурса развивается «комедия
Реставрации», в основу которой легло новое антибуржуазное умонастроение –
«свободомыслие» и «остроумие», которые означали насмешливое отношение к
тупости и лицемерию буржуазии. «Остроумие» в этих комедиях проявляется в
иронии, сарказме диалогов, в сюжетных ситуациях, связанных со смешными
эскападами персонажей [2]. Получает распространение доктрина «пирронизма»
(от имени древнегреческого скептика Пиррона), сторонники которой, испове-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
78
дуя крайний скептицизм во всех вопросах познания, видят залог единственно
возможного счастья в подчинении существующему режиму и в сохранении
полного равнодушия к общественной и политической борьбе [1]. Ярчайшим
представителем пирронизма стал Д. Драйден, который с помощью юмора и
иронии смог показать бесполезность современных интеллектуальных теорий.
Будучи наследником идей гуманизма, Драйден столкнулся с противоречивым и
глубоким идейным кризисом – то скептическое отношение гуманистов к дейст-
вительности теперь перерастало в нигилизм и отрицание всех идеалов, которые
прежде были близки человеку.
В эпоху Просвещения (XVIII в.) напряжение между социальными слоями
нарастает, происходит переход от феодализма к капитализму. Противоречия
идей и действительности приводило к выражению недовольства, критики и
скептицизма в художественном дискурсе. Ирония и сатира являлись отражени-
ем существующих порядков, не соответствующих просветительским идеалам.
В начале XVIII в. в художественном дискурс Англии преобладал класси-
цизм, происходило возвращение к древнегреческой комедии при помощи ос-
меяния нравов светских кругов в остроумной, ироничной форме.
Развитие иронии в художественном дискурсе XVIII в. многим обязано
Д. Свифту, который выступил с непримиримой критикой не только пережитков
феодализма, но и складывающихся буржуазных отношений. Свифт сумел со-
единить иронию и аллегорию, когда с первого взгляда под вымышленными си-
туациями, оказывались вполне реальные события. В своих сатирах писатель ка-
сается коррупции, политики, социального устройства общества.
Противоречивая ирония Свифта заключалась в том, что он понимал неосу-
ществимость своих утопических идей и мечтаний. Он – лишь человек со сторо-
ны, который не может повлиять на ход истории, спасти общество от безумия и
упадка. Все это приводит Свифта к отчаянию и разочарованию в людях, в кото-
рых он видит одни лишь пороки и отрицательные качества.
В середине XVIII века в рамках художественного дискурса развивается се-
мейно-бытовой и психологический роман. Их представителями являются:
С. Ричардсон, который стремился в своих произведениях выразить ироническое
отношение; Г. Филдинг, раскрывающий гуманистические идеи в острых сати-
рах и политических комедиях; сатирик и романист Т. Смоллет, который стре-
мился объяснить природу человеческих пороков с помощью гротескно-
карикатурного изображения героев; Р. Шеридан, который создавал сатириче-
ские комедии нравов, а также внес огромный вклад в теоретическое развитие
комедии.
Вторая половина XVIII в. отмечена таким направлением в искусстве, как
сентиментализм, который появился в Англии в ответ на противоречивое разви-
тие капитализма, и развивался на фоне меланхолической созерцательности. Ос-
новные черты английского сентиментализма – чувствительность, не лишенная
экзальтированности; ирония и юмор, обеспечивающие пародийное развенчание
устоявшихся канонов; субъективизм и скептицизм.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
79
Среди сентименталистов-романтистов, внѐсших вклад в развитие иронии в
англоязычном художественном дискурсе, можно выделить: О. Гольдсмита, чьи
юмористические произведения наполнены иронией и пародией; Л. Стерна, со-
четающего глубокий интерес к миру чувств и разрушительную иронию.
Противоречия в развитии капитализма в Англии продолжались, и стали вы-
ражением нового переходного периода от сентиментализма к романтизму – те-
чения предромантизма [2]. Значимой персоной эпохи предромантизма является
Д. Остин, которая в своих романах выражала романтические идеалы, а также с
помощью иронии раскрывала сложные, комплексные характеры своих героев.
Творчество Р. Бѐрнса составляет значительную часть художественного дис-
курса предромантизма. Бѐрнс сочетает поэтические и комические элементы,
драматический и юмористический планы, повествовательную и обличающую
интонацию. Отрицательные общественные явления или фигуры выступают то
как мишень гневной сатиры, то как объект иронии, то как повод для меткой и
острой шутки [6].
На рубеже XVIII и XIX вв. возникает течение романтизма, которое отразило
общее неудовлетворение результатами революции, разочарование в буржуазии,
социальном и политическом устройстве. В романтизме выразился процесс от-
чуждения личности в буржуазном обществе, когда человек оказывается изоли-
рованным от прежней социальной системы [2].
Вплоть до романтизма, ирония рассматривалась больше как комический и
сатирический прием, нежели чем мироощущение и самопознание автора. Ро-
мантизм же способствовал кардинальному пересмотру и переосмыслению по-
нятия иронии, которая явилась особым способом отношения человека к миру и
окружающей действительности как к игре, особым способом абстрагирования
от нее. Ирония и самоирония стали субъективным выражением мнения автора,
которое выражалось в том, что автор ставил под сомнение не только реаль-
ность, но и свое отношение к ней. Именно во взглядах романтиков ирония при-
обретает не только комический (ирония классицизма), но и трагический отте-
нок.
В художественном дискурсе английских романтиков сказывается нацио-
нальная традиция фантастико-утопического, аллегорического и символическо-
го изображения жизни, традиция особого драматического раскрытия лириче-
ских тем; сильны просветительские идеи, а ирония является формой трезвой
оценки поисков неведомого, идеального мира.
Родоначальником английского романтизма является Уильям Блейк, который
использовал иронию не только как философское понятие, но и как художест-
венное. Наполненные поэтическими символами и метафорами произведения
Блейка сочетают в себе противоречие, раздвоение единого, образование проти-
воположностей целого и индивидуального.
Д. Байрон считается одной из самых ярких фигур английского романтизма.
Ирония была неотъемлемой частью творчества писателя. Большое количество
политических сатир содержали авторские иронические комментарии, направ-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
80
ленные, в основном, против реакционного круга. Поэмы Байрона является кри-
тической иронической оценкой окружающей действительности, где автор вы-
смеивал нравы высшего общества и правящей верхушки, а также разоблачал
политические, социальные и этические иллюзии общества.
Д. Китс также занимает особое место в истории английского романтизма.
Разочаровавшись в идее буржуазного прогресса, он приходит к неутешитель-
ному выводу об иллюзорности и неосуществимости этого идеала. Отрицатель-
ное отношение Китса к типичным проявлениям английского мещанского лице-
мерия и буржуазной «морали» породило гротескные сатирические образы в
поэмах [9].
В. Скотт стал создателем жанра исторического романа и смог с точностью
отразить не только быт, характеры и нравы современного ему общества, но
также изобразить исторические события в их динамике и развитии. В отноше-
нии Скотта нельзя не заметить оттенка некоторой иронии, которая возникает
объективно из слишком явной диспропорции между ролью героев в романе и
их действительной исторической, общественной незначительностью, между
масштабом социальных бурь и потрясений в которые они вовлечены, и узостью
их личных, эгоистически-ограниченных целей и взглядов [3].
Просветительские идеи и идеи романтизма (как и романтическая ирония),
заняли огромное место в английском художественном дискурсе и повлияли на
развитие реализма, быстро развивающегося с 30-40х гг. XIX в. Мастерами анг-
лийского социального и реалистического романа становятся Ч. Диккенс,
У. Теккерей, сестры Бронте, Э. Гаскел, Д. Элиот. В реалистическом романе XIX
в. ирония становится средством разоблачения различных социальных институ-
тов, общественного устройства, социальной несправедливости, нередко слива-
ясь с сатирой. Иронично-критическое отношение к современному обществу и
людям, олицетворяющим различные пороки, писатели-реалисты выражали в
характеристиках персонажей произведений, их действиях; наделяли некоторых
своих героев ироничным взглядом на жизнь, оставляли ироничные авторские
комментарии или создавали иронично-насмешливый тон повествования.
На рубеже XIX и XX веков Англия переживает существенные перемены как
в общественной, так и в культурной жизни. В эту эпоху английский художест-
венный дискурс был особенно насыщен различными направлениями и жанра-
ми, среди которых выделялись: неоромантизм (Р. Стивенсон, А. Конан Дойл, Д.
Конрад), натурализм (Д. Гиссинг), эстетизм (О. Уайлд), символизм.
Главенствующее положение занимал реализм и его реалистический соци-
альный роман, однако и он претерпевал определенные изменения: происходил
процесс интеллектуализации и психологизации литературы, наблюдалась даль-
нейшая драматизация романа, усиление в нем трагического начала и горькой
иронии [2]. Видными фигурами реалистического романа конца XIX в. являются
Д. Мередит, романам которого присуща авторская ирония; Т. Харди, чьи сати-
рические нападки на капитализм соединялись с горькой, и порой трагической
иронией по отношению к простой сельской жизни и человеческим поступкам;
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
81
С. Батлер, чьи произведения были наполнены парадоксальностью и обличи-
тельной иронией, соединяющие сатиру с психологическим анализом.
В реализме художественного дискурса XIX в. акцент делается на объектив-
ном видении мира. Ирония, как правило, становится у реалистов средством ра-
зоблачения различных социальных институтов, общественного устройства, со-
циальной несправедливости, нередко сливаясь с сатирой. Например, в «малой»
прозе Джерома К. Джерома именно при помощи иронии показывается гротеск-
ность, абсурдность жизни обывателя, нелепость правил поведения и норм мо-
рали, характерных для викторианского общества [5].
Нельзя не упомянуть о появлении такого направления как неоромантизм,
возникший на основе противопоставления существовавшим в то время течени-
ям натурализма, реализма, декаденса. Как и в романтизме, неоромантизм по-
стоянно сопровождала шутливая и веселая, едкая, и не лишенная горечи остро-
умная, скептическая ирония.
В XIX в. в Англии существовало такое направление в литературе, как
эстетизм, и О. Уайльд являлся его самым известным представителем. В основе
эстетизма лежал уход от обыденной жизни, несправедливого и полного
разочарований буржуазного общества. Культ красоты и искусства
господствовал над реальностью с ее нравственностью и моралью.
Романтическая ирония О. Уайльда вносит противоречивость,
парадоксальность, прежде всего, в логическую сферу. Главной формой
проявления иронического восприятия действительности становится парадокс
[10].
В XX в. английский художественный дискурс переживает глубокие измене-
ния – формируется модернистское течение, которое явилось совершенно новым
способом познания окружающей действительности и совершенно новым отно-
шением к искусству в частности.
Поколение первых модернистов остро ощущало исчерпанность форм
реалистического повествования, их эстетическую усталость. Модернисты
превыше всего ставили ценность индивидуального художнического видения
мира; создаваемые ими художественные миры уникально несхожи друг с
другом, на каждом лежит печать яркой творческой индивидуальности.
Социальная проблематика, игравшая столь важную роль в реализме ХIХ в., в
модернизме даѐтся косвенно, как неразрывная часть целостного портрета
личности [4]. Представителями модернизма в художественном дискурсе
английского языка считаются: Д. Джойс, В. Вульф, Т.С. Элиот, О. Хаксли,
С. Моэм, Д.Г. Лоуренс и др. Писатели стремились абстрагироваться от
реальности и уйти за ее пределы; формируется особый метод повествования,
получивший название «поток сознания», присутствовавший в творчестве
Д. Джойса.
Неотъемлемой частью и инструментом выражения авторской позиции в
модернизме является модернистская ирония. Модернистская ирония явилась
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
82
продолжением иронии романтической, однако теперь она носит более скрытый,
имплицитный характер.
В отличие от субъективистской романтической теории, художественный
дискурс XX в. обосновал концепцию объективной иронии [5]. Как внутреннее
качество искусства, ирония придает модернизму иррациональный характер,
причины чего могут усматриваться в реакции на дегуманизацию истории и
рациональное общество [7]. Ирония в художественном дискурсе модернистов
происходит от нежелания погружаться в «низменную прозу» повседневности и
стремления возвыситься над противоречиями бытия. Например, в
произведениях Джойса ироничное снижение прекрасного до безобразного
необходимо для того, чтобы защититься от «удручающей обыденности
действительности» и одновременно бросить ей вызов [11].
Среди великих мастеров модернистской иронии выделялись: поэт
Т.С. Элиот, который иронически изображал претензии жалкого человека на
искреннее чувство; О.Хаксли, использующий тонкую иронию персонажей и
автора; Б. Шоу, который с помощью откровенной иронии показывает
лицемерие английской буржуазии; Д. Голсуорси, насмехающийся над
политиками; Э.М. Фостер, произведения которого полны язвительной иронии в
изображении английских чиновников; Р. Ольдингтон, использующий насмешку
и иронию для выражения своей точки зрения; С. Моэм, использующий
авторскую иронию и иронию от персонажа, выражающихся в комментариях,
ремарках автора или рассказчика, а также в ироническом описании и диалогах;
Г. Грин, работы которого наполнены трагической иронией и драматическими
сценами; У. Голдинг, использовавший философско-аллегорические образы с
целью создания иронического смысла произведения [2].
Начиная со второй половины XX в. по настоящее время развивается такое
направление, как постмодернизм, содержащее ряд черт: неопределенность,
фрагментарность, децентрация, поверхностность, смешение жанров, срастание
сознания с масс-медиа и, наконец, ирония, утверждающая плюралистическую
вселенную. Ирония выступает рядовой чертой осознания постсовременности
как весьма неопределенной ситуации. Ирония в постмодернистском
художественном дискурсе – радикальная. В традиционном понимании она
скептическая, подрывная по отношению к стереотипам, банальностям и
привычкам людей [7].
Английский постмодернизм отличался своей самобытностью и был тесно
связан с историческим прошлым Великобритании. Утраченное имперское
положение выявило кризис национальной самоидентификации, поэтому
постмодернисты стремились обратиться к прошлому с целью поиска новой
основы и опоры для современной литературы.
В английском варианте этот поиск приобретает характер создания основы
для единения с культурными корнями. Мифологизм, как одна из определяющих
черт английского романа ХХ в., становится воплощением в художественной
форме общего стремления нащупать твердую почву в новых обстоятельствах
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
83
жизни английского общества, а также исследовать английскость как особую
форму национальной самоидентификации в ее соотношении с реальностью [8].
Отличительной чертой постмодернизма в Британии можно назвать его
тесную связь с традицией национального художественного дискурса,
антимодернистскую направленность и возвращение к комедийно-сатирической
традиции. Иронически-пародийный характер современного английского романа
просматривается в стилизациях под реализм XIX в., смешении жанров,
вымысла и реальности, преобладающей критической деконструкции.
Викторианская эпоха при этом выступает скорее образцом для подражания,
нежели объектом пародии, непременно требующей снижения, дискредитации
стилизуемого материала. Авторская ирония, направленная, прежде всего, на
актуальные проблемы современности, а не на раскрытие недостатков и слабых
сторон классического текста, модифицируется в постмодернистскую
самоиронию, балансирующую между прямым подражанием традиции и игрой с
условностями и правилами, различными культурными знаками и кодами. Итак,
ирония в английском постмодернистском художественном дискурсе являлась
основной, неотъемлемой частью мировоззрения писателя и его отношения к
действительности как реакции на происходящие события.
Таким образом, обращение к роли иронии в англоязычном художественном
дискурсе обусловлено определенной степенью эволюции общественного созна-
ния и внутренними закономерностями литературного развития. Одну из осно-
вополагающих ролей иронии в английской литературе играет лингвокультур-
ный аспект, так как ирония кроет в себе особенности менталитета народа, тон-
кости юмора и экстралингвистических средств общения. Исторические события
Великобритании в целом повлияли на развитие иронии, которая стала особым
мировоззрением англичан и выражением английского национального характера
благодаря таким чертам британского менталитета, как плюрализм, терпимость
и самообладание.
Рассмотрев историю развития иронии в рамках английского художествен-
ного дискурса, можно сделать вывод, что она занимает важнейшее место в анг-
лийском языке. Развиваясь, меняя свое значение и предназначение в зависимо-
сти от смены исторических эпох, ирония стала чертой менталитета, характера
англичан, способом особенного отношения к действительности.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
84
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева М.П., Анисимова И.И. История английской литературы // http://lit-prosv.niv.ru/lit-
prosv/istoriya-anglijskoj-literatury/index.htm (доступно на 15.10.2017).
2. Аникин Г.Н., Михальская Н.П. История английской литературы // http://svr-lit.niv.ru/svrlit/-
mihalskaya-anikin-angliya/index.htm (доступно на 12.10.2017).
3. Елистратова А.А. История английской литературы // http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/istoriya-
anglijskoj-literatury/glava-5-skott-elistratova.htm (доступно на 15.11.2017).
4. Основные черты модернизма // http://licey.net/free/15analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisate-
lei_biografii_inostrannyh_pisatelei/61-zarubezhnaya_literatura/stages/2070osnovnye_cherty_m-
odernizma.html (доступно на 12.12.2017).
5. Королѐва О.А. Ирония в «малой» прозе Джерома К. Джерома и английская литературная
традиция // http://www.dissercat.com/content/ironiya-v-maloi-proze-dzheroma-k-dzheroma-i-
angliiskaya-literaturnaya-traditsiya (доступно на 01.12.2017).
6. О сатире в творчестве Бернса, 2011 // http://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?sub-
action=showfull&id=1295881393&archive=1295896498&start_from=&ucat=& (доступно на
13.12.2017).
7. Пигулевский В.О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму //
http://www.urgi.info/urgiinfofiles/sites/pigulevsky-ironiya/index.htm (доступно на 18.11.2017).
8. Пономаренко Ю.В. Роль литературной традиции в английском романе второй половины
ХХ века // https://cyberleninka.ru/article/n/rol-literaturnoy-traditsii-v-angliyskom-romane-vtoro-
y-poloviny-hh-veka (доступно на 29.10.2017).
9. Самарин Р.М. История английской литературы // http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/istoriya-
anglijskoj-literatury/glava-4-kits-samarin.htm (доступно на 11.11.2017).
10. Тумбина О.В. Контраст и парадокс в повествовательной прозе Оскара Уайльда: к харак-
теристике творческого метода писателя // http://www.dissercat.com/content/kontrast-i-para-
doks-v-povestvovatelnoi-proze-oskara-uailda-k-kharakteristike-tvorcheskogo-me (доступно на
10.12.2017).
11. Шеина С.Е. Поэзия Джеймса Джойса в контексте его творчества: Общая характеристика
поэтического творчества Дж. Джойса // http://www.james-joyce.ru/articles/poezia-joyce-v-
kontekste-ego-tvorchestva21.htm (доступно на 20.11.2017).
12. Wellek R., Warren A. Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace and Company, 1962.
403 p.
REFERENCES
1. Alekseeva M. P, Anisimova I.I. Istoriya angliyskoy literatury [History of English Literature] //
http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/istoriya-anglijskoj-literatury/index.htm (accessed: 15.10.17) (in
Russian).
2. Anikin G.N., Mihal'skaja N.P. Istorija anglijskoj literatury [History of English Literature] //
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/mihalskaya-anikin-angliya/index.htm (accessed: 12.10.17) (in Rus-
sian).
3. Elistratova A.A. Istorija anglijskoj literatury [History of English Literature] // http://lit-prosv.-
niv.ru/lit-prosv/istoriya-anglijskoj-literatury/glava-5-skott-elistratova.htm (accessed: 15.11.17)
(in Russian).
4. Osnovnye cherty modernizma [The Main Features of Modernism] // http://licey.net/free/15a-
na-
liz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii_inostrannyh_pisatelei/61zarubezhnaya_literat
ura/stages/2070-osnovnye_cherty_modernizma.html (accessed: 12.12.17) (in Russian).
5. Koroleva O.A. Ironija v «maloj» proze Dzheroma K. Dzheroma i anglijskaja literaturnaja tradici-
ja [Irony in Jerome K. Jerome‟s Prose and English Literary Tradition] // http://www.dissercat.co-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
85
m/content/ironiya-v-maloi-proze-dzheroma-k-dzheroma-i-angliiskaya-literaturnaya-traditsiya
(accessed: 01.12.2017) (in Russian).
6. O satire v tvorchestve Bernsa [About Satire in Burn‟s Works] // http://portalus.ru/modules/shko-
la/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1295881393&archive=1295896498&start_from=&u
cat=& (accessed: 13.12.2017) (in Russian).
7. Pigulevskij V.O. Ironija i vymysel: ot romantizma k postmodernizmu [Irony and Fantasy: from
Romanticism to Postmodernism] // phttp://www.urgi.info/urgiinfofiles/sites/pigulevsky-ironiya/-
index.htm (accessed: 18.11.2017) (in Russian).
8. Ponomarenko Ju.V. Rol' literaturnoj tradicii v anglijskom romane vtoroj poloviny XX veka [The
Role of Literary Tradition in the English novel of the 2nd
Half of the 20th
Century] //
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-literaturnoy-traditsii-v-angliyskom-romane-vtoroy-poloviny-
hh-veka (accessed: 29.10.17) (in Russian).
9. Samarin R.M. Istorija anglijskoj literatury [History of English Literature] // http://lit-prosv.niv.-
ru/lit-prosv/istoriya-anglijskoj-literatury/glava-4-kits-samarin.htm (accessed: 11.11.17) (in Rus-
sian).
10. Tumbina O.V. Kontrast i paradoks v povestvovatel'noj proze Oskara Uajl'da: k harakteristike
tvorcheskogo metoda pisatelja [The Contrast and Paradox on O. Wilde‟s Prose: to the Charac-
teristics of the Writer‟s Creative Method] // http://www.dissercat.com/content/kontrast-i-
paradoks-v-povestvovatelnoi-proze-oskara-uailda-k-kharakteristike-tvorcheskogo-me (ac-
cessed: 10.12.17) (in Russian).
11. Sheina S.E. Poeziya Dzheymsa Dzhoysa v kontekste ego tvorchestva: Obshchaya kharakteristi-
ka poeticheskogo tvorchestva Dzh. Dzhoysa [J. Joyce‟s Poetry in the Context of His Creativity:
the General Characteristics of J. Joyce‟s Poetic Writing] // http://www.james-joyce.ru/articles/-
poezia-joyce-v-kontekste-ego-tvorchestva21.htm (accessed: 20.11.2017).
12. Wellek R., Warren A. Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace and Company, 1962.
403 p.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
86
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
УДК 325.14
В.В. Егоров
магистрант ОП 45.04.02 – Сопоставительное изучение культур
и инновационные стратегии профессиональной коммуникации
Донского государственного технического университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
К.Н. Симонова
кандидат филологических наук, доцент
Донского государственного технического университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
МИГРАЦИОННАЯ «ВОЙНА» В ЕВРОПЕ [Vladimir V. Yegorov, Karina N. Simonova Migration War in Europe]
The article is devoted to the problem of migrants and refugees, which has caused a chain reac-
tion of conflicts within the European Union and undermined the basic idea of the European integra-
tion project. The causes of migration are listed and the reactions of Europeans experiencing this
painful process are described.
Keywords: the European Union, migration, negative consequences, crisis, terroristic act.
В условиях нарастающей глобальной нестабильности сравнительно слабыми
финансово-экономическими и политическими звеньями мирового сообщества
становятся отдельные государства Европейского союза. В силу высокой
степени интегрированности и хозяйственной взаимозависимости европейских
стран это неизбежно сказывается на положении Евросоюза в целом, рождая в
рамках этого объединения разломы и линии повышенного
внутриполитического и межстранового напряжения. Последнее особенно
заметно, поскольку государства ЕС существуют в разных политических циклах.
Серьезным испытанием для многих стран Европы стала проблема мигрантов и
беженцев, вызвавшая цепную реакцию конфликтов внутри Евросоюза,
подорвавшая саму основополагающую идею европейского интеграционного
проекта.
Всѐ это – проявления системного многоуровневого кризиса институтов
Объединѐнной Европы. Его главными катализаторами послужили: замедление
хозяйственного роста, ухудшение финансового положения, обострение
социальной обстановки, политическое наступление правого и левого
популизма, оживление всевозможных «евроскептиков», угроза выхода из
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
87
Евросоюза Великобритании (BREXIT), непрекращающиеся террористические
атаки, новая волна беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Европейская политика парализована страхом перед иммиграцией и
терроризмом. Очень сложно вырваться из этого порочного круга», – считает
глава варшавского отделения Европейского совета по иностранным делам Пѐтр
Бурас [1].
Трудно точнее передать драматизм ситуации, сложившейся на европейском
политическом пространстве. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
акцентировал ряд проблем, уже существовавших в Европе, но в период кризиса
и последовавшей за ним хозяйственной рецессии достигших предельной
остроты. Одна из таких проблем, вызывающих особую озабоченность
европейцев, – сохранение их культурной и национальной идентичности. Все
большее число граждан Евросоюза усматривают угрозу своему образу жизни в
непрерывном притоке в Старый Свет выходцев из различных регионов мира,
прежде всего Африки и Ближнего Востока.
Приток иммигрантов в европейские страны, помимо прочего, вызван
глубинными демографическими трендами. Европа – самый «стареющий»
регион планеты. Если в 2015 году средний возраст жителя Земли составлял
около 30 лет, то на европейском континенте – 42 года, а в наиболее развитых
странах (в частности, в Германии и Италии) ещѐ больше. Старение коренного
населения ведѐт к относительному и абсолютному сокращению граждан
работоспособного возраста, что требует значительного притока «молодой»
рабочей силы из других регионов. Таким образом, несмотря на имеющийся
негатив культурно-цивилизационного свойства, Европа не может отказаться от
импорта трудоспособного населения.
По официальным данным, на начало 2014 г. в 28 государствах Евросоюза
насчитывалось свыше 50 миллионов легальных иностранцев – лиц, родившихся
не в странах их проживания, что составляло порядка 10% суммарного
населения ЕС данный показатель превышал 15%. В пяти крупнейших
государствах – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании –
сконцентрировано свыше 35 миллионов иностранцев, или около 70% их общего
количества [2]. Помимо этого, в странах Евросоюза непрерывно растѐт число
нелегально проживающих иммигрантов, среди которых особенно много
выходцев из ближневосточных и африканских государств. Реальное количество
иностранцев, находящихся в Европе на постоянной основе, определить
достаточно сложно. Правительство Германии расходовало 21,7 млрд. евро на
устранение миграционного кризиса 2016 года. Из них 7,1 млрд. евро немецкие
власти направили на борьбу с причинами миграционного кризиса. В свою
очередь, власти Берлина повысили втрое бюджет гуманитарной помощи,
выделив дополнительные 1,4 млрд. евро. Ещѐ столько же было потрачено на
приѐм мигрантов, включая их размещение и регистрацию в статусе беженцев.
Интеграция «гостей из-за рубежа» обошлась казне в 2 млрд. евро. Кроме того,
правительство Германии направило более 9 млрд. евро в качестве помощи
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
88
землям и коммунам, которые испытали на себе приток мигрантов. Отмечается,
что расходы на решение миграционного кризиса в 2017 году будет потрачено
21,3 млрд. евро. [3].
Прибывающие в ЕС беженцы вызывают у европейцев неоднозначную
реакцию. Немцы к прибытию мигрантов готовы, а вот поляки, например,
опасаются наплыва переселенцев и даже предрекают побег европейцев в
Россию. Европейские эксперты в растерянности: они не знают, что дальше
будут делать политики. Но уверены в одном: в Европе начались необратимые
процессы. Наплыв беженцев вызывает в странах ЕС неоднозначную реакцию. К
примеру, в Германии опросы общественного мнения показали, что жители в
целом не видят в мигрантах угрозы, такое мнение выразили 61% опрошенных,
сообщает Deutsche Welle. Количество человек, считающих, что мигранты не
влияют на их частную жизнь, достигло 81%. Лишь 18% респондентов
придерживаются другого мнения. Здесь даже запустили онлайн-сервис для
желающих приютить у себя дома беженцев [4].
Однако отношение немцев к мигрантам разделяют далеко не все члены ЕС.
Так, одна из крупнейших стран объединения – соседняя с Германией Польша –
имеет, иное мнение. Одна из крупнейших местных газет Obserwator Polityczny
недавно опубликовала предположение, что через несколько лет европейцы
будут не в силах справиться с наплывом беженцев из Африки и стран Ближнего
Востока. Это приведѐт к серьѐзным последствиям, и они устремятся в
«единственное прочное и стабильное государство в нестабильном окружении –
Россию», считает издание [5].
По мнению французов, теракт в соседней Бельгии произвел на них тяжелое
впечатление, поскольку не так давно Париж также пережил жестокую атаку
террористов. Французы также отмечают, что в результате массовой волны
беженцев 2015–2016 гг. они стали появляться в тех городах, где их раньше не
было.
В заключении можно сделать вывод, что Европейский союз переживает
свои не лучшие времена, однако это огромный и мощный альянс, с грамотными
политиками, мощными ресурсами; в итоге, эти проблемы со временем будут
решены, хоть и сильно ударят по союзу. Тем не менее, сколько времени
потребуется Евросоюзу на восстановление своей политической, социальной и
экономической мощи – довольно сложный вопрос с совсем неоднозначным
ответом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ващенко В. Что европейцы думают о мигрантах // https://www.gazeta.ru/social/2016/03/23/-
8138579.shtml (доступно на 17.01.2017).
2. Барановская М. В 2016 году поток мигрантов в Германию существенно уменьшился //
https://www.dw.com/ru/в-2016-году-поток-мигрантов (доступно на 18.01.2017).
3. Яковлев П. Трудный час европейского союза // https://teplous.ru/politika/trudnyj-chas-evro-
pejskogo-soyuza/html (доступно на 17.01.2017).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
89
4. Через пять лет европейцы сами побегут в Сибирь // Obserwator Polityczny //
https://russian.rt.com/inotv/2015-09-11/Obserwator-Polityczny-CHerez-pyat-let (доступно на
18.01.2017).
5. Миграционный кризис в Германии // https://ria.ru/world/20170127/1486593497.html
(доступно на 18.01.2017).
REFERENCES
1. Vashchenko V. CHto evropejcy dumayut o migrantah [What Europeans think of migrants] //
https://www.gazeta.ru/social/2016/03/23/8138579.shtml (accessed 17.01.2017) (in Russian).
2. Baranovskaya M. V 2016 godu potok migrantov v Germaniyu sushchestvenno umen'shilsya [In
2016 the flow of migrants to Germany significantly decreased] // https://www.dw.com/ru/v-
2016-godu-potok-migrantov (accessed 17.01.2017) (in Russian).
3. YAkovlev P. Trudnyj chas evropejskogo soyuza [Difficult Time of the European Union] //
hptts://www.teplous.ru/politika/trudnyj-chas-evropejskogo-soyuza/html (accessed 17.01.2017)
(in Russian).
4. CHerez pyat' let evropejcy sami pobegut v Sibir' (In five years Europeans will run to Siberia
themselves) // Obserwator Polityczny // https://russian.rt.com/inotv/2015-09-11/Obserwator-
Polityczny-CHerez-pyat-let (accessed 17.01.2017) (in Russian).
5. Migracionnyj krizis v Germanii (Migration crisis in Germany) // https://ria.ru/world/20170127-
/1486593497.html (accessed 17.01.2017) (in Russian).
УДК 81.27
И.В. Ковалѐва аспирант ОП 45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПОБУЖДЕНИЯ
В НЕОФИЦИАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ ОБЩЕНИЯ [Irina V. Kovalyova Peculiarities of Expression of Inducement in Non-official Register
of Communication]
The article is devoted to the problem of peculiarities of expressions with semantics of induce-
ment in non-official register of communication. The problem is rather urgent as the role of such ex-
pression in the language as means of communication is very important. There are a lot of forms to
express inducement the choice of which depends on the situation of communication. The author
claims that the situations of non-official register of communication are not restricted by the choice
of language means and the meanings of inducement.
Key words: communication, register, inducement, politeness, speech act.
Язык является важнейшим средством коммуникации и, несомненно, играет
важную роль в нашей жизни. Когда говорящий оказывается в той или иной си-
туации общения, он сталкивается с тем, что ему необходимо выбирать соответ-
ствующий ей набор языковых средств для выражения своих мыслей и чувств.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
90
Д. Браун в «The Davinci Code» отмечает: «Symbols carry different meanings in
different settings» [6, c. 106]. Данное утверждение может быть применено и от-
носительно предложений с семантическим компонентом побуждения, так как
говорящий выбирает из всего многообразия форм и способов выражения побу-
ждения тот, который, по его мнению, будет наиболее актуальным и эффектив-
ным в конкретной коммуникативной ситуации.
Таким образом, языковое общение может происходить в разных ситуациях,
и каждой из них свойственен свой набор языковых средств. Здесь мы можем
говорить о таком понятии как регистр общения, под которым понимается сис-
тема отбора языковых средств в зависимости от социальной ситуации. Регистр
имеет три уровня: неофициальный, официальный и нейтральный [2, с. 28].
Для неофициального регистра общения, предполагающего двустороннее
общение между хорошо знакомыми людьми, часто друзьями или родственни-
ками, равноправие отношений, минимальную социально-психологическую дис-
танцию между коммуникантами [4, с. 98], характерны большое разнообразие
значений побуждения и свободный выбор языковых средств. Однако следует
отметить, что для английской коммуникации всѐ же свойственно употребление
маркеров вежливости, так как именно вежливые формы являются залогом ус-
пешной коммуникации. Как отмечает Н.Б. Боева-Омелечко, именно стратегия
вежливости обеспечивает психологический комфорт и приоритет собеседника,
проявление уважения к его чувствам и интересам [3, с. 86]. Здесь отдаѐтся
предпочтение косвенным формам, смягчающим прямое побуждение и сни-
жающим его категоричность. Прямое побуждение может быть воспринято как
нарушение норм речевого этикета и может стать источником конфликта в анг-
лийской коммуникации [5, с. 88].
Для неофициального регистра общения характерно такое значение побуж-
дения, как распоряжение, в том числе в сочетании с невежливыми адъюнктами.
Например: Turn the TV off. Nobody is watching the damned thing. The programme
is so boring.
Распоряжение с прагматическим оттенком недовольства может иметь и бо-
лее резкий характер, в частности, за счѐт использования устойчивых сочетаний
типа shut up, put sock in it и подобных: For God‘s sake, shut up, Betty.
Таким образом, очевидно, что сленговые единицы, свойствами которых яв-
ляются грубовато-циничная или грубая экспрессивность [1, с. 278], придают
побудительным высказываниям экспрессивный, оценочный характер.
Для ситуаций неофициального регистра общения свойственно выражение
распоряжения-намѐка с прагматическим оттенком оскорбления или недоволь-
ства: Are you still here? В подобных случаях мы имеем дело со стратегией вер-
бальной агрессии. Такие конструкции категорически неприемлемы в других ре-
гистрах общения.
Чтобы выразить запрет и недовольство в ситуации неофициального регист-
ра общения английские коммуниканты часто используют сленговую и разго-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
91
ворную лексику с целью усиления их воздействия. Так, например: Don‘t be a
perfect idiot. You‘ve done quite enough harm already. You must realize that.
Эффективным средством усиления просьбы или мольбы, т.е. средством
осуществления продуктивной манипуляции поведением в ситуациях неофици-
ального общения, являются устойчивые предложные словосочетания. Напри-
мер, for smb‘s sake: For chrissake, Sarah! What are you? Jealous? I came home to
you, didn‘t I? We just had a nice dinner. Don‘t screw it up. Часто использование
этих сочетаний может вызвать у собеседника чувство жалости к собеседнику,
желание помочь, сочувствие. Иногда они могут быть средством усиления тре-
бования.
Характерной чертой оформления просьбы в ситуациях нейтрального реги-
стра общения является просьба, оформленная в виде предположения, причѐм
отрицательного (самостоятельного или первой части разделительного вопроса):
You won‘t tell them, will you?
Просьба в форме отрицательного предложения может быть высказана как
предположение, что очень характерно для неофициального регистра.
Например: I don‘t suppose you‘d have a couple of bucks (= Borrow me some bucks).
Для ситуаций неофициального регистра общения характерно такое значе-
ние, как предложение, которое может быть выражено разными способами, в ча-
стности, при участии сочетания How do you feel about: How do you feel about dat-
ing? Данная конструкция позволяет адресанту кодировать информацию с целью
соответствия принципу ненавязывания как неотъемлемой нормы вежливого по-
ведения в британском обществе.
При выражении предложения с целью усиления воздействия на адресата в
неофициальном регистре общения используются обращения. Так, в частности,
это уменьшительно-ласковые обращения, нетипичные для нейтрального и офи-
циального регистра. Например: You wouldn‘t tell anyone about my windfall would
you, my little one?
В неофициальном регистре общения можно встретить такие формы при вы-
ражении побуждения-предложения, как слова различных частей речи, напри-
мер, существительные: Have a drink? Some whisky? Coffee, Edmund?
Интересно отметить, что вежливая форма совета может в неофициальном
регистре приобретать негативные прагматические оттенки в зависимости от си-
туации и соответствующего лексического наполнения. Например: You‘d better
stop lying now, Stanton.
Совет может быть высказан и в форме намѐка с прагматическим оттенком
сарказма или иронии. Например: Your strange black dress makes me think about a
convent.
Таким образом, мы можем утверждать, что в неофициальном регистре об-
щения говорящие абсолютно свободны в выборе языковым средств. Однако,
как показывает анализ фактического материала, косвенные речевые акты явля-
ются всѐ же более предпочтительными.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
92
ЛИТЕРАТУРА 1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М.: Изд-во , 1990.
2. Боева Н.Б. Краткий толковый словарь социолингвистических терминов. М.: Изд-во , 2004.
3. Боева-Омелечко Н.Б. Язык. Культура. Перевод. Коммуникация // Сборник научных трудов
к юбилею профессора Г.Г. Молчановой. М., 2015. С. 85–88.
4. Боева-Омелечко Н.Б., Кисиль А.К. Регистр как ситуативный вариант языка // Известия
Южного федерального университета. Филологические науки. 2016. №4. С. 93–102.
5. Формановская Н.И., Гобдуллина С.Р. Русский и английский речевой этикет. Сходства и
различия. М.: Изд-во, 2008.
6. Brown D. The Da Vinci Code. New York, 2003.
REFERENCES 1. Arnol'd I.V. Stilistika sovremennogo anglijskogo jazyka [Stylistics of the Modern English
Language]. M., 1990 (in Russian).
2. Boeva N.B. Kratkij tolkovyj slovar' sociolingvisticheskih terminov [A Brief Explanatory
Dictionary of Sociolinguistic Terms]. M., 2004 (in Russian).
3. Boeva-Omelechko N.B. Jazyk. Kul'tura. Perevod. Kommunikacija [Language. Culture.
Translation. Communication] // Sbornik nauchnyh trudov k jubileju professora
G.G. Molchanovoj [A collection of scientific papers as a tribute to prof. G.G. Molchanova‟s
jubilee]. 2015. Pp. 85–88 (in Russian).
4. Boeva-Omelechko N.B., Kisil' A.K. Registr kak situativnyj variant jazyka [Register as the
situational variety of language] // Izvestija Juzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie
nauki [Scientific Papers of Southern Federal University. Philological Sciences]. 2016. №4.
Pp. 93–102 (in Russian).
5. Formanovskaja N.I., Gobdullina S.R. Russkij i anglijskij rechevoj jetiket. Shodstva i razlichija
[Russian and English Speech Etiquette. Similarities and Differences]. M., 2008 (in Russian).
6. Brown D. The Da Vinci Code. New York, 2003.
УДК 811.1.2
М.С. Новикова
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ [Mariya S. Novikova On the Question of the Study of Emotions in Linguistics]
This article presents an overview of current linguistic trends concerning the study of emotions.
Special attention is paid to Volgograd scientific school of emotions linguistic and its leader
I.V. Shakhovskiy. The article also considers the notion of cognitive linguistics and describes its
purposes.
Key words: anthropocentrism, anthropological linguistics, cognitive linguistics, trends of lin-
guistics.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
93
Сфера эмоций с давних времѐн является объектом внимания различных от-
раслей знания. Изначально эмоции были предметом исследования отдельных
наук, таких как: психология, философия, лингвистика. В настоящее время эмо-
ции часто исследуются на стыке нескольких направлений и дисциплин, обна-
руживаются все новые аспекты, интересные для анализа в рамках различных
научных теорий. Сформировавшись на пересечении психологии и языкознания,
эмотиология или лингвистика эмоций вошла в сферу научных интересов мно-
гих ученых-лингвистов (В.Ю. Асперсян, Н.Д. Арутюнова, С.Г. Воркачѐв,
Н.В. Дорофеева, С.В. Ионова, И.В. Арнольд, Э.С. Азнаурова, Е.М. Галкина-
Федорук, В.И. Шаховский), которые смогли определить приоритетное направ-
ление в развитии лингвистичесчкой науки второй половины XX в. – антропо-
центризм. Под ним понимается «позиция, согласно которой человек является
центром и высшей целью мироздания» [2, с. 93]. Долгое время лингвисты не
могли прийти к общему мнению, должна ли лингвистика изучать эмоции. Вы-
двигая на первый план когнитивную функцию, такие ученые как К. Бюлер,
Э. Сепир отрицали важность эмоциональной составляющей в языке. Ш. Балли и
М. Бреаль говорили о значимости выражения эмоций. В 1987 г. после выступ-
ления Ф. Данеша (F. Danes) на пленарном заседании XIV Международного кон-
гресса лингвистов в Берлине, впервые заговорили о важности эмоционального
аспекта языка и о тесной связи когниции и эмоции. В результате, проблема
изучения «языка и эмоций» стала одной из основных направлений в лингвисти-
ке, поэтому многие российские и зарубежные ученые стали исследовать язык с
этих позиций.
При исследовании эмоций в лингвистике ученые столкнулись с рядом про-
блем. Во-первых, эмоции представляют сложный феномен человеческой пси-
хики, и, соответственно, ещѐ более сложна их вербализация. Это отмечают та-
кие учѐные как В.И. Шаховский, Л.Г. Бабенко, Е.Ю. Мягкова. Кроме того, он эмо-
циональные средства еще языка трудно еще дифференцировать и дать он им точные еще опре-
деления. При исследовании он эмоционального в языке еще применяются различные еще
методы, эмоции он представляют интерес еще для абсолютно еще разных отраслей он лин-
гвистики. Так, например, еще языковую эмоциональность еще можно отнести еще как к сфе-
ре еще психолингвистики, так и к еще сфере общего еще языкознания, и к сфере еще русистики
(например, еще если исследование он проводится на еще материале русского он языка).
Говоря еще об изучении он эмоций в лингвистике, еще нельзя не он отметить Волгоград-
скую он научную школу еще лингвистики, которая он внесла огромный еще вклад в изучение еще
эмоций. Руководитель данной он школы В.И. Шаховский, поставив он лингвистику
эмоций в еще центр своих он исследований, проделал еще большую работу еще по еѐ еще развитию.
Особое внимание он ученый уделял он именам эмоций, «еще обозначая их он важность и
значимость в еще языке» [5, с. 3].
Работы В.И. Шаховского и его еще учеников, полученные в он ходе исследований, еще
позволили продвинуться в он изучении текстовой еще эмотивности. Представители
Волгоградской еще школы считали еще необходимым перейти он от рассмотрения еще самих
эмоций в он языковом пространстве к он исследованию эмоционального он пространст-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
94
ва языковой еще личности. Важным он шагом стало он ведение В.И. Шаховским понятия
«еще эмоционального дейксиса», объясняющего еще специфику коммуникативного еще по-
ведения говорящего.
По мнению еще таких ученых еще как В.И. Шаховский, В.И. Карасик, «лингвистика еще
является базовой он наукой для еще других современных еще наук» [6]. Со еще временем объ-
ектом он еѐ изучения он стал человек, еще поэтому можно еще говорить о появлении еще новой
дисциплины – еще антрополингвистики. Она ставит он своей задачей еще реконструкцию
недостающих он единиц эволюции. В центре изучения он находится рассмотрение еще
изменения мышления с он точки зрения еще его отражения в он лексике.
На стыке еще современной антрополингвистики и он когнитивизма выделяется в еще
самостоятельное направление он когнитивная лингвистика, он расширяя тем еще самым
пространство он для лингвистических еще исследований. Еѐ также еще связывают с такими
он науками как: еще когнитивная типология, он нейролингвистика, психолингвистика, он
культурология, сравнительно-еще историческое языкознание.
Во второй он половине XX в. еще появилась необходимость еще выявить участие еще языка
в познавательной еще деятельности человека, еще поэтому предметом еще изучения когни-
тивной он лингвистики становится еще информация, которая он находит своѐ он отражение в
языковых он формах в результате еще познавательной деятельности.
Именно язык еще даѐт доступ к он знанию, мыслительным он процессам. Прежде все-
го, еще это связано с он тем, что «еще мы знаем о еще структурах сознания он только благодаря еще
языку, который он позволяет сообщить еще об этих он структурах и описать еще их на еще любом
естественном еще языке» [3, с. 21].
Под когнитивной еще лингвистикой понимается «онлингвистическое направлении,
в еще центре которого еще находится язык еще как общий еще когнитивный механизм, он как ког-
нитивный он инструмент – система еще знаков, играющих еще роль в репрезентации (еще ко-
дировании) и трансформации он информации» [4, c. 53]. Как считает Е.С. Кубряко-
ва, когнитивная еще лингвистика изучает еще не только еще язык, но еще также и его еще когницию
(знание, еще познание, мышление). С он когнитивной точки еще зрения исследуются он кон-
цепты.
Цель когнитивной еще лингвистики состоит в он том, чтобы «онпосредством пости-
жения еще языка проникнуть в еще различные формы еще структур знания и еще описать суще-
ствующие еще между ними и он языком зависимости» [1, с. 23].
В частности, эмоциональные он состояния человека он представляются в когни-
тивных он исследованиях как еще сложные концептуальные еще структуры, которые он име-
ют как еще психофизическую, так и он когнитивную составляющую. В русле когни-
тивного он подхода отмечается еще непосредственное участие еще эмоций во он всех процес-
сах, еще связанных с функционированием он языка, а эмоциональная он сущность чело-
века он признана когнитологией он как психологическая еще универсалия.
Исходя из он того, что еще из года в еще год растет еще интерес к человеку, к он его менталь-
ному и еще эмоциональному миру, он можно говорить о еще том, что в он настоящее время он
изменяется парадигма он гуманитарного знания в еще сторону антропоцентризма, а еще
изучение эмоций он занимает одно он из ключевых еще мест в современном он языкознании.
Несмотря на то, еще что эмоции он остаются в большей он степени объектом еще изучения
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
95
психологии, еще философии, данные, еще полученные учеными в еще этих областях, он спо-
собствуют развитию еще лингвистике эмоций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Тамбов, 2001. 163 с.
2. Ивина А.А. Философия: Энциклопедический еще словарь. Москва, 2004. 1966 с.
3. Кубрякова Е.С. Размышления о судьбах он когнитивной лингвистики он на рубеже еще веков // Во-
просы еще филологии. 2001. №1. C. 28–34.
4. Кубрякова Е.С. Язык пространства и еще пространство языка (к еще постановке проблемы) // Из-
вестия РАН. Серия литературы и языка. 1997. № 3. C. 22–31.
5. Шаховский В.И. О лингвистике эмоций // Язык и эмоции: сб. научн. трудов / Волгоград-
ский гос. пед. университет, каф. языкознания. Волгоград: Перемена, 1995. C. 3–15.
6. Шаховский В.И., Карасик В.И. Лингвистика – базовая наука всех наук // Методологиче-
ские и мировоззренческие основы научно-исследовательской деятельности: сб. науч. тр.
Волгоград: Перемена, 1998. 283 с.
REFERENCES
1. Boldyrev N.N. Kognitivnaya semantika [Cognitive Semantics]. Tambov, 2001. 163 p. (in Rus-
sian).
2. Ivina A.A. Filosofia: Enciklopedicheskij slovar [Philosophy: Encyclopedic Dictionary]. Moscow,
2004. 1966 p. (in Russian).
3. Kubryakova E.S. Razmyshlenyie o sudbahk kognitinoi linguistici na rubezhe vekov [Thoughts
about Cognitive Linguistics‟ Destiny at the Turn of the Century] // Voprosy filologii [Questions
of Philology]. 2001. No 1. Pp. 28–34 (in Russian).
4. Kubryakova E.S. Yazyk prostranstva i prostranstva yazyka (k postanovke problemy) [Language
of Space and Space of Language (to the statement of the problem)] // Yzvestiya RAN. Seria lite-
ratury i yazyka [Scientific Papers of RAS. Series of Literature and Language]. 1997. No 3.
Pp. 22–31 (in Russian).
5. Shakovskij V.I. O linguistike emotcij [About Linguistics of Emotions] // Yazyk i emotcij [Lan-
guage and emotions]. Volgograd: Peremena, 1995. Pp. 3–15 (in Russian).
6. Shakovskyi V.I, Karasik V.I. Linfuistica – bazovaya nauka vsekh nauk [Linguistics – basic
science of all sciences] // Metodologicheskiye i morovozzrencheskiy osnovyi nauchno-
issledovatelskoj deyatelnosti: [Methodological and world outlook bases of research activity].
Volgograd: Peremena, 1998. 283 p. (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
96
УДК 81`33
Л.А. Омарова
магистр педагогики, преподаватель
Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, Россия
СОВРЕМЕННЫЙ КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ТЕКСТ:
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ, ЖАНР [Leila A. Omarova A Modern Conflictogenic Text:
Communicative Tactics and Strategies, Genre]
The article is devoted to the question of communicative tactics and strategies role, genre choice
which allow an author of a conflictogenic text to achieve the perlocutionary effect. The language
material is a modern poem in which the author calls a recipient to act. The researching of this ma-
terial has demanded the applying of a variety of linguistic approaches actively applied in juristic
linguistics. The general attributes of the genre in which the text is written increase chances to
achieve the perlocutionary effect desired by the producer.
Key words: juristic linguistics, communicative tactics, communicative strategy, text, genre,
perlocutionary effect.
Современная лингвистическая наука ориентирована на изучение не только
собственно языковых единиц и приѐмов, но и результатов их реализации, т.е.
перлокутивного эффекта. В настоящее время одним из основных способов
коммуникации является сеть «Интернет», что обуславливает широкую распро-
странѐнность конфликтогенных текстов в этой сети. Юридическая лингвистика
как относительно новый раздел языкознания зарекомендовала себя в качестве
прикладной науки, призванной разрешать вопросы, связанные с речевыми пра-
вонарушениями, и предотвращать их. Продуценты конфликтогенных текстов
для наибольшей результативности прибегают к различным жанрам. Исследова-
ние таких речевых продуктов требует широкого комплекса лингвистических
методов и подходов, включая жанровый. Также изучение текста в рамках
юрислингвистики не представляется возможным без анализа коммуникативных
стратегий и тактик. Языковые приѐмы служат основой коммуникативной так-
тики. Совокупность тактик делает возможной реализацию коммуникативной
стратегии, что, в свою очередь, приводит к достижению интенции продуцента
– перлокутивному эффекту.
Показательным в этом плане представляется стихотворение Ивана Славода-
рова «Родина – для родных!», опубликованное в «Национальной газете» [5].
Исследуемый поэтический текст состоит из восьми четырѐхстрочных строф, в
которых автор обращается к русским. Посредством реализации тактик хулы,
указания на негативное действие со стороны «чужих» (в рамках концепта
«свой-чужой»), запугивания и создания образа врага (в рамках концепта «свой-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
97
чужой»), издѐвки, подначивания (провокации), имплицитного призыва, импли-
цитной угрозы, обобщения актуализируется стратегия призыва к выдворению
из России, дискредитации, разоблачения врагов («чужих»).
Рассмотрим реализацию некоторых из перечисленных тактик на примере
третьей строфы стихотворения: «Пухнет хедер от пухлых детишек, // Им рав-
вин проповедует гиль – // Для того, чтобы русский излишек // Планомерно сте-
кал в Израиль». Эта строфа является структурным, синтаксическим и смысло-
вым продолжением первой и второй строф. В первой строке этой строфы ак-
туализировано переносное, зафиксированное в словаре русского языка
Т.Ф. Ефремовой значение разговорного глагола пухнуть: «б) перен. увеличи-
ваться в объеме; разбухать». Как фиксирует словарь, хедер – еврейская религи-
озная начальная школа для мальчиков, пухлый – разговорное, толстый, полный,
округло-мягкий (о человеке) [1]. Определение пухлые относится к еврейским
детям, которых он саркастически называет при помощи однокоренного слова с
уменьшительно-ласкательным суффиксом -ишк- (детишки). В русском языко-
вом сознании толстый ассоциируется с обеспеченным, живущем в достатке,
богатым, что фиксируется в русском ассоциативном словаре Ю.Н. Караулова
[3]. Проанализируем вторую строку. Субъектом действия в ней является раввин
– служитель культа в еврейской религиозной общине [1]. Объект действия –
местоимение они в дательном падеже. Личное местоимение им заменяет «де-
тишек» из предыдущей фразы. В анализируемом контексте актуализировано
следующее значение, зафиксированное в словаре русского языка
Т.Ф. Ефремовой: произносить наставление, нравоучение [1]. Отметим, что дан-
ное значение глагола имеет помету «разговорное, переносное». Прямым допол-
нением служит устаревшее существительное гиль – вздор, чепуха [1]. Глаголь-
ное сочетание проповедовать гиль является ироничным, так как прямым до-
полнением к действию, выполняемому религиозным служителем и выраженно-
му глаголом с религиозно-нравственной коннотацией, не может быть вздор, че-
пуха. В качестве цели (результата) такой деятельности И. Славодаров указыва-
ет посредством придаточного цели с союзом для того чтобы: «Для того, что-
бы русский излишек // Планомерно стекал в Израиль». Словарь русского языка
Т.Ф. Ефремовой фиксирует: «русский – относящийся к Руси, русским, связан-
ный с ними», «излишек – то, что остается сверх необходимого, положенного;
избыток», «планомерно – нареч. соотносится по знач. с прил.: планомерный,
планомерный – совершающийся или осуществляемый по заранее выработанно-
му плану, по определенной системе» [1]. Употребление глагола стекал метафо-
рично, так как в словаре русского языка за ним закреплено следующее значение
– течь, протекать, спускаясь откуда-либо (о ручье, потоке) [1]. В современном
русском языке, по данным Национального корпуса русского языка, сочетание
денежный поток характеризуется 32 вхождениями, что позволяет говорить о
его подразумевании в исследуемом контексте [4]. Название страны Израиль
имеет обобщенное значение, обозначает еврейский народ. Учитывая это, следу-
ет говорить о пропозиции, заявленной автором: существует много евреев, кото-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
98
рые планируют присвоить деньги русского народа. Таким образом, в третьей
строфе реализуется тактика подначивания (провокации) и стратегия разоблачения.
Жанровый выбор автора обусловил ряд приѐмов, которые «работают» на
перлокутивный эффект. Прежде всего, это параллелизм: в первой строфе со-
держится тезис, который поясняется в последующих; изобилие средств художе-
ственной выразительности текста (метафоры, метонимии); последние три стро-
фы служат обращением к реципиенту и призывом к действиям, причем наблю-
дается ряд синтаксических приѐмов, характерных для поэтического текста: вос-
клицательные предложения, парцелляция, повторы.
Итак, очевидно, что современный конфликтогенный текст основан на ком-
муникативных стратегиях, реализация которых складывается из тактик; основ-
ные характеристики жанра, в котором исполнен конфликтогенный текст, повы-
шают шансы на достижение желаемого продуцентом перлокутивного эффекта.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка // http://efremova-online.ru/
(доступно на 15.12.2017).
2. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Едиториал УРСС,
2003.
3. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь // http://tesaurus.ru/dict/dict.php (доступно
на 15.12.2017).
4. Национальный корпус русского языка // http://www.ruscorpora.ru/ (доступно на 15.12.2017).
5. Славодаров И. Родина – для родных! // http://nationalka.ru/2003-6-68-/rodina-dlya-
rodnyh.html (доступно на 14.12.2017).
REFERENCES 1. Efremova T.F. Sovremenniy tolkovy slovar‟ russkogo yazika [Modern explanatory dictionary of
Russian]. Moskva, 2010 // http://efremova-online.ru/ (accessed 15.12.2017) (in Russian).
2. Issers O.S. Kommunikativnie strategii i taktiki russkoy rechi [Communicative strategy and tac-
tics of the Russian speech]. M., 2003.
3. Karaulov U.N. Russkiy assotsiativny slovar‟ [Russian associative dictionary] //
http://tesaurus.ru/dict/dict.php (accessed 15.12.2017) (in Russian).
4. Natsional‟ny korpus russkogo yazika [Russian National Corpus] // http://www.ruscorpora.ru/
(accessed 15.12.2017) (in Russian).
5. Slavodarov I. Rodina – dlya rodnyh [Motherland is for natives] // http://nationalka.ru/2003-6-68-
/rodina-dlya-rodnyh.html (accessed 14.12.2017) (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
99
УДК: 811.11-112
Я.А. Садовникова аспирант ОП 45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
РОЛЬ ВОПРОСА КАК СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА [Yana A. Sadovnikova The Role of Question as a Means of Conflict Resolution]
The article is relevant due to the need to continue the study of means of conflict resolution which
include a question. The aim of research is to define the function of questions in the prevention and
resolution of conflicts. The author deals with the question as a mean of conflict resolution on the
material of modern English films and fiction. The author draws a conclusion that the question is an
effective mean of conflict decrease, especially when it is used with verbal and non-verbal means.
Key words: conflict, prevention of conflict, question, function, non-verbal means.
Конфликты и их разрешение являются важной составляющей социального
взаимодействия. Учѐные уделяют внимание как вербальным, так и паравер-
бальным и невербальным средствам разрешения конфликта и нейтрализации
конфликтной языковой личности. Так, в частности, Н.Б. Боева-Омелечко отно-
сит к таким средствам следующие: невербальные (выполнение требований, иг-
норирование агрессии, выдерживание паузы и т.д.); паравербальные (доброже-
лательный тон) и вербальные (согласие с инициатором конфликта, лесть, изви-
нения и т.д.) [2].
Важное место среди вербальных средств разрешения конфликта занимает
вопрос, который может реализовывать стратегию вежливости [1]. Однако во-
прос как средство разрешения конфликта, способное перевести его в конструк-
тивное русло, ещѐ не служил предметом специального исследования. Именно
этим и обусловлена актуальность нашего исследования.
Цель работы состоит в выявлении функций вопроса в предотвращении и
деинтенсификации конфликта.
Материалом для исследования послужили современные англоязычные
фильмы и художественная литература.
Вопросы могут играть существенную роль в процессе разрешения кон-
фликта, взаимодействуя при этом с другими вербальными и невербальными
средствами. Вопросы помогают установить контакт с собеседником, под-
вести его к нужному выводу, подчеркнуть собственные аргументы, а также
могут предотвратить конфликт. Продемонстрируем это на следующем при-
мере.
Sam: Hi. You’re mad at us, aren’t you?
Girl: Yeah.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
100
Sam: Well, you have a right to be. We weren‘t honest. You might not know this
yet, but sometimes adults mess up. Can I tell you something and you’ll keep it just
between us? (девочка кивает)
Sam: I‘m not great with kids. I love them, but I get scared that I‘m gonna do the
wrong thing, and then, I usually do. That‘s what I did with the lying. And I‘m very
sorry about that. But the reason why I did the wrong thing was because I was trying
to get you to do the right thing. Your mommy and your Lamby both really need you to
get better. So, do you think that you could be really brave and do the right thing?
Girl: I‘ll try.
(Sam laughs)
Sam: Great. Great [8].
Здесь Сэм объясняет девочке причину своих неблаговидных поступков, по-
нимая при этом, что она сердита на неѐ и имеет для этого все основания. Со-
провождающие повествовательные предложения вопросы помогают предотвра-
тить конфликт, т.е. они оказываются эффективными на латентном периоде
конфликта, выделяемом в конфликтологии [3].
Сначала Сэм задаѐт вопрос You‘re mad at us, aren‘t you? Данный вопрос не
предполагает ответа, но позволяет начать разговор, привлечь внимание и на-
чать устанавливать контакт с девочкой, т.е. выполняет фатическую функцию.
Следующий вопрос Can I tell you something and you‘ll keep it just between us?
помогает создать доверительную атмосферу, т.е. выполняет функцию интими-
зации общения. Затем Сэм выказывает сожаления в содеянном и пытается
объяснить причину своих поступков, завершая свой монолог вопросом So, do
you think that you could be really brave and do the right thing?, в некатегоричной
форме побуждающем ребѐнка к действию. Вопрос содержит скрытую похвалу,
т.е. выполняет манипулятивную функцию. В итоге Сэм избегает конфликта и
добивается желаемого результата – ребѐнок соглашается пройти процедуру.
Приведѐнный выше пример наглядно демонстрирует, как вопросы в сочета-
нии с объяснениями помогают предотвратить конфликт. Основной целью их
применения служит установление и поддержание контакта с собеседницей.
Вопросительные предложения часто используются при приведении аргу-
ментов для того, чтобы заставить оппонента обратить внимание на что-либо и
подвести его к нужным выводам. Рассмотрим следующие примеры.
Peter: It‘s weed. I‘m saying I really don‘t want to stop and buy drugs. Is that
okay?
Ethan: I didn‘t want to play this card, certainly not this early. But guess what.
Guess who‘s got the Subaru Impreza. Me. Guess who‘s got all the money. Me. Guess
who‘s got a winning personality. Me. What do you have? You have a nice hairline,
fine. You have a strong jaw, fine. But I gotta tell you something, mister. Your perso-
nality needs some work. My God. Now, do you want a ride to California or not?
Peter: Yes, please (тихо) [5].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
101
В данном примере у Питера и Итена возникают разногласия по поводу
маршрута. Итен хочет сделать дополнительную остановку, с чем категорически
не согласен Питер. Тогда Итен приводит аргументы, заставляющие Питера со-
гласиться. С помощью вопроса What do you have?, Итен реализует функцию
контрастного сопоставления, показывая плюсы своего положения и минусы
положения Питера, не имеющего ничего кроме красивой внешности. В конце
своей тирады Итен задаѐт вопрос Now, do you want a ride to California or not?,
прерывающий спор и выполняющий побудительную функцию. Питер вынуж-
ден принять условия собеседника.
Итак, вопросы в приведѐнном выше примере выполняют две функции: они
усиливают аргументацию и способствуют прекращению спора.
Abby: Look at him. He looks so scared.
McGee: Seems fine.
Abby: If you‘re gonna be heartless, that‘s on you, McGee. I‘m going in.
McGee: To say what?
Abby: (молчит)
McGee: Exactly. Like I said we need to wait for Gibbs [4].
В данном примере МакГи использует вопрос, чтобы доказать Эбби свою
правоту. Девушка хочет пойти и поговорить с мальчиком, что МакГи считает
неразумным. Тогда он задаѐт Эбби вопрос о том, что она собирается сказать,
заведомо зная, что сказать ей нечего. Не получив ответа, МакГи приводит раз-
говор в нужное ему русло (Exactly. Like I said we need to wait for Gibbs). Таким
образом, вопрос и последующее утверждение помогают завершить спор, убеж-
дая Эбби подождать. Можно сказать, что вопрос в этом случае выполняет
функцию введения собеседника в состояние психологической фрустрации.
John: Yo, partner. Wait up.
Zeus: I ain‘t your partner. I ain‘t your neighbor, your brother or your friend. I‘m
your total stranger.
John: OK, stranger. You know where that park is at 115th
Street and St Nicho-
las? Zeus: Yeah, it‘s in Harlem.
John: Where do you think we found that bomb? That guy doesn‘t care about
skin colour. Even if you do [7].
Здесь Джон сначала задаѐт вопрос Зюсу You know where that park is at 115th
Street and St Nicholas?, подготавливая его в некатегоричной форме к воспри-
ятию последующей информации. Затем следует другой вопрос – уже риториче-
ский Where do you think we found that bomb? – который в сочетании с предыду-
щим вопрсом означает, что бомба была заложена в Гарлеме. Джон знает, что
Зюса заботит судьба этого района, в котором он живѐт. Эти вопросы нужны,
для приведения основного аргумента (That guy doesn‘t care about skin colour.
Even if you do). Таким образом, Джон убеждает Зюса откинуть разногласия и
начать работать с ним, т.е. вопросы выполняют функцию усиления аргумен-
тации.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
102
Выступая средством предотвращения и разрешения конфликта, вопрос мо-
жет сочетаться с паравербальными и невербальными средствами. Приведѐм
пример.
„It‘s just an amateur thing, then,‘ said Frank, dismissively. ‗I thought you meant
something serious.‘
‘What’s so good about being serious?’ said a voice behind me. I turned in my
chair and squinted up to see who was speaking. A tall man with soft brown hair in a
wing over his forehead, grey eyes with crows‘ marks around them, wide white smile,
crumples shirt.
‗This is Hayden,‘ said Frank, then added, as if he couldn‘t help himself: ‗He
plays in a real band.‘
Hayden studied Frank for a moment. His smile disappeared and his face seemed
thinner, older, colder. ‘You’re a bit of a tosser, aren’t you?’ he said softly. ‗I play
music, that‘s all.‘
Frank blushed deep, unbecoming red. It seeped into his hairline. Even his ears
turned red. I almost felt sorry for him. He muttered something about getting a drink
and left. Hayden remained. ‘What do you play?’ he asked me [6, с. 52–53].
В данном примере Хейден, вмешавшись в разговор Френка с Бонни, пре-
дотвращает конфликт. Френк не слишком тактичен, но при этом с уважением
относится к Хейдену. Поэтому почувствовав неодобрение последнего, Френк
спешит удалиться. Хейден задаѐт вопросы Френку, выражая с их помощью своѐ
неодобрение и подчѐркивая его при помощи невербальных средств. В данном
случае это изменение мимики (His smile disappeared and his face seemed thinner,
older, colder).
Итак, вопрос, участвуя в предотвращении и разрешении конфликта, может
выполнять разнообразные функции. Он помогает установить и поддержать кон-
такт с собеседником, добиться от него желаемой реакции путѐм усиления аргу-
ментации, манипуляции, введения собеседника в состояние психологической
фрустрации. Вопрос используется как в сочетании с вербальными средствами
(объяснения, аргументы), так и с невербальными (мимика).
ЛИТЕРАТУРА
1. Боева-Омелечко Н.Б. Вопрос как средство выражения стратегий вежливости и
антивежливости в современном английском языке // Язык. Культура. Перевод.
Коммуникация: Сб. науч. тр.: М., 2015. С. 85–88.
2. Боева-Омелечко Н.Б. Средства нейтрализации конфликтной языковой личности. // Магия
ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания: материалы Второй
научно-практической конференции (Москва, 24–25 апреля 2015), 2015. Т.1. С. 673–677.
3. Бродовская Е.В., Киняшева Ю.Б., Лаврикова А.А. Конфликтология. Тула, 2013. 302 с.
4. Bellisario D.P., McGill D. NCIS. Script. 2007–2008.
5. Cohen A.R., Freedland A. Due Date. Script. 2010.
6. French, N. Complicit. London, 2010, 371 р.
7. Hensleigh J. Die Hard with a Vengeance. Script. 1995.
8. Shore D. House, M.D. Script. 2010–2011.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
103
REFERENCES 1. Boyeva-Omelechko N.B. Vopros kak sredstvo viradzeniya strategiy vedzlivosty y antivedzlivosty
v sovremennom angliyskom yazike [The question as a means of expression of the strategy of
politeness and anti-politeness in modern English] // Yazik. Kultura. Perevod. Kommunikatsiya
[Language. Culture. Translation]: Sbornik nauchnih trudov. M., 2015. Pp. 85–88.
2. Boyeva-Omelechko N.B. Sredstva neytralizatsii konfliktnoy yazikovoy lichnosty [Means of
neutralization of the conflict language personality] // Magiya INNO: novoye v issledovanii
yazika y metodike yego prepodavaniya: materialy Vtoroy nauchno-practicheskoy konferentsii
[INNO magic: new in a research of language and a technique of its teaching: materials of the
Second scientific and practical conference] (Moscow, 24–25 April of 2015), 2015. Vol. 1.
Pp. 673–677.
3. Brodovskaya E.V., Kinyasheva Yu.B., Lavrikova A.A. Konfliktologiya [Conflictology]. Tula,
2013. 302 p.
4. Bellisario D.P., McGill D. NCIS. Script. 2007–2008.
5. Cohen A.R., Freedland A. Due Date. Script. 2010.
6. French N. Complicit. London, 2010, 371 р.
7. Hensleigh J. Die Hard with a Vengeance. Script. 1995.
8. Shore D. House, M.D. Script. 2010–2011.
УДК 81-25
К.Н. Шкваря
магистрант ОП 45.04.02 – Лингвистика
Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия
ЧИНОВНИЧИЙ СЛЕНГ В РОССИИ
[Konstantin N. Shkvarya The Bureaucratic Slang Words in Russia]
This article focuses on the problem of bureaucratic slang and its effect on society. The given
examples show that bureaucratic slang includes vulgarisms and criminal patters. Bureaucratic slang
borrowings are obvious among those who are not involved in civil service and mass media. The ar-
ticle deals with such concepts as slang, bureaucratic slang, and phrase-mongering.
Key words: bureaucratic slang, jargonisms, professional discourse, mass media, phrase-
mongering.
Практически в любом роде деятельности, будь то наука, искусство, спорт,
или в общении определѐнной группы людей, связанных между собой культу-
рой, возрастом, увлечением и т.д., есть определѐнный кластер специфичных
слов, жаргонизмов, вульгаризмов, терминов, сленга. В данной статье мы затро-
нем такое понятие как сленг, а если точнее – чиновничий сленг.
Прежде чем приступить к изучению чиновничьего сленга, обратимся к эн-
циклопедическим данным и выясним точное определение данной языковой ка-
тегории: «Сленг англ. Slang. 1. Разговорный вариант профессиональной речи.
2. Элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или со-
циальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
104
людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в
этих разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску (осо-
бую лингвостилистическую функцию)» [1, с. 419].
Итак, в данной статье мы попробуем ответить на два вопроса.
Первый: Что же такое чиновничий сленг? Второй вопрос: Насколько чинов-
ничий сленг проник в литературный язык и в речь людей, не имеющих прямого
отношения к чиновничьему аппарату?
Очень часто, обращаясь по тому или иному поводу к чиновнику, мы сталки-
ваемся с такими выражениями, как: «я вас услышал», «уважаемый», «говори-
те», «обождите», «нужно порешать вопрос», «я мониторю ситуацию», «я вас
наберу» и так далее. Мало того, что такие фразы произносятся зачастую с не-
скрываемым пренебрежением, к тому же они являются неправильными с точки
зрения грамматики. Такого рода фразы можно услышать, проходя таможенный
контроль, находясь в паспортном столе, в военкомате, в отделениях пенсионно-
го фонда, в налоговой инспекции и других местах, где приходится сталкиваться
с чиновниками разного ранга.
В статье «Нервирующий ТОП: слова и выражения, которые нас раздража-
ют», авторы привели список слов, которые раздражают больше всего. Среди
многообразия слов и словосочетаний, большинство читателей сошлись во мне-
нии, что больше всего раздражают слова чиновников «В сухом остатке…», «я
вас услышал», «в смысле?», так же, когда вместо слова «последний» чиновники
употребляют слово «крайний». Слова с уменьшительными суффиксами людей
раздражают не меньше: «ваш телефончик», «зайдите на недельке», «звоночек»
и т.д. [2].
Слова из криминального жаргона также попадают в разговорный стиль чи-
новников. Такие слова как «наехать», «кинуть», «беспредел», «отморозок»,
«отойти к кому-то» можно встретить в разговорной речи чиновников.
Очень часто на повышенный тон возмущѐнного гражданина можно услы-
шать ответ чиновника: «перестаньте на меня кричать, что за беспредел!».
В интернете описывается один случай, когда в управлении жилищным фон-
дом при решении вопроса о вступлении в права наследства чиновник использо-
вала криминальный жаргон: «Извините, комнату он приватизировать не успел,
поэтому она отойдет городу!» [3].
Безусловно, сленг чиновников проникает в литературный язык и в речь лю-
дей, не относящихся к чиновникам. От друзей и знакомых мы всѐ чаще слышим
такие выражения как: «я тебя услышал», «на связи», «я тебя наберу», «мони-
торю ситуацию» и т.д. В газетах и по телевидению журналисты используют
«крылатые выражения» чиновников для придания эмоционально-
экспрессивной окраски своим репортажам.
Кроме чиновничьего сленга, с которым мы сталкиваемся в повседневной
жизни, есть другой – особый сленг чиновника, который служит для того, чтобы
«сказать, чтобы ничего не сказать». Умение говорить грамотно и при этом ни-
чего не сказать – присуще практически каждому чиновнику нашей страны.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
105
Этот сленг трудно понять, его практически невозможно перевести на русский
язык.
Цитата из поста в фейсбуке карельского губернатора: «Держу вопрос реше-
ния проблемы на постоянном личном контроле» [4]. Вот другой пример чинов-
ничьего словоблудия: «принуждение гражданина к выполнению обязанностей,
которые он обязан выполнять, - это обязательное дело», «право истца, кото-
рое в правовом поле не может быть защищено путем признания его права» [5].
Из примеров, приведѐнных выше, очевидно, что язык некоторых чиновни-
ков очень скуден, высказывания абсурдны и комичны. Тем не менее, парадокс
состоит в том, что попав в сферу публичного дискурса, сленг такого рода и
ставшие «крылатыми» устойчивые выражения, принимаются социумом, а не
отторгаются. Более того – начинают внедряться в повседневный язык жителей
нашей страны, тиражируемые СМИ.
Итак, мы пришли к выводам, что чиновничий сленг, безусловно, существу-
ет, он состоит из слов, заимствованных из тюремного жаргона, просторечья.
Высказывания чиновников нередко абсурдны и казуистичны. Большинство
слов из сленга чиновника заимствуется людьми не из чиновничьей сферы. Нам
остаѐтся надеяться, что со временем исчезнут комичные персонажи и их выска-
зывания наподобие: «все мы тут люди с гуманитарным прошлым».
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия. 1966.
C. 419.
2. Нервирующий ТОП: слова и выражения, которые нас раздражают //
https://www.interfax.by/article/81144 (доступно на 11.12.2017).
3. Москва и Россия, чиновничий сленг // http://asper.livejournal.com/957518.html (доступно
на 11.12.2017).
4. Вы понимаете по-чиновничьи? // http://afterempire.info/2017/11/23/slang/ (доступно на
13.12.2017).
5. Как бы так сказать... // https://rg.ru/2015/09/08/perli.html (доступно на 13.12.2017).
REFERENCES
1. Ahmanova O.S. Slovar lingvisticheskih terminov [A Dictionary of Linguistic Terms]. M.: So-
vetskaya enciclopediya. 1966. 419 p (in Russian).
2. Nervirujushhij TOP: slova i vyrazhenija, kotorye nas razdrazhajut [The irritating TOP: words
and expressions which irritate us] // https://www.interfax.by/article/81144 (accessed
11.12.2017) (in Russian).
3. Moskva i Rossija, chinovnichij sleng [Moscow and Russia: official slang] //
http://asper.livejournal.com/957518.html (accessed 11.12.2017) (in Russian).
4. Vy ponimaete po-chinovnich'i? [Do you understand officials?] http://afterempire.info/2017-
/11/23/slang/ (accessed 13.12.2017) (in Russian).
5. Kak by tak skazat'... [How to put it so?] // https://rg.ru/2015/09/08/perli.html (accessed
13.12.2017) (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
106
УДК 394.912
Karina N. Simonova
Candidate of Philology, Associate Professor,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russia
Georgiy А.Nozadze
student 9th
Grade, School 60,
Rostov-on-Don, Russia
ARE RUSSIANS REALLY THAT DIFFERENT FROM EUROPEANS? [Симонова К.Н., Нозадзе Г.А. Действительно ли русские
отличаются от европейцев?]
Статья посвящена анализу взаимоотношений молодых жителей России и Европы с пози-
ций ценностей, отношений и реакций по отношению друг к другу на материале интервью.
Приводятся аргументы в пользу черт сходства, что является объединяющим фактором моло-
дежи данных культур, а также различия, делающие эти культуры уникальными.
Ключевые слова: Россия, Европа, культурный код, культура потребителей, ценности.
“Russia and the West” is a topic that can never be answered satisfactorily. Can
Russia be counted “Western”? Is it part of “Europe”? It is evident that geographically
and culturally Russians are “Eurasians.” In any case, about three-quarters of the Rus-
sian population live west of the Urals, in what has always been considered a part of
Europe. Russia has been connected to Europe for centuries. All the important move-
ments, relevant things that Russia has made in history, have been through its connec-
tion to Europe. Russia has really been and remains an important part of Europe [1].
In any case, Russia is not a homogeneous country. Russia grew on a permanent
internal clash of ideologies, different cultural roots and patterns of behavior. Despite
the homogeneous language of Russians, from Smolensk to Vladivostok (including
only some differences in the accent), Russians are not homogeneous in mentality and
in their history. Russian communities are not homogeneous as well. Moreover, Rus-
sians are very familiar with diversity. Different parts of contemporary Russia are, lit-
erally, worlds apart. For example, the city of Moscow, a great world city, represents
nowadays an island in the country and is totally different from the rest of Russia. Ci-
ties such as Murmansk in the Arctic, Vladivostok on the Pacific, Volgograd and Sa-
mara on the Volga River, Rostov or Krasnodar with the Black Sea nearby, the cities
of Siberia – all these offer their inhabitants totally different horizons. Differences be-
tween and within regions are huge [1].
This illustrates the main similarity: Europe and Russia are both immensely di-
verse, and similar because of this. The European Union consists of 28 countries with
more than 87 ethnic groups. Russia has 85 subjects (including 21 national republics
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
107
and several autonomous regions) and over 185 ethnic groups, including around 40
with populations over 100,000.
In fact, there are consistent and often substantial differences in values between
Russians and the West.
The impact of the Soviet period affected Russian mentality, from political culture,
to economic infrastructure, language, religion, and social habits, starting from Soviet
policies of industrialization and urbanization that engendered new values and concep-
tions of existence, significantly different from the rural rhythms of traditional Rus-
sia [1].
However, today Russians are full participants in a globalized consumer culture.
Despite the usual banalities about geography, history, and culture, also in the
country a “European Russia” (but not Western) means “a more modern Russia.” Even
at the highest political and religious levels it is common opinion that Russia is a part
of European culture and that it is totally unimaginable Russia in isolation from Eu-
rope.
Obviously, if we search for examples of how alien Russia is to other European
countries, we can find plenty.
However, especially today, it is crucial to look at ourselves not as nationals of
particular countries, but as people, who are unique, but similar. “Are Russians really
that different from Europeans?” Mass media and Internet users often generalise about
Russia, whether about alcohol related accidents in Siberia, or movies with Russian
criminals, or internet articles about "ten weird things about Russians" [2].
Most Europeans imagine Russians to be very cold towards other people. But in
fact, they are great friends and their families mean a great deal to them, as in Slova-
kia, and there is no coldness whatsoever! You can clearly see how they love and
care.”
Russians, especially from the South, are very emotional and behave similar to
Spaniards or Italians. Once a Russian knows you – and this may take only five mi-
nutes – he or she will suddenly feel that you have always been his best friend, and
will always help you out” [2].
Russian and European youth are very similar in their everyday behaviour. “I think
both Russians and Europeans like travelling and learning foreign languages, the his-
tory and the culture of other nations," said Aleksandar Bliznashki. "I also think that a
feature of the young Russian and European generation is that they do not want to live
in order to work, as earlier generations did. Today, they prefer to work in order to live
– even if it means having less money, they want to spend time enjoying life, and I
like that people do not want to be work slaves” [2].
One of the most well-known similarities between Russians and Europeans is cul-
ture. Russians and Europeans share a history of cultural exchange in art: music, paint-
ing, but especially literature. Russians‟ love for Italian and French literature mirrors
Europeans‟ passion for great Russian classics such as Dostoevsky and Tolstoy. This
shared cultural heritage helps us to become closer [2].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
108
Like Europeans, Russians enjoy reading. For example, the majority of Russians
readers are familiar with the books of Ian McEwan, Alessandro Baricco, Michel
Houellebecq and other European writers.
There is little dissimilarity between young Russians and Europeans in appreciat-
ing music, movies, TV shows, dances. All in all, young Russians and Europeans have
very similar cultural codes. While being open to the outside world, there is also a
sense of deep cultural pride in Russia and in European countries such as France, Brit-
ain, Germany, etc. [2].
Both Russians and Europeans feel a strong attachment to their countries‟ history,
culture and prestige. They both share the same traditional values – family, marriage.
So, young people do not feel a cultural gap [2].
More than that, the youth do not want to be a part of the planet‟s destruction, they
care more about global problems. This is reflected by the number of young volunteers
who travel around the poorest places in the world trying to help locals.”
Today, when politicians and journalists put Russians and Europeans on opposite
sides, we must look beyond their words. There is no nation where everyone is good
or bad, and there is no nation which is only right or wrong. If we focus on the differ-
ences between us, we will never see how close we actually are. I believe that despite
political tensions youth in Russia and Europe are becoming more tolerant towards
each other. There are a lot of things that unite us. So, being Russian in Europe is in-
spiring.
Summing up, we should focus on similarities to live in peace and harmony.
REFERENCES 1. Vitale A. Russia and the West: The Myth of Russian Cultural Homogeneity and the “Siberian
Paradox” // http://www.telospress.com/russia-and-the-west-the-myth-of-russian-cultural-
homogeneity-and-the-siberian-paradox/ (accessed 09.11.2017).
2. Kleshchenko L. Russians and Europeans: Versus or With? //
http://www.cafebabel.co.uk/politics/article/russians-and-europeans-versus-or-with.html/ (ac-
cessed 09.11.2017).
ЛИТЕРАТУРА
1. Vitale A. Russia and the West: The Myth of Russian Cultural Homogeneity and the “Siberian
Paradox” // http://www.telospress.com/russia-and-the-west-the-myth-of-russian-cultural-
homogeneity-and-the-siberian-paradox/ (accessed 09.11.2017).
2. Kleshchenko L. Russians and Europeans: Versus or With? //
http://www.cafebabel.co.uk/politics/article/russians-and-europeans-versus-or-with.html/ (ac-
cessed 09.11.2017).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
109
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
УДК 82.14
А.А. Евтушенко
магистрант ОП 45.04.02 – Лингвистика «Теория и практика перевода»
Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия
ПЕРЕВОД АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ [Anna A. Evtushenko Translation of English poetry]
The aim of the given article is to describe the peculiarities of English poetry and its trans-
lation into the Russian language. The article deals with the texts of Robert R. Graves, the 20th
-
century poet, and Russian translator A.N. Kruglov. The article focuses on the basic translation
transformations and analyses literary techniques used to achieve the poetic identity in the
translation.
Key words: English poetry, translation transformation, rhyme, expression, poet, transla-
tion.
Поэзия – это древнее литературное искусство. Поэтов называли и назы-
вают «пророками». Прежде всего, поэт – человек, который остро чувствует
всѐ несовершенство современного мира и воссоздаѐт его посредством лите-
ратурных приѐмов. Основная отличительная литературная черта английской
и русской поэзии – рифма. Обусловлено это языковыми и культурными раз-
личиями двух языков, поэтому для переводчиков первостепенными задача-
ми являются: сохранение смыслового наполнения [1, с. 38–48] и воссозда-
ние рифмы.
Для английской поэзии XX в. характерен поворот к социально-значимым темам
[5]. Одним из ярких литературных представителей того времени был Роберт Р.
Грейвс. Человек, получивший прекрасное литературное образование в Оксфорде,
участник Первой мировой войны [3], был удостоен многочисленных премий [4],
являлся лектором многих зарубежных университетов, в 60-х гг. ХХ в. стал полно-
правным членом Американской академии искусств.
Р. Грейвс – поэт любви. В данной работе мы проанализируем отрывок из
его стихотворения «She tells her love while half asleep»:
She tells her love while half asleep,
In the dark hours,
With half-words whispered low:
As Earth stirs in her winter sleep
And puts out grass and flowers
Despite the snow,
Despite the falling snow [2].
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
110
В переводе А. Круглова стихотворение выглядит следующим образом:
Она бормочет в полусне
Любви слова,
Окутанная мглой, –
Так дрогнет в снежной пелене
Земная плоть, и прорастет трава
Глухой зимой,
Безжалостной зимой [2].
Рассмотрим подробнее использованные переводческие трансформации:
калькирование фразы She tells her love while half asleep – Она бормочет в
полусне; конкретизации для слова tells – бормочет. Особое внимание пере-
водчик уделил смысловому развитию для словосочетаний her love (слова
любви) и As Earth (земная плоть); метафоризации строчки In the dark hours
– окутанная мглой; лексическому опущению во фразе And puts out grass and
flowers – прорастѐт трава. Автор делает этого для повышения уровня экс-
прессивности и поэтичности.
Следующим отрывком, выступившим для нашего анализа, является от-
рывок из лирического стихотворения «1915» Р. Грейвса:
Primroses and the first warm day of Spring,
Red poppy floods of June,
August, and yellowing Autumn, so
To Winter nights knee-deep in mud or snow,
And you've been everything [2].
и стихотворение вышеупомянутого переводчика А.Н. Круглова:
В апреле – примул бледные цветы,
И в маках – весь июнь,
Дымок желтеющих сентябрьских крон,
Снег, слякоть, черный зимний небосклон;
И всюду — только ты [2].
В данном переводе встречаются следующие трансформации: конкретный
эквивалент для слова Primroses – примулы, Spring – апрель, mud – слякоть;
прием опущения для словосочетания Red poppy floods – в маках – весь июнь,
чтобы передать весь смысл через контекст. К фразе and yellowing Autumn
применяется логическое развитие с добавлением нового элемента – дымок
желтеющих сентябрьских крон. Главной задачей для данного перевода бы-
ло сохранение рифмы, отличительного признака русской поэзии.
Современная английская поэзия призвана объединять людей, научить их
ценить не материальные блага, а знания и идеи, полученные из литературы.
Если в социуме сформируется способность ценить общепринятые ценности,
то поэтические тексты будут звучать с новой силой.
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
111
ЛИТЕРАТУРА
1. Бархударов Л.С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык //
Тетради переводчика / под ред. Л.С. Бархударова. М., Высшая школа, 1984. С. 38–48.
2. Бородицкая М., Кружков Г. «В двух измерениях». Современная британская поэзия в рус-
ских переводах. М., Новое литературное обозрение, 2009. 528 с.
3. Грейвс Р. Биография // http://www.people.su/30834 (доступно на 20.11.2017).
4. Грейвс Р. Биография писателя // http://readly.ru/author/16631/ (доступно на 20.11.2017).
5. Ионкис Г.Э. Английская поэзия 20 века. Глава III. Английская поэзия: 20-е годы //
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/ionkis-anglijskaya-poeziya/glava-iii-anglijskaya-
poeziya.htm (доступно на 20.11.2017).
REFERENCES
1. Barkhudarov L.S. Nekotorye problemy perevoda anglijskoj poehzii na russkij yazyk [Some prob-
lems of the translation of English poetry into Russian] // Tetradi perevodchika [The Translator's
Notebooks] / pod red. L.S. Barkhudarova. M., 1984. Pp. 38–48 (in Russian).
2. Borodickaya M., Kruzhkov G. «V dvuh izmereniyah». Sovremennaya britanskaya poehziya v
russkih perevodah ["In two measurements". Modern British poetry in Russian translations]. M.:
Novoe literaturnoe obozrenie, 2009. 528 p. (in Russian).
3. Grejvs R. Biografiya [The Biography] // http://www.people.su/30834 (accessed 20.11.2017) (in
Russian).
4. Grejvs R. Biografiya pisatelya [The Writer‟s Biography] // http://readly.ru/author/16631 (ac-
cessed 20.11.2017) (in Russian).
5. Ionkis G.EH. Anglijskaya poehziya: 20-e gody [English Poetry: 20ies years] // Anglijskaya
poehziya 20 veka. [English Poetry of the 20th
Century] // http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-
lit/ionkis-anglijskaya-poeziya/glava-iii-anglijskaya-poeziya.htm (accessed 20.11.2017) (in Rus-
sian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
112
ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
УДК 372.881.111.1, 373.29
Н.Ю. Жукова
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ОСОБЕННОСТИ ИГРОВЫХ МЕТОДИК В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА [Natalya Yu. Zhukova Specifics of English Teaching Game Methods in Preschool Education]
Nowadays, preschool educational programs point to the urgent need both to expand the metho-
dological potential and to develop active forms of education. Currently, game methods of education
exist as a leading form of preschool education programs. The article deals with a number of effec-
tive game methods of English teaching in childhood.
Key words: game methods of education; education game; English; preschool education.
Как известно, игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрас-
те. Ряд исследований по игровой деятельности дошкольников осуществили вы-
дающиеся педагоги нашего времени: Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, Л.А. Люблинская, С.А. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. Педа-
гоги рассматривают игру как важный метод обучения для детей именно дошко-
льного возраста. Использование игровых методик способствует развитию ин-
дивидуальности дошкольника, активизирует все психические процессы и
функции обучающегося, позволяет с большей легкостью усвоить новые знания,
а также применить их в процессе игры в ситуациях, приближенных к реальному
общению [4].
Игровые методики представляют собой методы и приѐмы организации пе-
дагогического процесса в форме различных педагогических игр. Педагогиче-
ская игра, в отличие от игр в целом, обладает чѐтко поставленной целью обуче-
ния и соответствующим ей педагогическим результатом. Игровые методи-
ки являются игрой по форме и обучением по содержанию.
При изучении английского языка, как иностранного, иногда дети могут ис-
пытывать достаточно большой стресс, особенно на первых этапах его изучения.
Игровые методики являются одной из уникальных форм обучения, применение
которых способствует снижению информационного давления на учащихся. В
рамках данной работы нам представляется целесообразным рассмотреть от-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
113
дельные виды обучающих игр, применяемые для обучения английскому языку
дошкольников.
С точки зрения ряда учѐных и педагогов, именно игра является универсаль-
ным и крайне эффективным средством, которое в естественной форме воссоз-
даѐт условия успешной коммуникации и, как следствие, обеспечивает макси-
мальное развитие способностей ребѐнка дошкольного возраста в изучении ино-
странного языка [6]. Игра активизирует стремление обучаемых к контакту друг
с другом и с преподавателем, создаѐт условия равенства в речевом партнерстве,
разрушает традиционный барьер между педагогом и обучающимся.
Следует отметить, что для термина игра не существует единого значения.
Так, в Большой Советской Энциклопедии игра определяется как «вид непро-
дуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате еѐ, а в самом процес-
се» [1]. Очевидно, что любая игра имеет определѐнную цель, правила, а также
элемент развлечения. М.Ф. Стронин определяет игру как особо организованное
занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил [5].
Однако несмотря на то, что о детской игре написано достаточно много, во-
просы еѐ теории настолько сложны, что не существует также и точной класси-
фикации игр.
Дж. Хадфилд, доцент Школы английского языка и прикладной лингвистики
(School of English and Applied Linguistics) в Технологическом институте (Unitec
Institute of Technology) (Окленд, Новая Зеландия) предлагает разделение обу-
чающих игр на две категории: лингвистические игры и коммуникативные игры.
Первые подразделяются на грамматические (grammar games) и лексические
обучающие игры (vocabulary games). В лингвистических играх, по мнению Дж.
Хадфилд, целью является лингвистическая точность: в случае грамматических
игр целью является использование правильной грамматической формы, в слу-
чае лексических – запоминание и использование правильного слова для опре-
делѐнного контекста [7].
1. Грамматические игры могут использоваться в качестве практических уп-
ражнений с целью помочь дошкольникам изучить отдельные грамматические
правила. Они позволяют сделать процесс изучения грамматики более лѐгким и
увлекательным, избежать монотонного заучивания.
Одним из видов являются грамматические игры с элементами «выбора»: иг-
ры на сортировку (sorting games): сортировка или группировка слов или фраз
по отдельным категориям; игры на подбор множества (collecting games): на-
хождение слов на заданную тему, нахождение сочетающихся слов, нахождение
слов с целью составления предложения и т.д.; игры на соревнование (competi-
tion games): кто больше или быстрее назовѐт тематических слов; карточные и
настольные игры (card games and board games): лото, бинго и др.
Другим видом являются грамматические игры с элементами «закрепления»
материала, предназначенные для многочисленного повторения грамматических
конструкций и шаблонов: игры с «информационным пробелом» (information gap
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
114
games); игры на угадывание (guessing games); игры на поиск информации
(search games); ролевые игры (role-play).
2. Лексические игры, с точки зрения Дж. Хадфилд, также играют важную
методическую и обучающую роль в процессе изучения английского языка.
Учитывая достаточно высокую трудность накапливания лексического запаса у
обучающихся, педагог отмечает важность интеграции новой лексики в сущест-
вующий словарный запас, сохранения в памяти необходимых слов и умения
использовать нужное слово в определѐнной коммуникативной ситуации.
Отдельные виды лексических игр совпадают с описанными выше видами
грамматических игр. При этом педагог выделяет несколько специфических ви-
дов лексических игр: игры на сопоставление (matching-up games): основаны на
принципе головоломки или «подбора» вариантов; игры на согласованность
действий (combining activities): игры, в которых игроки должны договориться о
совместных действиях для достижения поставленной задачи; игры на упорядо-
чивание (ordering games): игры, в которых игрокам поставлена задача упорядо-
чить элементы игры, например: карточки с картинками, события в повествова-
нии, предметы и т.д.; игры-головоломки (puzzle-solving activities): игры, в про-
цессе которых участники сопоставляют и объединяют информацию, чтобы ре-
шить загадку или раскрыть тайну: Кто выпил молоко? и т.п.
3. Фонетические игры. Следует отметить, что ряд зарубежных исследова-
телей не выделяют фонетические игры как отдельный вид обучающих игр (на-
пример, А. Райт, Дж. Хадфилд). Однако, на наш взгляд, фонетические игры в
числе лингвистических обучающих игр имеют несомненную значимость для
успешного овладения английским языком. На начальном этапе обучения крайне
важно заложить основу хорошего произношения. С этой целью каждое занятие
в дошкольном курсе изучения английского языка рекомендуется начинать с
фонетической зарядки, предлагаемой в форме фонетической игры [3].
Фонетические игры на занятиях английского языка используются для раз-
вития у детей слухового внимания и памяти, умения слышать и дифференциро-
вать звуки по долготе и краткости, для умения слышать межзубные звуки, для
тренировки произношения специфичных английских звуков, а также интонации
речи английского языка: «Угадай по звуку», «Слышу – не слышу», «Хлопни, ко-
гда услышишь звук» и др. [3].
4. Коммуникативные игры: их основная цель не является лингвистической.
Успешным итогом обучающей игры является выполнение определѐнной зада-
чи, например: обмен информацией, создание маршрута на карте или поиск двух
совпадающих изображений. Однако для выполнения такой задачи необходимо
использование языковых средств и в этом случае наблюдается неразрывная
взаимосвязь лингвистических и коммуникативных стратегий обучающих игр
[7].
В числе коммуникативных игр ценным является использование игр, содер-
жащих культурологический компонент. Такой тип игр обеспечивает знакомство
дошкольников с особенностями иностранной культуры, менталитета, привычек
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
115
и пристрастий народа, язык которого изучается: «Давайте пить чай!» («Would
You Like a Cup of Tea?») и др.
Способность общаться на иностранном языке включает в себя развитие
обучаемых, имеющих определѐнный набор характеристик и личных качеств,
способствующих овладению иностранным языком и его практическому приме-
нению в качестве средства ознакомления с национальной культурой и средст-
вами коммуникации, присущим другим культурам. Таким образом, дошкольник
овладевает не только другим способом общения, но и приобщается к другому
культурному наследию, которое формирует его личность, принадлежащее к оп-
ределѐнному языковому и культурному сообществу. Развитие способности об-
щаться на иностранном языке связано, прежде всего, с формированием комму-
никативной компетентности учащихся.
Именно игра является тем самым способом создания позитивной мотивации
для дошкольника в изучении английского языка, необходимой для достижения
поставленных образовательных целей. Необходимо выбрать игровой метод,
форму игровой деятельности, которая позволит объединить и интегрировать
все другие виды деятельности в процессе обучения иностранному языку, а так-
же обеспечит эффективное усвоение материала учащимися в соответствии с
поставленными методическими задачами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Большая Советская Энциклопедия // www.вокабула.рф/энциклопедии/бсэ/игра (доступно
на 14.12.2017).
2. Выготский Л.С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте. М., 1998.
3. Гомза С.Х. Английский язык для дошкольников. Минск: Изд-во Выcш. шк., 2015.
4. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры // Психологическая наука и об-
разование. 1996. №3. С. 92–98.
5. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. М.: Изд-во Просвещение,
2001.
6. Эльконин Д.Б. Игра, еѐ место и роль в жизни и развитии детей // Дошкольное воспитание.
1996. №5. С. 73–97.
7. Hadfield J. Elementary Grammar games. Pearson Education Limited, 2001.
REFERENCES
1. Bol‟shaja Sovetskaja Entsiklopedija [Big Russian Encyclopedia] //
www.вокабула.рф/энциклопедии/бсэ/игра (accessed 14.12.2017) (in Russian).
2. Vygotskij L.S. Obuchenie i razvitie v doshkolnom vozraste [Teaching and Development at Pre-
school Age]. M., 1998 (in Russian).
3. Gomza S.H. Anglijskij jazyk dlja doshkol‟nikov [English for preschool children]. Minsk: Vys-
shaja shkola, 2015 (in Russian).
4. Leontiev A.N. Psihologicheskie osnovy doshkol‟noj igry [Psychological bases of a preschool
game] // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [Psychological science and education]. М.,
1996. №3. Pp. 92–98 (in Russian).
5. Stronin M.F. Obuchaushjie igry na uroke anglijskogo jazyka [Educational games at English les-
sons]. М.: Prosveshjenie, 2001 (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
116
6. Elkonin D.B. Igra, ejo mesto i rol‟ v djizni i razvitii detej [The Game, its Place and Role in
Children‟s Life and Development] // Doshkolnoje vospitanije [Preschool Education]. 1996. №5.
Pp. 73–97 (in Russian).
7. Hadfield J. Elementary Grammar games. Pearson Education Limited, 2001.
УДК 373.2
И.Ю. Николаева
магистрант ОП 44.04.01 – Педагогическое образование
«Лингвокультурологическое образование»,
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В ПЕРИОД РАННЕГО РАЗВИТИЯ [Inna Yu. Nikolaeva Specifics of English Studying in the Period of Early Development]
It is impossible to imagine the development of modern society without foreign languages and English
in particular, which we should study since early age. English studying by children of preschool age (fur-
ther – PA) has a great positive impact on the subsequent stages of its studying. Moreover, the preschool
training contributes to the development of mental processes, such as memory and attention, emotional and
strong-willed qualities of a child, his or her creative abilities and imagination. The native speech is also
improved. Socialization of children's identity takes place.
Key words: preschool age, English studying, period of early development.
Существует множество факторов, которые влияют на достижение успеха в изу-
чении английского языка в период раннего развития детей. Один из них – это уро-
вень психического развития ребенка. ДВ в детской психологии определяется как
этап психического развития, занимающий место между ранним возрастом и млад-
шим школьным возрастом – от 3 до 6–7 лет. Как правило, выделяют 3 периода:
младший (3–4 года); средний (4–5 лет) и старший ДВ (5–7 лет). ДВ – возраст игры,
потому как именно она и является ведущей деятельностью данного возраста [2].
Период от рождения до 8 лет считается самым важным этапом в жизни ребѐнка
в плане формирования характера, различных психических наклонностей, выявле-
ния и развития талантов и способностей, и личности в целом. Вероятно, именно по-
этому многие родители начинают обучение своих детей английскому языку как
можно раньше. Особенно актуальным становится приобщение к английскому до-
школьников, так как именно этот возраст считается наиболее благоприятным пе-
риодом для данного рода деятельности.
Ряд педагогов, психологов и методистов (Ш.А. Амонашвили, Н.А. Бонк,
Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин и др.) настаивают на введении раннего обучения анг-
лийскому языку в дошкольные образовательные учреждения, поскольку именно в
период ДВ формируются базовые качества личности, закладываются основы физи-
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
117
ческого, эмоционального и умственного развития.
Обзор теоретической литературы свидетельствует о том, что лучше всего начи-
нать изучать английский язык в 5–8 лет, когда система родного языка уже доста-
точно хорошо усвоена, а к новому языку ребѐнок относится сознательно; ещѐ нет
стереотипов речевого поведения; легко сопоставлять свои мысли на разных языках;
отсутствуют большие сложности при общении на иностранном языке. Если образо-
вательный процесс построен достаточно грамотно с лингводидактической и психо-
лингвистической точки зрения, то успех в овладении предлагаемым языковым ма-
териалом и создание необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения любого
иностранного языка обеспечен практически всем детям [3, с. 38–40].
Успешное овладение дошкольниками иностранным языком возможно благода-
ря более гибкому и быстрому запоминанию языкового материала в сравнении с по-
следующими возрастными этапами. Отсутствует так называемый языковой барьер,
т.е. страх, мешающий вступить в общение на иностранном языке даже при наличии
необходимых навыков. Дошкольники обладают достаточно хорошим речевым слу-
хом и языковой памятью. Также у них сильно развито эмоционально-образное вос-
приятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность ре-
чи, красота и выразительность звука для детей этого возраста важнее лексического
значения с грамматической стройностью [1].
Обучение дошкольников английскому языку способствует развитию памяти,
внимания, воображения, речемыслительной деятельности, познавательной и соци-
альной активности. Также благодаря этому закладываются основы правильного
произношения, происходит накопление лексического запаса, развивается умение
понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Другими
словами, происходит постепенное развитие основ коммуникативной компетенции.
При обучении английскому языку следует обратить внимание на такие значи-
мые факторы, как: а) поэтапное формирование слухового внимания, фонетического
слуха и правильного произношения, т.е. умения правильно с фонетической точки
зрения повторить английские слова за преподавателем; б) накопление, закрепление
и активизация словаря, без которого невозможно совершенствование речевого об-
щения; в) овладение определѐнным количеством несложных грамматических
структур; г) внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реак-
ция на его вопросы.
Вместе с тем в дошкольном обучении важен и развивающий аспект, который
подразумевает развитие речемыслительных процессов в целом. В начале обучения
главной задачей является динамическое развитие устной речи. Для этого использу-
ются различные упражнения на развитие говорения, а также песни, рифмовки, ко-
торые помогают продуктивному усвоению материала. Независимо от того, какой
язык изучают дошкольники, родной или иностранный, важным оказывается разви-
тие моторных навыков. Они способствуют как успешному освоению лексико-
грамматического материала, так и динамическому развитию речемыслительных
процессов. Для благоприятного развития моторики у дошкольников постоянно раз-
рабатываются специальные упражнения по раскрашиванию и обводке рисунков,
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
118
выполненных точками. Поскольку полноценное описание артикуляции звуков для
маленьких детей недоступно, постольку очень важно, как сам педагог произносит
их, и как дети имитируют звуки, произнесѐнные преподавателем [4, с. 5–6].
Также следует отметить, что у детей дошкольного возраста преобладает на-
глядно-образное мышление. А значит, основной задачей при формировании учеб-
ного процесса становится принцип наглядности. Использование различного на-
глядного, иллюстративного материала, как статичного, так и динамического, даѐт
возможность педагогам достигать хороших результатов во время образовательной
деятельности и совместной деятельности с учениками.
Современные тенденции обучения дошкольников иностранному языку чрезвы-
чайно актуальны и полезны. Чем раньше ребѐнок начнѐт знакомиться с иноязычной
речью, тем проще ему будет в дальнейшем осваивать соответствующий школьный
предмет. При изучении иностранного языка в школе у него не будет языкового
барьера, такому ребенку будет намного проще налаживать межкультурные отно-
шения, что довольно важно в современном мире.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что изучение дошкольниками анг-
лийского языка развивает психические функции ребѐнка, удовлетворяет его позна-
вательные потребности, способствует развитию коммуникативной компетенции. ЛИТЕРАТУРА
1. Кочергина И.Г. Обучение иностранному языку дошкольников // Фестиваль педагогических
идей «Открытый урок» // http://открытыйурок.рф/статьи/559232 (доступно на 02.12.2017).
2. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь // https://vocabulary.ru/termin/vozrast-
doshkolnyi.html, (доступно на 02.12.2017).
3. Обучение иностранному языку дошкольников: обзор теоретических позиций // Иностранные
языки в школе. 1990. №1. С. 38–40.
4. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство для преподавателей и
родителей. М.: ООО Изд-во «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004. С. 5–6.
REFERENCES
1. Kochergina I.G. Obuchenie inostrannomu jazyku doshkol'nikov [Teaching preschool children a for-
eign language] // Festival' pedagogicheskih idej «Otkrytyj urok» [Festival of the pedagogical ideas "An
open lesson"] // http://otkrytyjurok.rf/stat'i/559232 (accessed 02.12.2017) (in Russian).
2. Meshherjakov B.G. Bol'shoj psihologicheskij slovar' [Big psychological dictionary] //
https://vocabulary.ru/termin/vozrast-doshkolnyi.html (accessed 02.12.2017) (in Russian).
3. Obuchenie inostrannomu jazyku doshkol'nikov: obzor teoreticheskih pozicij [Teaching preschool
children a foreign language: review of theoretical positions] // Inostrannye jazyki v shkole [Foreign
languages at school]. 1990. No 1. Pp. 38–40 (in Russian).
4. Shishkova I.A., Verbovskaja M.E. Anglijskij dlja malyshej. Rukovodstvo dlja prepodavatelej i roditelej
[English for kids. The manual for teachers and parents]. M., 2004. Pp. 5–6 (in Russian).
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
119
Для заметок
Материалы I Всероссийской научно-практической заочной конференции «Язык. Дискурс. Текст» 2017
120
Научное издание
ЯЗЫК. ДИСКУРС. ТЕКСТ
МАТЕРИАЛЫ I ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЗАОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(ноябрь – декабрь 2017 г.)
Сдано в набор 07.12.2017. Подписано в печать 15.12.2017.
Печать цифровая, гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 7,7.
Формат 60x84/16. Тираж 500 экз. Заказ № 2013/01.
Отпечатано в типографии
ООО «Фонд науки и образования»
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 111.
тел. 8-918-570-30-30.