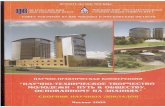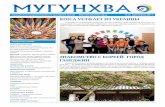Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления...
Transcript of Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления...
Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысленияпространства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. -519 с.
Трубина Город в теории 2011Трубина Город в теории 2011
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
УДК 316.334.56 ББК 60.546.21 Т86Издание подготовлено при финансовой поддержкеАмериканского совета научных сообществ (ACIS)Редактор серии Илья КалининТрубина Е.Г.Т86 Город в теории: опыты осмысления пространства /
Елена Т]рубина М.: Новое литературное обозрение,2011. — 520 е.: ил.
В книге рассматриваются классические и современныетеории городов — от классической чикагской школы досложившейся в последнее десятилетие акторно-сетевойтеории. Значимые идеи урбанистической теориивоспроизводятся с учетом специфики постсоветскихгородов и тех сложностей, с которыми сталкиваютсяисследователи при их изучении. Книга будет интереснастудентам и преподавателям, исследователям и практикам,всем, кого интересует реальность современного города ипути ее постижения.
УДК 316.334.56 ББК 60.546.21ISSN 1815-7912 ISBN 978-5-86793-823-9О Е.Г. Трубина, 2011О Новое литературное обозрение, 2011
© Е.Г. Шубина, 20U © Новое литературное обозрение, 2011
Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысленияпространства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. -519 с.
СодержаниеОТ АВТОРА 5ВВЕДЕНИЕ «Их» и «наши» города: сложности изучения .8Урбанистическая и социальная теория. Объектисследования по месту жительства и в путешествии;немного о российской урбанистике. Задачи и план книгиГЛАВА 1. Классические теории города
41Уравнение Георга Зиммеля. Эволюционный витализмЗиммеля. Техники жизни в городе. Бремя культуры.Продуктивность антипатии. Значимость исследовательскойоптики, Чикаго как место производства урбанистическогознания. Городская экология. Критика чикагской школы.Уроки чикагской школыГЛАВА 2. Неклассические теории города 83Увидеть аквариум: постколониализм и урбанистика.Постколониальные исследования и имперские города.«Неприятная история легко может произойти с ней»;феминизм и город. «Город, который американцы любятненавидеть» и лос-анджелесская школа. Две самыеизвестные школь» урбанистов: попытка сопоставления.Урбанистический милленаризм Майка Дэвиса. Марксистскийпостмодернизм Эда Соджи и Фредерика ДжеймисонаГЛАВА 3. Город и природа 134
Природа как «другое» города. Город как экосистема.Экологический архитектурный проект The High Line.Диалектика природы и города. Город-сад ЭбенезераХоварда. Социальные исследования науки и технологии(SSS, SST). Глобальные взаимозависимости. Трубы имикробы. Акторно-сетевая теория. Материальность городаи социальная теория. Пастор и оспа. Официальные лица илегионелла. Природа и политика. «Умный рост».Экологическая устойчивость городовГЛАВА 4. Город и мобильность
171Исследования городского транспорта. Мобильность иполитическая мобилизация. «Комплекс мобильностей каксплетения путей, ведущих внутрь и вовне»: взгляды АнриЛефевра. Поль Вирильо: скорость и политика. Критикаседентаризма. Движение как основа перформативногопонимания пространства и познания. «Поворот кмобильностям». Мобильность и глобальный финансовыйкризис. Мобильные методы: следить за местами ипрогуливаться с информантами?ГЛАВА 5. Город как место экономической деятельности
220Становление капитализма в европейских городах: идеиК.Маркса и Ф.Энгельса. Идеи современных марксистов-урбанистов. Изменение экономической роли городов при«позднем» капитализме. Шарон Зукин о символическойэкономике. Культурная экономика городов. Креативныеиндустрии и креативный город. Занятость в креативныхиндустриях Нью-Йорка. Европейский город культуры какбренд Потребление в городахГЛАВА 6. Город и глобализация 270Кейнсианство. Теории глобализации. История идеиглобализации. Мировые города и глобальные города.Основные теоретики глобализации. Критика теорийглобальных городов. Глобальные города и государственнаяполитика. Макро/микро, локальное/глобальное,Джентрификация в России и Москве. Джентрификация: как«новая аристократия» преобразила кварталы бедноты.
Джентрификация как глобальная стратегия, БрендинггородовГЛАВА 7. Городская политика и управление городом.. ™ 314Элитарные и плюралистские модели. Теория машиныгородского роста. Теории городских режимов.Институциональные теории. Городское правительство игородское управление. Городская политика иглобализация. Городские социальные движенияГЛАВА 8, Социальные и культурные различия в городе 356Чарльз Бут — один из первых исследователей городскихразличий. Многочисленное разнообразие: Луис Уирт иАристотель. Послевоенная городская этнография огородских различиях и отношении к ним. Генераторыразнообразия: Джейн Джекобс. Улицы Джейн Джекобс. Городиммигрантов. Социальная сегрегация и поляризация.«Геттоизация» и бедностьГЛАВА 9. Город и повседневность
403Город как место и время повседневности. Улицы как местаобитания коллектива: Вальтер Беньямин. Эстетическое иповседневное. Повседневность как пространствоспонтанности и сопротивления: Анри Лефевр и Мишель деСерто. Музей наизнанку: «призраки» исчезнувшейповседневности посреди повседневности настоящей.Репрезентируемое и нерепрезентируемое в повседневностиГЛАВА 10. Город и метафоры „441Пространство как означаемое и означающее. «О, узнаюэтот лабиринт!» и чувство пространства как вместилища.Что люди делают с метафорами. Метафоры и риторическиеоснования науки. Базар, джунгли, организм и машина;классические метафоры города в русскоязычной Сети.Базар при метро. Организм города: хрупкостьстабильности. Радиоактивные джунгли и инспекторы-лемуры. Город как машина и город машин. Некоторые итогиЗАКЛЮЧЕНИЕ. Будущее городов 494Список основных понятий и терминов503Трубина Елена Германовна
ГОРОД В ТЕОРИИОпыты осмысления пространстваДизайнер А Рыбаков Редактор И. Калинин Корректор Е.Абоева Компьютерная верстка С. Пчелинцев Налоговаяльгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюрыВ оформлении обложки использована фотография интерьерабывшего ДК им. Дзержинского г. Екатеринбурга,входившего в возведенный в 1929—1936 годыконструктивистский жилой комплекс «Городок чекистов»(Архитекторы И.П. Антонов, ВД Соколов). Фото Н,Лозовной.
ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ"»Адрес издательства:129626, Москва, абонентский ящик 55 тел./факс: (495)229-91-03 e-mail: [email protected] Интернет:http://www.nlobooks.ruФормат 60*90/16 Бумага офсетная Ns 1 Печ. л. 32,5-Тираж 1000. Заказ № 4468 Отпечатано в ОАО «Издательско-поли графический комплекс «Ульяновский Дом печати»432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14В книге рассматриваются классические и современныетеории городов - от классической чикагской школы досложившейся в последнее десятилетие акторно-сетевойтеории. Значимые идеи урбанистической теориивоспроизводятся с учетом специфики постсоветсткихгородов и тех сложностей, с которыми сталкиваютсяисследователи при их изучении. Книга будет интересна студентам и преподавателям,исследователям и практикам, всем, кого интересуетреальность современного города и пути ее постижения.АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯISBN 978-5-86793-823-99 ^OO^juНовоеЛитературное Обозрение9785867938239
5-7 От автораТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
От автора5 В этой книге совместились мои преподавательская и
исследовательская работы — как члена несколькихмеждисциплинарных команд. Курс «Теории городов»читается мною в течение ряда лет. Недостатки ипреимущества различных теоретических подходоврассматриваются в нем с учетом различия междуклассическими и неклассическими парадигмами всоциально-гуманитарном знании.
5 Свойственный последним акцент на ситуацииисследователя, на его местоположенности, его интересахи предрассудках предполагает сложившиеся навыки
критической рефлексии наличных теоретических подходов.Отсюда — необходимость серьезного рассмотрениядоминирующих теорий, сопровождающегося их конструктив-ной критикой.
5 То обстоятельство, что сами границы большинствасоциально-гуманитарных дисциплин в последние двадесятилетия проблематизируются, предполагает довольноподробный разговор о взаимном влиянии урбанистическихидей, подходов, понятий и тех тенденций, которымиотмечено развитие сопредельных областей знания. Вкурсе, о котором я говорю, отражены различные вариантыпостроения теорий о городах — от масштабныхтеоретических повествований о развитии капитализма(невозможном без городов) до детального описанияспецифически местного соотношения сил в развитии тогоили иного города.
5 Самый интересный для слушателей и меня этап курса —представление студентами ментальных карт их городов.
5 Их пу-6-тешествия и переживания, карьерные амбициии экзистенциальные прозрения — многому на этих картахнаходится место.
6 А совместное вникание в тексты классиков и тех,кому ими еще предстоит стать, убеждает, что городстановится полем исследования для каждого горожанина.Рефлексия студентами собственного городского опыта посравнению с иными культурными установками и ценностямиприводит к усложнению их субъективногокартографирования. Оно открывается не только инымпространствам и временам, их обитателям и знатокам, нои более активным и критическим вариантам включенности впроисходящее.
6 Работа в рамках междисциплинарных проектов «БаухаусКоллег» (Программа урбанистических исследований вБаухаусе-Дессау) в 2003 и 2005 годы, Международногоцентра культурных исследований в Вене в 2004 году,организованного Институтом Кеннана российско-американского проекта по культурному разнообразию в2005—2007 годах, спонсированного ИНО-Центром проекта
«Российские города: стратегии власти и ресурсынаселения» в 2006—2008 годах обогатила многим. Она далавозможность познакомиться с разными путямиисследовательской работы: от технически изощреннойвизуализации городских «мобильностей» до импрессионис-тических набросков виртуального города, от изучениясовременных социальных проблем как вызова дляурбанистической теории до обращения в поискахвдохновения к полевым дневникам урбанистов 1930-х.Наверное, самый главный урок — сложности сравненияпрошлого и настоящего, другого и своего, глобального иместного, с которыми сталкиваются и которых не боятсясовременные исследователи города.
6 Хочу поблагодарить Блэра Рубла и Беф Мичник,Мишель Рифкин-Фиш и Омера Бартова, Регину Битнер и ИнуРосс (Ге- гел), Энтони Кинга и Тови Фенстер, КаролинШредер и Силке Ститс, Мартину Лев и Лутца Муцнера,Светлану Бойм и Меган Диксон, Арью Розенхольм и СувиСальменниеми, Максима Хомякова и Ирину Полякову, МариюЛитовскую и Сергея Кропо-7-това, Александра и ГлебаЛубочниковых за интересные беседы и другую, самогоразного рода поддержку. Отдельная благодарность всемслушателям этого курса. Я особенно признательна ОльгеВендиной, Наталье Власовой, Виктору Дятлову, ВалериюЛедяеву и Сергею Ушакину за критические замечания,высказанные по прочтении глав этой книги.
8-40 ВведениеТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ВВЕДЕНИЕ «Их» и «наши» города: сложности изучения
8 Те, для кого сегодня маршрутка - основноесредство передвижения по городу, знают, что ручка еедвери находится слева, а вход в нее — справа.
8 Тот, кто открывает дверь в час пик, рискуетоказать любезность другому, более шустрому пассажиру, асам в эту маршрутку не попасть.
8 Нас много, мы спешим, транспорта не хватает, атому, что есть, не хватает на дорогах места. Это —данность, так сказать инвариант. Но есть и варианты:почему в иных городах на маршрутку есть очереди, а внашем в нее многие садятся по принципу «кто смел — тоти съел»? Ведь и у нас есть замечательные образцысамоорганизации пассажиров на маршрутах некоторыхпригородных автобусов. Пенсионеры-садоводы за часприходят на остановку своего автобуса, дисциплинирован-
но создав очередь, чтобы наверняка ехать сидя.Хронически спешащему человеку эта предусмотрительностьпонятна, но недоступна. Многим сегодня ближе другойопыт: защитный кокон своей машины не только гарантируетудобную позу, но и позволяет сохранять дистанцию отнепредсказуемых встреч, а любимый диск встереопроигрывателе — от навязанных звуков. Тызастрахован от неприятных запахов и недружественныхприкосновений и даже можешь, остановившись на пере-крестке, с любопытством оглядывать тех, кто иначедобирается до своей цели.
8 Мотивы вроде «не добавлять выхлопов в воздух»,или «не усугублять пробки», или «не лучше ли пройтисьпеш-9-ком» для автолюбителя остаются пустым звуком.
9 Навсегда пересесть из автобуса в авто — это у насобряд перехода, и сладость свободы, которую обещаетмашина, экологическими резонами не заглушить.
9 Езда на автомобиле по городу достаточно подробноописана и теми, кто ищет в ней культурные смыслы, итеми, кто занимается городским транспортом, и теми,кому важнее всевозможные моменты симбиоза междучеловеком и машиной, и теми, кто изучаетпространственную и социальную мобильность, и теми, ктообличает эгоизм равнодушных к городской экологии людей.Представители соответствующих дисциплин — culturalstudies, географии городского транспорта, не-репрезентативной теории, социологии и социоэкологии —нечасто обращаются к работам друг друга в силуизвестных законов академической и вузовскойспециализации, принципов финансирования исследований и,что нередко, конкуренции. Настоящий момент отмечен,однако, нарастающим пониманием того, что современнаяурбанистическая теория возможна только какмеждисциплинарная теория. Это первый принципиальный дляменя момент. Соображения вроде «это не относится ксоциологии» не должны препятствовать исследователюгорода. Содержательное знакомство с самыми разнымитрадициями и свободное от опасения быть обвиненным в
эклектике их использование видится куда болеепродуктивным. Журналы, задающие тон в современнойурбанистике, — «City», «International Journal of Urbanand Regional Research», «Environment and Planning»,«Urban Studies» — отмечены явной междисциплинарностью.География, антропология, теория и история культуры,экология, собственно история, право, планирование,экономика, политическая теория, социальные исследованиянауки и техники вступают на их страницах в самыенеожиданные альянсы.
9 Вот почему нам нужна методологическая рефлексия тойсовокупности парадигм, школ, течений, теорий, чтообразуют урбанистические исследования, а также их местана дисцип-10-линарной карте.
10 Неслучайно даже временный доступ к информационнойсети хорошего западного университета делает написаниеакадемического текста, если автор хочет себе польстить,чем-то похожим на фракталы. Обнаруживаются новые иновые разветвления мысли и влияния, контекст рассмотре-ния расширяется до бесконечности: Бодрийяр повлиял наДжеймисона, который повлиял на Эда Соджу (которыйтеперь влияет на нас: по крайней мере, один из еготекстов переведен, к чему я вернусь ниже). Этоповседневное проявление «интертекстуальности»чрезвычайно многочисленных городских текстов, которыевступают в перекличку не только в рамках упомянутоймарксистско-постмодернистской традиции, но и междудисциплинами и профессиями, когда архитектура волнуеткинематографистов, о которых пишут философы, кри-тикуемые экономистами и дополняемые социальными тео-ретиками.
Инертность традиционного структурирования знания внашей стране приводит к тому, что новыепрофессиональные практики и поля, возникшие в 1970-егоды и существенно способствовавшие институционализациигуманитарного знания в Европе и Северной Америке,сложно включаются или соединяются с уже имеющимисядисциплинами. Целый набор таких полей, которые
называются «исследованиями», — гендера и расы, культурыи медиа, науки и, конечно, города — не «захватывается»существующим разделением академического труда. Рыноктруда и известные всем сложности существования ака-демической среды также препятствуют плодотворномуосмыслению того, что в этих поддисциплинах илимеждисциплинарных образованиях происходит. Тем не менеенасущен отказ от представления отношений междудисциплинами в терминах территорий и границ в пользупонимания их как горизонтальных сетей, пусть состоящихиз достаточно автономных образований, отношения междукоторыми неравноценны и по-разному видятся ихпредставителями, но способных к образованию новыхсоединений и пересечений для постижения стремительноусложняющейся городской реальности.
11 Одно из измерений этой реальности — город какмножество сетей интенсивного социальноговзаимодействия. Опыт микроавтобуса — микроместасоциальной интеракции — знакомит наблюдателя сэпизодами мимолетной кооперации пассажиров на предметсбора и передачи денег... и с музыкальнымипристрастиями многих шоферов (радио «Шансон», увы,лидирует). Шоферы часто говорят с акцентом, но мненравится, как они воспитывают пассажиров — вслух или спомощью шутливых надписей над дверью. Похоже, в городене много мест, где они могли бы быть «на месте»,чувствуя себя хозяевами. Шоферы и пассажиры — студентыи служащие, молодые и не очень, разные,«неотсортированные» люди — ненадолго оказываютсявместе, чтобы разъехаться затем по своим экологическимнишам — местам, где они живут, учатся, работают. Какосновное средство общественного транспорта маршруткиневедомы в Западной Европе и в Северной Америке. Ониобъединяют наши города с городами Восточной Европы иЦентральной Азии, что позволяет предложить их вкачестве своеобразной эмблемы постсоветского города.Компромисс между социалистической коллективностью икапиталистической свободой ехать куда хочешь, между
регулярностью совместных и видимой непредсказуемостьюиндивидуальных передвижений, между прозой экономическойстесненности и поэзией индивидуального успеха,маршрутки — пролетарии постсоветской инфраструктуры.Правда, в Центральной и Южной Америке они воцарилисьгораздо раньше, чем у нас. Знать об этом полезно: неисключено, что в развитии своих городов мы «догоняем»не Париж с Лондоном, а Сан-Паулу с Мехико-Сити. И нетолько мы: контрасты между огороженными островкамиприватного благополучия посреди небезопасных фавелпобуждают комментаторов говорить о «бразилиза- ции»Европы и допускать, что, может быть, и Европу ждетлатиноамериканское городское будущее.
11 Сравнения городской жизни и городскихтрансформаций здесь и там, «у нас» и «у них» неизбежны,естественны и необ-12-ходимы.
12 Это второй значимый момент. У «них» есть фора: ур-банистическое знание зародилось на Западе, там жепережило несколько кризисов, а сегодня, кажется,вступило в новую продуктивную фазу развития.Международное разделение исследовательского трудаприводит к тому, что именно западные коллегидемонстрируют продуктивность компаративной урбанистики[см-Ruble, 2001; 2005;Ruble etai, 2002;Рубя, 2002,Dear,2005]. Более близкое знакомство с иными городскимиреалиями и их теоретической рефлексией позволит и нампонимать нашу ситуацию не как исключение, но каксвязанную с общими, нередко повсеместными тенденциями.Так, повсюду идет соревнование между регионами игородами за государственные и международные ресурсы.Опять-таки повсеместно система государственного ирегионального планирования развития городовсталкивается с более требовательным населением, для«менеджмента» которого традиционные формы социальногоконтроля необходимо дополнять новыми. Уход государстваиз традиционных для него сфер деятельности (стро-ительство массового жилья, здравоохранение,образование) вовлекает в социально значимые сферы
множество новых игроков. Деловые и политическиеинтересы, связанные с контролем территорий и ихэкономическим развитием, рано или поздно пересекаются стем, как люди используют городское пространство: придутли они еще в этот торговый центр, вложат ли средства вжилье, предлагаемое по такой цене? Какой отпечатокнакладывает на эти общие процессы то, что онипроисходят в Санкт-Петербурге или Москве, Смоленске илиВладивостоке? Отъехав на час и на сотню километров отстолицы страны (или столицы региона) в город попроще,наблюдатель, как это не раз было отмечено, сникает.Кострома или Богданович, Шеффилд или Вустер перед тобой— неважно.
12 Важно, что почти любой из нестоличных и некрупныхгородов переживает как драматические перемены,связанные с процессом, скучно называемым«деиндустриализация», так и включение в классическоеотношение любви — ненависти между13 большими и небольшими городами (и тут слово«переживает» подходит в его буквальном смысле).
13 Тем самым российское пространство демонстрируетдва ряда противоположных тенденций, повсеместнохарактерных для жизни городов. С одной стороны, этоэкспоненциальный рост столиц и крупных городов (чтоособенно проявляется в Азии и Южной Америке, причемрост не только вширь, но и вверх: примечательны амбициивластей городов южноазиатских стран строить самыевысокие в мире небоскребы, вроде башен Куала-Лумпура).С другой стороны, это «съеживающиеся», «убывающие»города», население которых неуклонно сокращается врезультате реструктуризации экономики. Со временпромышленной революции это две самые значительныетенденции трансформации городов.
Урбанистическая и социальная теория13 Трансформации городов и посвящена эта книга Она
озаглавлена «Город в теории», но единственное число недолжно ввести в заблуждение. Urban studies и urban
theory — общепринятые наименования целого спектратенденций, позиций и интерпретаций, которые стремятсясформулировать понимание городской жизни, выходящее запределы тех конкретных обстоятельств и случаев, вкоторых было порождено. Академические исследования,нацеленные на понимание городов, представляют собойсравнительно молодую отрасль знания: им немногим болееста лет. В своем развитии они оказались тесносоединенными с социальной теорией.
13 В ходе фиксации европейской философией исоциологией масштабных социальных трансформациймодерности город «синекдохически» выступает как самая«представительная» часть общества, олицетворяя ипроявляя взаимосвязь индустриализации и урбанизации,отчуждения и нормализации.
13 Так, Адам Смит еще в 1776 году говорил о городекак о воплощении происходящих в XVTII веке перемен,состоящих в нарастании14 значимости производства, а не только торговли какисточника «богатства нации».
14 Разделение труда в мануфактурах вроде булавочнойфабрики стало для него прообразом более масштабногоразделения труда — между городом и деревней, про-мышленностью и сельским хозяйством. Только в большихгородах, заявлял он, возможны некоторые видыпроизводства. Тем самым Смит одним из первых накрепкосоединил осмысление урбанизации и индустриализации.
Два века спустя Макс Вебер в своем «Городе» (1921)сделает город воплощением уже не экономической, нополитической сути социальной организации. Автономностьгорода достигается через политику, что проявляетприроду города как «сообщества с особыми политическимии административными институтами». Город тем самым —часть масштабного исторического процесса, в ходекоторого общество создает институты, помогающие емудоминировать политически и экономически. Этот процессВебер называет институциональной рационализацией, а егоитогом - бюрократическую администрацию. Когда они
соединяются с политикой, возникает национальноегосударство. Так что город, по логике Вебера,становится как эмблемой общих исторических процессовтерриториального доминирования и государственногостроительства, так и главным реальным местом, в которомэти процессы осуществляются.
14 Мой третий пример — Фернан Бродель с его идеей,что западные города и капитализм по сути тождественны.Бродель соединяет в своем анализе рынки, власть,производство, не забывая и про сложности выявленияпервичных и вторичных факторов капиталистическогоразвития Европы и заявляя о том, что, хотя невозможновычленить первичное и вторичное в процессах развитиягородов и экономического подъема, все же несомненнаогромная роль городов как генераторов или утилизаторовэкономического подъема.
14 Этот образ города как независимого актораподхватит другой историк и в своем масштабном очеркеурбанистической истории противопоставит15 его образу города как продукта социального развития[см.: Hohemberg, 1990].
15 Однако совсем другой актор — национальноегосударство — надолго стал главным героем европейскойистории и, соответственно, социальной теории.
15 В то же время универсалистские притязаниясоциальной теории XIX века были с переменным успехомпроблематизированы в XX веке нарастающим интересом клокальному и прежде всего городскому, проявившимся нетолько в деятельности социологов чикагской школы — висследовании антропологом Ллойдом Уорнером городаНьюбюри-порт («Янки-сити» в Массачусетсе) и«Миддлтауна» — Робертом Линдом, но и в разнообразныхпоследующих работах.
Урбанистическую теорию можно с уверенностью считатьчастью социальной теории: у них общий язык. В то жевремя первая настаивает на том, что социальная жизнь вгороде обладает своей спецификой. Сложностивзаимодействия социальной теории и города обусловлены
тем, что город - это и главное пространство, в которомпроисходят социальные изменения, и ключевое место, вкотором социальная теория создается.
Так что, с одной стороны, нужно понимать, как связанысовременный город и модерность, постмодерность, капита-лизм и глобализация, то есть искать соединения междумасштабными социальными процессами и городскими транс-формациями, Выделим три главных узла таких соединений.
15 Во-первых, макроэкономические тенденции, такие какдеиндустриализация, неолиберализм, индивидуализация икоммодификация отношений, воплощаются в таких городскихпроцессах, как усиление пространственной сегрегации,безработица, кризис связей «по месту жительства».
15 Во-вторых, интеграция городов в глобальнуюэкономику с сопутствующей этому процессу деятельностьюмеждународных финансовых и торговых организацийсочетается с переменами в общегосударственной политике(такими, как реформа управления социальной сферой), чточаще всего выражается в на-16-растании зависимостигородов от национальных, наднациональных и глобальныхсил.
16 В-третьих, между собственно городами установилисьнеравные отношения. Соревнование и взаимозависимостьприводят к тому, что одни города оказываются ввыигрыше, будучи магнитом для ресурсов, инвестиций,символической составляющей жизни, а жителям другихостается лишь претерпевать положение аутсайдеров.
С другой стороны, необходимо ориентироваться в разно-образии идей, сформулированных для того, чтобы понятьсобственно городскую жизнь: что такое города и как ониработают, Многие идеи, высказанные урбанистами,объясняют, какое вообще место города занимают вформировании пространственно-социальных процессов.Однако на них лежит отпечаток конкретных времени иместа. Некоторые города, и прежде всего Чикаго и Лос-Анджелес, стали своеобразными эмблемами специфическихвариантов урбанистической теории, соответственнохарактерных для модерности и постмодерности.
16 Урбанизация и урбанизм — при всей популярности изначимости их универсальных моделей — приобретаютразные формы при различных социально-экономическихобстоятельствах, вариантах политического контроля итипах культур. Распространенная типология включаетдоиндустриальные, индустриальные и постиндустриальныегорода. Другой вариант игры с приставкой «пост-» -различение социалистических и постсоциалистическихгородов. Еще один — противопоставление городовметрополии и городов постколониальных. Анализ разныхгородов часто ведется на основе экстраполяции: каковообщество, таков и город, какие социально-политическиеотношения преобладают в той или иной стране или группестран, такими они и будут в том или ином городе.
16 Осмысление городского пространства происходит,таким образом, в общих теоретических рамках, которымиисследователь вооружен.
16 В зависимости от того, считает ли он современныйсоциум обществом риска или обществом события, «вто-17-рой модерн остью» или сетевым обществом, обществом по-стиндустриальным или информационным, поздним капита-лизмом или новым капитализмом, он будет искать в городето, что этой модели соответствует.
17 Главная проблема, с которой мы сталкиваемся напересечении масштабных социолого-теоретических очеркови теорий городов, — в редукции социальной сложности кновым, волнующим, но далеко не всегда реалистичнымтезисам. Так, Ульрик Бек в своих последних работах окосмополитизме заявляет о том, что и работа многихлюдей, и браки, в которые они вступают, сегодня носятмеждународный характер. Это и так и не так в городахАмерики, его родной Германии и России мы найдеммножество людей, к которым этот тезис не имеетотношения. У значительной части социальной теориидостаточно короткая историческая память: два-трипоследних столетия, о которых идет речь в теоретическихпортретах модерносги, второй модерности и так далее,которые рисуют сегодня Ульрик Бек, Скотт Лэш и многие
другие, составляют лишь выгодный фон для того, чтобыэффектно оттенить последние и беспрецедентныеизменения. Интерес к эпохальным переменам оборачиваетсяабстрактной аргументацией и редкими примерами.Обобщения социальной теории нередко приводят кисчезновению различий между уровнями социальныхобразований.
17 Социальное называние — популярное сегодня занятие,которому увлеченно предаются и урбанисты. В итоге мычитаем о городах «реальных» и «виртуальных», «городахмира» и «маленьких», «авторитарных», «тоталитарных» и«креативных», воображаемых и обыкновенных. Пестротанаименований и многообразие подходов не должны, однако,заслонять одну то главных проблем в поиске путейулучшения жизни городских обитателей: как именно мыпонимаем их проблемы. Городские ли это проблемы или этообщесоциальные проблемы, особенно остро проявляющиеся вгородах?
17 «На протяжении многих десятилетий, предшествующихсовременному переходному периоду, развитие городов идру-18-гих городских поселений определялось преждевсего решением общегосударственных, а точнееведомственных задач, и нередко вопреки интересамгорода, его жителей и окружающей среды», — читаем внедавней книге, подытоживающей деятельность научнойшколы региональной и муниципальной экономики [см.:Любовный, 2007:41].
18 Эта оценка столь же справедлива, сколь и хорошознакома: сетования на тотальное огосударствление жизнипри социализме составляют общее место ретроспективныхрефлексий уже много лет. Подчинение городовтерриториальным государствам представляет собой самуюважную географическую характеристику модерности.
18 Но отношения городов и государств — в силуразделения труда между политическими дисциплинами(ответственными за государство) и социологическимидисциплинами (изучающими, среди прочего, городские
сообщества) — предметом самостоятельного рассмотрения унас не стали.
18 Системы городов в рамках государства былиосмыслены в I960-1980-е годы как географическоепроявление национальных экономик
18 Отношения между городами одновременно мыслилиськак отношения внутри государства, так что государство ибыло вместилищем городов.
18 Очевидна необходимость перейти от осмысления соци-альных процессов как протекающих в замкнутых простран-ствах, будь это национальное государство или город, ких пониманию как совокупности пространственныхотношений, то есть от «контейнерного» мышления перейтик реляционному. Примеры такого мышления мы находим втрудах социологов [см.: Blokland, 2003], географов ипредставителей междисциплинарного знания[см.:Masseyetal., l999,Massey\ 2004; 2005\Pile, 2005;Smith, 2001].
18 Можно выделить как минимум четыре главныхнаправления «реляционной» работы:
18 1) понимание города как совокупностипересекающихся сетей;
18 2)поиск в нем специфических соединенийчеловеческих, природных и технических «агентов»;
19 3) переосмысление диалектики близкого и далекого,прежде всего с точки зрения разнообразныхтранснациональных связей, виртуальных сетей,корпоративных сетей и цепей поставки товаров;
19 4) интерес к «невидимой» инфраструктуре городскойжизни — от материальной оснастки повседневной жизни,такой как водопровод широкополосные сета и так далее,до «призраков» прошлого, участвующих в настоящемпосредством воспоминаний, страхов, ритуалов,травматических переживаний.
19 Как справедливо пишет Александр Филиппов: «Анализсетей и потоков представляется весьма перспективным,однако пока трудно сказать, можно ли во всех случаяхпрактически отказаться от метафоры пространства-
контейнера» [Филиппов, 2008:265]. Разбиение земногопространства на единицы, удобные для анализа, пониманияи управления, старо как мир. Структурированиетерритории на основе ограниченных пространств, точкивхода в которые и (выхода из них) людей, вещей иинформации контролируются, продолжает демонстрироватьсвою эффективность. Свежий пример — судьба закона «Оместном самоуправлении» в России. Станут ли малые горо-да самостоятельными единицами местного самоуправления —неизвестно, потому что районные власти сами хотятрегулировать поступление ресурсов и распоряжатьсяземлей, создавая из малых городов и деревень, отстоящихдруг от друга на десятки километров, городские округа.В литературе еще долго, вероятно, будут сосуществоватьрайон, город, местность, регион, национальноегосударство, континент и, наконец, весь мир.Представления об их соотношении, сложившиеся в периодмодерности, — иерархические-, одно входит в другое попринципу матрешки. Сегодня они трансформируются,проявляясь, к примеру, в представлениях о глобализации,которая мыслится как масштабная сила, по нисходящейвлияющая на континенты, регионы, страны, города,местности и индивидов.
19 Логика, согласно которой должна существовать некаявсеобъемлющая «структура», влияющая на происходящее,сохраняет-20-ся, только масштаб этой структурысущественно увеличивается, разрастаясь от национальногогосударства к глобальному миру.
20 Хотя картина мира как набора ограниченных террито-рий все слабее сочетается с пониманием мировой историии географии именно как сети взаимодействий, для которыхграницы часто не имеют значения, представление огородах как территориальных образованиях еще, вероятно,долго будет сочетаться с мышлением о них в качествесетей отношений. Вместе с тем будет нарастать осознаниеисследователями того факта, что в этой сети отношенийте, что основаны на пространственной близостиучастников, не всегда являются привилегированными.
20 Как ни велика инерция мышления политиков иадминистраторов в терминах замкнутых территорий, связимежду диаспорами, людьми и товарами, электронные сети,усиление миграции делают территориальность лишь однимиз возможных принципов понимания современных городов.Отношения между капиталом и государством, социальнымвоспроизводством и социальным контролем сильноизменились.
20 Последствия этой только разворачивающейсятенденции особенно очевидны в изменении шкалысоциальных процессов и отношений, в итоге чегосоздается новое сочетание масштабов, так что вместопривычного сочетания (сообщество — город — регион —нация — мир) приходит что-то иное. И между городом имиром, то есть урбанистическими и глобальными тен-денциями, складывается сегодня специфическое пересече-ние. При этом пока соответствующий дискурс,прославляющий сетевую и реляционную организациюгородов, все же живет своей жизнью. Частые ссылки натакие понятия, как транснациональные потоки»,«гибкость», «мобильность», «сети», все же недостаточноэмпирически и интеллектуально обоснованы, чтобы на ихбазе можно было уверенно предлагать решения длянакапливающихся проблем.
20 Другой круг проблем связан со сложностямитеоретической фиксации «постсоветского» в наших большихи малых горо-21-дах.
21 Нас сегодня не столь интересует сущность города,или сущность урбанизма вообще (если вспомнить названиезнаменитой работы Луиса Уирга «Урбанизм как образжизни»), или сущность социалистического илипостсоциалистического города. Куда сильнее интерес кэфемерным и произвольным, даже хаотическим сторонамсовременной жизни. Этот интерес только город и можетудовлетворить. Место пересекающихся потоков, местовзаимодействия материального богатства и богатствасенсорных стимулов и импульсов, место рождения новыхкультурных форм, социальных практик, повседневных
ритмов — «наш» город привлекает нас именно в этомкачестве, побуждая не забывать и о все новых изводахсоциального неравенства.
21 Города как магниты для инвестиций, города, вкоторых велико число торговых центров, города какпространства «спектакля», города, в которых «отцы»образуют причудливые альянсы с девелоперами ибанкирами, — такого рода трансформацию наши городапретерпевают одновременно с множеством других. При этомсужаются возможности спонтанного поведения исокращаются пространства свободы, а экономика сервиса итуризма, на которую такие надежды возлагают властимногих городов, базируется на нестабильной занятости ичасто низкооплачиваемых услугах бесчисленных менеджеровпо продажам, охранников, официантов, строителей, швей иповаров.
21 В то же время именно «неодновременность» (ЭрнстБлох) составляет одну из главных характеристикпостсоветскости в том смысле, что в присущих ейсоциальных отношениях сосуществуют различныетемпоральносги: если мотивом одних вариантов твоегоповедения может стать архаический страх наказания, адругие продиктованы модерной максимой «время — деньги»,то третьи связывают тебя с десятками современников тем,что вам нравится одновременно принадлежать к несколькимсетям - исследовательским, дружеским, «по интересам»,которые сегодня есть, а завтра могут и исчезнуть,22 сменившись новыми.
22 То же, что важно, относится и к вещественнымпараметрам городского существования. Возвращаясь кпримеру с маршруткой, можно сказать, что в ней произ-вольно сочетаются технические и социальные изобретения,возникшие в самые разные времена: колесо изобретено внеолите, циклу Карно двести лет, конвейерная сборкавошла в нашу жизнь в 20-е годы прошлого столетия, что-то добавилось полвека назад, а что-то — лишь десять летназад. Что же тогда делает маршрутку современной? Какзамечает Мишель Серр, «каждая историческая эра —
мультитемпоральна, она одновременно опирается наустаревшее, современное и футуристское» [см.: Serres,Latour, 1995: 60]. Поэтому данные объект или ситуация —«полихронны», мультитемпоральны и раскрывают время,собранное «из многих складок». «Из многих складок» со-браны и язык, и понятия, используемые нами для описаниягородской современности.
22 Не случайно столь широк круг проблем, связанных сурбанистической эпистемологией [об этом см.: Ethington,2001; Schwartz, 1998, 2001]. Когда перед нами такоесложное образование, как город, как к немуподступиться? Что за объект будет зафиксирован вописаниях и теоретических объяснениях? Допускаем ли мы,что город представляет собой объективную реальность,которая может быть безошибочно проанализирована спомощью строгих методов? Или, проникшись урокамикультурного релятивизма, отдаем себе отчет в том, чтонаши слова о городе, от имени какой бы дисциплины онини произносились, лишь одни из множества возможных?Какими тропами мы пользуемся и почему предпочитаемименно эти? Кому будут интересны и нужны полученныерезультаты? Наконец, если мы работаем со «случаями»,насколько обобщения, сделанные в отношении практик ирепрезентаций данного города, распространяемы и значимыза его пределами?
22 Кому принадлежит привилегия в знании о городе? 22 А если мы скажем «знание города», то чья это
привилегия/1
23 Со страниц ранних классических урбанистическихтекстов возникает фигура исследователя-одиночки, и силаэтого впечатления подкрепляется описанными в этихтекстах Зиммелем и Беньямином образами горожан -прагматичных, равнодушных к окружающим, визуально ихпотребляющих, не вникая в их резоны. В то же времязначительное число теоретических моделей порожденоисследовательскими коллективами урбанистов. Работающиев одном университете и живущие в одном городе (какпредставители чикагской школы) или представляющие
разные вузы и разные города (как представители лос-анджелесской школы), исследователи городов сам характерсвоих коллективов, сетей, политической ангажированностиделают значимым компонентом урбанистики.
23 Только на протяжении второй половины XX века вурбанистике сложились как минимум три подхода: научно-количественный, изучавший с 1960-х годов природуиндустриального города, продолжая традиции чикагскойшколы; возникшая в 1970-е годы урбанистическаяполитическая экономия, нацеленная на общее изучениесвязи города и капитализма, и появившаяся в 1980-е годыпостмодернистская урбанистика, осмыслившаяпостиндустриальные города на примере прежде всего Лос-Анджелеса [см.: Dear, 2005]. С другой стороны, мирсерьезно меняется, что требует новых усилийвоображения. Требует новых вопросов, которые позволятувидеть те его стороны, которые до сих пор ускользалиот теоретического внимания.
23 Неслучайно наше время — время множества теорий,время осознания того, что ни одна теория (или даже ихсочетание) не способна охватить происходящее.
23 Как пишут Н. Трифт и А Амин: «Создание теорий —это гибридный набор проверяемых предположений ивозможных объяснений, почерпнутых из зондирования мираи его ответов, и попыток абстракции... Как таковой,этот набор всегда неполон, всегда совершенствуется ивсегда пронизан непоследовательностью» [Amin, Thrift,2005: 224-225].
Объект исследования по месту жительства и впутешествии:
немного о российской урбанистике24 Многие, наверное, помнят серию «социальных»
рекламных телевизионных роликов начала 1990-х. НоннаМордюкова и Римма Маркова в оранжевых жилетках работницжелезной дороги. Александр Збруев и АнастасияВертинская — смертельно рассорившиеся «новые русские».Длинноволосая девушка в короткой джинсовой курточке
спешит на встречу с любимым, зацепившись зонтом зарешетку последнего троллейбуса, за рулем которого —Олег Ефремов. «Это мой город» — гласило послание этойрекламы, выражая не иссякшую еще тогда энергиюсоциальных ожиданий, исходящую от деятелей культурнойиндустрии и не вызывающую столь сильных, как сегодня,ассоциаций с очередной политической кампанией.
«Это мой город» — могут сказать и те, кто о городепишут: Владимир Абашев [см.: 2000; 2005] о Перми;Светлана Бойм [см.: 2002], Александр Ваксер [см.:2006], Соломон Волков [см.: 2005], Ингрид Освальд иВиктор Воронков [см.: 2004], Григорий Каганов [см.:2004], Владимир Топоров [см.: 2003] и другие — о Санкт-Петербурге; Виктор Дятлов [см.: 2000] и Сергей Медведев[см.: 1996] — об Иркутске; Мария Литовская и СергейКро- потов [см.: 2008], Николай Корепанов и ВладимирБлинов [см.: 2005] — о Екатеринбурге; АВ. Ремизов [см.:1998] и АП. Толоч- ко [см.: Очерки.,., 1997] — обОмске; ТЛ. Фокина [см.: 2001] — о Саратове; ГригорийРевзин [см.: 2002], Ольга Трущенко [см.: 1995], АлексейМитрофанов [см.: 2005; 2006; 2007; 2008], Нина Молева[см.: 2008] и Ольга Вендина [см.: 2005] — о Москве.«Право на город» — понятие, введенное Анри Лефевром, -часто используется, когда урбанистические исследованияхотят наделить нормативным измерением. Своеобразнымправом исследовать город и писать о нем обладают те,кто в нем живет.
24 Города и прилегающие к ним территории давно сталипредметом исследования российского академическогосообщества,25 часто объединяя в себе объект и место проведенияисследования.
25 Изучать социальные и культурные процессы «по местужительства» — удобно, дешево, сулит хоть какую-то соци-альную пользу и нередко имеет личный смысл. От«хоздоговорных» исследований, проводимых в годы застояна соседних с вузами комбинатах и заводах, доакадемического краеведения и истории городов, издавна
популярных у историков и филологов; от анализаполитических предпочтений избирателей до попытокучастия в кампаниях по маркетингу города (преобладающиесегодня варианты) — тематический спектр описанийгородов может быть весьма различным, но, повторимся,часто изучается «свое», «местное». Отличаются иэмоциональная тональность, и, так сказать, нравственнаяокликнутость городских штудий: если в описаниях,продуцируемых политтехнологами, как правило, царитцинизм realpotitik, то на гуманитарном полюсепреобладают созерцательность и ностальгия.
25 Эпистемологические и политические связиисследователей с родным городом могут быть различными:от прагматичного сотрудничества с обладающими ресурсамиинстанциями, не предполагающего какой-либоэмоциональной и личностной вовлеченности в поставляемоезнание, до искренних реформаторских интенций.Авторитетность полученных результатов чаще всегобазируется на репрезентативной выборке, но и ка-чественные исследования становятся все болеепопулярными. Стали превалировать антропологическиеистоки авторитетности производимых текстов: «Я здесь,среди них, живу (жил)».
25 Рефлексия исследовательского зрения (что авторыищут, на что именно смотрят) находит в текстах всеболее эксплицитное выражение — наряду с тем, какразличающиеся истории и проблемы самих авторовотражаются в разнообразных историях мест.
25 Превалирующей темой здесь остаются провинция ипровинциальность, осмысление которых в последнеедесятилетие также претерпевает интересную эволюцию: оттрадиционного компенсаторно-абстрактного воспеваниячистоты и бескорыстия провинциальной души ипатриархальности про-26-винциальной культуры к«насыщенным описаниям» и экономическому анализу.
26 Так, масштабный проект не только по изучениюдеятельности городских сообществ, но и постимулированию их активности осуществлен в начале 2000-
х годов командой самого известного российскогоурбаниста Вячеслава Глазычева в 200 малых городах[Глазычев, 2005]. Задачи решались разные, включая икурьезные, но столь знакомые всем нам: «Я работал смаленьким кусочком славного Владимира, прямо за Золоты-ми воротами, где узкие улочки веером спускаются кКлязьме, и имел там дело с лестницей, которая в течениетрех лет имела одну непочиненную ступеньку. Эталестница спускается к вокзалу, и поэтому там не однанога была сломана. Но понадобилось внешнее включение,понадобилось, чтобы мы провели там сложный семинар совсякой активизацией народа, чтобы приколотить однудоску на место на этой лестнице» [Глазычев, 20041-
Интересно, однако, что иерархическое распределениероссийских городов и весей по некой ценностной шкалеупорно воспроизводится и в новейших штудияхпровинциальности. Приведем пример, почерпнутый изпредисловия редактора к недавнему тематическому номеру«Отечественных записок»: «Провинция может быть бедна,стагнирована, голодна, находиться в бесконечнойудаленности от полезных ископаемых, университетов,заводов и пароходов Но все равно безошибочно узнаваема— по неизгоняемому духу русской литературы, полевитановской прелести пейзажей, по выживающим изпоследних сил и всегда полным театрам, по чудомсохранившимся библиотекам и любовно лелеемымкраеведческим музеям. По застенчивой гордостипровинциалов, по тому, что жизнь в ней продолжаетсясвоим тихим стоическим чередом <,..> Торжок —провинция, Челябинск — нет. Недоказуемо, но совершеннопонятно» [Отечественные записки. 2007. No 3].
26 Бедный Челябинск! Единственный, кажется,символический ресурс, к которому его гуманитарнаяпублика могла обосно-27-ванно прибегать, изъят по той,вероятно, причине, что город считается чересчур«советским».
27 То, что в городе уцелели островки конструктивизма,то, что интерьеры некоторых зданий украшены кружевом
каслинского литья, то, что соцгородок и озеро Первое —замечательные свидетели уже ушедшей эпохи, — все это,похоже, не вписывается в схему поэтизированнойпровинциальности, с ее упорством высокой культуры иякобы не пустеющими краеведческими музеями. Неслучайнона урбанистических конференциях часто возникаютколлизии между «хорошими местными» и «плохимиприезжими», проистекающие из неявно разделяемой многимипредпосылки: проживание в данном городе, знание изнутриего реалий делает местного исследователя заведомо болеенадежным авторитетом.
27 Надежность ею экспертизы неотделима отповседневности, в которую он погружен. Другим истокомэтого устойчиво воспроизводящегося стереотипа являетсяпринцип значимости доверия для функционирования научныхсетей: многое в них издавна строится на свидетельствахиз первых рук — тех, кто наблюдал эти процессы,присутствовал при этом событии, собрал этивоспоминания.
27 Конкретная местность влияет на организацию научныхисследований, предопределяет то, насколько велики шансыих популяризовать, и то, откуда будет почерпнута ихавторитетность. Разнообразие научных практик, впринципе возможных сегодня, однако же ограничиваетсяконкретными траекториями научной социализации,существующим международным и внутренним разделениемнаучного труда, капризами финансирования, Различающиесяот места к месту типы культурного и социальноговзаимодействия предопределяют и то, как взаимодействуютзнания, произведенные в разных местах.
27 «Производители» урбанистического знания находятсяв сложных отношениях с теми, в чьих профессиональныхуслугах город и горожане нуждаются, - архитекторами ипланировщиками, ландшафтными дизайнерами и дизайнерамиинтерьеров, специалистами по PR и маркетингу.
27 В данном случае
28 это экономические интересы клиентов — будь этосостоятельные люди или городские администрации —определяют, каков будет производимый продукт.
28 Практические профессии и дисциплины поэтому большесвязаны с переговорами по поводу бюджета проекта,торгом, манипуляцией вкусами и предпочтениямизаказчика, политическими обстоятельствами.
28 Те же, кто размышляет над эстетическимидостоинствами созданного в городе или вычленяет егосоциальные смыслы, свободны преследовать своисубъективные интересы и высказывать индивидуальныеоценки, рискуя не найти на них спроса.
28 Кто же является адресатом местно производимогосоциально-гуманитарного знания о городе? Это сложныйвопрос. Глобализация усилила интерес к другим, частоэкзотическим местам, но нередко оказывается, что,поездив и посмотрев (и, возможно, убедившись, что вкоммерческом туризме маркетинг мест активно опираетсяна «-легенды и мифы»), горожане свежим взглядом,«туристски» смотрят и на близлежащую территорию.
28 Носители социально-гуманитарного знания способ-ствуют тому, чтобы она была должным образом «упакована»для местного туризма. Чиновники городских администрацийи областных организаций, мечтающие продвинуть подведом-ственную территорию вверх по шкале федеральной значимо-сти, тоже составляют часть такой аудитории. Но еслипредставить невозможное, а именно что городскаяадминистрация оплачивает исследования города, несвязанные с грядущими выборами, то сложность, котораяподстерегает покупателей, заключается в том, что импредстоит делать выводы из заключений ученых, не знаятеоретического контекста, в котором эти заключениятолько и имеют смысл.
28 Востребованность произведенного знания зависит оттого, можно ли результаты анализа одного городаиспользовать для понимания другого. Для тех, кто имеетдело с советскими и постсоветскими городами, это еще ипроблема «интересности» того, чем мы занимаемся, друг
для друга и в более широком - социальном, международноми прагматически-коммерческом — контексте.
29 Рассмотрим кратко два варианта позиционированияисследователями себя в отношении к городу и к «другим».«Исследователь» vis-a-vis «турист», «житель» и «фланер»— такой набор возможных позиций по отношению к городупредлагают О. Запорожец и Е. Лавринец, скептическиподчеркивая в отношении «классической»исследовательской позиции следующее: «Исследовательловит город в свои сети, предопределяя результатысвоего исследования заранее обозначенными позициями,городу же остается только поместиться в прокрустоволоже схем и ловушек, Чтобы понять город во всем егоразнообразии, исследователю якобы необходимо вновь ивновь повторять свои опыты, выявляя основы образующейих социальности, поэтому идеальной исследовательскойситуацией становится длительное пребывание в городе»[см.-. Запорожец, Лавринец, 2006: 10-11].
29 Обратим внимание на слово «якобы» в последнейфраэе. Исследователь, за плечами которого опыт полевогоисследования, пусть кратковременный, с его бесконечнымипоисками, а затем уговорами несговорчивых информантов,вслушивание в тексты интервью и муки укладыванияпестрой полученной информации в связный нарратив,прочтет ее не без возмущения. По словам одногоантрополога: «Я должен так исследование провести, чтобывсякий приехавший сюда же после меня получил быпримерно те же результаты»1. 1 С. Ушакин, личная переписка с автором, 14 07,2006.
29 В этих словах — ответственность за свое «поле», зажителей города, с которыми ты говорил, нередко наболезненные темы, но еще и сознание того, что тывключен в научные сети, что твои данные и их анализмогут быть сопоставлены с аналогичными. Блокирующиешироту исследовательского взгляда «сети», о которыхтолкуют авторы (под чем, вероятно, понимаетсясовокупность рабочих понятий), возникают и
корректируются в результате его включенности висследовательские сообщества.
29 С моей точки зрения, это очень и очень важныймомент, связанный с30 проблемой места, в котором продуцируетсяурбанистическое знание.
30 Между тем авторы статьи, ратуя — вместе сбританскими географами Найджелом Трнфтом и Ашем Амином— за необходимость потеряться в городе как основу болееплодотворной стратегии его понимания, убеждены:
«Одиночество исследователя — одно из ключевыхоснований потерянности».
30 Не уверена, что это единственно продуктивнаяпозиция, и вот почему.
30 Урбанист — одиночка, гуляющий по городу ипереживающий, достаточно ли он открыт новому опыту, —фигура столь же соблазнительная, сколь и нереальная.Такой же нереальной фигурой в воображении большинствалюдей, когда речь заходит о науке как образцовомзнании, является «очищенный» для бескорыстного поискаистины одинокий исследователь. Социальныйконструктивизм убедительно показал важностьвнутринаучной коммуникации: встреч, разговоров,публикаций и их критического обсуждения, переписки, гдеуточняются гипотезы и оттачиваются идеи. Вот почемуурбанист, как и любой другой современный исследователь,много времени проводит за e-mail. Более того, вряд линаш потерявшийся исследователь — фрилансер, скорее онслужит в вузе или исследовательском институте и вместес коллегами вовлечен в самое важное сегодня дело — делополучения финансирования. А раз оно зависит стг того,твоя идея или идея твоего конкурента будет поддержана,ищи союзников. И чем твои союзники влиятельнее, чемнеотразимее их репутация, тем более велики твои шансына продолжение научного поиска. Социальный капиталученого соединяется с местными материальными ресурсамии обстоятельствами, в которых знание производится.Мастерство описаний неотделимо от психологической
искушенности и коммуникативной компетентности. Место, скоторого ты смотришь и вникаешь в городскую реальность,соединяется с инструментами, которыми ты располагаешь,группами, которым принадлежишь, практиками, в которыхучаствуешь, сетями, в которые вовлечен.
31 Один из социальных конструктивистов - Барри Барнс— подчеркивает, что «реальность без протестов стерпитальтернативные описания. Мы о ней что угодно можемсказать, и она не будет спорить» [Barnes, 1994: 31].
31 Городская реальность, с ее бесконечно сложнымсплетением камней, подземных труб, проводов, транспортаи хрупких человеческих тел, каждое из которых жаждеттепла и простора, амбиций власти и личных амбицийгорожан, - эта реальность города, с ее нередкой не-различимостью материального и символического, простосоздана для альтернативных описаний. Может показаться,что смысл суждения Барнса в том, что городу нет дела дотого, что мы о нем скажем, Да-да: мэру есть дело,деятелям культурной индустрии, возможно, тоже, а городу— этому симбиозу людей и вещей, который существовал,когда мы в этот мир пришли, и, дай бог, продолжитсуществование после нашего ухода, — городу-то дела нет.И тем не менее это Париж, а не Москва был названстолицей XIX века, это Санкт-Петербург, а не Хельсинкилег в основу огромного интертекста, это в Чикаго, а нев Сиэтле сложилась городская социология, это Лос-Анджелес, а не Екатеринбург породил традициюлитературного, кинематографического, а теперь иинтеллектуального «нуара» — мрачно-апокалиптическихописаний настоящего и будущего. Почему одни названия иописания «прилипают», а у других нет ровно никакихшансов поразить своей точностью кого-то, кроме ихавтора?
31 Тут нам нужно присмотреться к тому, как действует«социальность», скептически упомянутая авторами статьи.Она, как всем известно, строится на общем использованииязыка, и это ее изменения приводят к складываниюнеповторимых комбинаций харизматических
субъективностей, возможных социальных ролей, новыхгородских практик богатых ресурсами экономических исоциальных институтов, в ходе которых возникаютдоминирующие описания и модели города.
31 И, возникнув, они обретают влияние, сопоставимое ссилой материальных процессов, поскольку в конечномсчете воплощаются32 в том, какие здания строятся, какие люди и гдепредпочитают жить, сколько в город приезжает туристов ипрочее.
32 Противопоставление туриста и исследователянеизбежно возникает во многих научных текстах, и иронияв отношении исследователя объяснима: не лишенномурефлексии человеку понятно, сколь шатки основания егодеятельности, сколь уязвим его статус. О. Запорожец и ЕЛавринец остроумно пишут о том, что вконец«потерявшийся» исследователь рискует уподобитьсягородскому сумасшедшему. А. Космарский включается в этуигру, заявляя, что его позиция — позиция «ученого кактуриста: от ученого берется презрение к необходимостиутверждать аутентичность/героичность собственного опытатам ярким стилем и увлекательными историями; от туриста— отказ от вескости, авторитетности, объективностисуждений "знатока предмета"» [Космарский, 2006: 22].
32 Исследователь «бродил по городу один», не забываяпри этом, однако, как явствует из текста, о том, вкачестве члена каких сетей он будет описыватьувиденное, какой язык придаст убедительность егонаблюдениям. Феноменологический же пафос статьиЗапорожец и Лавринец связан, как мне кажется, с ихкритическим отношением к «институциональной» парадигме(рассмотрению города как системы институтов). Но неполучается ли так, что поиск альтернативной, несвязанной с институтами позиции бессознательнопереключает внимание исследователя на самого себя: онвидится себе «праздным», не чурающимся того, чтобыпройтись иногда вместе с «аборигенами», но чащесосредоточенным на собственных чувствах и переживаниях?
32 Я не собираюсь — в постколониальном духе —обижаться за «аборигенов».
32 И не намерена — в марксистском духе — пенять этимавторам за увлеченность «праздностью». Мне, однако,кажется, что их текст симптоматичен для достаточноизбирательной рецепции западной современнойурбанистической теории, которая обозначилась у нас. Кпримеру, ни один выпуск журнала «Логос» не имел,наверное, столь широкой аудитории, как тот, что былпосвящен городам (2002. № 3—4).
32 Если33 бы индекс цитирования гуманитарных журналов в нашейстране определялся, в данном случае он наверняка бызашкалил,
33 А если бы определялся индекс цитирования статей,то английские культурные географы Найджел Трифт и АшАмин победили бы в этом соревновании немецкоготеоретика начала XX века Георга Зиммеля — побессмертному принципу «Свежее — значит лучшее». Яхотела бы сделать три замечания на этот счет.
33 Во-первых, Трифт и Амин заслуженно привлекаютчитателя поразительной теоретической свободой испособностью зафиксировать самые эфемерные, самыетрудносхватываемые нюансы сегодняшних теории иметодологии.
33 Но они же — одни из самых ярких представителейбританской культурной географии, которая неслучайноименуется в литературе «левой», «прогрессивной» и«критической» и главным достижением которой они самисчитают не просто «постоянное брожение идей» (что, вобщем, согласуется с их призывом испробовать на себепозицию потерявшегося человека), но «приверженность ктакому использованию этих идей, чтобы добитьсяполитических изменений во всех вариантах политики иборьбы и вообще к попыткам изменить политическое вооб-ражаемое» \Amin, Thrift, 2005: 112].
33 Понятно, что они здесь отсылают читателя квозможности по-разному понимать политику и
политическое. Если понимать политику в ключе упомянутойвыше «институциональной парадигмы», то она вся сведетсяк властным иерархиям, к социальному верху, «центру» итак далее. В таком случае естественной реакциейнормального интеллигентного человека становится«держаться подальше» и сознательно делаться«потерявшимся» аутсайдером, потому что ничего хорошегоот (так понимаемой) политики ждать нельзя.
33 Но если всерьез продумать иную линию пониманияполитики, представленную, к примеру, рассуждениямиХанны Арендт об инаковости, то получается, что тепрактики, которыми заняты «аборигены», в группах и поотдельности, могут нести в себе проявления политики вином смысле: ис-34-пользования своей власти, чтобы что-то изменить в своем жизненном мире.
34 Вопреки карикатурному образу непримиримого левака,Трифг и Амин настаивают: «В конце концов, условие того,что ты участвуешь в политике, — способность знать, ког-да идти на компромисс, когда возможно чего-то добиться,а когда необходимы тактические отступления» [Ibid;.114]. Эстетические измерения городского существованияважны и интересны, но самыми важными вопросами о том,как распределяются в городе ресурсы, кто принимает этирешения, как эти решения сказываются на индивидуальномсуществовании и, главное, как индивиды отвечают на этирешения, при всей их кажущейся скучности,«потерявшийся» исследователь вряд ли задастся.Удерживать в поле зрения связь интеллектуальной работыи политики можно только при условии, что для нассуществует реальный материальный мир во всей егофактичности, которая предшествует нашим мыслям,определяет их и часто им сопротивляется.
34 Второй момент состоит в сложностях рефлексииотечественного городского опыта и размещении его, таксказать, на карте урбанистики. Возвращаясь к Трифту иАмину, вспомним, что в той книге, откуда взятапереведенная журналом глава, они подчеркивают, чтоимели в виду именно «северные города», когда писали
свою книгу. Это знаменитые, благополучные, богатыезападные города имеют в виду авторы, побуждая нас сноваи снова продумывать вопрос об универсализуемостиурбанистических выкладок, то есть о приложимоститеоретических штудий, написанных «в виду» однойгородской реальности, к реальности несколько иной.Иначе говоря, здесь возникает вопрос об отношенияхмежду разными городами, и вопрос этот связан спространственной политикой научного исследования. Этаполитика включает в себя и то, что на воображаемойкарте, определяющей работу специалистов в одной стране,«их» города могут занимать совсем иное место, нежели вработах «северных» коллег. Можно привести несколькопримеров.
34 Так, мало кто из пишущих про глобальные города35 включает в этот список Москву, хотя в осмысленииобраза города российскими авторами «глобальность»(часто в сочетании с космополитизмом) встречаетсянередко.
35 В ряде недавно изданных монографий российскиегорода фигурируют в постколониальном контексте, то естьразбираются в компании с Сан-Паулу и Йоханнесбургом, аотнюдь не Лондоном и Парижем. Комментаторы единодушны втом, что проект «Пассажи» не был бы столь глубок, небудь у Беньямина за плечами «другого» опыта. Однакоименно его анализ Берлина и Парижа (а не Неаполя илиМосквы) взят за основу многими сегодняшними авторами (втом числе Амином и 'Грифтом). «Накладывая» ихметодологические инсайты на наши реалии, сколь многиеиз нас готовы допустить, что отечественный городскойопыт продолжает для значительной части западныхнаблюдателей оставаться сугубо другим (и интересентолько в этом качестве)?
35 Наконец, третий момент, связанный с рецепциейтекстов географов. Автор опубликованного в другомномере «Логоса» выборочного перевода главы из книги ЭдаСоджи «Постметро- полис» простодушно заявляет, чтокупюрам подверглись политические «злободневности», а
вот «философия городского пространства» была сохранена(см.: Логос. 2003. № б: 133). В тексте перевода,состоящем из выражений вроде «новая этериализа- циягеографии», «дефиницирование» и даже «эксцентричныйкосмический профет», трудно узнать изначальный замыселСоджи — дать очерк преобладающих сегодня вариантов —«дискурсов» осмысления пространства и трудно усмотретьосновы специфической философии пространства самого ав-тора (кроме, может быть, той очевидной идеи, чтовоображаемое и реальное в сегодняшнем пониманиипространства неразличимы). В тексте перевода распыленпо сноскам и список ключевых для лос-анджелесскогомыслителя текстов, в которых, с его точки зрения,представлены основные линии географической, илипространственной, как он предпочитает выражаться,мысли.
35 С моей точки зрения, все это симптоматично длянарастающего сегодня равнодушия к контексту, в котором36 рождаются те или иные идеи, что выражается впредпочтении «краткого содержания предыдущей серии» безутомительного обращения к первоисточникам (далеко невсегда, кстати, доступным).
36 Вызов, с которым сталкиваются урбанисты в нашейстране, заключается в том, что существенные моментыразвития западной урбанистической теории получиливесьма слабое отражение в нашей литературе. Неизбежнаяэклектичность существующего сегодня городского знанияеще более осложняет ситуацию становящегося в России ичрезвычайно разобщенного сообщества урбанистов.Необходимость «догонять» западных коллег по объемуосвоенных понятий и аналитических приемов соединяется спониманием того, что многие из этих понятий и приемовпроблематизируются процессами вроде убывания однихгородов или стремительного роста других. Изменения вфизической и социальной структуре современного городапривели к складыванию нового типа городскойагломерации, ставящей под вопрос традиционную форму,
«концепт» и границы города. Теория всегда отстает отразворачивающихся на наших глазах изменений.
36 Вскакивать ли опять в последний вагон уходящегопоезда, воспевая «прецессию симулякров» в родныхосинах, или попытаться найти в разнообразии школ иподходов такие, которые открывают возможностькритического анализа происходящего или хотя быинтересно теоретически обрамленных насыщенных описаний,— это серьезный выбор.
Задачи и план книги36 В книге суммируются ключевые идеи урбанистической
теории. Работ, написанных по урбанистике, очень много,так что моя «сумма» неизбежно субъективна и неполна. Яподробнее рассматривала те идеи, которые кажутся мнеособенно полезными для рассмотрения тех или иных сторонжизни города, особенно в нашем, российском контексте.
36 Способы, какими37 социологи, философы, географы, урбанисты,планировщики, специалисты в области культурныхисследований, теоретики политики, а также те, кто неозабочен тем, по какому дисциплинарному ведомствупроходит, осмысливают города, — разнообразны и далеконе всегда согласуются друг с другом.
37 Книга организована тематически, хотя хронологиюразворачивания тех или иных идей, влияний и тенденций ятоже имела в виду. В первой и второй главах я выделяюглавные идеи, которые легли в основу модернистской(классической) и постмодернистской (неклассической)урбанистической теории. В них я не только обращаюсь кработам тех мыслителей, что оказали, мне кажется,серьезное влияние на целые поколения исследователей, нои пытаюсь ответить на вопрос, какие модели пониманиягородов сложились в прошлом — далеком и совсем близком— и каким образом они сохранили свою значимостьсегодня. Все последующие главы рассматривают аль-тернативные способы осмысления городов, фокусируясь наэкологических, экономических, глобализационных, полити-
ческих, связанных с разного рода различиями иповседневных измерениях городской жизни. Важно иметь ввиду, что за редким исключением сегодняшние авторы незадаются целью построить всеобьясняющую и универсальнуюурбанистическую теорию.
37 В заключительной главе «Будущее городов» я какраз это и подчеркиваю, опираясь на немногие имеющиесяпопытки спрогнозировать как будущее городов, так ибудущее урбанистики.
Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре илитературе XX века, Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000.
Абашев В, Масальцева Т, Фирсова А, Шестпакова А В поисках Юря-тина. Литературные прогулки по Перми. Пермь: ИПК ■«Звезда»,2005.
Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: НЛО,2002.
Ваксер A3. Ленинград послевоенный. 1945—1982 годы. СПб.: ОС-ТРОВ, 2006,
Вендина О, Мигранты в Москве: грозит ли российской столице эт-ническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России.Вып. 3- М.: Центр миграцион. исслед. Ин-та географии РАН, 2005.
Валков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до на-ших дней. М.: Эксмо, 2005.
Глазычев В. Глубинная Россия наших дней: Публичная лекция,прочитанная в клубе <• Вilingua» 16 сентября 2004 т. [Электрон,ресурс]. Режим доступа:http :// www . polic . ru / leciures /2004/09/21/ glaz . html
Глазычев В. Глубинная Россия: 2000—2002. М,: Новоеиздательство, 2005.
Дятлов В. Современные торговые меньшинства: фактор стабиль-ности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М.:Наталис, 2000.
Запорожец О. Лавринец Е. Прятки, городки и другиеисследовательские игры: urban studies в поисках точки опоры //Communit as. 2006. Ns t.
Каганов Г. Санкт-Петербург Образы пространства, М.: Изд-воИвана Лимбаха, 2004.
Корепанов Н., Блинов В. ГЪрод посредине России. Екатеринбург:Сократ, 2005.
КосмарскийА Исследователь в городе от всевластия взгляда кстолкновению с Другим // Communitas. 2006. № 1.
Литовская МА, Кропотов СЛ. Ревиталиэация утопического в урба-нистическом пространстве: случай Екатеринбурга-Свердловска //Oboz. Problemy Naradow Bytego Obozu Kommunisticheskogo, 2007. T.2, № 17. S. 124— 136,
Литовская MA-, Кропотов СЛ. Second-hand «стиль Европы»: Евро-пейское в жизни азиатского города // Границы: Альманах Центраэтнических и национальных исследований Иван. гос. ун-та. Вып. 2.Визуализация нации. Иваново: Изд-во Иван, гос, ун-та, 2008.
Любовный ВЛ. Динамизм роли городов в социально-экономической ипространственной организации общества // Пространственнаяорганизация общества. Екатеринбург Изд-во Урал. гос. экон. ун-та,2007.
Медведев С. Иркутск на почтовых открытках. М.: ГЪларт, 1996.Митрофанов А Прогулки по старой Москве. М., 2005; 2006; 2007;
2008.МолеваН. История новой Москвы, или Кому ставим памятник. М.:
ACT, 2008.Очерки истории города Омска. Т. 1: Дореволюционный Омск / Под
ред. А. П. ТЬлочко. Омск Омск. гос. ун-т, 1997,Ревзин Г. Москва: десять лет после СССР // Неприкосновенный
запас. 2002. № 5.Ремизов АВ. Омское краеведение 1920—19б0-х годов: Очерк исто-
рии, Ч, 1—2. Омск Омск. гос. ун-т, 1998.Рубл Б. Дворы Санкт-Петербурга и переулки Вашингтона: забро-
шенные соседи официоза // Вестн, Ин-та Кеннана в России. 2002.Вып. 2. С 53-66.
Топоров ВН. Петербургский текст русской литературы // ТопоровВ.Н. Избранные труды. СПб.: Искусство—СПб. 2003.
Трущенко ОЕ. Престиж центра. Городская социальная сегрегация вМоскве. М.: Socio-Logos, 1995.
Филиппов АВ. Социология пространства. М.: Владимир Даль, 2008,Фокина TI7. Метафизическое саратоведение и личностная позиция
Ц Пространственность развития и метафизика: Сб. науч. ст. / Подред. Т.П. Фокиной. Саратов: Поволж акад. гос. службы, 2001, С 84—90.
Amin A, Thrift N. Cities: Reimagining the Urban, Cambridge:Polity, 2002.
Amin, A, Thrift, N. On being politicai/Aransacttons of theInstitute of British Geographers. 2007. No. 32. P 112-115.
Barnes B. How Not To Do The Sociology of Knowledge //Rethinking Objectivity. Durham-. Duke University Press, 1994-
Blokland T. Urban Bonds. Oxford: Polity, 2003.DearM. Comparative Urbanism // Urban Geography. 2005. Vol. 26,
№ 3- P 247-251.Ethmgton PJ. The Public City: The Political Construction of
Urban Life in San Francisco, 1850—1900. Los Andgeles: UC Press,2001.
Hohemberg PM. The City: Agent or Product of Urbanization //Urbanization in History. Ad van der Waude / Ed. Akira Hayami,and Jean de Vries. Oxford: Clarendon Press, 1990.
Massey D. Geographies of Responsibility // GeografiskaAnnaler. 2004. Vol 86 (Ser. В). P 5—18.
Massey D. For Space. L: Sage, 2005.Massey D. et al. City Worlds. L: Routledge, 1999.Oswald I., Voronkov V. Die «Transformation» von St. Petersburg
— Anmerkungen zur postsowjetischen S tad tent wick lung // Dieeuropaeische Stadt / W. Siebel (Hrsg). Frankfurt a/M: Suhrkamp,2004. S. 312-320.
PileS. Real Cities. L: Sage, 2005.Ruble BA Second Metropolis: Pragmatic Pluralism in Gilded Age
Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. Cambridge.-Cambridge University Press, 2001.
Ruble BA Creating Diversity Capital, Transnational Migrants inMontreal, Washington, and Kyiv Baltimore: The Johns HopkinsUniversity Press, 2005.
Ruble ВА, KoehnJ, Popson N£. Fragmented Space in the RussianFederation. Washington.- Woodrow Wilson Center Press, 2002.
Schwartz VR. Spectacular Realities; Early Mass Culture in Fin-de-Siecle Paris. Berkeley: University of California Press, 1998.
Schwartz VJL Walter Benjamin for Historians // AmericanHistorical Review. 2001. Vol. 106, № 5. P. 1721—1743.
SerresM., LatourB. Conversations on Science, Culture, andTime. Ann Arbor. University of Michigan Press, 1995.
Smith MP. Transnational Urbanism. Oxford: Blackwell, 2001.
41-82 Гл 1 Классические теории городаТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 1 Классические теории города41 Предрешены ли какие-то траектории развития людей и
социальных групп в силу их существования в городах (иопределенных местах в городах)? Или же их жизненныесценарии открыты изменениям и могут развернуться совсемнепредсказуемо? Это одна из дилемм, волновавшихоснователей урбанистики. Социальный контроль,доминирование власть имущих, свобода от патриархальныхограничений, влияние технических новшеств наповседневность и искусство - темы, обсуждавшиесясоциологами начиная со второй половины XIX века. Подчаструдно отделить (да и, кажется, не всегда необходимо)рассуждения социальных теоретиков о жизни людей впериод модерности и их собственно урбанистическиесоображения. Ключевым для возникновения социологии былоразличие между городским образом жизни, воплощавшимновизну модерности, и традиционно деревенским образомжизни. Его проработали Фердинанд Теннис и ЭмильДюркгейм. В целом можно говорить о следующих имеющихотношение к урбанистике проблемах, которые былипоставлены в социологии начиная с XIX века [Savage etal, 2003; Hubbard, 2006: 14]:
—что представляет собой городской образ жизни и можноли говорить о том, что он проявляется во всех городах?
41 — способствует ли городской образ жизнивозникновению новых социальных групп и вариантовидентичности?
42 — как воздействует городская жизнь натрадиционные социальные отношения, в основе которых
лежит уважение к обладателям «вышестоящего» классового,тендерного, кастового или расового статуса?
—способствует или препятствует город складываниюсоциальных связей между людьми разного происхождения,места проживания и занятий?
—в чем существо истории урбанизации и почему населе-ние концентрируется именно в городах и агломерациях го-родов?
—каковы основные черты пространственной организациигородов и порождают ли различные ее варианты особыеспособы социального взаимодействия?
—какой диагноз можно поставить городским проблемам,таким как перенаселенность, загрязнение, бедность,бродяжничество, преступность и разбой?
— в чем особенность городской политики и еенеравномерного воздействия на разных горожан?
К классикам урбанистики относят Карла Маркса иФридриха Энгельса, об идеях которых идет речь в нашейкниге, в главе о городской экономике; Макса Вебера, вработе «Город» продемонстрировавшего связь урбанизациис возникновением союза бюрократии и капитала; RiopraЗиммеля; авторов чикагской школы и Анри Лефевра, ккоторому я обращаюсь в главе о повседневности. Классикисознавали недостаточность фиксации внешней каузальностив осмыслении городской жизни, проявлявшейся вовключении людей и социальных групп в большоеповествование вроде марксистского. Последнее рисовалолюдей инструментами и ^продуктами» действия масштабныхсоциальных процессов. Люди мыслились способными кисторическому творчеству в результате тех же социальныхпроцессов и влияний.
42 Теоретические вызовы, с которыми эти авторысталкивались, состояли в сложности (граничащей сневозможностью), во-первых, зафиксировать в понятияхтолько становящиеся43 процессы социальной и психологической дифференциациигорожан и, во-вторых, вникнуть в парадоксы самогостановления новых форм социальности. Эта формы сочетали
усиление беспорядочности и хаотичности городскойповседневности с вызреванием ее внутренней логики ипотенции к самоупорядочиванию и самоорганизации.
В этой главе я остановлюсь на идеях Зиммеля —мыслителя, с которого классическое осмысление городскоймодерности началось, и на чикагской научной школе, втрудах членов которой оно достигло своего своеобразногоапогея. Развитие городов в период модерности совпадаетс развитием социальной теории, во многом истимулированным необходимостью зафиксироватьпреобладающие в городах социальные отношения ипроцессы, распознать повторяющиеся способы суще-ствования и решения проблем. Эта масштабная задачамогла быть решена с помощью масштабных же ресурсов, вотпочему столь важна была институциализация социологии, вчастности создание социологического факультета вУниверситете Чикаго. Рост городов сопровождалсяпоявлением новых вариантов социальной организации (иновых проявлений социальной патологии), что приводило кописанию социальной организации городов с учетомнормативных измерений городского существования.Трансформация социума, которую города с такой силой истоль стремительно воплощали в конце XIX и начале XXвека, делала неизбежным использование эволюционистскихидей, которым отдали дань и Зиммель, и Беньямин, идеятели чикагской школы, но побуждала при этом к поискудостаточно тонко настроенных моделей эволюционизма.
Уравнение Георга Зиммеля43 Фильм Мартина Скорсезе «Отступники» (2006)
начинается кадрами обычной уличной суеты южногоБостона, видной из окна ресторана.
43 За кадром звучат слова старого босса бостонс-44-кой ирландской мафии Винса Костелло, которого играетДжек Николсон:
44 «Я не хочу быть продуктомокружающей меня среды, я хочу, чтобыокружающая среда была моим продуктом».
44 За те лет двадцать, что прошли в фильме со времениэтого монолога, город превратился в моральный пустырь,борьба этнических кланов сочетается в нем спротивоборством корпораций, а вопросы лояльности ипредательства (в отношении к департаменту полиции штатаМассачусетс и ирландской мафии) неумолимы инеразрешимы. Самоуверенный выпад легендарного мафиозопротив банальной максимы социального дарвинизма фильм иподтверждает и оспаривает. Этническое, расовое иклассовое измерения городского существования сплетаютсяс бунтом одного героя против и искусным приспособлениемдругого к правилам жизни «по понятиям».
44 В разгар важной операции Костелло в гневе учитпартнеров-китайцев тому, как делаются дела «в этойстране». Патриотизм и национализм беспроблемносоединяются с жестко удерживаемой властью, расизмом исоциопатией: «Черные так и не поняли: никто тебе ничегоне даст. Ты должен сам это взять». Красоты центрастарого Бостона открываются в фильме из окна лофтастремительно делающего карьеру молодого полицейского-ирландца — человека Костелло в полиции. Его ровесник, скоторым они вместе учились жизни на улицах ирландскогоквартала и семейными узами оказались связанными смафией, а потому вроде бы обреченный тоже пополнитьряды гангстеров, становится настоящим полицейским иуспешно внедрен полицией Бостона в число людейКостелло. При этом один — продажный — стремительноутверждается в роли преуспевающего белого представителясреднего класса, другой — честный — остается беднымирландским маргиналом. Никто в фильме не морализируетпо поводу одинаковой цены, которую заплатили зауспешную ассимиляцию один и сохранение подобиянравственной целостности другой: оба убиты. Просто вживых останется тот, кто придет и выстрелит последним.
45 Фильм Скорсезе представляет собой мизантропическийвариант решения того, что Георг Зиммель называет«уравнением, которое составляется между индивидуальными надиндивидуальным содержанием жизни». Его решение,
опять-таки по Зиммелю, — «в приспособляемости личности,благодаря которой она уживается с внешними силами».
45 Дилемма «окружающая среда — я» зафиксирована вначале «прототекста» всей урбанистики — эссе ГеоргаЗиммеля о духовной жизни больших городов:
«Глубочайшие проблемы современнойжизни вытекают из стремленийиндивидуума охранить свою самосто-ятельность и самобытность от насилиясо стороны общества, историческойтрадиции, внешней культуры и техникижизни. Это — последняя из выпавших нанашу долю форм борьбы с природой,борьбы, которую первобытный человекведет за свое физическоесуществование» [Зиммель, 2002: 23].
45 Как видно из этою отрывка, Зиммель - один изсоздателей социологии — общество мыслит как источникдавления на человека, уподобляя его природе, законыкоторой неумолимы и от которой надо защищаться, чтообъединяет его скорее с поздними критикамидисциплинарного общества и общества контроля, нежели стеми его современниками, для которых общество заменялофигуру бога — было единственным источником объяснений.Его взгляды потому и служат источником многочисленныхинтуиции в отношении только намечающихся сегодняпроцессов, что он увидел ограниченность понятия«общество», объяснению и постижению которого социальнаятеория посвятила столько усилий. Его взгляды менялись,и сегодня, возможно, нам более интересен не столькоЗиммель, впечатляюще (и вполне позитивистски)разложивший разнообразие социальных интеракций на диадыи триады, сколько Зиммель, амбивалентно относящийся ксовременному обществу,
45 С одной стороны, общество замораживает становлениеи разрушает стихийность и неупорядочениостъ,связываемые Зиммелем с жизнью, с другой стороны, никтоиз людей не из
46 бегает того, чтобы впустить внутрь себя установленияобщества и там самым стать его частью.
Эволюционный витализм Зиммеля46 Отправной точкой рассуждений Зиммеля была жизнь —
социальная, культурная, духовная. Ее бесконечноетечение кристаллизуется в стабильных формах, оставаясьв то же время динамичным содержанием опыта жизни.«Жизненная сила» универсальна и абсолютна. Каждый еемомент отличен от того, чем он только что был, потомучто жизнь — это постоянное становление. Пишет лиЗиммель об обществе или о культуре, в его описанияхпостоянно встречается «стремление», «усиление»,«углубление». В эссе «Как возможно общество?», свиде-тельствующем о глубоком влиянии на него Канта, Зиммельговорит о том, что это формы лежат в основе социальнойонтологии, это они удерживают общество вместе [Simmel,1971а]. Жизнь — это, с одной стороны, материал длясоздания объективированных форм, препятствующихдезинтеграции общества, с другой стороны, безусловнаяценность. Такое понимание позволило Зиммелю предложитьтеоретически состоятельный, трезвый, но и не лишенныймизантропии очерк современного городскогосуществования.
46 Зиммеля более всего интересовало, каким образомсубъект «уживается с внешними силами», когда эволюцияобщества модерности приводит к тому, что главныесоциальные процессы начинают разворачиваться не вмаленьких замкнутых группах, но в больших городах Наего взгляды повлияла концепция «творческой эволюции»Бергсона, наделившая, пусть и в разной степени, людей ивещи способностью к восприятию и памяти. Зиммель, повыражению Скотта Лэша, был эволюционистом-виталистом.
46 Классический эволюционизм имеет дело со случайнымпорождением изменений, будь они природные илисоциальные, которые затем ложатся в основуприспособления
47 вида или индивида к новому или изменяющемусяокружению, и мыслит окружающую среду как внешнююпричину изменений функций и структур.
47 Виталистский эволюционизм Зиммеля сосредоточен наресурсах самопричинения, самоконституирования,самоорганизации, которыми обладают вещи и люди: ихжизнь постоянно преодолевает свои сложившиеся формы исоздает для себя новые:
47 «Именно для человеческогоудела, или удела души...противоположность тождества и различияисчезает в непререрывностисамотрансформации» [Simmel, 1989:62].
47 В этом ключе нужно понимать тезис Зиммеля о том,что в городе «человек создает себе средство самозащиты»(от перегруженности разнообразными стимулами).
47 Классический эволюционизм ранжирует ценности наоснове их значимости для существования вида как целого.Виталистский эволюционизм использует другой критерий:его интересует, какие ценности способны привестичеловеческий вид к более высокому порядку жизни. Самажизнь — ценность, так что эволюция - это движение отжизни к более полной жизни.
47 Жизнь — «субстанция» ценности. Не просто жизнь,но социальная жизнь.
47 Отношение между жизнью и формой подобно отношениюмежду интересом и его реализацией или проблемой и еерешением. «Социальность» есть одна из форм, в которойпроявляются интересы индивидов. Люди создают формы,преследуя «влечение, интерес, цель, склонность, психи-ческое состояние, движение» [Idem, 1971а: 24].
47 Существование каждой формы претерпевает эволюциюот статуса инструмента до самоконституирующегофеномена, подчиняющегося особой внутренней логике.Чтобы удовлетворить свои интересы в отношении другдруга, люди создают особые социальные формы, такие какобмен и разделение труда, искусство и знание, этика иигра. Постепенно каждая из этих форм создает особую для
себя логику и обретает относительную автономию отдругих, частично лишаясь своей инструментальности.
47 Только деньги сохраняют инструментальность,оставаясь главной социальной связью. Зиммель ихназывает пауком, вьющим социальную паутину.
48 Витализм, однако, связан с иными, нежели деньги,ценностями, поэтому одной из его значимых частейявляется этос жизни. Способы бытия людей неразрывносвязаны с вариантами поведения, мышления, отношения кокружающим и полагания ценностей.
Техники жизни в городе48 Городской тип личности и его истоки, лежащие в
городе модерносги, — тема, которой Зиммель начинаетклассическую урбанистику, не смущаясы ш того, чтосоциальный анализ в его эссе сочетается спсихологическим (ведь задача, которой он задается, —попять, за счет чего человек города «уживается свнешними силами», — по своему характерупсихологическая), ни использования «виталистской»терминологии. Он равнодушен к тем теоретическим табу,которыми «обложила» себя социология с момента своеговозникновения.
48 Решая сложную задачу постулирования «социального»и как объекта и как источника анализа, социология ввеластрогий запрет на «биологизм» и «психологизм», что, какмы увидим в дальнейшем, предопределило ограниченноеиспользование идей Зиммеля и чикагской школы до 1990-хгодов.
48 Между тем поиск причин психических заболеваний визъянах окружающей среды был популярен на рубеже XIX иXX веков (см.: Vidler, 1994], что, несомненно, помоглоЗиммелю поставить свой знаменитый диагноз:«бесчувственно-равнодушный» человек — преобладающий вгородах тип — порожден «повышенной нервностью жизни,происходящей от быстрой и непрерывной смены внешних ивнутренних впечатлений» [Зиммель, 2002:23].
48 В то же время если позитивистский социальныйнаблюдатель видел человеческие атомы общества сквозьуже существующие формы институтов, то социальныйфилософ Зиммель демонстрирует, каким образом в«метрополисе» возникают новые формы социализации.
48 Их суть в том,49-50 что отныне социум (олицетворяемый городом, вкотором царят деньги и рацио) становится источникомсмысла для субъекта, который одновременно жаждетразвить свою индивидуальность.
49
49 На городской улице только дети живо реагируют другна друга
50 Деньги гомогенизируют социальный мир, нарастаетдистанция субъекта от произведенного им продукта исамого труда. Городское окружение бомбардирует еготысячью противоречивых стимулов, не давая возможностини на чем остановиться и ни к чему привязаться.Способом справиться с этим становится особое отношениебезразличия к происходящему, которое формирует субъект,обесценивая внешний мир и такой ценой сохраняянеприкосновенность своего внутреннего мира:
«[Исчезает] значение и ценностьразницы между вещами, а потому и сами вещикажутся ничтожными. Они представляютсячеловеку с притуплёнными чувствами однооб-разно тусклыми и сырыми, ничего не
стоящими, недостойными никакогопредпочтения перед другими» [Зиммель,2002:27].
50 «Бесчувственное равнодушие» — особое культурноеприспособление, которым индивиды защищают себя, —вытекает из их постулируемой Зиммелем неспособностивзаимодействовать лицом к лицу с тем обилием людей, чтоони видят каждый день.
50 Эмоциональная энергия слишком легко и напрасно быисчерпалась, захоти городские обитатели близко к сердцупринимать многочисленные контакты, на которые ихобрекает город. Гораздо более психологически экономныигнорирование окружающих, избегание контакта с ними,культивирование антипатии к другим, сочетающейся свраждебностью: преобладает «конкретное деловоеотношение к людям и вещам, при котором нередкоформальная справедливость сочетается с беспощаднойжестокостью» [Там же-. 25].
50 Человек сформирован городской окружающей средойтак, что он определяет себя не только через класс,этичность, пол или профессию, но и через особуюпредрасположенность (которую составляет безразличие кгородскому окружению).
50 Городское окружение состоит из «стимулов» —множества возможностей, впечатлений, наружностей,жестов, товаров, обра-51-зов и звуков, которыесливаются в пестрый и непостижимый хаос.
51 Средство самозащиты — тип личности, какой субъектстановится, усвоив социальную логику, лежащую за этимхаосом: сосредоточенность на своих интересах иравнодушие к социальным процессам. Капиталистическиеформы управления людьми оборотной стороной имеютразрушение коллективов и «обесцвечивание» людей.Разобщенность постоянно производится и воспроизводится,в итоге чего индивиды психологически «затвердевают» вжесткой городской жизни и отделяются друг от друга. Вотв чем состоит главный вектор приспособления, главноерешение зиммелевского уравнения. Исчисляющая
инструментальная рациональность капиталистической жизниличностей для себя не требует, более того, она, есливоспользоваться более поздней метафорой ЮргенаХабермаса, «колонизует» городскую жизнь.
51 Насколько же при этом Зиммель тоньше марксистов!Он вовсе не выводит человеческие несчастья из этогообстоятельства, а фиксирует следующий парадокс: «Отнюдьне необходимо, чтобы свобода человека отражалась в егодушевной жизни ощущением благополучия» [Зиммель, 2002:31].
51 Разобщенность, получается, дает свободу.Отвердевание душой — возможность делать самого себяБолее того, разобщенность — это вид новой социальнойсвязи, в которой только и возможна эта, невозможная врамках иных, тесно сплоченных общностей свобода.
51 Свобода - это прежде всего свобода умственная,позволяющая индивиду сделать самого себя в соответствиис правилами городского окружения, где связи с другимимимолетны, а союзы непрочны, будучи подчиненнымиправилам городской функциональности. Только не будучичленом тесно сплоченной социальной сети, а потомусвязанным по рукам и ногам обязательствами и нормами,может индивид обрести свободу для того, чтобы статьнепохожим на других (и эту непохожесть затем тоже свыгодой для себя использовать).
51 Практики городской жизни разобщают, но в ходевключенности в них появляется гибкость восприятия,формируется габитус изобретательного городскогоиндивидуалиста.
Бремя культуры52 Помимо естественной для горожанина антипатии к
другим, Зиммель выделяет еще один тип антипатии — кместу, к городу, точнее, к его «объективной» культуре,вызывая в памяти ницшевского верблюда, нагруженногобесполезным профессорским знанием.
52 Вот его описание значительной части того, из чегогород состоит: «Здесь в зданиях и учебных заведениях, в
чудесах и комфорте техники, в формах общественной жизнии внешних государственных институтах сказывается такаяподавляющая масса кристаллизованного, обезличенногодуха, что перед ним личность, можно сказать, совсембессильна» [Зиммель, 2002: 33]
52 Туг важно помнить, что, отдав дань экономическомупониманию основ социальной жизни и показав, что обмен иденьги являются одними из главных форм, Зиммельдвижется дальше в своем анализе того, как соединеныжизнь и форма. Он показывает, насколько фундаментальнуюроль в существовании общества играет взаимосвязькулыуры и жизни. В эссе «Конфликт современной культуры»он определяет культуру как самореализацию «творческойстихии жизни» [Зиммель, 2006. 61].
52 Фиксированные и неизменные формы дают возможностьтечению жизни выразить себя. Жизнь, по Зим мелю,нуждается в постоянном самовыражении, и его формы —произведения искусства, социальные и религиозныеинституты, развитие техники и науки, развитие городов.
52 С одной стороны, в них жизнь протекает, с другойстороны, у этих форм свои порядок и логика развития,противоположные общей неупорядоченности жизни.
52 Чем больше они берут верх, тем сильнее та илидругая форма жизни отдаляется от своего первоначала,опустошается, перестает служить нуждам самовыраженияжизни, в результате чего жизнь ищет для себя другиеканалы, другие формы, другие точки кристаллизации, от-тесняя старые свои формы на задний план и некоторые изних ломая.
53 «Город» — гравюра младшего современника Зиммеля бельгийского графика Франса Мазереля
54 Именно эти старые, отслужившие свое, пустые формывидятся индивиду «массой кристаллизованного духа». Изних сложно построить развитую индивидуальность, к чемутак стремится горожанин Зиммеля. Мыслитель осмысливаетконфликт между «объективной» культурой города и«субъективной» культурой личности с точки зрения тогосуществования, которое город предлагает, и того, какойжизнь могла бы быть: «Жизнь для нее становится, с однойстороны, бесконечно легкой, так как ей со всех стороннапрашиваются возбуждения и интересы, все длязаполнения времени и мыслей, и это постоянно держит ееточно в потоке, где пловцу едва нужно делать кое-какиедвижения. Но, с другой стороны, жизнь индивидаслагается ведь все более и более из такого безличногосодержания и материала, которые стремятся подавитьспецифически личную окраску и оригинальность» [Зиммель,2002: 33].
54 Зиммель тут говорит о цене, которую платит индивидза возможность быть в потоке городских событий. Здесьречь идет о намеченной в философских текстах Къеркегораи Ницше, Шелера и Хайдеггера дихотомии подлинностииндивидуального самопревзойдения и неподлинностиповседневного городского существования с оглядкой надругих, которая вылилась в общие для европейскойфилософии конца XIX — первой половины XX веканегативные оценки социальных форм повседневногоповедения. Зиммель, не ограничиваясь философскойрефлексией, сочетает в своих размышлениях со-циологический анализ, психологические зарисовки иштудии культуры. «Невыносимая легкость бьггия», которуюЗиммель зафиксировал в вышеприведенном фрагменте болеечем за полвека до появления романа Милана Кундеры,воспроизводится во многих сегодняшних литературных иповседневных объяснениях экзистенциальной значимостижизни в метрополисе. Для многих возможность быть «точнов потоке» связывается не просто с городом, но сгородским центром: так, от обитателей московскихкварталов вблизи Остоженки — Пречистенки можноуслышать, что, «просто находясь здесь, ты в курсе всегопроисходящего».
55 Смутное представление людей о том, что жизнь,которая разворачивается перед их глазами, при всем еежестком на них давлении, только одна из возможных,реализуется в своеобразном этосе — этическом измерениипроживаемой жизни. Этос, в свою очередь, проявляется вразнообразных, как сказали бы сегодня, стратегияхсопротивления современности, в поведении ипсихологических предрасположенностях различныхгородских типов. Противопоставляя в городе «типичныесуществования» (рассудочные натуры) и «самодовлеющиесуществования» (бунтарей вроде Ницше), Зиммель говорит,что для вторых «ценность жизни заключается именно внесхематическом, своеобразном, не поддающемся равномудля всех определению». Современный «городской укладжизни» тем самым противопоставляется иному, в котором
жизнь могла бы быть разнообразнее. И хотя жажда«несхематического» приводит иных, как показываетЗиммель, к тому, чтобы всецело сосредоточиться назадаче выделиться любой ценой, прибегая к эк-стравагантным манерам или стилю, важно, что «этос»жизни происходит в любом случае из опыта, из чувства, ане задан извне.
55 Экстравагантность одних соседствует с сознательнойнезаметностью других, цинизм третьих сталкивается счувствительностью четвертых, игривость контрастирует срелигиозностью — на «этос» накладываются социальныероли, отношение индивидов к которым опять-такиразличается: от полного слияния до расчетливогоследования, от компенсаторно-защитного до истерически-эпатирующего.
Продуктивность антипатии55 Насколько реалистично допущение, что
«бесчувственное равнодушие» может быть главнымэмоциональным оружием субьекта, насколько естественнадля него такая психологическая конструкция?
55 Зиммель проницательно замечает: «Областьбезразличия при этом вовсе не так обширна, как это напервый56 взгляд кажется; деятельность нашей души отвечаетболее или менее определенным ощущением на каждое почтивпечатление, получаемое от другого человека, и тольконеосознанность, скоротечность и быстрая смена этихощущений приводят к видимому безразличию.
56 В действительности последнее было бы нам так женесвойственно, как невыносимо было бы расплывчатоепостоянное обоюдное непроизвольное внушение. От обоихэтих опасностей большого города нас охраняет антипатия— первичная стадия еще скрытого антагонизма прак-тической жизни; она помогает создаться расстоянию междулюдьми и удалению их друг от друга, без чего жизнь втаких городах была бы невозможна... то, что в последнейсначала кажется разрушающим всякую общественность
элементом, есть лишь один из самых элементарныхфакторов социального развития» [Simmel, 2002: 28—29].
56 Пространственные отношения не только определяютотношения между людьми, но и их символизируют, считаетЗиммель и успешно разворачивает этот тезис, не толькоприбегая в своем пространственно-социальном анализе купомянутой оппозиции дистанции — близости, но ипротивопоставляя привязанность и отчужденность,притяжение и отвращение.
56 Обозначенный здесь и не утративший своего значениядля понимания городской повседневности век спустя ходмысли нашел свое дальнейшее развитие в наброске о«Чужаке», написанном Зиммелем через пять лет после эссео больших городах.
56 Исторически чужаками были торговцы, отношениекоторых к местным жителям было прежде всегопрагматично-инструментальным: «Купят или не купят?»Чужаку не нужна была их близость, кроме, возможно, той,что продавалась: он слишком дорожил своейнезависимостью от них. Однако в отличие от странника,который сегодня здесь, а завтра там, чужак сегодняприходит, а завтра остается. Чужаку, как правило, небыло дела до того, что и к нему относились как к типу,идентифицируя его чаще всего по национальному признаку.
56 Это означало,57 что от него не потребуется ничего, вытекающего изместных обязательств или лояльностей. Его близостьвсегда временна, без каких-либо гарантий на будущее.Никакой «органической солидарности». Дистанция,сдержанность и анонимность — качества, которыми отмеченчужак, — одновременно составляют и атрибуты городскогосуществования. Неслучайно Зиммель говорит, чтоположение чужака составляют в определенной мере иблизость и дистанция. Хотя в какой-то степени онихарактерны для всех отношений, особое их сочетание ивзаимное между ними напряжение образуют специфическое,формальное отношение к чужаку.
57 Важно замечание Зиммеля в «Философии денег» о том,что чужаков в традиционном историческом смысле в городебольше не найдешь [Simmel, 1978:227]. Гомогенизирующаясила денег такова, что отношения между людьмистановятся все более «абстрактными и бесцветными».«Великий уравнитель» -- деньги — сводит на нет контрастмежду местным и неместным обитателями города. Или, чтоследует из эссе о больших городах, все в равной мереоказываются чужаками. Амбивалентно относящийся к миру иокружающим горожанин платит за погруженность вразнообразие жизни довольно высокую цену: он не видитлюдей в их уникальности, он ориентируется среди них,подразделяя всех посторонних на типы. И сам оказываетсяобъектом такой типизации, как только выходит на улицу.Итог прост: посторонние — все. Чужак, описанный ГеоргомЗимме- лем, был не просто одним из маргинальныхгородских типов, но запечатлел преобладающий вариантсвоеобразной связи горожанина с местом обитания.
57 Эта тема была развита многими мыслителями. Разчужака нет смысла понимать с точки зрения включенносга-исключен- ности, раз чужаками являются в пределе все,тогда его концептуально имеет смысл искать внутри своейобщности или даже внутри себя. Универсалистскую позициюздесь занимают историк городов Льюис Мамфорд, которыйназывал горожан живущими «всегда в присутствиидругости» [Mumford, 1938: 23],58 равно как и политический философ Мэрион Янг, длякоторой город - «встреча чужаков» [см.: Young, 1990].
58 Урбанистическая мысль в XX веке колеблется междупрославлением культурной продуктивности, связанной схаотичностью городской жизни, вызовом, который онабросает психологической инерции, — и трезвым пониманиемтого, что у разнообразия и непредсказуемости, которыетак волнуют в городских встречах незнакомцев, естьоборотная сторона — страх и тревога, вызванные тем, чтодругие пришли, чтобы остаться, чтобы стать соседями иконкурентами в поиске работы. Эти страхи редко фиксиру-ются в словах, но в делах — властей, связанных с
иммиграцией и управлением городами, и граждан — онипроявляются отчетливо.
58 Более того, «скрытый антагонизм практическойжизни», о котором говорит Зиммель, присущ и иным соци-альным отношениям, в основе которых лежат класс истатус, культурные притязания и борьба за ресурсы.
58 «Половинчатые, неясные отношения, укорененные всумрачном настрое, который с равной легкостью порождаетненависть и любовь и смешанный характер которого иногдавыражен в колебании между тем и другим» [Simmel, 1971b:40], сквозят в наших и окружающих нас людей взглядах идвижениях чаще, чем бы нам этого хотелось.
58 Зиммель наметил и иной поворот в осмыслениипроблематики постороннего в городе, а именно связьмежду тревогами людей по поводу их собственнойидентичности и присутствием рядом с ними других, накоторых эти тревоги проецируются. Предсказуемость ипрозрачность отношений, эмоциональный комфорт, которыймы испытываем в «родной» группе, базируются на одномобстоятельстве: существуют «они», совсем не такие, какмы. Мы — трудолюбивы, они — ленивы, мы — честны, они -пронырливы, мы -- дружелюбны, они — только и ждутнашего промаха. Что еще важнее — наши мысли схожи, мыдруг друга в состоянии понять. Они — непостижимые чужа-ки. У нас - предсказуемость. У них — неопределенность.
58 Представим, как сложно было бы определить границы«нас», не су-59-ществуй «их».
59 Фактически «мы» и существуем как группа только засчет того, что существуют «они», вот почему нужда в нихпостоянна.
«Иностранец живет внутри нас: онтайное лицо нашей идентичности», —продолжает эту тему Юлия Кристева[см.: Kristeva, 1991:1].
59 Неслучайно именно «Чужак» Зиммеля ложится в основутекстов, посвященных росту расистских настроений вгородах. Диалектика близости и дистанцированности,намеченная мыслителем, получает развитие в осмыслении
проблем пространственной сегрегации, когда доминирующаяв обществе группа предпринимает значительные усилия поподдержке физической разделенности в пространстве местсвоего обитания и мест обитания подчиненной группы — дотой степени, что, не видя и не сталкиваясь с еечленами, ее представление о них становится все болееабстрактным и все менее дружественным (что можетоказаться питательной средой для расизма).
Значимость исследовательской оптики59 Сочетание дистанцированности и привязанности к
городу отличает и тексты самого Зиммеля. Берлин рос,превращаясь в одну из крупнейших европейских столиц,что совпало с собственным развитием Зиммеля. В то жевремя тексты мыслителя выразительно свидетельствуют отом, что простой погруженности в пестроту инасыщенность жизни метрополиса недостаточно, что нуженспецифически настроенный взгляд на происходящее. Городименно потому был для Зиммеля бесконечным источникоминтригующих нас интуиций, что мыслитель разработалспецифическую исследовательскую оптику. Эта оптикаосновывалась на поиске характеристик того или другоговида социализации, то есть «стиля» жизни, и вписыванииих в широкий интеллектуальный или историческийконтекст.
59 Тем самым раскрывалось скрытое значение практик итехник городской повседневности, ее пространств60 и предметов.
60 Но поиск скрытого и глубокого смысла в потокесобытий - не самоцель. Городская жизнь сама по себе,как она протекает сегодня и завтра, тоже важна длямыслителя. Однако дело заключается опять-таки в том,какую стратегию «обрамления» того, что открываетсятвоему взору, выбрать, какой фокус избрать.Остановиться ли на отдельном индивиде в его точномотличии от всех других или нацелиться на созданиекартины общества с его формами и красками. Различие
между целями познания соответствует различию взанимаемом исследователем расстоянии.
60 Где мы, как наблюдатели, находимся, какова нашапозиция в отношении интересующего нас предмета —Зиммель побуждает нас вдуматься в пространственныйсмысл привычно используемых познавательных метафор,предвосхищая недавние дискуссии об исчерпанностивзгляда из ниоткуда и важности рефлексии исследователемсвоей местоположенности. Но если в этих дискуссиях(прежде всего феминистских) под ме- сгоположенностьюнередко понимается политическая мобилизованностьисследователя, его готовность говорить и смотреть навещи не с универсальной «точки зрения вечности», а спозиции группы, с интересами которой онотождествляется, то для Зиммеля предмет и фокусисследования были результатом непростой динамикинаучной цели и психологической предрасположенностиисследователя. Последняя включала широкие эстетическиепристрастия, что и привело к тому, что это в сложностяхпостижения искусства черпал Зиммель аналогии дляпонимания происходящего в городе.
60 Во-первых, увлеченность Зиммеля понятием дистанциии постулирование дистанцированности как ключевого длямодерности социально-пространственного отношениясвязаны с переосмыслением им Кантовой эстетики.
60 Если Кант дистанцированность помещал в центрэстетического переживания, настаивая набеспристрастности субъекта, на его «незаинтере-сованном», то есть отвлеченном от собственных интересовпереживании произведения искусства, то для Зиммеляполе, в61 котором умение держать людей и предметы «нарасстоянии» является ключевым, расширяется от тонкостейискусства до пределов всего общества (и связано снивелирующей различия и абстрагирующей функцией денег).
61 Во-вторых, анализ Зиммелем понятия социальнойграницы восходит к понятию рамы картины или фотографии,задающей единство и целостность того, что открывается
зрителю. Подобно тому как рама картины одновременноусиливает и ее реальность, и впечатление от нее,имеющиеся у общества и прекрасно сознаваемые людьмиграницы — то, что придает ему внутреннюю однородность.Верно и обратное то, как функционально связаны элементыобщества, получает пространственное выражение взамыкающей их границе. «Граница», понимаемая Зиммелемодновременно и в качестве пространственносформированного социального факта, и по аналогии срамой картины, служит примером специфической для мыс-лителя понятийной работы, в которой соединяютсяэстетическое и научное.
В-третьих, сама метафора «картины» общества тоже, ко-нечно, имеет эстетические измерения. Как существуетбесконечное число вариаций пейзажа или портрета, так,допускал Зиммель, у стабильных вневременных «форм»может быть множество разнообразных содержательныхвыражений- Эти выражения, «содержания» форм, вариантыинвариантов он описывал, обращаясь в своих эссе кгородской жизни, моде, руинам, живописи Беклина, стилямповедения, вариантам взаимоотношений.
В-четвертых, подобно тому как хорошее произведениеискусства открыто бесчисленным интерпретациям, включаяи те, что осуществлены «по гамбургскому счету», касаясь«последних», экзистенциальных вопросов, Зиммельубежден, что мельчайшие детали, минутные эпизодыгородской повседневности могут многое открытьвнимательному наблюдателю.
61 С этим связаны задачи, которые он ставил передсобой, описывая «духовную жизнь больших городов»,допуская, что «из62 каждого пункта на поверхности жизни можно опуститьлот в самые глубины души, что все самые банальныевнешности связаны в последнем счете с конечным решениемвопроса о смысле и стиле жизни» [Зиммель, 2002: 26].
62 Здесь сформулирована исследовательская стратегияЗиммеля, состоявшая в использовании фрагментовжизненного опыта и эпизодических впечатлений для
создания полномасштабного анализа интересующего егоявления, будь то деньги или культура.
Чикаго как место производства урбанистического знания62 Чикаго — заповедник классической американской
культуры: от домов в стиле «прерия» Фрэнка Ллойда Райтадо небоскребов Мис ван дер Роэ, от блюза и музыки встиле bouse до первого в мире колеса обозрения.«Вертикальное» впечатление от города усиливается тем,что он воплощает рожденный в период модерности стильпланирования города по принципу строгой геометрии(решетки): улицы соединены друг с другом под прямымуглом, а не петляют, как, например, в Бостоне. Когдамногочисленные иммигранты осваивали городское про-странство, они следовали этой геометрии, что выразилосьв пространственной отделенности друг от другаЧайнатауна, Германии, Гетто, Маленькой Италии и Луп —делового центра.
62 Границы между местами обитания разных этническихгрупп, как и между неравными группами, живущимипоблизости друг от друга, довольно строго охранялись.Границы всегда существуют и развиваются в отношенияхмежду группами, когда у одной группы достаточноресурсов, чтобы держать на расстоянии другую группу.
62 Город быстро и стихийно рос, а сосуществованиестарых и новых жителей далеко не всегда было мирным —до такой степени, что именно в Чикаго сложилось понятие«расовые отношения» — в 1919 году, когда во времярасовых волнений здесь была создана специальнаяКомиссия63-64 по расовым отношениям.
63 В 1920-е в Чикаго было возведено несколькознаменитых небоскребов, среди них — здание «Чикаготрибьюн»
64 То, что чикагскис социологи видели каждый день наулицах, вылилось в их теоретическое понимание города, воснове которого лежало осмысление возможности и границсоциального контроля за происходящим в городах.
Местом производства урбанистического знания был,однако, не только город в целом, но и здание подномером 1126 по Восточной 59-й улице -- зданиефакультета социальных наук, где с 1929 годаобосновалась чикагская школа — сплоченный коллективпрофессоров, исследователей, сотрудников и студентов,которые приняли вызов руководства нового университета,созданного в конце XIX века по завещанию Рокфеллера-старшего: добиться столь же блестящих результатов впреподавании и исследованиях, что показывали старыеэлитные американские университеты. К отлично оснащенным
помещениям скоро добавились издательство Чикагскогоуниверситета и «Американский журнал социологии». Неудивительно, что с такими ресурсами чикагский факультетсоциологии быстро и почти на все столетие сталлидирующим в стране, а чикагская школа произвеланевероятное количество книг, статей и методическихруководств. Так что чикагская школа представляла собойпрежде всего институциональное и организационное место,позволившее наладить конвейер эмпирических исследованийпод руководством маститых ученых. Маститость, кстати, кнекоторым из них пришла весьма стремительно: РобертПарк, к примеру, за десять с небольшим лет вырос изжурналиста, специализировавшегося на освещении расовыхпроблем в колониях и южных штатах США, в лидера этойшколы.
64 Провести границу (и тем самым ответить на вопрос,чем, собственно, занимались чикагские исследователи)между городской социологией и городской антропологиейкак дисциплинами и социологическим изучениемподростковой преступности, миграции, бедности ибогатства, гомосексуализма, социальной сегрегации(темы, открытые чикагцами) на примере данного города невсегда возможно, но можно выделить65 несколько специфических для них концептуальных и,если угодно, эмоциональных тенденций.
65 Во-первых, это не иссякший до конца существованияшколы энтузиазм в отношении изучения Чикаго - то естьгорода, в котором жили ее представители. Его история иего обитатели, его демография и его структура — все этобыло интересно и все волновало до такой степени, чтосухие социологические выкладки нередко перемежались втекстах с поэтическими именованиями: кварталы богемыименовались «городом башен* (towertoum), кварталы,промежуточные по своему характеру, — «мироммеблированных комнат» [Zoibaugb, 1929]. Поэтичныеметафоры чикагцев позволяли «растягивать» себя и надругие города. Впрочем, ниже еще пойдет речь о
двусмысленной позиции чикагцев в отношении того, докакой степени это знание приложимо к другим городам.
65 Во-вторых, это их реформаторский, прогрессистскийнастрой. Чикагцев иногда называют консерваторами на томосновании, что они были озабочены ростом преступности иоздоровлением нравов, проявляя при этом гомофобные исексистские настроения.
65 Так, известно, что Парк и Берджес про-тивопоставляли свою науку социальной работе как-«женскому» делу. В то же время некоторые их студентыподрабатывали в городских реформистских организациях,что приводило к тому, что они следили за теми самымилюдьми, которых изучали (или изучали с тем, чтобы этихлюдей было проще потом «реформировать»). Изучениечикагской школой таких нетрадиционных в первой половинеXX века тем, как сексуальность, влекло за собой, вчастности, такой специфический вариант включенногонаблюдения, как «работа под прикрытием» в гей-сообществах Чикаго, и порождало многочисленные противо-речия и конфликты интересов [см.,- Heap, 2003]. В то жевремя они были убеждены в возможности вертикальноймобильности, которую открывает американское общество.
65 Их позиции в отношении того, как именнопроизводимое ими знание может способствовать социальнымреформам, отличались: если66 Парк настаивал на том, что главное — достижениемаксимально объективной картины происходящего, искептически относился к предложениям участия всоциальной работе, то Берджес не чурался членства внескольких муниципальных комитетах, нацеленных наоздоровление нравов и популяризацию нравственных нормсреднего класса.
66 В-третьих, это демонстрация контекстуальнойместоположенности всех социальных процессов, ихлокализованности в пространстве и времени [CM,:Abbot,1999:196—197].
66 Невозможно понять жизнь общества, не вглядываясьво взаимодействия людей в конкретных социальных
пространстве и времени. Поэтому социальный факт теряетсвой смысл в отвлечении от места и времени. Каждый фактместоположен, окружен другими фактами, в совокупностиобразующими данный контекст, и вызван к жизнипроцессами, связанными с прошлыми контекстами. Когдаосуществляется синхронный анализ, акцент делается насоциальных отношениях и пространственной экологии, вслучае диахронного анализа — на социальных процессах, Внаши дни изложенные принципы кажугся элементарными, ноесли мы всмотримся в массив производимых сегоднятекстов, то увидим, что нередко в них речь идет о де-монстрации связей между социологическими переменнымивне зависимости от масштаба обсуждаемых процессов:«образование» будет иметь «влияние» на «профессию»независимо от других качеств индивида, его прошлогоопыта, его друзей, знакомых и связей, места егопроживания, времени его жизни и жизни его сообщества исоциума. Чикагцы, нанесшие на карту 75 «естественных»ареалов, охватывающих собой свыше 300 районов города,резонно сочли бы такой ход мысли не очень продуктивным.
66 В-четвертых, это сочетание эволюционизма инатурализма в качестве оснований их мысли.
66 Чикагская школа мыслила город как естественноеместо обитания цивилизованного человека, и посколькуэто западная цивилизация мыслилась передовой, точикагские авторы были убеждены в неизбежности и67 необходимости ассимиляции многочисленных мигрантов.
67 Им, однако, хватало трезвости понимать, чтоусвоение людьми норм свободной жизни в свободной странебудет проходить не в виде диффузной эволюции, а врамках борьбы за лидерство и место под солнцем техгрупп, к которым они принадлежали. В этом отношениимысли Парка, Берджеса и Уирга близки логике,определяющей масштабный исторический очерк становлениянравов в европейской цивилизации, написанный НорбертомЭлиасом. «Процесс цивилизации»: позиционирование себядоминирующими социальными группами в качестве болеецивилизованных (обладающих более продвинутыми
манерами), как убедительно показывает немецко-американекий социолог, неизбежно основывалось на борьбеза лидерство между различными социальными группами.
Городская экология67 «Выживает сильнейший» — этот нехитрый лозунг
социального дарвинизма, наверное, главное, что сближаетсовременных отечественных исследователей городскойжизни и чикагскую школу городской социологии. В нейгорода интерпретировались как постоянно развивающиесяорганизмы, причем это развитие включало как рост, так иупадок, как социальную норму, так и социальнуюпатологию.
67 «Городская экология» — так называется подход кизучению городов, объединивший Роберта Парка, РобертаМаккензи, Луиса Уирта, Эрнеста Берджеса, Харви Зорбаха.В нем биологизм сочетался с эволюционизмом, асоциальность городской жизни виделась укорененной вматериальной среде. Устойчивые способы воспроизводствасоциальной жизни в городах понимались этими авторами сотсылкой к естественным силам, действующим помимо со-знания людей.
67 Социальная организация мыслилась как результатнеосознанной эволюции.
68 Вглядываясь в то, как все новые волны мигрантовоседали в районах города — без какого-то особогорегулирования и координации со стороны государства, нов соответствии с определенной логикой, чикагцы увиделив этой логике проявление «биотической борьбы», как ееназывает Парк, то есть бессознательного соревнования иприспособления групп людей, приводящего к тому, чторазличные социальные функции закреплялись за самымиподходящими участками пространства. Те виды активности,которые функционально более всего подходили для данногоместа, постепенно в этом месте воцарялись, вытесняядругие активности, которым необходимо было искать длясебя другие места.
68 Между различными типами пользователей одного итого же места постепенно устанавливался симбиоз, отсосуществования друг с другом они получали выгоду, и вцелом установившаяся экологическая система стремилась ксостоянию равновесия. Нарушение равновесия в силуувеличения населения или каких-то иных причин приводилок новому витку биотического соревнования, в ходекоторого новые группы пытались найти для себя новыениши в изменившейся среде. Старые вариантыиспользования места уступают место новым, равновесиевосстанавливается, а социальная и культурная жизньначинает происходить в рамках возникших новыхсообществ.
68 Социальный дарвинизм нашел выражение в теорияхконцентрических зон и «естественных» ареалов.
68 Трансформация индустриального города в связи сприростом мигрантов виделась чикагским социологам такгородская жизнь — это бесконечная борьба за ресурсы, входе которой складываются так называемые естественныеареалы, каждый из которых закрепляют за собой особыегруппы людей. «Естественные» ареалы — это социальныепространства, возникающие в ходе «естественного»экологического развития города — в противоположностьзапланированному развитию.
68 Стремление найти проявления регулярности в видимомхаосе преступности, семейных проблем, беспризорныхдетей привело к успешной «визуали-69-зации» сдвигасоциальных и моральных норм, происходящего вамериканском обществе (и имеющего обязательные про-странственные эквиваленты).
69 Если какие-то городские территории колонизуютсяновыми резидентами, старым приходится искать для себяновые места обитания — почти так же, как в животноммире. Вторжение новичков неминуемо означает отступлениеили «поражение в правах» старожилов. Соревнование междуразличными социальными группами сопровождаетсяпроцессами вторжения, защиты и подчинения себе тех«естественных» ареалов, к которым группы наиболее хоро-
шо приспособлены. Стремление повысить социальный статусведет к ассимиляции мигрантов, а их неудачи на этомпути приводят к маргинализации. И те и другие процессыимеют пространственные корреляты: бедные районыуступают по популярности богатым, а социальнаясегрегация выражается в пространственной и, более того,все, за чем в обществе закрепилось название«социальное», может быть в конце концов сконструированои описано как пространство.
69 Социальный дарвинизм чикагцев не был тотальным,дополняясь признанием роли культурного наследия исоциального взаимодействия в складывании отношениймежду белыми и цветными обитателями города. Борьбапоследних за социальный статус, стремление закрепитьсяи даже ассимилироваться представляли собой один изустойчивых «паттернов» городской жизни, которыйприводил к пространственным последствиям: движение избедных сегрегированных районов в богатые. Людивторгаются в жизнь друг друга, пытаясь направлять,контролировать и выражать свои собственные конфликтныеимпульсы, был убежден Парк. Чикагские авторы, конечно,отдавали себе отчет и в том, что многое происходящее вгороде есть результат целенаправленной деятельности, нонастаивали, что устойчивые модели городского роста —результат глубинных эволюционных процессов.
69 Значимость культурного измерения городской жизниотражена и в убеждении Парка, что необходимо былоисследовать влияние средств70 массовой коммуникации (телефона, радио, газет ижурналов, массовой литературы) на нравы и мобильностьнаселения.
70 Студенты и молодые исследователи вняли этомупризыву, изучив и то, как многочисленные журналы «пролюбовь» разрушают традиционные семейные узы, маня кнесбыточному, и то, как в чикагских библиотекахзачитываются до дыр романы, в которых идет речь оромантических отношениях, далеких от повседневных,
70 В своей знаменитой схеме концентрических зон ростагорода и его социальной организации Берджес выделяетпять зон: 1) центральный деловой округ, 2)«переделываемая зона» (или «зона транзита»), в которойстарые частные дома перестраиваются и приобретают иныефункции, прежде всего коммерческие и жилые; 3) зонадомов «независимых рабочих»; 4) зона «домов получше»;5) зона ежедневных пассажиров [см.: Burgess, 1924: 142—155]. Поскольку эта схема призвана былапроиллюстрировать социальную и моральную организациюгородского пространства, Берджес уделяет особоевнимание «зоне транзита» — с ее кварталами богемы,районами «красных фонарей», «миром меблированныхкомнат», чайнатаунами и так далее — как самойпроблемной. С его точки зрения, достаточная удаленностьзоны от центра города была эквивалентна гарантиисоциальной нормальности, С другой стороны, чикагцы,напомню, были прогрессистами: вера в то, что в ихстране возможна социальная мобильность, также находитотражение в этой схеме, ибо она позволяет зафиксироватьне только закрепленность участков города за какими-тосоциальными слоями, но и перемещение городскихобитателей из одной зоны в другую. «Гетто» Луиса У ирта как раз прослеживает, каким образом обреченныеначинать жизнь в новой стране в «проблемном» центрегорода еврейские эмигранты постепенно выбирались всоциально благополучные пригороды.
70 Опираясь на многочисленные архивные документы,опросы, свидетельства и case studies, проведенные имисамими, их студентами и социальными работниками, в ходекоторых была
71 Диаграмма концентрических зон Берджеса72 документирована жизнь афроамериканцев и проституток,посетителей танцзалов и обитателей муниципальногожилья, богемы и гомосексуалистов, бездомных иобитателей трущоб, лидеры чикагской школы создаликарты, документирующие «социальный отбор» (Р. Парк)городского населения.
72 Были созданы диаграммы, отражающие карьерыгангстеров и любимые места шизофреников, не говоря ужео расположении гостиниц борделей, магазинов и прочихмест, в которых собираются люди. Парк выделил«естественные социальные группы», близкие по смыслурасам, и показал, как они подчиняют себе определенныерайоны города, в ходе чего китайцы создают Chinatoim,итальянцы — Little Italy и так далее. Процессысегрегации устанавливают моральные дистанции, которыепревращают город в мозаику маленьких миров, соприкасаю-щихся, но не проникающих друг в друга, — так виделосьпроисходящее Парку. Это открывает возможность быстрогоперемещения индивидов из одного морального ландшафта вдругой, осуществляя проблематичный эксперимент посовмещению пространственной близости и ценностнойизолированности. Ему вторит Берджес, показывая, чтоизобретательность молодых людей из хороших семей,
нацеленная на поиск свободных от надзора и нотацийпространств, подкреплялась активным строительствомкабаре, танцзалов, дворцов в богатых частях города,сулящих «приключение и любовь» [см.: Burgess, 1929:169).
72 Деятельность чикагской школы была отмеченаколебаниями между накоплением деталей, характерныхтолько для данного места — Чикаго, и стремлениемпродуцировать достаточно универсальные модели,пригодные для любого города. Историк чикагской школыЭндрю Эббот рассказывает о характерном в этом отношенииэпизоде [см.-.Abbot, 1999].
72 Эрнест Берджес часто выступал в университете и заего пределами с докладами о своей теорииконцентрических зон (о которой шла речь выше),показывая присутствующим схему этих зон, наложенную накарту Чикаго.
72 Здесь важно помнить, что зо-73-ны — условноечленение городской территории, позволяющее прослеживатьпроцессы, связанные с мобильностью населения иразличным использованием земли.
73 Когда кто-то из присутствующих спросил Берджесапосле одного из докладов: «А что это за голубая линияпосреди схемы?» — последовал ответ «О, это озеро!»Берджес имел в виду озеро Мичиган — огромный водоем,больше похожий на море, без которого Чикаго невозможнопредставить. «Голубая линия» важна в том смысле, чтоневозможно строить модель функционирования города, непринимая во внимание характер его территории:уникальность Чикаго в том, что существование озерапредопределило структуру города. Однако в книгеБерджеса и Парка «Город» фигурируют две схемы: таксказать, с озером и без. В первой удержанаспецифичность города, во второй воплощена абстрактнаямодель, годящаяся повсюду. Суть комментария Берджеса поповоду первой схемы была такова: ни Чикаго, ии какой-тодругой город полностью под эту идеальную схему неподпадает. Берег озера, река Чикаго, железнодорожные
пути, исторические факторы в расположении промышленныхпредприятий и некоторое сопротивление местных сообществвторжениям извне усложняют картину По поводу второйБерджес говорил, что эта схема представляет идеальнуюконструкцию тенденции к радиальному расширению, векторкоторого направлен из центрального делового района, —то есть что это направление развития характерно длялюбого городка или города.
Критика чикагской школы73 Органицизм, биологизм, эволюционизм — при всем
различии этих понятий — ортодоксальной социологиейактивно отвергаются как заведомо редукционистскиеварианты понимания социального развития. Причин здесьнесколько.
73 Во-первых, это влияние постколониальной мысли и вцелом пост-74-классических теорий.
74 Эволюция западной цивилизации не мыслится болеекак единственно возможная теоретическая модель, поэтомупод подозрением находятся все эволюционистские модели.Во-вторых, это влияние теорий социального действия, вкоторых источником изменений мыслится индивидуальнаядеятельность, нацеленная на достижение запланированныхрезультатов. В-третьих, это увлечение возможностямирадикальных измененений, сквозящее в текстахнеомарксистов.
74 В-четвертых, это распространение социальногоконструктивизма, проблематизировавшего сам ход мысли,согласно которому хоть что-то в человеческих действияхи социальных институтах может быть объяснено на основе«естественных» процессов. Так, по мнению сторонниковпоследней парадигмы, предположение о том, что расовая,классовая, сексуальная идентичность легко определяемы ибеспроблемно соединяемы с определенным городскимкварталом, привело к тому, что классовые, расовые ипрочие различия «эссенциализирова- лись», а группывиделись как чрезмерно однородные и сплоченные.
Общая непопулярность эволюционной теории в социологиипривела к тому, что городская экология чикагцев начинаяуже с 1930-х годов была подвергнута серьезной критике.
74 Первая линия критики была связана спостулированием чикагскими авторами существования некихглубинных процессов, которые не всегда получалиочевидное выражение на «поверхности» социальной жизни.Так, оспаривалось не просто выделение чикагцами вкачестве отдельного детерминирующего рост городовфактора биотического соревнования, но их неспособностьэмпирически продемонстрировать значимость этойдетерминанты (того, что «биотические» процессы работаютотдельно от культурных и социальных).
74 Социолог Уолтер Файри на примере Бостона показал,что иногда биотическое соревнование (если оно вообщесуществует) может быть блокировано культурнымифакторами: сентиментальная привязанность жителей кстарым центральным районам, нахо-75-дящимся под угрозойвторжения в них новых обитателей, может, так сказать,перевесить биологическую логику [см.: Firey, 1945: 140—148).
75 На недооценке культурных факторов в жизнигородских сообществ построил свою критику Мануэль Кас-тельс [см.: Castels, 1977].
75 Интересно, однако, что в статьях последних двухдесятилетий именно работа «биологической» логики вгородах берется под защиту. К примеру, говорится, что«биотические силы» можно мыслить как реальные, ноненаблюдаемые процессы в организации городов, которыетолько могут проявиться в некоторых городах, если дляэтого сложатся подходящие условия. Как правило, однако,очевидность действия культурных факторов препятствуетэтому [см.: Dickens, 1990].
Вторая линия критики парадоксальным образом связана стем, что результаты, полученные чикагскими авторами,относились к конкретному городу и потому не могли бытьраспространены на другие регионы. Главным препятствиеммыслилась уникальность Чикаго, как города со
стремительным ростом населения в результате внешней ивнутренней миграции, индустриализации и разворачиваниякапиталистических отношений, тогда как во многихгородах других частей света рост был куда болееограничен, население — однороднее и они в значительноменьшей степени были затронуты индустриализацией [см.:Hannerz, 1980: 57—74].
75 Третья линия критики была, наоборот, связана суниверса- лизующими тенденциями в исследованияхчикагских авторов. К примеру, постулирование Уиртомуниверсальных характеристик урбанизма как образа жизниоспаривалось урбанистическими этнографами на томосновании, что в действительности существуют разные«урбанизм ы». Всегда ли насыщенные, разносторонниесоциальные отношения, которые возможны в городскихгетто, со временем теряют свою глубину и превращаются вотношения холодного безразличия к окружающим? Всегда лигородской образ жизни связан с конкретными про-странственными формами?
75 Эта линия проблематизации была76 развита авторами, исследующими специфику урбанизма внезападных городах. Так, авторы так называемойманчестерской школы городской этнографии, изучаясоциальные отношения в городах Замбии, пришли к выводу,что в них специфически соединяются трайбализм иурбанизм, анонимные отношения и упорная работа покатегоризации окружающих людей по принципу «свои — несвои», поиску все новых и новых линий связей с теми,кто родом из твоей деревни, является дальнимродственником или просто знакомым знакомого[см.-.Robinson, 2006:41 —65]. Способность создавать иукреплять разнообразные сети отношений, разнящиеся постепени близости и интенсивности контактов, способностьдо неузнаваемости варьировать поведение в зависимостиот исполняемой социальной роли были теми качествами,которые формировали у обитателей африканских городоврежим существования в условиях колонизованного города.
Все это усилило понимание антропологами урбанизма каксовокупности различных культурных опытов.
Уроки чикагской школы76 Города функционируют как организованные системы —
с этим тезисом согласны многие исследователи. Но каковаприрода этой организации? Всецело ли она связана сцеленаправленным планированием или в ее генезисе ифункционировании есть нечто от «естественных»,незапланированных процессов? Ответы на последнийвопрос, который дает современная социальная теория,делятся на три группы. Первая группа ответов близкаидеям «городского менеджеризма» (они краткорассматриваются в главе о юродской политике).
76 Властвующие индивиды, или элиты, мыслятся какглавные субъекты организации городов, активностькоторых предопределяет то, как города создаются ифункционируют.
76 Вторая группа ответов, даваемых урбанистическойполитической экономией77 и марксистской социальной географией, объясняеттрансформации городов масштабными капиталистическимисилами.
77 Режимы аккумуляции капитала в городах, город какместо производства материальных благ и воспроизводстварабочей силы, город как место потребления в нем жепроизведенных товаров — практически все в организации ифункционировании города обменяется капиталистическойдинамикой.
77 Третья группа ответов связана с отказом оттотальной социологизации объяснений в пользу попытокпредставить городскую организацию как результатсложного взаимодействия природных, материальных,политических, социальных и культурных факторов. Этаисследовательская стратегия связана с социальнымиисследованиями науки, с нарастанием междисциплинарностигородских исследований, с пониманием опасностисоциально-конструктивистского редукционизма.
77 Чикагцы были одними из первых авторов,недвусмысленно заявившими, что эволюция и организациягородов не могут быть объяснены только на основеэкономических или культурных факторов, но проходят на«биотическом» уровне, не попадающем в поле человеческойрефлексивности. К примеру, преобладающие вариантысоциальной сегрегации могут быть точнее объяснены нетолько на основе экономических процессов (динамикирынка недвижимости) и культурных предпочтений(стремление селиться в районах, отвечающихпредставлениям людей о стиле жизни), но и врожденными иунаследованными сантиментами и мотивами, которые влекутлюдей к близким им по крови или по духу.
77 Отстаивая тезис о современности идей городскойэкологии, британский урбанист Питер Сондерс убедительнодемонстрирует, как «что-то еще», помимо экономических,социальных или культурных детерминант, работает в про-странственных предпочтениях горожан, обращаясь к иссле-дованиям динамики расселения мигрантов в Бирмингеме,проведенных Рексом, Муром и Томлинсон [см.г Saunders,2001: 44—45].
77 Политика властей и домовладельцев препятствовала78 поселению недавних чернокожих мигрантов впригородах: чтобы стать домовладельцем и претендоватьна заем, необходимо было представить солидные гарантиидолговременной занятости, чего у приезжих, конечно, небыло.
78 Они, как это происходило и в тысячах другихевропейских и американских городов, селились воставленном состоятельными людьми центре, где можнобыло дешево купить старые большие дома, разделить их наквартиры и зарабатывать, сдавая эти дома в аренду тем,кто поселился в данном районе позднее. Пока в этойистории на первом плане — экономические и политическиефакторы, препятствующие поселению мигрантов там, где быим хотелось («белые» пригороды). Но по истечении при-мерно двух десятилетий картина была совершенно иной. Навопрос о том, хотели бы они перебраться в пригороды,
большинство отвечало отрицательно по той причине, чтотеперь здесь, в одном из районов центра, оничувствовали себя как дома, спокойно и защищенно. Втерминах чикагской школы, группа чернокожих иммигрантов«вторглась» в данный городской район, достигла в нем«доминирования», «приспособила» к своим нуждам егоинфраструктуру и начала в его рамках утверждать своюсобственную «культуру»; в итоге появился новый«естественный» ареал, к которому у его обитателейвозникло чувство привязанности. Сондерспротивопоставляет этому «биотическому» процессупротивоположный: когда в результате искусственновозникших административных границ или политическихнововведений людей вынуждают жить бок о бок с теми, ктосоциально от них далек.
78 С его точки зрения, драматические эпизодыистории Косово, Северной Ирландии или Бургундии связаныименно с этим, не говоря уже о многочисленных примерахплохо функционирующих сообществ с высоким уровнемвнутреннего антагонизма.
78 Англия, с ее довольно грустной историейпослевоенного социального реформирования (движение NewTowns), дает немало примеров провалившихся попытокреформаторов создать районы, в которых проживали бы боко бок представители разных классов.
79 Те, кто имел средства, из этих районов быстроуехали, сегрегация только усилилась, а попытки«локально» насадить социальное разнообразие потерпелиполное фиаско. Самым выразительным примером здесьявляется история «Каттслоу Уолс» в Оксфорде, гдеобитатели частного квартирного комплекса заставилиместные власти построить стену, отделяющую их отсоседнего комплекса, в котором жили не устраивающие ихобитатели. Советский опыт пространственного насаждениясоциального равенства и стремительное нарастание про-странственно-социальной фрагментации городов впоследние двадцать лет также демонстрируют, что«биотические» факторы — серьезная сила.
79 Тезис Парка состоял в том, что «естественные»ареалы, отличавшиеся довольно высокой культурнойоднородностью, эффективно определяли пространственноеструктурирование города в там числе и потому, что людипредрасположены к кооперации с близкими себе. Какогорода эта предрасположенность и как именно в нейсочетаются унаследованные и благоприобретенные факторы— на эти вопросы нет точных ответов, но открытостьчикагцев допущениям о не всецело социальной природеэтих диспозиций заслуживает уважения.
79 Саския Сассен, подчеркивая уникальностьисследовательской ситуации чикагцев, называет Чикаго«эвристическим пространством для понимания масштабнойдинамики индустриальных обществ» [Sasken, 2005:252].Вместе с тем тот факт, что не все их идеи оказалисьвостребованными, она объясняет тем, что на протяжениибольшей части XX века западные города просто не моглиболее составлять такое эвристическое пространство.Индустриальная эпоха, так сказать, устоялась, асвоеобразные успехи политического и социальногорегулирования городов привели к тому, что какие-тоинтересные для урбанистов процессы в них сталопрослеживать сложнее.
79 Местом масштабной динамики стали, скорее,правительства и промышленность (включающая промышленноепроизводство домов для американских пригородов).
80 Однако конец XX века опять сделал именно городаобъектом пристального интереса, что произошло в силупроцессов глобализации. Они стали главным местом целогоспектра новых политических, социальных, культурных,экономических процессов. Но здесь возникает такаясложность; для чикагских авторов город бь[Л«лабораторией», позволяющей на его примере судить осоциальных процессах всего американского общества.
80 Насколько изучение городов сегодня может помочькритическомуи аналитическому пониманию масштабных со-циальных процессов?
80 Проблема в том, что в разворачивающихся на нашихглазах новых пространственных конфигурациях город кактаковой уже не занимает того центрального места, какоеон занимал в классической урбанистике.
80 Масштабные, связанные с глобализацией процессыприводят к образованию новых пространственныхфеноменов, в результате чего если и существует сегодня«эвристическое пространство», то оно связано скорее с«городом-регионом». В широком мире«трансурбанистической динамики» город как таковой —лишь один из узлов.
80 В его понимании на первый план выходит, во-первых,не замкнутость, но, напротив, разомкнутость; во-вторых,не унифицированность, но сложность; в-третьих, невписанность в пространственную иерархию, на вершинекоторой — национальное государство, но самостоятельная«глобальная» роль (возможная для некоторых городов).
80 Поэтому теоретическое «государственничество» ужене может играть роль доминирующей теоретической рамки ванализе городов.
80 Первый вызов, с которым, соответственно,сталкиваются урбанисты, — это найти не«государсгвоцентристскую» теоретическую рамку,освободиться от контейнерного мышления в терминахнационального государства. Второй связан с услож-нившимся пониманием «мест».
80 Переосмысление значимости физической близости дляпонимания привязанности людей к месту, потокиинформационных технологий, динамика глобального илокального, маркетинг мест — эти и многие другиетенденции обусловливают то, что в городскихисследованиях на первый план выходит место, частопонимаемое как связан-81-ное с транстерриториальнымипроцессами.
81 Детальная полевая работа могла бы помочьзафиксировать многие из этих новых процессов, и глубинапогружения в процессы, идущие в одном городе, которую
продемонстрировали авторы чикагской школы, остаетсянепревзойденной.
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3-4. С 23—34.
Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г Избран-ные работы. Киев: Ника-Центр, 2006. С 61—79-
Зиммель Г. Чужак // Социологическая теория: история, современ-ность, перспективы / Под ред. А.Ф. Филиппова. СПб.: ВладимирДаль, 2007. С 237-271.
Abbot A Department and Discipline: Chicago Sociology at OneHundred. Chicago University of Chicago Press, 1999-
Burgess E.W. The Growth of the City: An Introduction to aResearch Project // Publications of the American Sociologies!Society. 1924. Vol. 18. P. 142-155.
Burgess EW. Studies of Institution // Chicago: An Experimentin Social Science Research / Ed. T.V. Smith and L.D. White.Chicago; University of Chicago Press, 1929.
Castas M. The Urban Question. L: Oxford, 1977. Dickens P.Urban Sociology. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990.
Firey W. Sentiment and Symbolism as Ecological Variables //American Sociological Review. 1945- № 10. P. 140—148.
Hannerz U. Exploring the City: Inquiries Toward an UrbanAnthropology. N.Y.: Columbia University Press, 1980.
Heap C. The City as a Sexual Laboratory: The Queer Heritage ofthe Chicago School // Qualitative Sociology. 2003- Vol. 26, № 4-P 457—487. Hubbard P. City. L; N.Y.: Routledge, 2006.
KristevaJ. Strangers to Ourselves. N.Y.: Columbia UniversityPress, 1991- Mumford L The Culture of Cities. N.Y.: HartcourtBrace and Co., 1938. Robinson J. Ordinary Cities. BetweenModernity and Development. L: Routledge, 2006.
Sasken S. Cities as Strategic Sites 11 Sociology. 2005- Vol.39 (2). P. 352- 356.
Saunders P. Urban Ecology, Handbook of Urban Studies / Ed RPaddi- son. L: Sage, 2001.
Savage М, WardeA-, Ward К. Urban Sociology, Capitalism andModernity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003-
SimmelG. How is Society Possible? //GeorgSimmel onIndividuality and Social Form. Selected Writing Chicago:University of Chicago Press, 1971a, P. 6-22.
Simmel G. The Problem of Sociology // Georg Simmel onIndividuality and Social Form. Chicago: University of ChicagoPress, 1971b. P. 24—40.
Simmel G. The Philosophy of Money. Boston: Rout ledge, 1978.
Simmel G. Gesamtausgabe / Ed. O. Rammstedt. Frankfurt:Suhrkamp, 1989. Vol 13. P.62 (цит. no:LashS. Lebenssociologie:GeorgSimmel in the Information Age //Theory, Culture, andSociety. 2005- № 22 (3). P. 1—23).
VidlerA Psychopathologies of Modern Space: Metropolitan Fearfrom Agarofobia to Estrangement // Rediscovering History / Ed.M. S. Roth. Stanford: Stanford University Press, 1994-R 11—29.
YoungM. justice and Politics of Difference. Princeton:Princeton University Press, 1990.
Zorbaugb H.W. Gold Coast and the Slum Chicago: University ofChicago Press, 1929-
83-133 Гл 2 Неклассические теории городаТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 2 Неклассические теории города
83 В I960-1970-е годы в урбанистике сочетались сле-дующие типы теории города; 1) позитивистские по духуколичественные модели использования городской земли; 2)исследования субъективного отношения людей к городу; 3)радикальная политическая экономия, основанная намарксизме.
83 Первые продолжали чикагские традициикартографирования города, используя статистическиеметоды и бихевиористские модели. Бихевиоризм былпопулярной моделью и тех авторов, которые вслед заКевином Линчем [см.: Lyncb, I960] занимались
исследованием ментальных карт юрода. Каким образом людиориентируются в городе, как прокладывают себе путь, какпринимают решения о найме жилья — эти вопросывыяснялись вначале с помощью опросов, а затем с помощьюкомпьютерного моделирования. Один из главныхрезультатов этих исследований состоял в обнаружениитого, что в повседневном поведении горожан есть немалоиррационального. Радикальная политическая экономияобратилась к отношениям производства, потребления,распределения и обмена, способствуя пересмотруотношений между исследователями и властями.
83 Ученые видели себя теперь не только поставщикамиинформации для тех, кто принимает решения. Последние,наряду с планирующими инстанциями и девело- перами,были включены в число объектов исследования — вкачестве факторов, скорее создающих и воспроизводящихсоциальные проблемы, нежели их успешно разрешающих.
83 И не84 мудрено: поскольку фоном и истоком всех городскихявлений и проблем для марксистской урбанистики былкапитализм, то все агенты городского развития мыслилиськак вовлеченные в поиск наиболее выгодных мест д лявложения капитала.
84 Не слишком ли, однако, жесткая это рамка дляобъяснения происходящего в городе, и в особенностипроцессов, связанных с социальными и культурнымиразличиями? Таким вопросом все активнее стализадаваться начиная с 1970-х годов феминисты ипредставители постколониальных исследований. Различия ивлияние этих различий на идентичность обитателей городабыли в центре их внимания. Допущение о том, что нарядус экономической логикой капитализма городская жизньопределяется другими процессами, роднит эти течения спостструктурализмом. Рефлексия феномена различий междулюдьми и культурами привела в последние десятилетия кобостренному ощущению присутствия «другого» в философ-ском, историческом, критическом дискурсах и к
проблематизации феномена гетерогенности человеческогосуществования.
84 Сконцентрированность на языке и репрезентации мирав различных символических системах позволиласторонникам постструктуралиэма продемонстрироватьвзаимосвязь материальных и нематериальных сил.
84 Так, последователи Мишеля Фуко показали силудисциплинарных описаний современного мира и способностьсоциальных наук собственные тотальные обобщениясоциальной реальности продвигать в качестве до-минирующих — за счет местного и наивного знания. С техпор тем ученым, кто считает, что их взгляд нареальность по той или иной причине являетсяпривилегированным, сложнее утверждаться в своихпретензиях на интеллектуальное господство.
84 В урбанистике этот сдвиг проявился в пересмотреамбиций: все меньше ученых видят смысл в созданииобобщающих теорий города и все больше — в обращении кместному и частному в городах.
84 О чем бы ни писали сегодня исследователи и в какойбы области они ни работали, в их текстах можно подме-тить такие общие черты, как отбрасывание монолитного игомогенного во имя разнообразия, множественного игетероген-85-ного, отрицание аборактного, общего иуниверсального в свете конкретного, частного.
85 Так, выполненные «культурными географами» работыполемически свидетельствуют, что итоги изучения, кпримеру, феномена беспрецедентной притягательностиамериканских торговых центров, различных типовспортивных и медиафанатов или «призраков», преследующихвоображение горожанина, несут человечеству одинакововажную информацию.
Но есть еще одна важная причина, почему наследиеклассической урбанистики, в «чикагском» или традиционномарксистском ее вариантах, обнаружило ограниченность.Стремительно менялись сами города. Они«децентрировались», если воспользоваться популярным впостструкгурализме термином. IT-компании и торговые
центры, тематические парки развлечений и заводы - всеэто стало существовать теперь за пределами города. Всобственно же городе тоже шли новые процессы; он по-новому разграничивался на корпоративные центры,«сообщества за воротами», центры потребления и такдалее. Потребление стало центром жизни изменившихся,постиндустриальных городов - мест постфордистскойэкономики.
85 Обсуждение всех тем этой книги было невозможно безобращения ктем или иным вариантам неклассическихтеорий,так что я не видела смысла в том, чтобыполностью сконцентрировать соответствующий материал вэтой главе. Здесь я рассмотрю постколониальные ифеминистские урбанистические идеи, а затем обращусь клос-анджелесской школе урбанистов, попытавшейся создатьсвою теорию постиндустриального города.
Увидеть аквариум: постколониализм и урбанистика85 Читателю случалось, вероятно, сталкиваться с
проявлениями работы специфического географическоговоображения, которое «западное» и «европейское» делаетценностным цент-86-ром, а все остальное рассматриваеткак заведомо «недотягивающее» и даже «дикое».
86 С начала перестройки нам всем памятен не просторемонт, но «евроремонт».
86 На Урале это проявляется в разнообразных играхвокруг границы Европы и Азии, пролегающей недалеко отЕкатеринбурга: и власти города, и посетителисоответствующего монумента явно тяготеют к «Европе» — сполным пренебрежением к географическим реалиям.
86 Многим приходилось слышать неологизм «Азиопа» —грустный итог общей рефлексии о мере европейскостиРоссии.
86 Знакомая журналистка, проехавшая по Сибири сзапада на восток, рассказывала, что в каждом городе онаслышала одно и то же: «Дальше не ездите, цивилизациякончается здесь!» Кажется, что такого рода стереотипымы впитываем с рождения и ничто их не устранит.
86 Постколониальные авторы считают иначе. Ониполагают, что европоцентристское знание о пространствахи местах более не пригодно. Разделение мира на запад ивосток, на котором основывается западное географическоевоображение, приводит к тому, что характеристикисоответствующим местам даются лишь на основе этойоппозиции.
86 Постколониальные исследования родились в 1970-егоды — на волне активной деколонизации, антивоенных иантиимпериалистических движений.
86 Они включают в себя: 1) обсуждение опыта рабства,миграции, угнетения и сопротивления, различия, расы,гендера, места и их материальных последствий; 2) анализреакции на дискурсы и идеологии имперской Европы(исторический дискурс, антропологический, философский,лингвистический). Они занимаются анализом условий жизнии культуры как в бывших колониях, так и в диаспорах,как условиями жизни людей в рамках колониализма иимпериализма, так и теми условиями, что наступают сконцам колониализма, — и этой парадигме присущепостоянное движение между прошлым и настоящим, ощущениеисторического перехода и фокус на конкретном культурномместе.
87 Главный постколониальный вызов современного мира,возможно, состоит в «обратном» движении в страны-метрополии большого количества мигрантов. Они стремятсяв более развитые страны потому, что там они, кактрудовой ресурс, стоят дороже. Это порождаетзначительные проблемы и для переселенцев, и длясоответствующих городов.
87 Можно ли в принципе всех этих людей продуктивнозанять на новом месте проживания — неизвестно.
87 Ведь нужны гарантии не только устойчивого дохода,но и сохранения идентичности. Сила глобальных процессовпосто колониальны ми мыслителями не оспаривается, номыслится как отказывающая индивиду в определенном местев мировом порядке, природном или культурном.
87 Глобальное и локальное объединяются не какмакрокосм и микрокосм, но конфликтно: каждое разрушаети искажает свою противоположность.
87 Возможность абстрактно принадлежать миру тем самымисключается, а на ее место приходит «шок узнаваниямира-в-доме или дома-в-мире», как выражаетсяамериканский теоретик Хоми Баба.
87 Не случайно, рассуждая о причинах и природеноябрьских событий 2005 года в северо-восточныхпригородах Парижа, итальянский политический философАнтонио Негри вспомнил фильм французского режиссераАбдельла'шфа Кешиша «Умолчание» (L'esquive, 2003)-Старшеклассникам одной из школ бедного арабскогопарижского пригорода учитель предлагает поставить пьесуПьера Карле де Мариво. «Нечаянности любви» французскойкомедии ошибок, входящей в классический канон,переплетаются с драмами отношений подростков,изъясняющихся на жестком сленге и проводящих время вспорах и ссорах. Юные актеры-любители помогают Кешишудостоверно воссоздать повседневность обитателейсоциального жилья, в которой сказываются экономическиеи социальные проблемы, вызванные соединениемпостиндустриализма, перенаселенности мегаполиса игибридных идентичностей второго и третьего поколениймигрантов.
87 Негри подчеркивает, что если вначале подросткиидентифицируются с классической любовной историей,88 то затем, по мере того как сложная любовная динамикаих собственных отношений достигает пика, они бунтуютпротив невинной пьесы, отказываясь ее играть, так какувидели в ней белой буржуазии.
88 Постколониальные исследования, как и culturalstudies вообще, подходят к окружающемуконструктивистски, то есть не верят ни во чтоестественное, стремясь за социальными отношениямиувидеть историю, показать, что дело могло бы обернутьсяи по-другому, что то, что существует, — не вечно, неуниверсально, то есть является результатом конкретных
исторических обстоятельств. Эту группу теоретиковотличает поэтому обостренный антиэссенциалистскийпафос. Существуют ли расовые (классовые и прочие)отличия по природе? Существует ли «природаколонизатора» и «природа угнетенного»? Зафиксировав,что имеет место позиционирование расовых отличий как«природных», в то время как в действительности этиотличия — продукт деятельности социальных сил,постколониальные авторы с подозрением относятся к«естественным» видам и категориям, апелляция к которымможет скрывать оправдание устаревших социальныхинститутов. Последнее может сочетаться и сромантизированным прославлением местных культуры изнания и с нейтральным культурным релятивизмом. Так,американский постколониальный теоретик и феминистГайятри Спивак с возмущением говорит о некоторыхкультурных релятивистах, которые не видят смысла вборьбе против детского труда, считая его частьюместной, скажем бангладешской, культуры.
88 Работающие в этом поле исследователи успешнопроблема- тизируют и самое различие междуколонизаторами и колонизованными. Дело в том, чтоевропейцы и их представления еще были в процессестановления, когда они колонизировали мир. Например,английская буржуазия создала понятие дома на основеидеализации английской капиталистической системы,базирующейся на наемном труде.
88 Буржуазия противопоставляла свой идеал домашности«ужасным» условиям жизни, нравам89 и жилищам как бедных в самой Англии, так и жителейАфрики.
89 Поэтому идея «лома» не была сформулирована дома изатем навязана всему миру. Скорее, средний класссконструировал ее в процессе взаимодействия сколониальным миром и с «другим» миром (бедных) в своейстране. Таким образом, между европейцами и африканцами,средним классом и беднотой, модерностью и колониализмомсуществовали диалектические отношения взаимного
влияния. Миссионеры, заставляющие местных использоватьевропейский архитектурный стиль для строительства своихжилищ, насаждали гегемонию, которая была бы невозможнабез этой сложной диалектики. Власть не просто исходилаот колонизаторов и колонизованные не просто имелинекоторое влияние на колонизаторов, но и те и другиебыли в процессе постоянного взаимного формирования.
89 Раскрывая противоречивость европейского понятиячеловека, постколониальные авторы стремятся не столькоего разрушить, сколько выстроить более гуманистическуюмодель, в которой колонизованные все-таки размещалисьбы на стороне людей. Так, скажем, в Южной Африке люди,живущие на границе Крюгер-парка, были вытеснены с местсвоего проживания из соображений охраны окружающейсреды. Один из постколониальных авторов ироническизаметил на этот счет, что, по-видимому, гиппопотамыоказались более важны, чем люди, по крайней мере бедныелюди.
89 Я приведу в качестве красивой параболы этой новойпознавательной ситуации образ из работыафроамериканской писательницы Тони Моррисон «Играя втемноте: белизна и литературное воображение»[Morrison,1992]. В этой работе речь идет о том, чтоамериканская литературная критика «не до конца»прочитала канонические произведения американскихписателей - от Марка Твена до Хемингуэя — иуниверсализировала именно белизну, представив ее какнорму, вечную и всегда оправданную.
89 С точки зрения Моррисон, позиционируя себя какрасою нейтральную или расово слепую, американскаялитература Не только утратила часть своей жизненности,но и в ито-90-ге оказалась более расистской, чем онахотела бы быть
90 Она показывает, что черная раса является ключевойдля формирования американской идентичности, чтореальное, физическое тело негра, или пусть дажевоображаемое, было тем основанием, на котором (или впротивоположность которому — что чаще имело место)
конструировались типичные черты американскогохарактера: индивидуализм, высокие моральные качества,невинность. Обсуждая воздействие «расы», она переноситакцент с тех, кто пострадал от расистской идеологии, натех, кто занимает привилегированные позиции вамериканском обществе, открыто либо тайно исповедуярасистские взгляды. Соблазн порабощать других вместотого, чтобы разделять с ними свободу, — вот чтоусматривает она в американской литературе и считает,что эту истину надо принять и только это станетисточником будущей силы.
90 Моррисон призывает нас представить следующийобраз: мы смотрим на аквариум и видим мерцаниезолотистых чешуек, зеленый кончик хвоста, белую изнанкужабр, игрушечные замки на дне, завораживающие пузырьки,поднимающиеся на поверхность, и вдруг мы увидели самаквариум — устройство, которое прозрачно и невидимо икоторое позволяет упорядоченной жизни, то есть тому,что внутри него, существовать в большом мире.
90 Аквариум, который увидела Моррисон, — это раса. Впрошлом можно было видеть золотых рыбок — тексты изамки — темы, в число которых не входили расоваяистория и политика Соединенных Штатов. Теперь произошелсдвиг гештальта, стал видимым сам аквариум, ивосприятие всей жизни полностью изменилось. Этопереживание писательницы можно обобщить, использовавего для очень многих оппозиционных, критических теорий,что возникли в последние сорок лет.
90 Увиденным аквариумом могла быть сексуальнаяполитика западной метафизики — мир белых мужчин или,как в работах Эдварда Сайда, ориенталистский дискурс,сквозь который «Запад» рефлексивно создает себя встолкновении с «восточным дру-91-гим».
91 Рожденный Моррисон образ схватывает демистифи-цирующую, денатурализирующую суть таких открытий (аква-риум-то был всегда на месте, просто мы его незамечали), их масштаб (продолжая игру Моррисон, можноспросить: восстановится ли справедливость, если мы в
наш аквариум посадим одну черную рыбку?) и ихполитическую траекторию (смысл не только в том, чтобыописать аквариум, но и в том, чтобы увеличить шансы наего реконструкцию). Подобный сдвиг гештальта произошели в урбанистике — в отношении стран так называемоготретьего мира. Само различение между крупными западнымигородами «первого мира» и городами Африки, Азии иЛатинской Америки, принадлежащими к «третьему миру»,было поставлено под вопрос как предполагающееоднородность и сопоставимость опыта жизни в этихгородах. Исследования разных вариантов сочетанияисторического наследия и современных социально-экономических, политических и культурных обстоятельствпоказали, с одной стороны, что в городах «третьегомира» есть многое, что отличает их от западных городов.Это масштаб и размах неформальной экономики, огромныепо площади трущобы и быстрый рост населения,сочетающийся с медленным ростом экономики. С другойстороны, эти исследования свидетельствуют о том, что входе процессов прошлой и настоящей глобализации междугородами «первого» и «третьего» миров сложилось мно-жество экономических, политических и культурных связей.
91 Американский исследователь Санджой Чакраворти рас-сматривает изменение городского пространства Калькуттысквозь призму некоторых из таких связей [Chakravorty,2005]. В период колониализма город был британскойстолицей Индии. После 1947 года, когда после завоеванияИндией независимости официальной столицей стал Дели, асамым крупным и процветающим городом - Бомбей (Мумбай),Калькутта пришла в упадок. С 1980-х годов политическиереформы облегчили доступ в город зарубежного капитала.
91 Эти перемены в характере связи Индии с мировойэкономикой также отразились в город-92-ском ландшафте.
92 В период колониального господства пространствогорода отражало деление всех людей на колонизаторов иколонизованных, что выражалось в глубочайшейпространственной сегрегации.
92 Сразу после обретения независимости, так сказать впериод раннею постколониального существования Индии, вте части города, где раньше обитали колонизаторы,вселилась местная элита. Наконец, структура города впериод после реформ усложнилась и обновилась. Кпримеру, к «старой!- Калькутте добавилась НоваяКалькутта город на окраине, который облюбовали для себяобладатели новых профессий, крепко стоящие на ногах.
92 Прежние попытки создания новых городов рядом сКалькуттой в соответствии с рекомендациямимеждународных и местных специалистов по «развитию»потерпели фиаско: между камнями мостовых тампробивается трава, а некоторые фонари так никогда и небыли зажжены, потому что люди просто отказались в этигорода перебираться. Новая Калькутта не повторила ихсудьбу, потому что расположена ближе к «старой», чтоделает разрешимыми транспортные проблемы. В то же времяв ней возможно обойтись без застарелых проблеминдийских городов: плохой инфраструктуры, трущоб,бедности.
92 Чакраворти показывает, что история городскоголандшафта не вписывается ни в одну из преобладающихисторий урбанизации.
92 Так, Калькутта не только никогда не была промыш-ленным городом, но и вряд ли им станет: только вобласти компьютерной электроники она можетконкурировать с другими городами на глобальном рынке.
92 На южноазиатском рынке она может занять лишь нишуфармацевтического производства и производстваудобрений, обработки кожи. Исторически город былпоследним прибежищем больших масс сельского населения иостается таковым поныне для примерно 300 млн людей(включая тех, кто живут в Бангладеш), так что маловеро-ятно, что в «старой» Калькутте радикально изменитсяпространственное распределение богатых и бедных.
93 Чакраворти, как и Гайятри Спивак, — индийскиеинтеллектуалы, преподающие в университетах США.
93 Фундаментальной исторической предпосылкойвозникновения массива постколониальных текстов былпереезд ряда интеллектуалов «третьего мира» в столицымира «первого». Политические и культурные возможностибольшого города (его, как правило, прогрессивнаяполитика и бурная культурная жизнь) — все это привело ктому, что в текстах этих авторов именно глобальныйгород - Лондон или Нью-Йорк — метонимически и символи-чески выступает микрокосмом нового деколонизованногомира.
93 Город сам по себе искусственное образование, вкотором сочетаются возможности чувствовать себя членомкакой-то общности и созерцать бесконечное разнообразиелюдей. Поэтому город - идеальный постколониальный«дом»: здесь никто не может претендовать на то, что «порождению» заслуживает здесь находиться. Постколониализмотдает предпочтение, так сказать, безроднымкосмополитам, подчеркивая случайность исконструированность наших отношений с местом.
93 Достаточно ли, однако, для постколониальногоинтеллектуала лишь воспевать свои «беэродность»,гибридность, «изгнание»? Тексты такого рода в изобилиипродолжают производиться, но я сама не раз быласвидетелем того, как публика на международныхконференциях заметно скучает, когда по программедоходит очередь до очередного изгнанника. ГайятриСпивак говорит в этой связи об «элитарном»постколониализме, представители которого разработалистратегию дифференцирования себя от угнетенныхсобратьев по расе посредством того, что говорят от ихимени [см.: Spivak, 1999: 358].
93 Спивак, которую часто приглашают выступать вевропейских университетах, своими выступлениями нередковызывает гнев «подсевшей» на постколониализмевропейской интеллектуальной элиты — и тем, что считаетэто течение в его нынешнем виде фиктивным, и тем, что,вместо того чтобы говорить о своей гибридной индийской
душе, разговаривает с ними о Деррида (благодаря еепереводам с французского с ним познакомился94 англоговорящий мир) и Лакане.
94 Она формулирует термин «постколониальныйинформант», имея в виду многочисленных обитателейамериканских университетов, которые ничего не могутсказать об угнетенных меньшинствах в самихдеколонизованных нациях [см.: Spivak, 1999:360].
94 Но «аура идентификации» с этими далекими объектамиугнетения манит исследователей. В лучшем случае ониидентифицируются с другими расовыми и этническимименьшинствами в городе, где живут, в худшем —пользуются этой аурой и играют роль местногоинформанта, не испорченного западным знанием. Они либопишут повествования о культурной и этнической особостисвоих народов, либо прямо говорят, что их экономическоеи социальное преуспевание — это сопротивлениеколониализму. Спивак разбирает самые разные случаинепрямого участия постколониальных интеллектуалов в«пособничестве» неоколониализму. К примеру, впостколониальной ситуации женщины не представляют собойединого коллектива с общими интересами и нуждами. Онистоль же стратифицированы, как и мужчины. В такомконтексте традиционная гендерная политика не можетзаменить классовую политику.
94 Другой пример если считать, что сегодняшниеразличия в уровне оплаты труда соответствуюттрадиционным различиям в уровне привилегированности,тогда внимание исследователей удобно отвлекается отпроцесса капиталистической эксплуатации на устойчивостьфеодальных традиций, на национальную, культурную,этническую специфику того или другого народа.
94 В действительности же между капитализмом,традициями и разнообразием существует удобный симбиоз.
94 В рамках такого «мультикультурного» капитализмаэксплуатация одного класса другим носит болееопосредованные формы [см.: Cohen, 2000].
94 Культурный труд — приписывание коллективныхсмыслов и персональной идентичности тем материалам,которые для этой цели выбраны (музыке, одежде, телам,мотоциклам, стенам), — сам по себе материальной цен-ности не создает.
94 Он создает знаки аутентичности и авторские95 подписи.
95 Чтобы и то и другое функционировало в качестветовара, их надо пропустить через машину репрезентации.Это то, что делает культурный капитал, это то, чтокультурный капитал собой и представляет. Накопленноезнание (власть) используется для того, чтобы культурныйтруд обменять на деньги с помощью специфических средстврепрезентации. С помощью этого соединения власти(знания) идентичность также превращается в ресурс,который можно продать или по поводу которого можноторговаться. Разнообразие и изобретательность средстврепрезентаций вуалируют социальную суть происходящихпроцессов. Так, Пьер Бурдье и художник Ханс Хаакевпечатляюще показали в работе с ироническим названием«Свободный обмен», каким образом продается культурноеразнообразие [см.: Bourdieu, Haacke, 1995]. Они,правда, говорят главным образом о субкультурномразнообразии, которое используется в ходе производстваодежды, аксессуаров, музыки, связанных с молодежнымистилями. Две стороны состоят в отношениях взаимнойэксплуатации, которая превращает структуры неравенствав секретный пакт.
95 Многие афроамериканские и азиатские интеллектуалыуспешно воспользовались тем, что в культуре, где царятдизайн, информационные и коммуникационные технологии,чрезвычайно востребованы самые разные проявления«фьюжн», гиб- ридности. Так что изобретение традиций и,напротив, культивирование «аутентичных» корнейкомбинируются в разных пропорциях, создавая«постколониальную» интеллектуальную смесь. Многимпредставителям постколониального мира удается вопросырасы и расизма видеть по преимуществу сквозь культурную
призму. Постколониализм интеллектуальный оказываетсясвоеобразным ресурсом освобождения. Никто не ждал этихлюдей в вузах, дизайне, арт-мире или массмедиа. Они«пробились», а понятия диаспоры, гибридности помоглимышление по поведу расы, нации и этничностей освободитьот эссенциализма, сделать эти термины волнующими, чем-то, с чем можно играть.
95 Они позволяли позитивно представить96 процессы внутренней дифференциации, которые имелиместо в городских афроамериканских и азиатскихобщностях второго и третьего поколений. Вместопатологизирующей картины молодых людей, навсегда инепродуктивно застрявших между культурами (которуюрисовала традиционная социология города), сталавозможной позитивная картина смешения влияний, гдеЗапад и Восток встречаются равноправно и где культурныеполитики и сепаратизма и ассимиляциониэма про-блематизируются. Постколониальные термины успешно выра-зили опыт тех, кто поднимался из своих этническихгетто, чтобы занять заметное положение в новоммультикультурном среднем классе. Появление«постколониального города» дало им их изобретенныетрадиции, их собственную воображаемую историю игеографию. Сгущенные, смещенные, кажущиеся равнымипространственно-временные отношения глобалиэованнойкультуры вызвали нешуточные перемены субъективности иповседневности.
Постколониальные исследования и имперские города96 Сложившись как анализ колониального дискурса,
постколониальные исследования распространились втечение последних двадцати лет на такие области, какгеография, архитектура, городское планирование иурбанистика.
96 Это привело к ряду интересных политических,социальных и культурных интерпретаций пространстваколониального города: коллизий между традициямирепрезентации, правовым регулированием, культурными
заимствованиями, коллизий, сопровождавших многолетнеевзаимодействие, к примеру, британцев и индийцев вКалькутте или французов и вьетнамцев в Ханое,
96 Ирония состоит в том, что, хотя постколониальныеисследователи, подчеркивая чрезмерную жесткость инедиале(личность таких противопоставлений, как«культура колонизато-97-ров/культура угнетенных», ипризвали взамен к поиску гибридных культурныхобразований, сам этот поиск осуществлялся более охотнов колониях, нежели в метрополиях.
97 Если изучение взаимовлияния культурных мировколонизованных и колонизаторов вдали от метрополии идетдостаточно интенсивно, то дома, будь это Лондон илиЛиссабон, осуществить его гораздо сложнее — в силу рядаидеологических и психологических причин, главная изкоторых состоит в сложности признания и выраженияпринципиальной «гибридности» западной культуры. ЭдвардСайд в книге «Культура и империализм» (1994) включаетстолицы метрополий в число феноменов, испытавшихвоздействие империализма. Он спрашивает: «Кто в Англииили Франции может провести четкий круг вокругбританского Лондона или французского Парижа, исключаявоздействие Индии и Алжира на два этих имперскихгорода?» [Imperial Cities, 2003: 4]. Динамикавзаимодействия «западного» и «незападного», центра ипериферии, «нас» и «их» в западных городах и их пони-мании составляет сегодня одну из самых волнующихтенденций постколониальных исследований. Но вурбанистике со времени начала рефлексии модерногоиндустриального города «другие* и «другое» либоосмыслялись как один из источников витальности ипривлекательности городов, либо обвинялись в эрозиитрадиционной городской общности.
Европейские столицы долгое время представляли собойвитрину имперских амбиций и завоеваний того или иногогосударства, будь это парадные события или места,предназначенные визуалиэовать могущество империи Приэтом использовалась популярная тогда идея «мира как
выставки»: перед взором любопытствующего европейцаразворачивался имперский образ земного шара, часто онсквозил и в организации пространства того или иногогорода.
97 Европейская столица представляет собой зрелище, вкотором знаки империи переплетены с городскими местами.
97 Так, постер 1932 года компании, обслуживавшейлондонскую подземку, приглашал лондонцев: «Посетиимперию!»
97 Для этого ну-98-жен был лишь билет в метро: доАвстралии можно было добраться через Стрэнд, до Индии —через Олдвич и так далее.
98 Империя и городской ландшафт британской столицытем самым соединялись: «если имперский город был вцентре мира, то империя теперь лежала в центрегородской жизни» [Imperial Cities, 2003: 3], воплощаясьне только в правительственных зданиях и мемориалах, нои в характере коммерции, в космополитическомпотреблении, в историческом разнообразии и гео-графической гетерогенности культуры.
98 Одну из многочисленных форм знания, с помощьюкоторых европейцы в XIX веке установили новый порядокрепрезентации мира, составляли путеводители.
98 По мере того как укреплялось их мировое гос-подство, упрочивался и упомянутый подход к «миру каквыставке», усиливался «выставочный комплекс»,воплощающийся прежде всего в многочисленных всемирныхвыставках, но также в музеях, школах, архитектуре,туризме, моде и повседневной жизни. В результате,например, туристский образ Вены непременно включалэтническое разнообразие ее обитателей - венгерскихцыган, богемских кормилиц, балканских мусульман, евреевиз Галиции и так далее.
98 В основе общественной жизни европейских столиц XIX— первой половины XX века лежало имперскоевоображаемое, расцветшее посредством увеличивающейсясовокупности зданий, мемориалов, а также историй иобразов, ими воплощаемых.
98 Увлечение колониальными товарами и образами,наводненносгь ими викторианских домов и улиц, а такженарастание ценности имперскостн для повседневногоповедения европейцев сочетались с беспокойством поповоду того, что «другие» всё более по-хозяйски велисебя в кварталах европейских городов. Одно дело —глазеть на них как на экспонаты всемирных выставок, адругое дело — понимать, что они собираются обосноватьсяпо соседству с тобой всерьез и надолго.
98 Космополитизм европейских столиц обнаруживалздесь свою ограниченность, а в XX веке, когда началасьусиленная иммиграция из бывших колоний, колониальныерефлексы британцев вспыхнули с новой силой.
98 Одной из причин этого было то, что99 для многих из них деколонизация осталась процессомпринципиально невидимым, происходящим где-то там, вдалиот дома. Когда «чужие» по нарастающей стали селиться вМанчестере и Бирмингеме, воспоминания об империивсколыхнулись, и «фигура белого человека вновь вышла наповерхность — как раз тогда, когда ожидалось ее полноеисчезновение» [Imperial Cities, 2003; 271]. Так чтоодержимость англичан историями имперского прошлогоможет быть прочтена как симптом их неспособностиизгнать из коллективного бессознательного фигуруопасного чужака, от которого они зависят не толькоэкономически, но и культурно: без него не на чем будетосновывать претензии на моральное и расовоепревосходство. У них есть смысл поучитьсябеспристрастному анализу такого рода симптомов.
«Неприятная история легко может произойти с ней»: феминизм и город
99 В знакомом нам нарративе, соединяющем модернизациюи урбанизацию, город мыслится как место свободы отсословных предрассудков, от чересчур тесных и комногому обязывающих социальных связей. Феминистскиеавторы напоминают, что свобода и мобильность в городахдолгое время были прерогативой мужчин [см.: Buck-Moras,
1986]. По мнению Джа- нет Вулф, «переживаниеанонимности в городе, быстротечные внсличностныеконтакты, описанные социальными комментаторами вродеГеорга Зиммеля, возможность свободных от домогательствпрогулки и наблюдения, вначале открытая Бодлером, азатем проанализированная Вальтером Беньямином,составляли всецело мужской опыт» [Wolff, 1990: 58],
99 Чтобы иметь шанс насладиться прогулкой попарижской улице без помех, можно было переодеться вмужское платье.
99 Но такой внутренней свободой обладали лишьнемногие, к100 примеру Жорж Санд.
100 Женщины не появлялись на улицах европейскихгородов в одиночку.
100 Одинокой женской фигуре на улице суждено быловоплощать один из полюсов ценностной оппозиции: падшуюженщину либо добродетельную женщину в беде. Все потому,что это именно мужской взгляд запечатлелся в литературеи живописи, на фотографиях и в моделях восприятия.Мужчины смотрели оценивая, женщины были зрелищем.Только в обществе мужа, служанки, подруги или род-ственницы они долгое время могли наносить визиты.Только в XX веке без ущерба для репутации женщина моглавыпить чашку кофе на террасе уличного кафе. В одиночкуона могла появляться только в определенное время и воговоренных местах, к примеру в больших универсальныхмагазинах — с большим удовольствием для себя и спользой для экономики страны [см.: Wilson, 1992].Другие места, особенно ночью, до сих пор небезопасныдля женщин: многие ли из нас рискнут предпринятьпрогулку в одиночку в четыре утра даже вокруг родногоквартала? Симона де Бовуар, описывая послевоенный Парижи объясняя, ни много ни мало, причину большого числапосредственных авторов среди женщин, пишет «Конечно,сегодня девушка может выходить одна и бродить поТюильри, но я уже говорила о том, как враждебна к нейулица. На нее смотрят, до нее могут дотронуться.
Неприятная история легко может произойти с ней, и когдаона бесцельно и бездумно ходит по улицам, и когда она,сев на террасе кафе, закуривает сигарету, и когда онаодна идет в кино. Ее одежда и поведение должны внушатьуважение. Мысль об этом "приземляет" ее, не дает забытьни об окружающем мире, ни о себе самой» [Бовуар, 1997:790].
100 Для продуктивного анализа гендерных отношений вгороде важно не терять из виду единство материального,социального и символического измерений городской жизни.
100 Город и гендер пересекаются, создавая непохожиесочетания возможностей и эакрепощенности для разныхгрупп мужчин и женщин.
100 Городские места, в которых воплощены доминирующие101 социальные отношения, либо позволяют, либопрепятствуют нам увидеть, где именно в социальномпространстве мы помещаемся.
// ЭЙДЖИЗМ (англ. ageism) - негативный стереотип в отношении людей к.-л. возрастной категории, но чаще всего подразумевается стереотип пожилого возраста.
101 Более того, то, как мы смотрим на самих себя, насвое тело, на свою наружность, выражение лица, и то,как мы ощущаем себя (на месте или нет), определяетсяэтими пространствами. Их неотъемлемые характеристики:сексизм, расизм и эйджизм.
101 В торговом центре с кинозалом и многочисленнымибутиками маркетологи, проводящие экспресс-опроспублики, останавливают прежде всего девушек. Девушки —излюбленная цель тех, кто продвигает новые товары. Наних многие любят смотреть. Девушки это знают и намногое готовы, чтобы на них смотрели еще внимательнее.Некоторые из этих внимательных взглядов не лишеныразного рода корысти: от надежды на мимолетноеприключение до бог ведает чего. При этом смуглуюдевушку с раскосыми глазами в синем комбинезонемаркетологи, скорее всего, не остановят. На нее не
засмотрятся мужчины, Она в этом центре работает«оператором поломоечной машины». Ее видят только в этомкачестве.
101 Пенсионерке удивятся в кофейне. 101 По этой причине я люблю нежной любовью венские
кофейни, где пожилых дам — великое множество. В мехах ис собачками, они смакуют пирожные, разглядываютпосетителей и неспешно часами беседуют. В такихкофейнях проводят часы, а то и дни безработныегуманитарии (и «гуманитарии», каких больше): под рукойгазеты и никто не надоедает классически «нашим»вопросом: «Еще что-нибудь закажете?», давая понять,сколь мало от тебя здесь проку. Но пожилые хорошоодетые дамы — обитательницы центра Вены или ее богатыхпредместий. Состарившиеся на этнических окраинаххорватки и турчанки пьют кофе у себя на кухне.
101 Упомянутые «измы» — функция преобладающих вгороде мест, которые позволяют или не позволяютиндивиду, так сказать, обладать именно этим телом инаходиться именно в этом публичном месте.
101 Сексизм, в частности, проявляется в том, что иво взгляде на свое тело, и в ощущении себя в публичномместе женщина не свободна от оценивающего (иной авторска-102-зал бы «колонизующего») взгляда «другого».
102 Сходными ощущениями отмечен и расизм. 102 Франц Фанон говорил, что страдающий от расизма
человек находится в мире, где нет пространства, котороеон бы мог считать своим: во всех заправляют люди высшейрасы.
102 То, что Жиль Валентайн называет «географиейженского страха» \Valentme, 1989], пересекается сгеографией опасности.
102 Феминистские авторы не случайно обращаюткритическое внимание на дизайн конкретных мест вгороде, на недостаточное освещение или многоэтажныепарковки как проявления нечувствительности кспецифическим опасностям, которые подстерегают женщин.
102 Однако ирония состоит в том, что если страхвызывают ночные улицы, то опасность физического насилияадет некоторых женщин и дома. В то же время город нетолько предписывает и закрепляет гендерные роли, но ипозволяет их «нарушать». Для скольких женщин, которымне очень повезло с семьей, возможность заниматьсяwindow- shopping'ом или просто не спешить домой послеработы — настоящая отдушина. С тем большей оторопью мычитаем работы турецких и иных жительниц мусульманскихгородов, движение которых по городу регламентируетсянастолько, что препятствует и дополнительномузаработку, и возможности ощущать себя современной.
102 Изучение того, как накладываются друг на другаклассовые и гендерные различия, ведется вместе спереосмыслением границ между приватной и публичнойсферами. Публичность и интимность, общественное ичастное, публичное и приватное взаимозависимы,составляют бинарную оппозицию.
102 С возникновением государственных институтовмодерносги и становлением капиталистической экономикитермин «приватное» стал относиться к широкому кругуфеноменов: во-первых, к домашнему хозяйству; во-вторых,к экономическому порядку рыночного производства,обмена, распределения и потребления; в-третьих, к сферегражданских, культурных, научных, художественныхассоциаций, функционирующих в рамках граж-103-данскогообщества.
103 Женщины и женский опыт помещались на сторонеприватного.
103 В последние три десятилетия этот раскладподвергся серьезной критике со стороны феминистскихавторов. Если в начале речь по преимуществу шла орасширении участия женщин в жизни публичной сферы, товпоследствии внимание исследователей переключилось назащиту privacy в условиях роста государственной инегосударственной бюрократии в современных обществах.
103 Приватное определяется как те аспекты жизни идеятельности, куда личность имеет право не допускать
других, то есть не то, что исключают публичныеинституты, но то, что сама личность предпочитаетдержать подальше от публичного внимания.
103 Возвращаясь к соединению классовых и гендерныхотношений, важно иметь в виду, что это классовыеотношения традиционно мыслятся как включенные впубличную сферу, будь это рынок труда, политика илимассмедиа. Они редко фигурируют как значимый моментличных отношений. Напротив, гендерные отношения частомыслятся как принадлежащие приватной сфере, ибо онистроятся не только на эксплуатации, но и на чувствах.
103 Теоретическое различение подкрепляетсяпространственным.
103 Поэтому возникает задача демонстрации того, какв различных местах, начиная от отдельных социальныхинститутов и кончая рынком труда в целом, класс игендер тесно переплетены [см.: Baxter, Western, 2001,Hanson, Pratt, 1995].
103 Гендерные различия пересекаются в городах сдругими проявлениями социальной дифференциации идругими вариантами идентичности — вот на чем настаивалифеминистские критики традиционной урбанистики.
103 В последней жизнь и интересы женщин, заявлялиони, оставались невидимыми или искаженными.
103 Гендерные отношения — значимый элемент общего,базирующегося на неравенстве структурирования го-родского пространства наряду с классом, расой,этничностью, возрастом и так далее.
103 Городские ландшафты — это продукт патриархальныхгендерных отношений — вот главная идея той линиифеминистских исследований, что своим предметом104 сделали города.
104 Города воплощают нужды мужчин уже тем, как в нихпривычно воспроизводится деление на публичное (про-странства экономики и коммерции) и приватное (дома ипространства потребления).
104 Так, эволюция пригородов, с их частоотсутствующим общественным транспортом и недостатком
сервиса, рассматривается как воплощение традиционныхдопущений о гендерной специфике использования простран-ства и мужских и женских социальных ролях. Однифеминисты подчеркивают, что города сделаны мужчинами,которые преобладают среди планировщиков, архитекторов,политиков [см.: Roberts, 1991].
104 Другие рассматривают упорство, с каким в дизайнегородов воспроизводятся стереотипные взгляды нагендерные роли, от чего страдают прежде всего женщины[см.: Tivers, 1985]. Третьи предлагают альтернативноефеминистское видение городов, включающее проектыдизайна городов и домов, отвечающее на вопрос, какиммог бы быть «несексистский» город [см.-.Hoyden, 1980;1994;Sandercock, Forsyth, 1992].
104 Четвертые демонстрируют, что периодкапиталистической реструктуризации ускорил разрушениестарого гендерного порядка: современные города не могутбыть поняты без учета изменений в гендерном разделениитруда и в структуре домашнего хозяйства [см.: McDowell,1991].
104 Старый гендерный порядок, основанный на моделиодного зарабатывающего в семье, с 1970-х годов уступаетместо целому спектру социальных новшеств. Карьерныетраектории многих женщин беспрецедентны по своейстремительности, В то же время множество женщинобречены на низкооплачиваемую работу и социальнуюмаргинализацию.
104 Гендерные трансформации профессий, да и просторост числа занятых в экономике женщин, впостфордистскую эру отражаются на идентичностях горожани особенно горожанок.
104 Так, деиндустриализация обрекает пожилых и несклонных к переезду мужчин с устаревшими профессиями набезработицу.
104 Возможность финансовой независимости в жизнимногих женщин сочетается со «стеклянным потолком», тоесть продолжающейся половой сегрегацией рынка труда.
105 Какие же новые гендерные идентичности формируютсяв городе?
105 По мнению Анджелы Макроби, «не определяемые болеекак чьи-то жены, дочери или подруги, женщины, и в осо-бенности молодые, освободились для соревнования друг сдругом, подчас безжалостного» [см.: McRobbie,2004:100].
105 Феминистские географы изучают феминизациюэкономики и ее воздействие на мужчин и женщин, вчастности связь между постфордисгскими экономическимиотношениями и гендерными идентичностями.
105 Кто выигрывает и кто проигрывает на сегодняшнемвитке накопления капитала? Положение, которое мужчины иженщины занимают в рамках очень неравномерногораспределения экономических возможностей, связано сгендерным разделением продуктивной и репродуктивнойсфер, что включает проблемы домашней работы, разделениямежду работой и домом.
105 Феминисты немало сделали, чтобы работой считаласьне только та, что предполагает полную занятость иотсутствие работника дома.
105 Материальные аспекты занятости тесно связаны сдругими сторонами городской культуры. Трудовыеотношения, гендерные идентичности, стили жизни игородское пространство и его смыслы для обитателейсоздаются одновременно. Одним из фокусовурбанистического теоретизирования является сексуальнаяжизнь горожан, а именно: 1) разнообразные связи междуплотской тоской, желанием, идентичностью и материальнойсредой; 2) изменение сексуальных нравов и условностей.Так, в рамках проекта по исследованию трансформацийсексуальности в России, осуществленного Гендернойпрограммой факультета политических и социальных наукЕвропейского университета в Санкт-Петербурге [см.: Впоисках сексуальности, 2002], Екатериной Пушкаревойбыли реконструированы сексуальные отношения вподростковой тусовке городской окраины [Пушкарева,2002], а Юлией Белозеровой — динамика взаимодействия
беременной женщины и ее социального окружения,образованного как повседневными взаимодействиями(мужчины в автобусе), так и социальными институтами(женские консультации) [Белозерова, 2002].
105 Елена Омель-106-ченко в ряде публикаций описалакультурные пространства — «культурные молодежныесцены», используемые ульяновской молодежью длявыражения своей идентичности и включающие какконкретные городские места (клубы, дискотеки, дворы,торговые центры), так и культурно-географические(столица, провинция, Россия, Запад), субкультурные истилевые [см.: Омелъченко, 2000; 2002].
106 «Город, который американцы любят ненавидеть» и лос-анджелесская школа
106 Лос-Анджелес — «это единственный город на земле,где все места видны под любым утлом, очертания каждогоясны, никакой путаницы, никакого смешения», — пишетамериканский урбанист и географ Эд Соджа [см.: Soja,1989: 191].
106 Социальный комментатор, урбанист, историк иполитический активист Майк Дэвис позволяет себе болеепарадоксальную оценку (она вынесена в название этогопараграфа). Апологетика национальной исключительностинами обычно на тех или иных основаниях порицается.
106 Как быть с апологетикой городскойисключительности, не совсем ясно. Лос-анджелесскаяшкола урбанистики в этом отношении представляет се-рьезный интерес.
106 С начала XX века в описаниях Лос-Анджелесаподчеркивается, что это не совсем обычный город:образование и развитие в нем самых разнообразныхиммигрантских сообществ, а также его распыленностьпобуждали урбанистов судить о нем скорее исходя из негосамого, нежели сравнивая его с другими городами.
106 Этой тенденции отстаивать исключительность Лос-Анджелеса был придан теоретический лоск в 1980-1990-е
годы группой южнокалифорнийских урбанистов —представителями лос-анджелесской школы.
106 Они сочли, что Лос-Анджелес не просто необычныйгород но что в своем развитии он опережает другиеамериканские города, что его ди-107-намика «эмблематична» или «симптоматична» для всего севе-роамериканского континента.
107 Два эпизода особенно значимы для истории школы:тематический выпуск «Пространство и общество» журнала«Окружающая среда и планирование» (1986 год),посвященный Лос- Анджелесу, и встреча на озереЭрроухэд. Выпуск прославился предсказанием членов школыАлена Скотта и Эда Соджи, что если Париж был столицейXIX столетия, то Лос-Анджелес будут считать столицей XXвека и что интерес к нему таков, что скоро этот городпо объему написанного о нем превзойдет Чикаго. «Ненайти лучшего места для изучения динамики капи-талистического опространствливания», — писал в этом жевыпуске Эд Соджа [см.: Sqja, 1986; 1989: 191].
107 Осенью 1987 года девять членов школы (ипримкнувшие к ним) собрались на выходные на озереЭрроухэд в горах Сан- Бернардино. В ходе дискуссий ониукрепились в убеждении, что Лос-Анджелес —архетипический город конца XX века, «один из самыхинформативных палимпсестов и парадигм развития в XXвеке городов и массового сознания» [Idem, 1989: 248].
107 Как написал позднее Майк Дэвис: «Я достаточнонеосторожен, чтобы говорить о "лос-анджелесской школе".В строгом смысле слова, я включаю сюда примернодвадцать представителей новой волны марксистскихгеографов, или, как выражается один мой друг,"политэкономов в скафандрах", хотя некоторые из нас —неортодоксальные городские социологи или (как и я)неудавшиеся городские историки. "Школа" базируется,конечно, в Лос-Анджелесе, в Калифорнийском университетеи в университете Южной Калифорнии, но некоторые ее чле-ны живут в Риверсайде, Сан-Бернандино, Санта-Барбаре идаже во Франкфурте» [Davis, 1989: 9].
107 Дэвис признается, что сравнение их коллектива счикагской и даже с франкфуртской школами привело лишь квыводу о том, что связи членов их школы куда болееслабые и столь же «децентрализованные», что и город,который они пытаются108-109 объяснить.
108 Образец постмодернистской архитектуры Лос-Анджелеса —развлекательный центр Уолта Диснея (архитектор Фрэнк Гари)
109 В центре их общего проекта — понятие реструкту-ризации и то, как процессы реструктуризации происходятна разных уровнях анализа — от городского района доглобальных рынков, или «мировых режимов накопления»(термин Дэвиса).
109 Как мы знаем из социологии науки, каждаяследующая парадигма тогда получает шанс насуществование, когда она предпринимает усилия подемонстрации ее принципиального отличия от предыдущей.Авторы из Лос-Анджелеса здесь не исключение, вособенности Эд Соджа, который ставит под вопрос всюпредшествующую теоретическую традицию. Главный векторэтой проблематизации — отношения города и территорииили региона. Вот только один пример. Авторы чикагскойшколы описывали типичные для индустриального обществаклассические формы развития городов, такие как аг-ломерации (для которых характерна синонимичность поня-тий города и центра региона), говоря о том, что город
есть лишь ядро более широкой зоны деятельности, изкоторой он извлекает ресурсы и на которуюраспространяется его влияние.
109 Соджа убежден, что к концу XX столетия такиеформы себя полностью исчерпали. Апеллируя к случаю Лос-Анджелеса, он настаивает, что о городе как центререгиона говорить бессмысленно, ибо специфическиесоциальные, экономические и политические процессыпривели к тому, что «центров» данной территории много.В то же время символическое значение города выросло.Каждое место, по крайней мере символически, претендуетна то, чтобы быть городом, а процесс урбанизации«осязаемо прерывист и неупорядочен» [Sqja, 2000: 397].Поэтому разрыв в развитии урбанистической теории,фиксируемый лос-анджелссскими теоретиками, вызваннеспособностью традиционных моделей объяснить феноменэтой школы. В чем же он состоит?
109 В период массового фордистского промышленногоразвития парадигмой города, повторим, стал центральнорасполо-110-женный город, окруженный менее политическии экономически значимой территорией, откуда черпалисьразного рода ресурсы.
110 Специфика Лос-Анджелеса заключалась в том, чтоего промышленное развитие свидетельствовало о неразрыв-ности города и территории, точнее говоря штата —богатейшего в США, что в свою очередь объясняетсястратегическим расположением Калифорнии на берегуТихого океана, высокой концентрацией хайтек имедиаиндустрии, тесно связанной с университетскойнаукой и многонациональным населением.
110 Иными словами, развитие региона и развитиесобственно города оказались здесь сплетенными сильнее,чем где-то еще. Добавим к этому, что главным способомсамоопределения людей, живущих в этой части Штатов,стал специфически калифорнийский стиль жизни, вобравшийв себя открытость нетрадиционным религиям и идеологиям,неформальность, нацеленность на радости жизни
(подкрепляемую мягким климатом), соединенный с мощнойкультурной индустрией.
110 Здесь набирало силу движение за гражданские правав 1960-е годы и в защиту окружающей среды в 1970-е,отсюда начали победное шествие персональный компьютер в1980-е и Интернет в 1990-е.
110 Но здесь имели место и самые впечатляющиегородские беспорядки, начиная с бунтов, инициированных«черными пантерами» в 1960-е, до периодически проис-ходящих столкновений этнических меньшинств с полицией.Одной из причин волнений был характер городского пла-нирования: оно с начала XX века было нацелено на макси-мальное коммерческое использование городских зон,расположенных друг от друга на значительном расстоянии.Рост пригородов сопровождался делением их наизолированные сообщества, образованные по этническому иклассовому признаку,
110 Строительство хайвеев и критерии, по которымгородские власти выделяли гражданам земли подзастройку, усугубляли пространственную сегрегацию.
Две самые известные школы урбанистов: попытка сопоставления
111 Эти и другие процессы, вызвавшие беспрецедентноеразрастание города вширь и его социальную иполитическую фрагментацию, нашли отражение и влитературе по истории города, и в текстах более общегохарактера (выполненных в ключе социальной теории ифилософии). Знакомство с последними позволяет выстроить(заведомо неполную) сравнительную характеристикучикагской и лос-анджелесской школ.
111 Во-первых, если чикагцы строили своюисследовательскую стратегию на постулатемоноцентричности города, то лос-анджелесские теоретикивидят в своем городе модель полицентрического развития.
111 Во-вторых, если для первых принципиальным былцентр, то для вторых — периферия. В-третьих, если впервом случае исповедовалась идеология объективного
научного исследования, заведомо превосходящего поглубине проникновения в предмет случайные наблюдения иопыт самих горожан, то во втором исследователи отнюдьне претендуют на то, чтобы «побивать» объективностью иглубиной своих изысканий какие-то другие наблюдения. В-четвертых, если чикагцы интересовались материальным,социальным и измеримым, то лос-анджелесские теоретикистроят свой анализ на тезисе о том, что социальное иполитическое воображаемое по нарастающей становитсяматериальной силой, воплощаясь в новых городскихпроектах. В-пятых, если чикагцы были достаточноравнодушны к действиям власти, то у теоретиков из Лос-Анджелеса, особенно у Майка Дэвиса, ее действия частостановятся центром анализа.
111 B-шестых, если в текстах первых поэтика«насыщенных» описаний нечасто (и нерефлексивно)проникала в социологические по характеру штудии, то втекстах вторых (и Дэвис здесь безусловный лидер)журналистский репортаж с места события сочетается снеспешным анализом художественной литературы, экскурсыв основы урбанистики112 сменяются непримиримой политической полемикой, асфокусированность на городских процессах время отвремени уступает место захватывающим дух картинамземных геологических сил и географических тенденций.
112 В-седьмых, если чикагцы рисовали портретклассического индустриального города, то акцент лос-анджелесских теоретиков на реструктурировании вызвал ихинтерес к деиндустриализации и реиндустриализациигородов, в частности к росту индустрии развлечений.
112 В-восьмых, если чикагцы следовали схеме линейнойэволюции, то теоретики из Лос-Анджелеса выступают впользу нелинейного видения развития города,представляющего собой своеобразное поле возможностей, вкотором развитие одной части в результатекапиталовложений никак не связано и никак не отражаетсяна развитии какой-то другой части.
112 Не случайно Майкл Диэ и Стивен Фласги [см.-.Dear, Flusty, 2001; 2002] — также члены лос-анджелесской школы - с энтузиазмом позиционируютчикагцев как школу мысли, воплотившую установкимодерности, а лос-анджелесскую школу — как постмодер-нистскую.
112 Однако, сколь бы настойчиво идея о принципиальныхразличиях двух главных школ урбанистики ни проводилась,достаточно очевидными являются и моментыпреемственности между ними. Понятно, что в случаеЧикаго традиционная структура города (с деловымцентром) делала видение, базирующееся на«концентрических зонах» (я имею в виду диаграммуБерджеса), неизбежным. Однако увлеченность лос-андже-лесских авторов «д еце нтриров а нн ы м» видением,постоянное подчеркивание ими, что в Лос-Анджелесе ниодна культура или сектор промышленности не лидирует,что Лос-Анджелес — город меньшинств (при отсутствиикакого бы то ни было доминирующего сообщества), кажутсячрезмерными.
112 Лос-анджелесские авторы оспаривают тезисчикагцев, что влияние всегда идет из «центра», изгорода, но если «центр» мыслить диалектически, то роль,которую ведущие корпорации играют сегодня вреорганизации пространства этого и других городов,113 функционально совпадает с той, что издавнаотводилась «центру».
113 Кроме того, преемственность проявляется в том,что некоторые ключевые понятия авторов лос-анджелесскойшколы - те же, что использовались чикагцами. Так, Соджав уже цитированной статье для тематического выпуска«Пространство и общество» описывает Лос-Анджелес как«упорядоченный мир, в котором микро- и макро-,идеографическое и номотетическое, конкретное иабстрактное можно увидеть в выраженном и интерактивномсочетании».
113 Само словосочетание, которое он здесьиспользует, — «упорядоченный мир» — восходит к видению
города Парком и Берджесом как, во-первых, целостногосоциального мира — средоточия процессов цивилизации;во-вторых, мира, организованного на основе понятиясоциального порядка.
113 В-третьих, в основу своей книги «Экологиястраха» (199В) Майк Дэвис, по сути, кладет «самуюзнаменитую диаграмму в социальной науке» [Smith, 1988:28] — диаграмму концентрических зон использованиягородской земли Берджеса и пытается с ее помощьюпредставить будущую географию Южной Калифорнии (см.:Davis, 1998: 393, 397—398]. Рост антидемократическихнастроений, вызванный всеобщей озабоченностьюбезопасностью, приводит к усилению наружного наблюденияв центре Лос-Анджелеса, увеличению численностиохранников и частных охранных агентств, строгой охранев школах сокращению социальных программ,сопровождающемуся резким увеличением расходов на тюрь-мы, программы «нулевой толерантности», — все это, помнению Дэвиса, свидетельствует о готовности белыхкалифор- нийцев пожертвовать гражданскими свободами из-за страха, который они постоянно испытывают. ГЬродисчезает в безграничности пригородов, его ландшафтмилитаризуется. Его ядро превращается в «зоны страха»,в которых обитают торговцы наркотиками, проститутки,бездомные.
113 Этот опасный бункер, как ватой, обит кольцамиареалов (это метафоры Дэвиса), жители которых болеевсего боятся социальной заразы, а потому добровольнозаключают себя в подобие современных анкла-114-115-вов.
114 Диаграмма М. Дэвиса115 Схема Берджеса, напомню, отражала воплощение в
пространстве города социальной иерархии: в зависимостиот дохода и социального статуса, а также длительностипребывания в Америке люди селились в трущобах, вэтнических анклавах, отелях, квартирах и домах. Вцентре пространства Лос-Анджелеса, по версии Дэвиса, —безработные, чреватый насилием «даунтаун», по соседству— рабочие пригороды, где сообщество объединилось втотальном надзоре друг за другом, предотвращаяпреступность, в отдалении — процветающие «сообщества заворотами» и, наконец, на самой периферии — кольцо«гулага», как любят выражаться американские авторы, —многочисленные калифорнийские тюрьмы [см.: Davis, 1998:363— 365].
Урбанистический милленаризм Майка Дэвиса115 «Нам не нужен Деррида, чтобы знать, откуда дует
ветер или почему тает пакет со льдом», - полемическивосклицает Майк Дэвис, раздраженный тем, что для егоколлег-теоретиков постмодернистская французскаяфилософия — последнее слово истины, заслоняющеенеотложные проблемы социальной поляризации. Однакоизбранный им интеллектуальный стиль включает в себядемонстрацию внутренних механизмов функционирования
популярных мифов о Лос-Анджелесе, иначе говорястратегию деконструкции доминирующих дискурсов.Объясняя замысел своего первого бестселлера, онговорит: «Для понимания Лос-Анджелеса не быловсеобъемлющей рамки, поскольку истории города пишутся,как правило, односторонне: с акцентом на экономике,политике или архитектуре. Моя книга была попыткой болеецелостной и более радикальной критики места. Ярассмотрел, как образ города — земли вечного лета ибесконечных возможностей - стал ключевым в его продажеи покупке» [Цит. по: Но, 1999].
116 Дэвис подробно рассмотрел, каким образомгруппировки бизнесменов и ассоциации домовладельцевпреображают город в соответствии со своими интересами ипри поддержке городского департамента полиции,вытесняющего с привычных мест обитания и подавляющегобездомных, бедных и представителей этническихменьшинств. Через два года после того, как книга вышлав свет, новый всплеск расовых волнений подтвердилсвоеобразную правоту его описаний Лос-Анджелеса как«города карцеров», чреватого потрясениями,
116 Лос-Анджелес рассматривается Дэвисом в «Городекварца» (1992) и как физическое, и как воображаемоеместо, в котором игра национальных и международныхполитических сил и экономических тенденций происходитна фоне специфических для этого города расовых иклассовых отношений. Воображаемое включается в эту игручерез многочисленные конкурирующие мифологии, эрзац-истории, в которые город словно прячется сам от себя.Так, Дэвис останавливается на феномене «нуар», имея ввиду не столько любимый нами жанр, сколько деятелейкультурной индустрии, тяготеющих к беспросветнымизображениям города в литературе и кинематографе.Отделенные от местных жителей «миниатюрным обществом»навязанного им самим себе культурного гетто [см.:Davis, 1992:47], «веймарские изгнанники» (Дэвис имеет ввиду волны эмиграции европейских культурных деятелей,приведшие в Голливуд к примеру, Бертольта Брехта) так и
не пришли к тому, чтобы начать с симпатией относиться кгороду и его обитателям. Этот недостаток сочувственноговоображения в сочетании с их повышенной креативностьюпривел к тому, что именно негативное в изображенияхЛос-Анджелеса стало доминировать в популярномвоображении. Идея о том, что именно европейцыспровоцировали рост «чернухи» о городе, не лишенапредвзятости, Джон Стейнбек, Раймонд Чандлер или ДжоанДидион — «местные» авторы, но от их внимания неукрылись ни размах политической коррупции, ни расизм,ни капризы погоды, ни насилие, ни сексуальные скандалы.
117 Дэвису, однако, более интересно то, что чащевсего эти мифологии — порождение власти, поэтому вразвитии города они получают материальное воплощение,закрепляя существующие привилегии. Лос-Анджелес каклаборатория будущего — это один из последних мифов, враспространении которого немалую роль сыграли самиурбанисты. Деконструируешь ты эти мифы илиспособствуешь их «гламуризации», создавая тексты огороде? Создаешь ты лишь впечатляющий перечень «родимыхпятен» позднего капитализма или пытаешься соединитьрадикальную критику происходящего с альтернативными ур-банистическими моделями?
Деконструкция мифов не станет для тебя самоцелью, де-монстрирует Дэвис, если ты не забываешь, во-первых, овласти, во-вторых, об опыте обитателей города, в-третьих, о судьбе альтернативных проектов, в-четвертых,если у тебя хватит терпения, проницательности илитературного мастерства показать, каким именно образомгородское пространство распределялось между властнымигруппировками. Опираясь в значительной мерс наматериалы «Лос-Анджелес тайме» за несколькодесятилетий, Дэвис прослеживает, откуда приходилиденьги, на которые город строился в XX веке, ирассказывает весьма поучительную историю о том, какпервые городские бизнес-кланы искусно добились того,чтобы федеральное правительство оплатило работы поусовершенствованию городской инфраструктуры. В итоге —
парадокс; белая протестантская бизнес-элита даунтауна,знаменитая своим консерватизмом и антисемитизмом,расизмом и равнодушием к нуждам рабочих, добиваетсятого, что в городе возводится крупнейший в мире порт иэффективно работающая система водоснабжения. Затем насцену выходит другая группировка элиты, пространственнососредоточенная в Вест-сайде, в Голливуде, либерал ьно-демократии ее кая и по преимуществу еврейская,которая наладила отношения с профсоюзами рабочих и вцелом выступала за более просвещенный капитализм.
117 На несколько десятилетий «дарвинистские войны заместо» между118 даунтауном и Вест-сайдом определяли жизнь города,пока не возник третий узел интересов, вызванный опятьже федеральным стимулированием оборонной промышленностив годы холодной войны. Читателя с советским прошлым, вгабитус которого прочно встроено стремлениевоздерживаться от публичного высказывания каких бы тони было суждений относительно отечественного военно-промышленного комплекса, особенно поражает свобода, скакой Дэвис оценивает слова и дела американского ВПК(чему также посвящено немало страниц в его недавнейкниге «Мертвые города»). «Бесшовный континуумкорпорации, лаборатории и учебной аудитории», Кали-форнийский технологический институт в Пасадене,руководство которого обладало особым талантом совмещать«физику и плутократию», соединив усилия с такимигигантами, как «Аэроджет дженерал», лег в основуиндустрии, осваивавшей в год по 20 млн долларовфедеральных денег и скоро обогнавшей Голливуд повлиянию и богатству. Калифорния нашла свою золотуюжилу, и, покуда военные нужды будут определятьсуществование государства, за ее благополучие можно небеспокоиться. На фоне этой счастливо обретеннойэкономической «идентичности», показывает Дэвис,конфликты между группировками элиты на долгое времяутратили почву. Затем на сцену выходит японскийкапитал, и, по мере того как город фрагментируется,
попытки элиты оставаться в рамках прочных коалицийстановятся все менее удачными. Суля выгоды, торгуясь,обманывая, разобщенная элита все же сохраняет за собойучастки власти.
118 Дэвис непримиримо показывает, как региональнаяэлита, все сильнее связанная с национальной имеждународной, через операции на рынке недвижимости испекуляцию землей во имя «развития» получаствозможность разрушать и возводить, оставляя в городевидимые следы своих притязаний.
118 Регуляция поступления в город воды и «эксцессы»вооруженной полиции, регуляция оборонной и хай-тек-индустрии властями штата и государства, приватизацияпубличных пространств, вытесне-119-ние бедных изкварталов, где они традиционно обитали, — Дэвискасается этих и других проблем, задав как минимум надесятилетие превалирующую стилистику описания трансфор-маций современных городов по типу «что еще плохогопроисходит и может произойти».
119 Мертвые зоны города — это зоны обитаниямаргиналов, и власти предпринимают одну попытку задругой удержать «отверженных» в этих зонах, тем самымзакрепляя образ Лос-Анджелеса как постлиберальногогорода, в котором тщательно охраняются (ипространственно закрепляются) привилегии белых исостоятельных.
119 Город, который некогда мыслился как кейнсианскоепространство, в котором доступ к благам открыт длявсех, оставил позади либеральные и радикальные проекты,отделяя — архитектурно, пространственно, социально —чистых от нечистых.
119 Безопасность, чистый воздух, пространство, время— приватизированы и огорожены. Есть что-тосредневековое в тех картинах, что рисует Дэвис: замкибелых и богатых, окруженные трущобами бедных.
119 Пространство исключения, которое, однако, готовопродать нескольких жертв на постмодернистском базареэкзотики.
Город джентрифицируется и деиндустриализуетея, такчто бывшие рабочие городки и кварталы вроде Фонтаныобречены на запустение. Дэвис подробно их описывает:это память о другом, возможном городе, об историческойальтернативе «раю обладания», Дэвис не собираетсяромантизировать это альтернативное воображение, нопоказывает, что те, кто спирает следы другого прошлогоЛос-Анджелеса, рискуют поплатиться за свое высокомерие.
119 Смерть и упадок, реальные и символические, былиописаны им в «Мертвых городах» [см.: Davis, 2002].Дэвис рисует образ города как хрупкого и временногочеловеческого создания, которому постоянно угрожаютприродные и социальные катастрофы.
119 Силы небесные и геологические создают фон для ис-тории городов, которую прослеживает Дэвис, доводя ее досоциальных катастроф XX века и показывая, сколь многоев истории последнего столетия было направлено скорее нараз-120-рушение городов.
120 Изменения в социальном воображении и восприятиигородов, вызванные 11 сентября 2001 года, оттеснили навторой план «бустеризм» и «триумфализм»,
120 Гордость, которую вызывали города как символэкономического процветания, осталась в прошлом, аапокалипсические картины происходящего и будущего,которые с мастерством подлинного писателя рисует Дэвис,нацелены на то, чтобы осмыслить город не как вечныйспутник, смысл и средоточие человеческой цивилизации, акак что-то, что может исчезнуть куда быстрее, чем людямкажется.
120 Дэвис иллюстрирует эту идею малоизвестнымиэпизодами истории «неонового Запада» (так называетсяпервая часть его книги), когда американские нефтяныекорпорации и Голливуд были мобилизованы для помощивоенным частям, связанным с химическим оружием. Городавроде Джермантауна, в которых были тщательно воссозданыинтерьеры типичных немецких и японских квартир, былиспециально построены в 1943 году в пустыне Юты дляэкспериментов с применением напалма во время
бомбардировок, чтобы добиться максимального поражения.Они трижды разрушались и воссоздавались заново, покарезультаты не удовлетворили военных [см.-.Davis, 2002:66—69]. Эксперименты с напалмом не прошли напрасно: 2тыс, тонн напалма было сброшено на Азакуса — рабочийрайон в Токио [см.: Ibid.: 79—80]. Погибли 100 тыс.человек, эти данные долго держали в секрете, а когдаобнародовали, то они не вызвали ажиотажа. Некотороевремя спустя гражданское население Хиросимы и Нагасакистало мишенью ядерной бомбардировки.
120 Дэвис считает, что эксперименты военных обреклицелые регионы на то, чтобы стать «национальными зонами,принесенными в жертву». Это прежде всего юго-запад США.1059 взрывов было произведено между 1945 и 1992 годами,подавляющее большинство которых - на полигоне в пустынеНевады.
120 Каждое облако — будь оно результатом подземногоили атмосферного взрыва — содержало, считает он, большерадиации, чем то, которое поднялось над Чернобылем в121 1986 году.
121 Комиссия по атомной энергии выбирала для взрывовдни, когда ветер дул от Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса:маленькие города и деревни считались менее значимымфактором.
121 Когда по приказу Черчилля велись ковровыебомбардировки немецких городов, британский премьернадеялся, что уцелевшие гражданские жители поднимутвосстание против Гитлера [см.: Davis, 2002: 66—71].Реализация секретной стратегии воздушной борьбы противГермании сопровождалась массированной пропагандой, входе которой американцев убеждали, что толькостратегически значимые цели будут подвергнутыбомбардировке. В действительности союзники предпочиталибомбить максимально заселенные районы, и Дэвис сообщаето разочаровании британских военных, которым так и неудалось вызвать масштабные пожары в подвергаемых бом-бардировке городах. С марксистской страстью Дэвисподчеркивает, что больше всего пострадали кварталы
рабочего класса, тогда как виллы богатых и домасостоятельных, слишком далеко отстоящие друг от друга,не подходили в качестве целей бомбардировок слишкоммного пришлось бы потратить бомб.
121 Хотя российского читателя это полномасштабноеповествование о городах, пострадавших в XX веке,смущает тем, что в нем полностью отсутствует упоминаниео наших мертвых городах, о руинах Сталинграда, Минска,Киева, сама модель войны, ведущейся военными противгражданских лиц и больших и малых городов, описанаДэвисом весьма впечатляюще.
Марксистский постмодернизм Эда Соджи и Фредерика Джеймисона
121 «Исходить из пространства» — так обманчиво простоформулирует основания своего многолетнегоисследовательского проекта Эд Соджа [см.: Sqja, 2000:xin\.
121 Сначала пространство, а потом история, сначалапространство, а потом дискурс, сначала пространство, апотом бессознательное — таков его взгляд122 на прошлую и настоящую социальную реальность.
122 Сами названия книг, составивших трилогию:«Постмодернистские географии» (1989), «Третьепространство» (1996) и «Постметрополис» (2000),безошибочно указывают на то, что главный эпитетреальности настоящего для Соджи — «постмодернистская»,а в содержании этих книг с разных сторон описан главныйпостмодернистский город — Лос-Анджелес.
122 Соджа был не первым автором, увидевшим в городезначимые для постмодернизма процессы. На пальмупервенства с успехом может претендовать неомарксистскийкультурный теоретик Фредерик Джеймисон, опубликовавшийв 1984 году в «Нью лефг ревью» знаменитую статью опостмодернизме, или культурной логике «позднего»капитализма, в которой постмодернизм позиционировалсякак продукт меняющейся мировой экономики, а главнымспособом анализа этих изменений провозглашались неклассовые отношения, а эстетическое измерение новой
архитектуры (в качестве примера которой Джеймисонрассмотрел лос-анджелесский отель «Вестин Бонавентура»1,спроектированный архитектором Джоном Портманом, — о чемниже).1 В переводах на русский закрепился такой вариант написания, хотяв Лос-Анджелесе чаще можно услышать, как отель называют «Бонавенче».
122 Неомарксист-постмодернист — не самая привычнаядля нашей страны комбинация взглядов. Здесь важнопомнить, что в интеллектуальной истории США второйполовины прошлого столетия между двумя этими линиямимысли сложились достаточно тесные отношения.
122 Они состояли прежде всего в том, что волнасильного интереса к марксизму, вызванная майскимисобытиями 1968 года в Европе, довольно быстро (в 1980-е) сменилась волной другого сильного интереса — кпостмодернистской теории, расплывчатость и многогран-ность которой препятствовали ее политическоймобилизации.
122 Изменения в политике американских университетови издательств состояли в том, что если в 1970-е годымарксизму были123 открыты все двери, то в 1980-е они открылись дляпостмодернизма (закрывшись, соответственно, длямарксизма).
123 Среди интеллектуалов-марксистов, которые принялиновый вызов, были Дэвид Харви и Фредерик Джеймисон.Если Харви сосредоточивается на экономическом анализепостмодерности, постоянно говоря о «гибком накоплении»и глобализации, то Джеймисон пытается воссоздать всеразнообразие культурных проявлений новой стадииразвития капитализма, организованного вокругпотребления и основанного на власти многонациональногокапитала. Его главная идея состоит в том, что пост-модернизм выражает третью («позднюю») стадию развитиякапитализма, которая проявляется, во-первых, внарастании связи технологии (электроники, автомобилей иядерной энергии) с сетями социального контроля, во-
вторых, в глобализации капитала, в-третьих, ворганизации жизни общества вокруг потребления, в-четвертых, в укреплении позиций массовой культуры имассмедиа и, в-пятых, в завершении процессаиндустриализации.
123 Западный марксизм, который на зрелой фазе своегоразвития словно забыл об экономическом детерминизме ипогрузился в утонченный анализ «надстройки» в трудахЛукача и Блоха, Беньямина и Маркузе, Адорно иАльтюссера, находит в Джеймисоне достойногопродолжателя, но для Джеймисона важно постоянно держатьв поле зрения те процессы, которые происходят на стыкеэкономики и культуры. Вот почему «из всех искусств» длянего особенно важной является архитектура, которую онсчитает самой близкой экономике, ибо с нею у экономики«непосредственные связи», состоящие в заказах ар-хитекторам и динамике стоимости земли [cM.Jameson,1991; 5].
123 Джеймисона и Соджу, помимо участия в общемисследовательском движении, объединяют и более частныевещи. Одна из них - неравнодушное отношение к новойархитектуре Лос-Анджелеса. Соджа вспоминает обавтомобильной прогулке по этому городу, предпринятойим, Джеймисоном и Анри Лефевром в 1984 году: они с«Бонавентура» начали и к нему же вернулись [см.: Soja,1989: 63].
123 По Джеймисону, новые коммуника-124-ционныетехнологии усиливают мобильность капитала, которыйсловно теряет вес и определенное местонахождение, а егоусиливающиеся фрагментация и эфемерность отражаются вновых культурных предпочтениях.
124 Отражаются в том числе и буквально: в зеркальныхстеклах, которыми множество зданий покрыты снаружи.Когда мы недобро усмехаемся сегодня, увидев в столицеили еще где-нибудь очередное зеркально облицованноекорпоративное здание, полезно, мне кажется, помнить,что, какие бы местные культурные смыслы за таким вы-бором ни стояли (и какими бы удручающими ни были иногда
результаты), мы здесь «в струе» (правда, этой тенденцииуж больше сорока лег).
124 Как пишет Джеймисон об отеле «Бонавентура»: «Этадиалектическая интенсификация самореференционпости всеймодернистской культуры.., дает нам возможностьрадикально иного, по дополнительного пространственногоопыта... по отношению к референту, самому Лос-Анджелесу, захватывающе и даже тревожно раскинувшемусяперед нами» [Jameson, 1991: 13—14]. Ему вторит Соджа,«"Бонавентура" стал концентрированной репрезентациейреструктурированной пространственностипозднекапиталистического города: фрагментироваиный ифрагментирующий... пастиш отражений его поверхностейнарушает координацию, а вместо этого поощряетподчинение» [Soja, 1989: 243—244].
124 Джеймисон в отражениях окружающих зданий взеркальной башне отеля видит выражение увязанныхвоедино в современной жизни эстетики, технологии иэкономики.
124 С Соджей они едины в указании на дезориентирующе-искажающую функцию «Бонавентуры», лишающую посетителяпривычных ориентиров и референтов.
124 Отель «Бонавентура» останется в истории какместо, которое посетило рекордное число звезд-интеллектуалов.
124 Бодрийяр пишет о самодостаточности здания,сравнивая его зеркальные фасады с людьми, носящимичерные очки.
124 Он подчеркивает, что такого рода здания не тольконикак не взаимодействуют с городом, но и сами в своейбесконечной125
126 самореферентности лишены какой-либо тайны [см.:ВаudriUard, 1988: 59; Бодрийяр, 2000: 131].
126 Майк Дэвис в свою очередь критикует и отель, иего интерпретацию Джеймисоном. Если Джеймисон убежден,что отель продолжает популярные архитектурные традицииЛос-Анджелеса, то Дэвис напоминает, что расположенотель в «центре» города, где обитает большое количестволатиноамериканцев и азиатов-американцев, и что своейсистемой безопасности (не каждый туда войдет) изеркальным интерьером лишь закрепляет пространственнуюсегрегацию [см.-.Davis, 1985].
126 История отеля и его рецепции урбанистамизаслуживает нашего внимания вот еще в каком отношении:она связана с популярным вопросом об исследовательскойоптике.
126 На что, собственно, смотреть и что анализироватьв многоаспектной жизни городов и конкретных мест —такая методолотческая проблема получает решение взависимости от того, к какой исследовательской традициипринадлежит наблюдатель. Приведу два примера. Первыйсвязан с анализом «эстетического производства»(Джеймисон). Не желая участвовать в популяризацииэкономического детерминизма, Джеймисон отодвигает навторой план и логику развития технологий, подчеркиваяотносительную независимость от технологии и
повседневности и культурного производства [см.:Jameson,1991: 37].
126 Между тем, когда мы читаем его рассуждениясегодня, в свете общего усилившегося интереса кматериальности городов, очевидна крайняя условностьвыдвижения им облицованного зеркальным стеклом отеля-небоскреба в качестве эмблемы эстетической сутипостмодернистской эпохи.
126 Зеркальное стекло получило распространение вархитектуре XX столетия по причинам прежде всегоэкономическим и технологическим.
126 Обшитые прозрачным стеклом здания простыхочертаний, характерных для архитектуры модерности,стали эмблемой «международного стиля», воплощаяпослевоенные надежды на новую, свободную от невзгоджизнь.
126 Они были гораздо дешевле традиционных каменныхзданий, так127 как в них стекло закреплялось в промышленнопроизводимых металлических рамах.
127 Однако уже в 1950—1960-е годы стал очевиден ихсерьезный дефект: они перегревались летом. Этот«тепличный» эффект хорошо знаком любому обладателюостекленной лоджии. При этом они плохо держали теплозимой.
127 В I960-1970-е годы в СССР строились магазины,присутственные здания, кинотеатры, фасады или витриныкоторых были остеклены.
127 Впоследствии все эти здания пришлось пере-страивать.
127 В Америке повышенные расходы на кондиционированиелетом и обогревание зимой, связанные с эксплуатациейтаких зданий, привели к поиску архитекторами итехнологами эффективных решений. Их тесная кооперация спроизводителями стекла и привела к тому, что в начале19б0-х были построены первые здания из зеркальногостекла.
127 За одно-два десятилетия было налажено егопромышленное производство, а пока маркетологи искалистратегии продвижения нового продукта на рынке, в 1973году разразился нефтяной кризис, стоимостькондиционирования и обогрева зданий взлетела настолько,что маркетинг основывался на перспективе существеннойэкономии расходов, которую получат те, кто решитсявозводить зеркальные здания [см.: Неупе, 1982: 86—104].
127 Небоскребы, требования к микроклимату которыхбыли повышенными, стали с тех пор активнооблицовываться зеркальным стеклом, породив в конечномсчете характерный облик центра почти любогоамериканского города.
127 Приведу второй пример, связанный сисследовательской оптикой. Американский урбанист-марксист Энди Меррифилд, прослеживая борьбу вокругнеолиберальной модели города (согласно которойпредоставление каких бы то ни было социальных гарантийработникам экономически неэффективно), замечает:
«Любопытно, что как раз тогда,когда радикальные профессора икультурные критики были занятыдеконструкцией отеля "Бонавентура" какэмблемы позднекапиталистическойпостмодерности, Мария-Елена Дюразо иее команда пытались воссоздать в Лос-Анджелесе профсоюз работников128 отелей и ресторанов.
128 Какое-то время они боролись за зарплату, накоторую можно прожить, — честную дневную оплатучестного трудового дня — и вели эту борьбу в роскошныхотелях вроде "Бонавентура", где члены их профсоюзаскребли ванны и унитазы, застилали постели, работалиофициантами и вывозили мусор. Чтобы придатьвыразительность своим проблемам, профсоюз использовализобретательные медиа- и уличные тактики. <„.> Членыпрофсоюза участвовали в сидячих забастовках в лоббиотелей... организовывали массовые бойкоты. Другие виды
активности были более театральными, например такназываемые кофепития или "Джава за справедливость",когда члены профсоюза занимали в отелях целые рестораныи заказывали кофе» [МегтреШ, 1992: 79].
128 Как бы скептически ни описывалась в этомфрагменте безусловно необходимая теоретическая работа скультурными репрезентациями, Меррифилд «схватил» здесьсуть проблематики, которая в урбанистике, с однойстороны, имеет достойную традицию, а с другой стороны,только начинает разворачиваться на новом витке интересак классу, статусу и экономическому неравенству в целом,вызванному процессами глобализации и ростомпопулярности идеологии неолиберализма Чикагскийурбанист Саския Сассен в своих текстах призываетбросить более внимательный взгляд на ситуациюглобальных городов, «гламур» и экономическаяпривлекательность которых тесно связаны ссуществованием класса мигрантов.
128 А калифорнийский социолог Рэчел Шерман«включенно» наблюдает жизнь обслуживающего персонала ипишет книгу «Классовые действия; сервис и неравенство впятизвездочных отелях» [см.: Sherman, 2007].
128 Сложность отечественной интеллектуальнойситуации усугубляется не только скомпрометированностьюмарксистской парадигмы, но и серьезной идентификациейзначительной части наших пишущих людей не с теми, ктоскребет унитазы, а с теми, кто может себе позволитьзаплатить за «персонифицированный» сервис.
128 «Дольче вита» лидирует в нашем интеллектуальномвоображении по129 многим причинам.
129 Однако и та левая традиция, в которой исполненымногие тексты Соджи и Дэвиса, так что первым выра-зительно описаны влиятельные политики и звезды-архитекторы, а вторым щедро и подробно изображенысоциальные «низы» и переживаемые ими лишения, необходится без сложностей.
129 Одна из них — «диалектика влечения-отвращения»,как ее называет Меррифилд, состоящая в том, чтогородское дно и наиболее острые проявления социальнойнесправедливости могут быть странно привлекательнымикак для авторов, так и для читателей, сообщатьнездоровое волнение, вероятно связанное с извечнойлюдской страстью вглядываться в удел тех, кому неповезло, чтобы утешиться на собственный счет (о не-простой проблеме освещения жизни городских низов мы ещепоговорим в главе о социальных и культурных различиях).
129 В своих зрелых работах Соджа отказывается отпоиска очевидных архитектурных эмблем постмодернизма впользу решения куда более сложной задачи: разработкиспецифической познавательной стратегии, котораяпозволила бы «начать с пространства». Опираясь на идеиАнри Лефевра о трех типах пространства, он вместодиалектики пространства и времени вводит понятиетриалектики, объединяющей пространство, время иcoiшальное бытие. Суммируем основные его идеи.
129 Во-первых, Соджа успешно демонстрируетнедостаточность историцизма — присущего модерностиакцента на времени — в ущерб пространству.
129 Противопоставление неподвижного пространствастремительно бегущему времени быстрой индустриализацииСоджа возводит к Марксу, связавшему получениеприбавочной стоимости с социальной организациейвремени.
129 К чести Соджи, он не только стремитсяпозиционировать себя как одного из главных участников«пространственного поворота» (оформление«пространственных» интересов большинства современныхдисциплин) в социальной мысли, но и задается серьезнымивопросами: каковы причины того, что интеллектуальнаяистория модерности отмечена приоритетом времени поотношению к пространству, и почему этот приори-130-тетстоль упорно воспроизводится?
130 Разбирая целый спектр текстов, от Кассирера черезХайдеггера к Фуко (у которого он и черпает эту
проблематизацию), он приходит к выводу, чтофундаментальной причиной были онтологические идеи о че-ловеческом существовании, согласно которым «временные исоциальные аспекты бытия-в-мире» понимались как болеесущественные по сравнению с «внутреннейпространственностью человечества» [Soja, 2006: 818].
130 Во-вторых, Соджа призвал (со времениопубликования «Постмодернистских географий» прошлопочти тридцать лет) к тому, чтобы проработать идеюсоциальной сконструированности пространства, кдемонстрации социальной и географическойместоположенности деятельных субъектов.
130 В-третьих, называя себя «убежденным сторонникомкритической власти пространственного и географическоговоображения» [Idem, 2003: 271],
130 Соджа убежден, что пространственное измерениесоциальной реальности имеет большую практическую исоциальную значимость. Он призывает читателей «по-другому понять смыслы и значения пространства и техсвязанных с ним понятий, что образуют и составляютпространственность, внутренне присущую человеческойжизни: место, расположенность, местность, ландшафт,окружающая среда, дом, город, регион, территория игеография» [Idem, 1996: 6—7].
130 В основе его призыва — надежда, что привычныеспособы осмысления пространства можно отбросить, апространственное воображение — расширить.
130 Этому препятствуют, с его точки зрения,доминирующие в структурах человеческого мышленияисторичность и социальность.
130 Если пространственность постулировать как «третьеэкзистенциальное измерение» существования, а«третьепространство» (Thirdspace) — как такой способмышления, который исходит из пространства (а не изистории или социума), то проблем традиционногомодернистского мышления можно избежать, Соджа, впрочем,сам не избегает рецидивов телеологического мышления: в«Постметрополисе», начав с Чатал-Хююка, то есть с
первых городов на Земле, он рассказывает историю го-родов так, что той, похоже, суждено было привестичеловече-131-ство к Лос-Анджелесу.
131 Тем не менее Соджа — один из немногих авторов,описавших специфику постмодерного города. Он считает,что такой город, во-первых, «региональный», во-вторых,постфордистский, в-третьих, «мировой», в-четвертых,«дуальный», то есть состоящий из поляризованныхсообществ, в-пятых, «дисциплинирующий», то естьвключающий в себя активно контролируемые места(«сообщества за воротами» и тюрьмы — два примера такихмест), и, в-шестых, «город-симулякр», в которомпроизводится гиперреальность и царит потребление.
Белозерова Ю. Практики беременной женщины: личный опыт // Впоисках сексуальности. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 338—366.
Бовуар С. де. Второй пол, СПб.: Алетейя, 1997.Бодрийяр Ж Америка. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2000,В поисках сексуальности / Под ред. Е. Здравом ысло а ой. А,
Тем- киной, СПб.: Дмитрий Буланин, 2002.Омелъчемко Е. «Жертвы» и/или «насильники». Феномены подрост-
ковой сексуальности в фокусе западных академических дискурсов //Другое поле / Под ред. Е. Омельченко и С. Перфильева. Ульяновск:Средневолж науч. центр, 2000, С. 238—255.
Омельченко Е. Изучая гомофобиЮ: механизмы исключения «другой»сексуальности в провинциальной молодежной среде // В поискахсексуальности. СПб., 2002. С 469—511.
Пушкарева Е. Подростковая компания городской окраины: сек-суальные отношения в тусовке // В поисках сексуальности. С. 197—223.
BaudrilUzrdJ. America. L: Verso, 1988. P. 59.Bourdieu P, HaackeH. Free Exchange. L: Polity Press, 1995.BaxterJ, Western M. Reconfigurations of Class and Gender.
Stanford: Stanford University Press, 2001.Buck-Morss S. The Flaneur, the Sandwichman and the Whore: the
Politics of Loitering // New German Critique. 1986. Vol. 39- P.99—140.
Chakravorty S. From Colonial City to Global City? The Far-From- Complete Spatial Transformation of Calcutta // GlobalizingCities: A New Spatial Order? / Ed P. Marcuse and R. van Kempen,Oxford Blackwell, 2005. P. 56-77.
CobenP. From the Other Side of the Tracks: Dual Cities, ThirdSpaces, and the Urban Uncanny in Contemporary Discourses of«Race» and Class //A Companion to the City / Ed G. Bridge and S. Watson. OxfordBlackwell, 2000, P. 316—331.
Davis M. Urban Renaissance and the Spirit of Postmodernism //New Left Review. 1985- № 151. P. 107—113.
Davis M. Homeowners and Homeboys: Urban Restructuring in LA.// Enclitic 1989- № 3. P. 9—16
Davis M. City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles.L: Mac- millan, 1992.
Davis M. Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination ofDisaster. N.V.: Metropolitan Books, 1998.
Davis №. Dead Cities and Other Tales. N.Y.: The New Press,2002.
Dear M., Flusty S. The Spaces of Post modernity: A Reader inHuman Geography. Oxford: Blackwell, 2001.
Dear M.J., Flusty S. The Resistible Rise of the LA School //From Chicago to LA: Making Sense of Urban Theory / Ed M.J. Dear.Thousand Oaks: Sage, 2002.
Hanson S, Pratt C. Gender, Work and Space. L: Routledge, 1995.Hoyden D. What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations
on Housing, Urban Design, and Human Work // Women and theAmerican City / Ed. C.R. Stimpson, E. Dixler, M.J. Nelson, K.B.Yatrakis. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
Hoyden D. Redesigning the American Dream: Gender, Housing, andFamily Ufe N.Y.; L: W.W, Norton, 1994.
HeynePA Tbday's Architectural Mirror; Interiors, Buildings,and Solar Designs, N.Y.: Van Nostrand Reinholt, 1982.
Ho CX. Scared? An Interview with Mike Davis // Architecture.1999- Vol. 88, № 1.Р.2.
Imperial Cities: Landscape, Display and Identity (Studies inImperialism) / Ed F. Driver, D. Gilbert. Manchester; New York:Manchester University Press, 2003.
Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of LateCapitalism. Durham: Duke University Press, 1991-
Lynch K. The Image of the City, Cambridge The MIT Press, 1960.McDowell L Life without Father and Ford; The New Gender Order
of Post-Fordism // Transactions of the Institute of BritishGeographers. New Series. 1991- Vol. 16. P 400—419-
McRobbieF. Notes on «What not to Wear» and Post-FeministSymbolic Violence // Feminism after Bourdieu / Ed. L Adkins, B.Skeggs. Oxford: Blackwell, 2004.
MerriJieldA Dialectical Urbanism. Social Struggles in theCapitalist City. N.Y.: Monthly Review Press, 1992.
Morrison Т. Playing in the Dark Whiteness and the LiteraryImagination. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
RobertsM. Living in a Man-Made World Gender Assumptions inModern Housing Design. L: Routledge, 1991.
Sandercock L, Forsyth A A Gender Agenda: New Directions forPlanning Theory // Journal of the American Planning Association.1992. Vol. 58. P. 49-58.
Sherman R. Class Acts Service and Inequality in Luxury HotelsBerkeley, Los Angeles: University of California Press, 2007.
Smith D. The Chicago School: A Liberal Critique of Capitalism.L: Mac- mill an, 1988.
SojaEW. Taking Los Angeles Apart: Some Fragments of a CriticalHuman Geography 11 Environment and Planning D: Society andSpace. 1986. Vol. 4. P. 255—272.
Soja EW. Postmodern Geographies: the Reassenion of Space inCritical Social Theory. L: Verso, 1989-
Soja E.W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and- Imagined Places. Oxford: Blackwell, 1996.
Soja EW. Post metropolis. Critical Studies of Cities andRegions. Oxford Blackwell, 2000.
SojaEW. Writing the City Spatially // City. 2003- Vol. 7, № 3.E 269-280. Soja E.W. Writing Geography Differently Ц Progress inHuman Geography 2006. Vol. 30, № 6. P 817-820.
Spivak G.Ch. Critique of Postcolonial Reason: Toward a Historyof the Vanishing Present. Cambridge: Harvard University Press,1999- TiversJ. Women Attached London; Sydney Croom Helm, 1985.Valentine G. The Geography of Women's Fear // Area. 1989- №21.P. 385-390.
Wolff J. Feminine Sentences. L: Polity Press, 1990. Wilson E.The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder, andWomen. Berkeley; Los Angeles: University of California Press,1992.
134-170 Гл 3 Город и природаТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 3Город и природа
Природа как «другое» города134 В привычном нашем стремлении вырваться из
города «на природу» проявляется разделение между при-родным и социальным — то, на чем современное обществостроит понимание самого себя. Динамика взаимодействиямежду природой, технологией и людьми сложилась в ходемодерности, но теоретически долгое время она отражаласьвесьма ограниченно.
134 Причина этого в том, что история социальнойтеории неотделима от постоянно воспроизводимогопротивопоставления общества и природы.
134 Это противопоставление встроено в пониманиесамого развития обществ модерности.
134 Главное направление развития было зафиксированов понятии прогресса, который определялся успехами впокорении природы — как внешней, так и тех черт че-ловека, которые традиционно связывались с его природнымпроисхождением. Новые формы организации социальнойжизни осмысливались на основе жестко воспроизводящегосякачественного различия между традицией и модерностью.Люди традиционного общества мыслились как от природызависимые и вынужденные с нею считаться.
134 Индустриальное урбанизованное общество сталоэмблемой независимости людей от природы.
134 Успехи промышленности воспроизводили взгляд намир как неограниченное поле возможностей его135 преобразования.
135 Городской образ жизни свидетельствовал о том, чтогород успешно пренебрегает теми ограничениями, чтоприродные циклы накладывают на социальную активность(делением на день и ночь, к примеру): он никогда неспит и не зависит от погоды.
135 Город и природа оказались связанными в одномнарративе, где город мыслился как место цивилизации, нолишенное добродетели, а природа — как «дикая», нообладающая моральным порядком.
135 Парадоксальность отношений природы и городасостоит в том, что, с одной стороны, дискурсивно иконцептуально «город» был отделен от «природы».
135 Введенный Эмилем Дюркгеймом постулат — социальныеявления имеют социальные причины и социальные жепоследствия, независимые от психологических илибиологических факторов, — предполагал разделение трудамежду естественниками (сфокусированными на природныхфактах) и «неестественниками» (выражение А. Перцева) —социологами, нацеленными на факты социальные.
135 Как «другое» природы, город представлялся оли-цетворением совершенной от нее независимости, В итогеэкологи и биологи устремлялись для изучения природыподальше от городов, а урбанисты и планировщики виделив городе исключительно творение рук человеческих.
135 С другой стороны, исторически город и природатесно взаимосвязаны. Создание города возможно былотолько за счет соединения человеческих и нечеловеческих(природных) ресурсов. Но особенности развитиясоциальной теории и характер городской повседневностиобусловливали помещение природы в «слепое пятно»: еероль и масштаб участия в происходящем просто непопадали в поле зрения. Глубокая, историческисложившаяся, сложная взаимосвязь между городом иприродой ускользает от внимания обитателя города.
135 Этому способствуют, во-первых, физическиеобстоятельства, во-вторых, культурные репрезентации.Природа в них предстает (дискурсивно конструируется)как находящаяся «где-то там», за пределами города.
135 И в самом деле, массивность бетона, размахгородских просторов, защищенность от невзгод стихии при136 помощи отопления и кондиционирования, легкость«добывания» пищи в супермаркете, сам ритм городскойжизни — все это препятствует осознанию того, как теснои разнообразно природное и городское переплетены.
136 Прежде всего их объединяет история. Каждый городбыл возведен на земле.
136 Достаточно перенестись мыслью на несколько вековназад и представить, как выглядело место, на которомсегодня стоит твой дом, чтобы понять, каким относи-тельно новым является столь важное сегодня различиемежду городом и негородом.
136 Подчас только названия городов напоминают о том,что отличало ту местность, на которой они возникли, отсоседних. Саратов — «желтая гора».
136 Чикаго получил свое название от полей дикогочеснока, что росли в прериях между Скалистыми горами иВеликими озерами. Оксфорд означает «бычий брод». Однаиз версий истории названия Лондона — «дикое место».
136 Москва, Минск, Самара, Воронеж, Тула, Рязань,Казань и многие другие города названы по имени рек, накоторых построены. Для строителей городов природа пред-ставляла собой «чистый лист»: ее ресурсы (реки, леса,минералы) использовались за счет ее же постепенногоистребления.
136 В текстах по истории городов она выступает какинертный фон для героического покорения. Городамыслятся как отделенные от физического мира, ибо напротяжении последних двух столетий тем, кто о нихписал, было гораздо важнее понять их социальный смысл ироль, которую они играют в истории. Экологическиефакторы существования городов долгое время оставалисьна заднем плане именно потому, что социальное
осознавалось социальными теоретиками за счет жесткогопротивопоставления биологическому.
Город как экосистема136 В наши дни обсуждение города как экосистемы
ведется на основе сравнения его с «правильными»,природными экосистемами.
136 Природная экосистема включает все организмы (ра-137-стения и животных) и неорганические «субстанции»данной местности, прежде всего воздух, воду и почву.
137 Организмы и вещества объединены в сложную сеть. 137 В этой сети различные варианты взаимозависимости
ее компонентов («петель» обратной связи) приводят ктому, что изменения в одной части экосистемыразнообразно отзываются в других ее частях.
137 Пример такой взаимозависимости — пищевая цепь, вкоторой зеленые растения, используя солнечную энергию,превращают неорганические вещества в органику,пригодную для потребления животных, снабжая их энергиейдля жизнедеятельности, которая рано или позднозавершается, а их тела, разлагаясь, поступают в почву.Природные экосистемы имеют встроенные стабилизаторы; укаждого вида есть своя экологическая ниша,обусловленная специфическим источником энергии, ациркуляция воды и воздуха, как и земельные массивы,способствует этой стабильности.
137 Дополнительным источником стабильности является иобщее разнообразие видов, и биомасса.
Экологический архитектурный проект The High Line137 The High Line — это короткая (2,33 км)
приподнятая над транспортными путями секция бывшейгрузовой железной дороги, построенной вдоль нижнейчасти Вест-Сайда в Нью-Йор- ке, сооруженная в 1930-егоды и не используемая для перевозки грузов начиная с1980-х. Хотя строение еще достаточно надежно, ононачало разрушаться и поросло травой и деревьями.
137 Группа добровольцев из организации «Друзья TheHigh Line» [см. Friends of the High Line], созданнойживущими в ее районе Робертом Хаммондом и ДжошуаДэвидом, предложила превратить The High Line внеобычный парк, похожий на тот, что есть в Париже{Promenade Planiee). В 2004 году правительство Нью-Йорка выделило 50 млн долларов на реализацию этогопроекта.
137 В апреле 2006 года мэр Майкл Блумберг торже-138-ственно открыл церемонию закладки парка. Проект былразработан ландшафтной группой Field Operations иархитектурной фирмой Diller Scofidio + Renfro. Весной2007 года была демонтирована большая часть рельсов ипутей К необычному парку будут нести пять лестниц и трилифта.
138 Фотограф Джоел Стернфилд издал альбом «Прогулкивдоль The High Line', запечатлев к 2000—2001 годах ееразрушение и ее «флору» [см.: Stilgoe et at., 2002].
138 Популяризатор экологических проблем Алан Вейсманрассматривает The High Line в своей книге «Мир без нас»как пример того, что природа, если ей дать шанс,обязательно берет свое [см.: Weisman, 2007].
138 Городское общество, с этой точки зрения, неявляется экосистемой, потому что включает в себя толькоодин вид животных — людей и не включает ни одну изприродных субстанций. Тем не менее объяснительная силаэкологической модели такова, что урбанисты и социологидавно применяют ее к человеческим сообществам. Когдасовокупность социальных отношений называют экологией,имеют в виду такое взаимодействие между множественнымиэлементами, которое не является ни полностьюавтономным, ни полностью зависимым от чего-то еще.
138 Экологическая модель объяснения тем самымпротивостоит, с одной стороны, механистической и орткисти чес кой, а с другой — атомистической иредукционистской.
138 Об «экологии людей» {human ecology) — подходе,сформулированном социологами чикагской школы, — идетречь в главе о классической урбанистике.
138 Первым ученым, предложившим все же понимать городкак экосистему, был английский физический географ ИэнДуглас [см.:Douglas, 1981].
138 Аргумент Дугласа состоял в том, что город, вбираяв себя одни вещества, выделяет другие. Поглощая энергиюи воду, город порождает шум, изменение климата,загрязнение воздуха, отходы жизнедеятельности людей имусор.
138 В городах люди используют огромные энергетическиересурсы, что стало возможным потому, что человек нашелдля себя уникальную энергетическую нишу.
139 Парк The High Line140 Научившись использовать солнечную энергию
прошлого, сконцентрированную в угле, нефти и газе,вначале для обогрева, а затем для промышленных целей,он, во-первых, перестал быть зависимым от солнечнойэнергии, во-вторых, обеспечил постоянное снабжение себяедой, одеждой и жилищем, в-третьих, стал доминирующимсреди живых существ видом.
140 Земли расчищались, осушались или орошались, илюди могли не беспокоиться о последствиях своейдеятельности.
140 Отдаленные последствия использования природныхсил и ресурсов мыслились как проблема последующих
поколений либо как то, с чем со временем справится самаприрода. Между тем в городах все природные,«встроенные» стабилизаторы экосистем либо уничтожены,либо нарушены.
140 Чтобы уменьшить непредсказуемость своегосуществования, люди возвели здания для защиты отстихии, очистные сооружения — для регуляции потоковводы, улицы и транспорт — для коммуникации, социальныеинституты — для регулирования «природных» человеческихстрастей.
140 Но сегодня обнаруживается, что эти артефакты иорганизации более не способствуют стабильности. Городкак экосистема сам оказывается источником беспорядка вокружающей среде Люди, живущие в городах, все сильнеезависят в своем благополучии и друг от Друга, и отартефактов, и от институций, и оттого, наскольконадежно организовано поступление необходимых для жизнивеществ в город и освобождение его от уже ненужных.
140 Зависимость города от источников энергиипроявляется в том, что характер их развития заданстоимостью доступной энергии.
140 Дешевое (до недавнего времени) топливо обусловило«расползание» американских городов, тот факт, чтозначительное число американцев живет в пригородах(suburbanization, sprawl). Напротив, одно из объясненийтого, что европейские города компактны и обладаютхорошим общественным транспортом, — дороговизнатоплива.
140 Экологический отпечаток (ecologicalfootprint),который города оставляют на окружающей среде,проявляется в так назы-141-ваемом феномене тепловогоострова.
141 Всем известен факт, что в городах теплее. 141 Тепло поглощается зданиями и улицами днем и
отдается ночью. 141 Это позволяет немного сэкономить на отоплении
зимой, но увеличивает расходы на кондиционированиевоздуха летом. Тепловой остров влияет на циркуляцию
воздушных масс над городом, что выражается в том, что вгородах выше облачность и чаще гремит гром.
141 Другой печально известный экологическийотпечаток — выхлопы и выбросы: углекислый газ, окисьуглерода, двуокись азота, бензопирен, угольная имазутная золы, сернистый ангидрид Около половинывыбросов в атмосферу дают автомобили, почти столько жесоставляют продукты сгорания топлива объектовтеплоэнергетики, вносят свой вклад в загрязнениеокружающей среды и городские предприятия.
141 Страдают и люди (вредный городской воздух давностал притчей во языцех). Страдает и атмосфера в целом:города — одна из главных причин глобального потепленияи «озоновой дыры». Мусор, который современные города, всилу высокой населенности и значимости упаковки дляпродвижения товаров на рынок, производят в невероятныхколичествах, должен либо сжигаться (увеличивая выбросвредных веществ), либо перерабатываться, что далеко невсегда экономически выгодно.
141 Забастовки мусорщиков в Германии в 2007 году ив Италии в 2008 году показывают, в какие сложныеэкономически-политические коллизии включена циркуляциямусора сегодня даже в тех странах, население которыхвосхищает нас своей экологической сознательностью.
Диалектика природы и города141 Город — центр сложных диалектических отношений
природы и культуры [Whartmore 2002]. Американскийгеограф и историк Уильям Кроной в книге «Метрополисприроды» [см.: Сгопоп, 1992] показывает, до какойстепени стремительный рост Чикаго был обусловленкачеством окружающей его тер-142-ритории: рекой,позволяющей кораблям пройти в надежную гавань, прерией,посреди которой довольно легко было возвести железнуюдорогу, болотами, осушение которых в конечном счетеспособствовало процветанию знаменитых чикагскихскотобоен.
142 Британский географ Мэтъю Ганди в книге «Бетон иглина: преобразуя природу в Нью-Йорке»сосредоточивается на том, как взаимодействовалигородские власти и ньюйоркцы, природа и город вналаживании городского водоснабжения, строительствеЦентрального парка, организации вывоза мусора,строительстве скоростной дороги в Бронксе, разрушившемодин из старых, сплоченных, населенных самыми разнымилюдьми районов [см.: Gandy, 2002]. Подчинение людьмиприроды нерасторжимо связано с подчинением одних людейдругими: непригодные для жизни городские районы, местаповышенной загрязненности всегда оказываются уделомбедных и обездоленных. Приватизация и нарастаниекорпоративной власти вносят сильный коммерческийэлемент в функционирование городской природы.
Город-сад Эбенезера Ховарда142 Эбенезер Ховард (1850—1928) — английский
реформатору один из основателей современного городскогопланирования. Чтобы положить конец отчуждению человекаот природы, Ховард замыслил создание городов-садов.Общество должно было быть интегрировано в окружающуюсреду так, чтобы их взаимодействие отличалосьустойчивостью. Перенаселенность городов и вымираниедеревень, считал он, должно было быть остановлено спомощью государственного вмешательства и создания«зеленого пояса» вокруг больших городов. В книге «Сады-города завтрашнего дня» (1902) он сделал набросок го-рода, свободного от загрязнения вода и воздуха иотмеченного изобилием открытых пространств и парков.
142 Производство в нем ориентировано на местныепотребности, чтобы избежать143 транспортировки товаров на дальние расстояния, авсе отходы возвращаются в землю, чтобы обеспечить еенеослабевающую продуктивность.
143 Книга стала манифестом целого движения -Ассоциации городов-садов — и сильно повлияла насовременное городское планирование.
143 Ховард считал несправедливой необходимость длячеловека выбирать между городом и деревней как местомжительства, полагая, что в его городе-саде можносовместить активность и энергию городской жизни судовольствием от созерцания красот природы за городом.Понимая, что к жизни в такого рода «гибридах» людейнельзя принудить, он настаивал, что они должны быть«магнитами» (его любимая метафора), что они, инымисловами, должны хорошо продаваться И в деревне и вгороде есть качества, которые работают как «магнит» длялюдей. В деревне это красота природы, свежий воздух,солнце, свежие продукты. В городе это возможностьинтересной работы, социального роста, культурногообобщения, высоких зарплат. Но города-сады обещалисоединить все эти качества, освободив людей как от«идиотизма деревенской жизни», так и от городскойскученности. Для этого деревню и город надо объединить,и из этого союза, надеялся он, возникнет новая циви-лизация.
143 Моделью для утопического проекта Ховардапослужила замкнутая феодальная общность с добавлениемнезначительного промышленного производства исовременных коммуникаций, соединяющих такие города другс другом и с центральным городом, в которомпредполагалось сосредоточить основное промышленноепроизводство. Но реформаторский пафос Ховарда (садывместо загрязненных земель, рациональная системараспределения благ вместо жадности и бессердечия,города без трущоб, социальная поддержка пожилых ибольных) сегодня кажется более чем насущным. В век,когда неолиберальная логика приводит к тому, что всебольше зеленых пространств превращается в парковки иторговые центры, идеи Ховарда напоминают о возможностиальтернативных путей развития городов.
144 Интерес к сложным отношениям между городом иокружающей средой воплотился в таких дисциплинах, как«Городская экология» и «Гуманистическая география».Первым городским экологом стал биолог Ричард Фиттер, в
«Естественной истории Лондона» показавший, как ростЛондона повлиял на «родную» для этой территории флору ифауну [см.-. Fitter, 1945]. Но еще во второй половинеXIX — начале XX века проблема городской окружающейсреды обсуждалась в трудах реформаторов ЭбенезераХоварда, Фредерика Лоу Олмстеда, Патрика Геддеса.
144 Этому, в свою очередь, предшествовало прозрениео принципиально «неустойчивом» характере европейскихгородов, принадлежавшее Фридриху Энгельсу, которыйописал неприглядные условия жизни английского рабочегокласса (его взгляды подробно рассмотрены в главе 5).Автор «Диалектики природы» трезво оценил последствиястремительной урбанизации, предвосхищая современнуюрефлексию удручающей экологии городов: «Два с половиноймиллиона человеческих легких и двести пятьдесят тысячпечей, сосредоточенных на трех-че- тырех квадратныхгеографических милях, потребляют необъятное количествокислорода, которое возмещается лишь с большим трудом,так как городские постройки сами по себе затрудняютвентиляцию» [Энгельс. 436].
144 В работе британского социолога культуры РаймондаУиль* ямса «Деревня и город» трансформация природызападным обществом прямо увязана с процессамиурбанизации [см.: Williams, 1973]. Социальностьприроды, ее способность выступать на стороне власти —вот что выходит на первый план. От конструированиязнания о природе до способов, какими люди с нейвзаимодействуют, от коммерческой апроприации природыкак товара до ее физической трансформации в соответ-ствии с представлениями властей предержащих [см.Lannuzzie- tal, 2002] — природа пронизана властнымиотношениями. По словам Уильямса, сама идея природывключает большой объем человеческой истории.
145 Американский географ Дэвид Харви в работах,посвященных взаимодействию капитализма и пространства,подчеркнул, что взаимное преобразование общества иокружающей среды ведет к созданию все новых вариантовсочетания городских социальных и физических условий.
Британский радикальный географ Эрик Суингеду подытожилэту линию мысли введением понятий социоприрода исоциоэкология. Другие авторы используют понятиегородская природа. Эти понятия фиксируют пониманиегородов как гибридов природы, технологии и архитектуры.Повсеместные комары в подвалах, крысы в подсобках,лондонские лисы, у которых, говорят, даже очертаниячелюстей изменились, потому что они добывают пищу измусорных баков, — часть городской, а не какой-то инойприроды. Обмены и превращения, что поддерживаютгородскую жизнь, — еда и вода, банкоматы и компьютеры -демонстрируют бесконечную переплетенность природного исоциального. «Органическая» еда, доставляемая в Москвуиз Европы, и частички гари, которые невозможно,кажется, выкашлять из легких, когда горят подмосковныеторфяники, — глобальные влияния и местные рискисплетены в связях, объединяющих людей, нефть,автомобили, растения и животных, леса и климат исоздающих город в неравномерно распределяющихсясоциоэкологических процессах.
Социальные исследования науки и технологии (SSS, SST)
145 Социальные исследования науки и технологии — этосложившееся около тридцати лет назад влиятельноемеждисциплинарное движение, результаты работы которогопубликуются в журнале «Social Studies of Science» икоторое исследует взаимодействие науки и технологии сэкономическими, политическими и культурными силами.
145 Отвергнув понимание науки и технологии каквнесоциальных или внекультурных факторов.146 представители этого движения ратуют за их пониманиекак местно производимых, а потому специфических ипроизвольно развивающихся (в том смысле, что ихвозникновение и развитие видятся зависимыми от целойсовокупности социальных факторов).
146 Если в воображении большинства людей, когда речьзаходит о науке как «образцовом» знании, царит
«очищенный» для бескорыстного поиска истины одинокийисследователь, а разговоры ученых в курилке ипроведение, скажем, эксперимента, который ведет кдостижению истинного знания, не только разведены вовремени, но и имеют совершенно различный вес, то даннаяпарадигма, если сильно огрубить суть дела, нацелена надемонстрацию того, что как раз в курилке научнойлаборатории наука и делается.
146 Социальный капитал ученого соединяется с местнымиматериальными ресурсами и обстоятельствами, в которыхзнание производится. Каждый атрибут науки, начиная отфигуры ученого, приборов и экспериментов и заканчиваяутонченными научными понятиями, мыслится здесь кактесная связь между телами, жестами, привычками, вещами,знаками, собранными в особом месте. Стивен Шейнин,Саймон Шейфер, Донна Харавей, Джон Ло, Эндрю Пикеринг,Брюно Латур и Стив Вулгар, Майкл Линч показали, что всянаука — это местоположенное знание.
146 Те представители исследований науки и технологии,кто описывает и объясняет научную деятельность,касаются также и отношений между наукой, технологией иприродой. Дискуссии ведутся о том, в какой степениприродные сущности можно рассматривать как «социальныеконструкции».
146 Первоначально преобладало прагматическое решениепроблемы социального конструктивизма: доказывалось, чтосоциологи должны придерживаться агностической позиции вотношении к природным сущностям (или брать в скобкисвое естественное отношение к природным феноменам),сосредоточиваясь на том, как социально конструируетсянаучное знание.
146 В последнее десятилетие эта позиция уступаетместо так называемой соконструктивистской традиции.
146 Ее представители Донна Ха-147-равей, ЭндрюПикеринг, Брюно Латур считают, что, если социологиработают только с «социальной» стороны водоразделамежду природой и обществом, прагматическое решение со-мнительно.
147 Изучая науку и то, как она связана с природой,соконструктивисты пришли к выводу, что чрезмерноевнимание к социальным факторам подрывает способностьсоциологов объяснить влияние современной науки — инымисловами, препятствует рассмотрению ими материальныхусловий, позволяющих ученым эффективно действовать вмире.
147 Материальное, символическое и социальное,объединяясь, создают всякий раз специфический вариантсоциоэкологии. Социальные и экономические процессы, вкоторых соединено локальное и глобальное, в городематериализуются и только в городе возможны. Литература,посвященная городскому развитию, редко связываеткапитализм, технические аспекты развития и проявлениянесправедливости, мотивированные окружающей средой(environmental injustice). Американский урбанист НилСмит считает, что современный капитализм буквальнововлечен в производство и воспроизводство природы [см.:Smith, 1992}. Зримым примером этого является сосуще-ствование в каждом городе депрессивных, пустынных,спальных микрорайонов и ухоженной зелени «дворянскихгнезд».
147 Процесс урбанизации становится неотъемлемойчастью создания новой окружающей среды и новой природы.
Глобальные взаимозависимости147 В окружающей среде сегодня видят все больше
проявлений социальности, тогда как в городах — всебольше природного.
147 Прежние границы между обществами изменяютсяпроцессами глобализации, которые в свою очередьприводят не только к тому, что последствия природныхкатаклизмов отзываются во всем мире, но и к тому, чтопоследствия глобальных природ-148-ных переменнеодинаково сказываются в разных регионах мира;
глобальный Север защищен от них лучше глобального Юга. 148 Так, на столице Индонезии Джакарте в 1998 году
особенно сокрушительно сказались последствия лопнувшего
«пузыря» глобальных финансовых спекуляций. Амбициозныенебоскребы остались недостроенными, а множество людейостались без работы и пропитания.
148 В то же время и там же проявились последствияприродного феномена Эль-Ниньо — цикличного потепленияводы в восточной части Тихого океана.
148 Лужи стоячей воды в заброшенных высотных зданияхстали экологической нишей для комаров, К безработице иобщей растерянности прибавились малярия и лихорадкаденге.
148 Так соединились глобальное потепление и перипетииперераспределения глобального капитала, глобальное иместное, природное и социальное, человеческое ифизическое, культурное и органическое. При этом самиразличия между отмеченными противоположностями могутбыть проведены по-разному в разных обстоятельствах и вразные периоды.
148 Историки окружающей среды и теоретики «акторов-сегей» показали, что различные «природы», которыеобщества производят, могут сами обладать активностью,могут сами изменяться и трансформироваться,сопротивляясь нам и нас удивляя.
148 Нарастание понимания как социальносконструированных измерений природы, так инерасторжимости природы и самых современных аспектовгородской жизни ведется, таким образом, на двухосновных полюсах. С одной стороны, этопостструктуралистские в своей основе доказательстваконфликтного сосуществования различных культурных идискурсивных рамок, в которые помещается понятиеприроды (что отражается в том, что эти авторыпредпочитают говорить о различных природах).
148 С другой стороны, это достижения социальныхисследований науки и идей акторно-сетевой теории с ихакцентом на гибридности большинства изучаемых сегоднянаукой объектов, невозможности однозначного проведенияиx по ведомству либо естествознания, либо социальной
149 науки, а главное - способностью проанализироватьсложные сети, объединяющие различные инстанции власти икомбинации человеческих и нечеловеческих агентов вконструировании природы.
Трубы и микробы149 Летом 2007 года 8 городе — спутнике Екатеринбурга
Верхней Пышме в результате вспышки легионеллеэнойпневмонии пострадали 166 человек, четверо погибли1. 1 Цифры заболевших и погибших, даваемые различными источниками,не совпадают.
149 Это необычное название болезнь получила, поразивучастников встречи ветеранов Американского легиона в1976 году в Филадельфии. Возбудитель — стойкаяграммотрицательная палочка, живущая в воде, иле,камнях. Случаи заражения происходят, как правило, вгородах, где системы водоснабжения и кондиционирования(слизь, накапливающаяся в водопроводных трубах,застоявшаяся теплая вода в охладителях кондиционеров)создают условия для размножения бактерии. В Пышмебактерия, распространяющаяся алиментарно иингаляционно, находилась в горячей воде, которая остылав трубах в период опрессовки и не была передвозобновлением подачи воды спущена или нагрета донужной температуры. В качестве экспертов массмедиапривлекли микробиологов, санитарных врачей и специалис-тов по водоснабжению. Главный санитарный врач страны Г.Онищенко в интервью программе «Вести» телеканала «Рос-сия» подчеркнул: «Если соблюдать все технологии,которые предусмотрены утвержденными Минтопэнергорегламентами по эксплуатации теплосетей, то этогарантия того, что никто не заболеет». А спикер ГЪсдумыБ. Грызлов связал случившееся с качеством оборудования,используемого в ЖКХ.
149 «Совершенно ясно, что и качество труб, и качестводругого оборудования
150 во многих городах очень далеки от того уровня, накотором они должны быть», — подчеркнул OH (URL:http :// www . rian . ru / realty/20070731/700392 35.html).
150 Спикер также призвал к наказанию всех виновных.Самый экстравагантный комментарий к случившемуся сделалв ходе телевизионной конференции губернаторСвердловской области Э. Россель: «В природе микробовстолько, что удивляешься, как человек вообще выживает»Щунгапов, 2007: 2],
150 В газетных заметках и телевизионных репортажах обэтом случае соединились факты биологии и политическиеходы, изношенные теплосети и недофинансируемыебольницы, повсеместность рисков и будущие выборы вГосударственную Думу. Необходимость для одних людейсправляться с последствиями болезни, для других -спасти политическое лицо, для третьих — предотвратитьраспространение эпидемии, для четвертых — без опаскимыться горячей водой соединяются в одной истории.
150 Иррациональные страхи и политические интересы,глобальная циркуляция микробов и национальныеособенности ухода за теплосетями, профессиональноезнание и слухи, социальное и биологическое оказалисьсплетены в одной сети объектов и событий. «Гибридыприроды и культуры», как называет подобные историифранцузский философ науки Брюно Латур, потому часто иостаются содержанием вчерашних новостей, что прямо непроходят ни по чьему научному ведомству.
Акторно-сетевая теория150 Акторно-сетевая теория — самая инструментальная
часть масштабного проекта Латура, включающего в себя иблестящие историко-научные исследования, и участие вдебатах о дальнейшей судьбе социальной теории [см.:Latour, 2000].
150 Он достаточно радикально рассматривает историюсовременного знания, показывая, что значительная егочасть строилась на
151 возведении и последующем поддержании границ междуразличными дисциплинами и познавательными областями.
151 Эти границы мешают увидеть гибридностьбольшинства феноменов действительности, исключающуювозможность проведения их либо по ведомствуестественно-научного знания, либо по ведомству знаниясоциального.
151 Противопоставление друг другу, во-первых, людейи их связей, во-вторых, фактов о вещах и, в-третьих,слов и дискурса - относительно поздняя культурнаятенденция. Для ряда культурных критиков, историков, фи-лософов и социологов науки «Великое разделение» междууказанными традициями составляет суть модерности [см.:Latour, 1994; Bhaskar, 1994}. Если же принять вовнимание и позднюю модерность, тысячами нитей связаннуюс постмодернистским проектом, то к ориентациям на вещи,людей, слова следует, по мнению Б, Латура, прибавитьчетвертую — деконструктивистски схватываемые игрысмысла. Эти ориентации сложились в ходе модерностипримерно так. Ее наступление ознаменовалось постулатомо природе-«сфинксе», неуязвимой в своей свободе отчеловеческих страстей и желаний, существующей не-зависимо от людей, которым, однако, под силу, постигнувее законы, мобилизовать ее возможности для своих,человеческих целей. Развитие модерности сопровождалосьскладыванием представлений о социальной связи,соединяющей людей, обремененных страстями и желаниями,в монолитное социальное целое, которое укрощает ихнепредсказуемость и выступает как начало, превосходящеесоздавших его людей. Итогом этого развития явилосьпонимание автономности процессов означивания,осмысление языка и текста как главного места, где оби-тают люди, организуя на основе тропов и жанровпонимание ими приключений и несчастий, на которые ихобрекают упомянутые страсти и желания. Наконец,приходит пора понять, что бесконечная активистскаядеятельность и великие повествования, ее фиксирующиеоборачиваются забвением бытия, присутствие которого тем
не менее рассредоточено между людьми, воплощаясь висторичности их существования.
151 Каждая152 из ориентации, возникая и отвоевывая себе место,демонстрировала ограниченность предшествующих,преувеличивала свою несопоставимость с ними. В итоге,прослеживая эволюцию или связи какого-то объекта, людивидят в нем либо вещь, либо социальное отношение, либонарратив, помня о несводимости того, другого и третьегок бытию. Научные дисциплины поделили мир, не считаясь сгибридностью большинства объектов, которые предстаютсегодня перед исследователями.
152 Реализация модернистского эпистемологическогопроекта была невозможна без практик «очищения», как ихназывает Б. Латур. То, что в действительностинеразличимо, спутано и сплетено, подвергается жесткимпознавательным и риторическим процедурам, представаяпредназначенным для исследования в одном случаеестественно-научными, в другом — социологическими, втретьем — лингвистическими и так далее средствами.«Очищению», добавим мы, подвергается и собственнопознающий субъект. И он, предполагается, вступая всвятая святых лаборатории или кабинета, в состоянииоставить за дверями прагматические мотивы, повседневныезаботы и политические пристрастия.
Напротив, по мнению ее создателей, акторно-сетеваятеория представляет собой концептуальную рамку, вкоторой можно помыслить взаимосвязи, отношения и «со-конструкции», которые объединяют людей, другие живыеорганизмы и вещи, то есть естественные, технические исоциальные феномены и процессы, как возникающиевзаимосвязанно. Ее сторонники убеждены, что она можетпомочь избежать традиционного дуалистического мышления(природа — общество) и увидеть принципиальнуюгибридность большинства изучаемых сегодня феноменов (нетолько изучаемых науками, но и иными способами входящихв горизонт человеческих забот).
152 Может быть, мир в целом стал гибриден до такойстепени, что традиционные линии различения природного исоциального становятся бессмысленными?
152 Может быть, людей и «нелюдей» можно по153 мыслить так, что, с одной стороны, степеньактивности последних не будет заведомо принижена, а сдругой стороны, и фундаментальное различие между нимине будет утеряно из виду?
Материальность города и социальная теория153 Социальная теория занимается тем, что переводит
культурное знание о естественно-научной причинности наязык социальной причинности, включающий анализсоциальных и политических интересов, нахождение средисоциальных агентов ответственных и виновных иопределение меры их ответственности и вины. Низловредный микроб, ни сплетения труб в толще земли кактаковые не входят в ее компетенцию. Для нашего разборатрудностей социальной теории, обращающейся к городам,случай с легионеллой показателен тем, что соединяетсоциальные процессы, с одной стороны, с биологией, а сдругой — с технологией.
153 Традиционно такого рода случаи не получали болееили менее целостного рассмотрения именно по причинеинертности дисциплинарного знания и жесткости границмежду сферой компетенции трех родов знания — социально-гуманитарного, естественно-научного и технического.
153 Неразличимые компоненты и тенденции городскойжизни, запутанные и переплетенные, видимые и невидимые,сверхординарные и надоевшие, рано или поздно проходятпо разным познавательным ведомствам: специалисты поводоснабжению могут объяснить, почему только у нас встране опрессовка сопряжена с длительным отключениемгорячей воды, микробиологи — идентифицироватьвозбудителя, а политологи — «вычислить» мотивы,побудившие официальных лиц высказаться так, а не иначе
153 Городская окружающая среда только на первыйвзгляд кажется средой обитания людей, в
действительности в ней обитает невероятное число живыхорганизмов.
153 Мало того — это154 техническая и материальная среда.
154 Подчас сети, в которые входят наши дома, улицыи природа, спрятаны от нашего взора как буквально (подземлю), так и в силу привычных путей размышления.
154 Сдвиг интереса урбанистов от зданий, кварталови сообществ к проводам, трубам, воде, микробам,ядохимикатам, радиоактивным отходам и прочим невидимымсоставляющим городской жизни произошел в последниедесять лет. Еще раз подчеркнем, что серьезнымиконцептуальными импульсами этого сдвига явилисьфилософия Жиля Делеза и акторно-сетевая теория,разработанная социологами науки и технологии МишелемКаллоном, Джоном Ло, Брюно Латуром и другими.
Пастер и оспа154 Акгорно-сетевая теория претендует на разработку
концептуальных ресурсов «демократичного» по отношению к«нелюдям», то есть вещам и связям между ними, мышления.Она предназначена для описания взаимодействия самыхразнородных участников процессов, каких только можнопредставить, а именно участии ко в людей инечеловеческих участников — материальных объектов иживых организмов.
154 Брюно Латур определяет эту теорию как теорию,способную понять «нечеловеческих» акторов, не определяяаприори степень их участия в создании мира.
154 Он, соответственно, критикует социологию за еечрезмерную уверенность в способности раскрыть реальныемотивы участников социального действия, включенного всоциальные структуры, чья причиняющая сила остаетсязакрытой от акторов илитолько частично им понятной[см.: Latour, 2004:154— 156].
154 Латур убежден, что в таких, например, феноменах,как глобальное потепление или «озоновая дыра»,социальные и природные факторы смешаны таким образом,
что сами категории природного и социального становятсябессмысленными.
155 В книге «Пастеризация Франции* Латур подробнорассматривает открытие Луи Пастером противооспеннойвакцины, демонстрируя, что и Пастер как микробиолог иоспа как отдельный микроб в известном смысле возникли входе его экспериментов [см.: Latour, 1988].
155 Пастер смог добиться успеха только потому, чтозадействовал в своем исследовательском проекте самыхразных «акторов» — природных, социальных,технологических, политических, объединив их в «сеть» —спутанную, разнородную сложность
155 Что же именно осуществляет Пастер? Он следуетклассическому предназначению ученого — сделатьневидимое видимым, непонятное — понятным. Он бесконечноэкстрагирует, фильтрует, растворяет, выращиваетбиологические материалы, в ходе которых бацилла оспы иэкспериментатор «взаимно обмениваются и усиливают своикачества» [Idem, 1999: 125].
155 Но Латур неслучайно использует термин «со-конструирование». Бацилла, получается в его ин-терпретации этого этапа истории науки, не таиласьстолетиями невесть где, причиняя людям вред Она быласоздана ученым в качестве отдельной и независимойсущности. Им была сконструирована сложная социально-культурная сеть (Латур еще использует термин«ассамбляж»), которая и позволила бацилле возникнуть.Существует ли теперь бацилла? Определенно, отвечаетЛатур. Но в каком смысле? Это не значит, что она будетсуществовать всегда. Или что она может существовать внесоциальных практик и научных дисциплин. Она существуеттолько в созданной ради ее открытия сети [см.: Ibid.:155-156].
155 А в сети все компоненты объединены симметрично, вней нет «более равных» акторов, поэтому не будетошибкой сказать, что именно бацилла оспы «сделала»Пастера знаменитым.
155 Разбор Латуром открытия вакцины позволяет понять,как соединяются основные компоненты акторно-сетевойтеории:
1)идея соконструирования;155 2) допущение о симметричности вклада
человеческих и нечеловеческих членов сети в еефункционирование;
156 3)изучение того, как сети складываются из самыхразнородных и неожиданных компонентов;
156 4)изучение того, как сети впоследствиикристаллизуются в стабильные конфигурации.
// Действие осуществляется своеобразным «совместнымпредприятием»
156 Действие, согласно этой теории, осуществляетсясвоеобразным «совместным предприятием», включающим всебя людей и «нелюдей».
156 Латур понимает, что он здесь подрывает одно изключевых антропологических допущений, а именно то, чток целенаправленному действию способны только люди.
156 Он убежден, что к целенаправленному действиюспособны также и институты, аппараты, «развертывания»,или диспозитивы, как их называл Мишель Фуко [см.:Latour, 1999; 192].
156 Латур рассуждает о действии тем же образом, чтоФуко о власти.
156 Микрофизика власти «на местах» вновь и вновьсоздает новые варианты власти/знания.
156 Эта динамика порождает «диспозитивы» —институциональные конфигурации, являющиеся источникамистратегий, порождающих и дисциплинирующих субъектов.
156 «"Действия", - настаиваетЛаггур, — это не то, что люди делают,а то, чего они достигают вместе сдругими» [Ibid.. 288].
156 Действие — результат того, что возникла сеть, асеть создается из компонентов, одни из которых могутбыть техническими, другие — социальными, третьи —природными.
156 Анализировать, как эти многочисленные (отгенетически модифицированных продуктов до ВИЧ-инфекции)сети возникают, укрепляются и куда простираются, — вотисследовательская программа акторно-сетевой теории,настаивающей на «симметричном» отношении к природнымобъектам и социальным субъектам.
Официальные лица и легионелла156 В центре нашей истории и рассказанной Латуром
истории о Пастере и оспе — микробы, невидимая частьгородской природы.
156 Главное отличие между этими историями в том, чтоЛатур в своем историко-научном исследовании живописуетна-157-учное открытие оспы, тогда как легионелла, ужебудучи открытой, лишь проявилась, или «вспыхнула», вВерхней Пышме.
157 С другой стороны, очевидная параллель междумикробами Пастера и микробами в водопроводных трубахсостоит в том, что как Франция XIX века не ведала обоспе, так и микроб легионеллы - до тою, как онпроявился поблизости и представил реальную угрозу, —для большинства из нас не существовал. Он возник вовсей своей очевидности, когда стало ясно, чтонедогретая вода для него - лучшая чашечка Петри И он...продемонстрировал свою активность в качестве «агента»,объединенного с людьми в одну сеть, в данном случае —городскую теплосеть. Есть и другая параллель: оспапрославила Пастера, а в данном случае легионелла могласделать свердловского губернатора печально знаменитым:«А, это тот, у которого люди заражаются воспалениемлегких, приняв горячий душ!»
157 Как же это противоречит образу лидерастремительно трансформирующегося региона, в которомстроятся все новые объекты и возводятся все новыевысотные здания, в котором бьет ключом деловаяактивность и перспективы развития которого все болеерасширяются!
157 Небезосновательно позиционируя себя как большогомастера привлечения иностранных инвестиций, губернатормог знать, а мог и не знать, что в еще одном крупномгороде — Санкт-Петербурге — легионелла фигурировала вконтексте, куда более тесно связанном с инвестициями.Туристская привлекательность второй столицы — источникэкономического благополучия большого числа людей иструктур.
157 После того как в газете «Guardian» былаопубликована заметка о том, что пожилые английскиетуристы с круизного корабля, делавшего остановку вПетербурге, заболели легионеллой и допускают, чтозаразились поблизости от городских фонтанов (URJL http://www . guardian . co . uk /international/story/0„2138543,00.html), пресс-службаВодоканала Санкт-Петербурга распространила заявление,что вода в фонтанах - водопроводная, то есть поопределению проходит глубокую очистку (как если бы под158 Екатеринбургом люди заразились не из водопровода),что фонтаны ежедневно осматривают специалисты (!) и чтовода в них просто-напросто слишком холодная длявыживания бактерий.
158 Этот эпизод еще раз свидетельствует о том, что всегодняшнем глобализованном человеческом воображениимикробы играют важную роль.
158 Они, с одной стороны, олицетворяют невидимость иповсеместность рисков, а с другой стороны,символизируют потребительскую искушенность иактивность: микробы, внушают нам послания рекламчистящих средств, это то, с чем можно справиться, то,что можно уничтожить, то, по отсутствию чего навверенной тебе территории (кухня, унитаз, квартира,далее — везде) о тебе судят как о хорошем хозяине.
158 В «Тринадцати друзьях Оушена» (2007) режиссераСтивена Содерберга есть эпизод одним из способов местиза «кинутого» друга, который придумывают Оушен и Ко,стало помещение судьи, присуждающего престижнуюгостиничную премию, именно в тот номер роскошного отеля
при развлекательном центре, который предварительно былщедро опрыскан бульоном, кишмя кишащим бактериями.Когда все это биологическое разнообразие высвечиваетсясудьей, проверяющим номера гостиницы на соответствиесамым строгим гигиеническим нормам в инфракрасных иультрафиолетовых лучах, ты понимаешь ужас бедолаги. Ноздравый смысл подсказывает, что что-то подобное — приподобающей смене оптики — можно увидеть и в родномжилище.
158 Так потребители и колеблются между высокомернымсамообманом, иллюзией контроля («Где угодно, только неу меня») и реалистичным пониманием того, что мы давноуже с микробами сосуществуем, и наше счастье, что мы ихне видим.
158 Легионелла в силу своей вездесущности —вредоносный агент (по Латуру, агент в буквальном смыслеслова!), угрожающий имиджу города.
158 Риторическая стратегия петербуржцев: «Это не унас! В наших фонтанах ничего такого нет! Вы лучшекондиционеры у себя на корабле проверьте!»
158 Риторическая159 стратегия свердловского губернатора: «Этот случайникак не связан именно с моей территорией, так какмикробы повсеместны». Россель переворачиваеттрадиционный социологический аргументов«исключительности человека», в соответствии с которымфизические и природные объекты рассматриваются «вдали»от людей с их проблемами. Он поднимает вопрос о том,как люди выживают в мире микробов, имея в виду, что размикробы повсюду, то окончательно справиться с ниминевозможно.
159 Контекст для социальных проблем здесь образо-ван, ни много ни мало, всей биосферой, губернаторСвердловской области, ведя речь о человеке вообще имикробах вообще, такой естествоиспытательской риторикойискусно «вычитает» из своей картины технологическиесети и «человеческий фактор», прибегая к классическомуаргументу «неуправляемости природы».
Природа и политика159 В 1980—1990-е годы ряд социальных теоретиков в
длинный перечень провозглашенных тогда «концов»(истории и автора, искусства и философии) включили иконец природы [см.: Giddens, 1994; Smith, 1992].Риторическое обоснование «конца», как правило, включаетпоправку относительно того, что речь идет не обезоговорочном исчезновении того или иного феномена, нолишь об исчерпании традиционного его понимания.
159 Так, говоря о природе, Ульрик Бек настаивает, чтонаступил «конец противопоставления природы и общества»[Бек, 2000: 98], имея в виду, что природа, безразрушения которой современное общество не могло бысуществовать, стала частью общественно-экономического иполитического развития.
159 Нет смысла представлять природу первозданной, инеправы будут те, кто мыслит ее находящейся вдалеке.
159 Все это в прошлом, теперь потенциально каждая еемалая часть может быть модифицирована, и нет ни единогоместа на земле, не затро-160-нугого антропогеннойактивностью.
160 Бек справедливо обращает внимание на то, что языкнас дезориентирует, когда мы продолжаем говорить об«окружающей» среде, тогда как «индустриальнопреображенную "внутреннюю природу" цивилизованного мираследует воспринимать не как окружающую среду, а каквнутреннюю среду, относительно которой наши возможностидистанцирования и разграничения проявляют свою не-состоятельность» [Бек, 2000; 99).
160 Эти оценки совпали по времени с разворачиваниемпарадигмы социального конструктивизма, в рамках которойневозможность отделить друг от друга социум и природу вих действительном материальном существовании быладополнена впечатляющей демонстрацией социальнойсконструированности представлений о природе и активнойманипуляции понятием естественного в социальных иполитических целях [см.: Eder, 1996; Robertson, 1996].
160 Так, географы Ноэл Кэстри и Брюс Брауннастаивают, что сегодня продуктивнее задаваться невопросом о том, что общество делает с природой, новопросом «кто конструирует какие природы, с какимицелями и с какими социальными и экологическимипоследствиями?» [Castree, Braun, 2005].
160 Драматическое одиночество человека в миремикробов, подчеркнутое в реплике свердловскогогубернатора, может быть истолковано так, что отношение«человека» к «природе» определяется ситуативно, врамках местоположенных практик самых разных «публик».
160 Эти отношения двусмысленны, различны ипроизвольны.
160 Деловые сообщества и сообщества политиков,делегируя из своих рядов экспертов, должны как-тосовладать с этой двусмысленностью, губернатор, надосказать, справился с этой задачей не худшим образом.
160 Фактически, повторим, его реплика - это вариантаргумента о «неуправляемой природе», который активно,настаивают Джон Урри и Фил Макнахтен, воспроизводятчлены правящих сообществ посредством «официально-бюрократических, научных и управленческих дискурсов»[Urty, Macnagbten, 1998].
160 Нам этот161 аргумент знаком по освещению в прессе началаотопительного сезона: он всегда застает коммунальщиковврасплох
161 Моральная и политическая насущность вопросовглобального потепления, эксплуатации транснациональнымикорпорациями экологии малоразвитых стран, последствиябиомедицинского картографирования генетической системы— все это побуждает по-новому присмотреться к динамикеотношений природы и общества, к тому, какие возможностидля освобождения людей эта изменившаяся динамика можетсодержать. Люди стремятся сохранить свои средыобитания, будучи включенными во властные отношения.
161 При капитализме множественные социоэкшогическиеотношения доминирования и подчинения скрыты за
товарными отношениями. Тем не менее город оказываетсяместом соединения разнообразных социо- экологическихпроцессов — от ближайшего подвала до отдаленных уголковземного шара. Эрик Суингеду продолжает эту тему в книге«Социальная власть и урбанизация воды» [см.:Stvyngedouw, 2004].
161 Регуляция поступления воды в города городскимивластями — иллюстрация необходимости развитиямарксистской урбанистической политической экологии. Ееглавный тезис в том, что материальные условия городскойприроды контролируются и манипулируются в интересахэлиты за счет маргинализованных слоев населения.
161 Эти условия в свою очередь зависят как отсоциальных, политических и экономических процессов, таки от культурных конструкций и репрезентаций,определяющих, что понимается псд «городским» и«природным».
161 Ученица Суингеду, оксфордский городской географМария Кайка в книге «Город потоков» [см.: Kaika, 2005]предлагает мыслить современный город как гибридный«ландшафт-палимпсест».
161 Кайка на примере воды в городе показывает, что,хотя природу и город уже ничто в умах людей несвязывает, циркуляция воды в городе определяетсяполитикой: снабжение водой — это арена, на которойразворачиваются конкретные политико-экономическиепрограммы.
161 Каким образом полито-162-ческая экономияурбанизации проявляется в дискурсивных и материальныхпрактиках в отношении воды?
162 Если в пору культурного энтузиазма в отношениииндустриализации плотины и водонапорные башни былипопулярными у людей местами посещения и отдыха, возлених даже устраивались пикники, то постепенно успехипромышленности и повсеместность технологии сталипривычными, а процессы коммодификации укрыли отчеловеческих глаз «потоки природы» и включенные в нихвластные отношения: вода течет из крана и наливается из
бутылки, так что о ее происхождении с неба или из рекине задумываются, Кайка рассматривает, каким образомпроцессы приватизации сказались на снабжении Лондонаводой начиная с 1970-х годов. Кратковременные интересылюбой частной компании, то есть ее нацеленность намаксимально быстрое получение прибыли, ведут к тому,что экологические и социальные интересы всегда будутпоследними, что она примет во внимание.
162 В случае Лондона недостаток ресурсов, отведенныхдля поддержания водопровода в порядке, приводил к мно-гочисленным авариям и потере воды.
162 Побудить компании к учету экологическихпоследствий их деятельности могут только специальныемеры, рассчитывать на логику рынка в данном случаесовсем не приходится.
162 Многочисленные превращения и метаболизмы,поддерживающие и определяющие городскую жизнь — от водыи пищи до сотовых телефонов и компьютеров, —нерасторжимо переплетают между собой физические исоциальные процессы.
162 За ними важно видеть различные варианты городскихэкологий — от «умных» домов и ухоженных парков,сосредоточенных на территориях «дворянских гнезд» икоттеджных поселков, до вредных отходов, таящихся впочве под домами попроще, квартиры в которых отделаныдешевыми, но вредными для здоровья материалами.
162 Внимание к разнообразию вариантов взаимодействиягорода и природы позволяет внести уточнения в тезисЭнгельса о принципиальной «неустойчивости» городов:процессы развития городской экологии та-163-КОВЫ, чтоесли одни группы от них страдают, то другим ониприносят выгоду.
163 Урбанистическая политическая экология призываетзадавать такие вопросы; кто платит за развитие го-родской экологии, а кто от этого приобретает выгоду?каким образом воспроизводятся глубоко несправедливыесоциоэкологические отношения?
163 Самым зримым процессом, делающим политическуюэкологию насущной теорией, является каммодификагщяприроды, или окружающей среды, с целью увеличенияшансов городов и регионов на победу в глобальном илинациональном соревновании по привлечению инвестиций.
163 Так, в США понятия устойчивого развития(sustainable development) и умного роста (smartgrowth)активно используются в рамках дискурса «зеленойреволюции» (green revolution) во имя улучшения экологи-ческих условий жизни людей.
163 Нередко, однако, это оборачивается улучшениемусловий жизни только для состоятельных людей.
163 Политики устойчивого развития (защита «зеленогопояса» города, продвижение «зеленых» районов какпривлекательных для состоятельных людей и так далее)вытесняют людей с низким заработком в отдаленныерайоны, что влечет за собой увеличение времени надорогу до работы и, соответственно, негативноевоздействие на окружающую среду.
«Умный рост»163 «Умный рост» (smart growth) — инициатива
американских планировщиков и городских властей, тесносвязанная с понятиями качества жизни и новогоурбанизма. Американский Институт городскогоземлепользования (American Urban Land Institute)определяет «умный рост» как сочетание экологическойустойчивости и неотрадиционалистских подходов к поли-тике широкой коалиции интересов, нацеленной на усилениестратегического планирования и эффективноеиспользование городского транспорта [см.: Thorns,2002].
163 Сан-Франциско и164 Портленд — два города, где такие коалиции особенновлиятельны.
164 К примеру, два раза в год мусорщики Сан-Францискособираются на обед вместе с городскими властями: винопредоставляют местные виноделы, зелень — фермеры. Это
знак признания вклада мусорщиков (их называютработниками но очистке города — sanitation workers) всельскохозяйственное производство. Они ежедневнодоставляют 350 т пищевых отходов на городскую фабрикукомпоста. Жители Сан-Франциско следуют так называемойсистеме «Fantastic 3», складывая производимый ими мусорв три корзины: для перерабатываемых отходов, пищевых ивсего остального.
164 Первые два типа отходов вывозятся бесплатно, завывоз третьего типа жители платят. Все это позволило на70 % сократить вывоз мусора на городские свалки,расположенные, как и везде, на прилегающих к городуполях Программа по изготовлению компоста - самая значи-тельная в США — также позволяет уменьшить экологическийотпечаток города.
164 Исследования, проведенные в городе, показали, что20 % выбросов связаны с гниением, в особенности сметаном, получающимся от разложения пищевых отходов.Хотя есть технологии, позволяющие улавливать метан насвалках, они не очень эффективны: до двух третей газаулетучивается.
164 Изготовление компоста гораздо более эффективно:метан поглощается, а город получает продукт, которыйпродает фермерам, владельцам виноградников и полей длягольфа. Две тысячи ресторанов и большинство жителейсортируют свой мусор.
Экологическая устойчивость городов164 Если в прошлом люди составляли незначительный
компонент природных экосистем, то постепенно ихдеятельность сравнялась по своему масштабу с силамиприроды.
164 К 2050 году население мира возрастет, по разнымоценкам, от 7,6 до165 10,6 млрд человек [см.: United Nations, 2005].
165 Справятся ли экологические системы Земли с этойнагрузкой?
165 Способны ли будут государства снабдить едой ивсем необходимым такое количество обитателей?
165 В недавнем прошлом человечество перешагнуловажный рубеж: сегодня большее количество людей живет вгородах, чем в сельских поселениях [см.: UnitedNations, 2004].
165 Отражением этих тенденций и тревог стало понятиеэкологической устойчивости города (urbansustainabUity), фиксирующее необходимость сократитьнагрузку, оказываемую городами на окружающую среду.
165 В набирающих сегодня популярность терминах —уменьшить экологический след городов(ecologicalfootprint). Воздействие города можноописать, измерив его экологический след, то есть меру«нагрузки» на природу, которая возникает в результатеудовлетворения разнообразных потребностей городскихобитателей.
165 Сегодня, с одной стороны, социоэкологический следгорода стал глобальным (по словам Эрика Суингеду), сдругой стороны, будущее некоторых городов неопределенноиз-за экологической ситуации, которую они создают иусугубляют.
165 Чем слабее законодательная регуляцияэкологических проблем, тем более высока вероятностьтого, что экономический рост быстро развивающихся странбудет достигнут ценой драматического загрязнениявоздуха, воды и земли.
165 Политически эти тенденции отражаются в ростекоалиций заинтересованных сторон и появлении всебольшего числа неправительственных организаций,пропагандирующих необходимость срочных мер и увеличенияэкологической осведомленности граждан. В июне 2005 годамэры крупных городов мира собрались в Сан-Франциско,чтобы подписать Декларацию зеленых городов.
165 Общие городские экологические вызовы, с которымигородские власти и горожане сталкиваются повсеместно, —перегруженность городов автомобилями, пробки,
отдаленность мест проживания от мест работы, ростпригородов, недостаток воды, неравномерное развитие.
165 Успехи городских властей по части устранения этихпроблем, как166 правило, весьма скромные.
166 Особенно значимы те, где властям удается убедитьместное население в необходимости «что-то сделать».
166 Так, бывший мэр колумбийского города БоготаЭнрике Пепьялоса резонно гордится своим проектом«цивилизованного города», то есть тем, что ему удалосьввести «дни, свободные от машин», побудить людей чащепользоваться общественным транспортом и так называемымимягкими способами передвижения — на велосипеде ипешком.
166 Богатых обитателей Боготы он убедил внеобходимости капиталовложений в инфраструктуру техрайонов, где те живут, — из того соображения, что лучшепользоваться общественными благами (школами, к примеру)«на месте», чем ездить за тридевять земель. Этот примерподтверждает очевидное: экологические проблемы тесносвязаны с социальными.
166 Успех в их решении зависит и от социальногокапитала района или города. Этот пример указывает и нанекоторое прекраснодушие городских экологов 1980-х,предлагавших в своих книгах бороться с «гранитнымисадами», создавать города, более дружественные к своимобитателям, города с изобилием парков вместо парковок,с открытыми, а не спрятанными под землю реками (см.:Spirn, 1984, 2000].
166 Строительство городов, гармонично сосуществующихс природой, сегодня вряд ли достижимо в силу какполитических, так и экономических причин. Сложнозаставить полчеловечества добираться на автобусе доработы или магазина.
166 Сложно побудить людей отказаться от тех благцивилизации, с которыми они сроднились и с которымиэмоционально связаны, пожалуй, прочнее, чем с природой.
166 Пригороды, которые многие предпочитают сегоднякак место жительства, воплощают тот стиль жизни, тепредставления о свободе и необходимом для жизнипространстве, которые для многих людей нерасторжимы сих идентичностью.
166 Самое же главное состоит в том, что никто неотказался бы от того, чтобы жить в более чистом изеленом городе, но сделать что-то для этого инди-видуально не готов.
166 Мы сталкиваемся здесь с классической167-168 сложностью организации людей на какое-токоллективное действие.
167 Побудить людей меньше ездить на машинах помогаютобщественные кампании
168 Решение экологических проблем в городе требуетсрочных коллективных действий, но коллективнымидействиями часто не удается достичь тою, что предпочелбы каждый индивид. Более благополучная окружающая средаотнюдь не занимает достаточно высокого места в спискечеловеческих приоритетов.
168 Тем значимее работа каждого из нас над собой.Возможно, в не столь уж отдаленном будущем станутнепопулярными езда на внедорожниках, поеданиеполукилограммового стейка, строительство огромныхзагородных домов, выбрасывание большого количествавещей под давлением моды.
168 Если тебе есть дело до городской (и просто)природы, ты подашь пример другим людям. Когда такихлюдей будет достаточно много и они продолжат оказыватьвлияние друг на друга, появится рынок «зеленых»продуктов (покупаемых не только потому, что они полезныдля твоего здоровья) и экологических технологий. Ужесегодня тенденции развития рынка автомобилей- гибридови нарастающая популярность движения downshifting (см.:http :// www . downshifting . ru / about ) выглядят достаточнообнадеживающе.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.:Прогресс- Традиция, 2000.
Блинов А Азбука градостроительной экологии [Электрон, ресурс],URL nauka.relis.ru/ 09/0203/09203024.htm
Мунгалов Д. Имя ей — легионелла // Русский Newsweek. 2007. 6—12 авт.
Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К и Эн-гельс Ф, Сочинения. 2-е изд 1955. Т. 2. С. 31—517.
BhaskarR. Plato etc. The Problems of Philosophy and TheirResolution. L: Verso, 1994. P 36-45.
Castree N, Broun B. Constructing Rural Natures // Ed. MarsdenT. The Handbook of Rural Studies. London: Sage, 2005.
Cronon W. Nature's Metropolis: Chicago and the Great West.N.Y.: Norton, 1992.
Douglas I. The City as an Ecosystem // Progress in PhysicalGeography. 1981. № 5. P. 315-367.
EderK. The Social Construction of Nature. L: Sage, 1996-Fitter RS. London's Natural History. L: Collins, 1945.Friends of the High Line [Electronic resource], URL: http://
www, thehighiine.orgGandy M. Concrete and Clay: Reworking Nature in New York City.
Cambridge: МГТ Press, 2002.GiddensA Living in a Post-Traditional Society / Ed. U. Beck, A
Giddens, S. Lash. Reflexive Modernization Politics, Traditionand Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: PolityPress, 1994.
GUI D„ Bonnett P. Nature in the Urban Landscape: A Study ofCity Ecosystems, Baltimore: York Press, 1973.
Heynen N., Kaika M., Swyngedouw E. In the Nature of Cities:Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, L;N.Y,; Routledge, 2006.
iannuzzi TJ, Ludwig DF, KinnellJ.C, WallinJM, Desvousges WH,Dunford R.W. A Common Tragedy; History of an Urban River.Amherst: Amherst Scientific Publishers, 2002.
Kaika M. City of Flows: Modernity, Nature and the City. L:Routledge, 2005.
LatourB. The Pasteurization of France. Cambridge: HarvardUniversity Press, 1988,
LatourB. We Have Never Been Modern / Trans. C. Porter.Cambridge: Harvard University Press, 1994.
Latour B. Pandorra's Hope: Essays on the Reality of ScienceStudies. Cambrigde: Harvard University Press, 1999
Latour B. When Things Strike Back: a Possible Contribution of'Science Studies' to the Social Sciences 11 British Journal ofSociology. 2000. №51. Issue № I.January/March. P. 107—123.
Latour B. Why Has Critique Ran Out of Steam: From Matters ofFact to Matters of Concern // Things / Ed. B, Brown Chicago,London: University of Chicago Press, 2004. P. 154—156.
Robertson G. Future Natural: Nature/Science/Culture. L:Routledge, 1996.
Smith N. Uneven Development: Nature, Capital and theProduction of Space. Oxford: Blackwell, 1992.
Social Nature: Theory, Practice and Politics / Ed. N. Castree,B. Brown. Oxford: Blackwell, 2002.
SpimAW, The Granite Garden Urban Nature and Human Design N.Y.:Basic Books, 1984.
SpimAW. Language of Landscape. New Haven: Yale UniversityPress, 2000.
StilgoeJ, GopnikA, StemfeldJ. Walking the High Line. N.Y.:Steidl/Pace/ MacGill Gallery, 2002.
Sivyngedouw E. Social Power and the Urbanisation of Water:Flows of Power. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Thorns D. The Transformation of Cities: Urban Theory and UrbanLife. Palgrave: Basingstoke, 2002. P 224
United Nations. World Urbanization Prospects: The 2003Revision. Population Division of the Department of Economic andSocial Affairs of the United Nations Secretariat. 2004[Electronic resource). URL: http:// esa.un.org/unpp
United Nations. World Population Prospects: The 2004 RevisionAnalytical Report. Population Division of the Department ofEconomic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,2005 [Electronic resource]. URL http://esa.un.org/unpp
Urry/, Macnaghten P. Contested Natures. L: Sage, 1998.WeismanA The World Without Us. N.Y: St. Martin's Press, 2007.Whatmore S. Hybrid Geographies: Natures, Cultures, Spaces. L:Sage, 2002.
Williams R. The Country and the City. L: Chatto a Windus,1973.
171-221 Гл 4 Город и мобильностьТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 4Город и мобильность
171 Обитатели города зависят от транспорта и еже-дневных перемещений.
171 Люди путешествуют по делу и в отпуск из города вгород, а международная иммиграция — на повестке днябольшинства развитых стран.
171 Практики мобильности и репрезентации мобильностистановятся все более важными для понимания современногогородского общества.
171 Очередь в кассу в супермаркете и вечерняятранспортная пробка, усталый предутренний танецсвадебных гостей и воскресные «покатушки»велосипедистов, костыли инвалида и выволакиваниеколяски из двери подъезда молодой матерью, доставкапродуктов и вывоз снега, проблемы компании с таможней иновый аэропорт — движение в городе разнообразно.
171 Дороги и сети, объединяющие места работы людей иих дома, а это место на карте — со множеством других,делают город средоточием движения. Перемещаются идоставляются по назначению люди, продукты и товары,вывозится мусор. Как все это многообразное движениеописать? Как зафиксировать в понятиях сложнуюдиалектику подвижности и неподвижности, перемещения иоседлости, которую города издавна воплощают?
171 Памятные нам со школы объяснения возникновения ироста того или иного города «пересечением торговыхпутей» имеют к проблематике мобильности прямоеотношение.
171 Вни-172-173-мание к разнообразному транспорту какглавному средству передвижения отличало городскиеисследования на протяжении всего XX столетия.
172 По катушки» велосипедистов — глобальный тренд173 Сегодня исследователи призывают, следуя
традиции именования смен парадигм «поворотами»,«повернуть к мобильностям», то есть объединить в одноммеждисциплинарном поле исследования транспорта каксредства мобильности и самые разнообразные видыдвижения людей и вещей.
173 Более того, сложные философские и социальныетеории привлекаются для того, чтобы попытаться сделатьболее мобильной и концептуальную сетку мышления. В этойглаве мы CI! а чал а рассмотрим уроки транспортнойгеографии, остановимся па взглядах ряда авторов,предвосхитивших «поворот к мобильностям», а затемобратимся к его существу.
Исследования городского транспорта
173 Внимание географов вначале привлек«дальнобойный», межрегиональный транспорт и его влияниена города.
173 Немецкий географ Вальтер Кристаллер одним изпервых увязал в своей классической теории центральныхмест местоположение, расстояние и движение,продемонстрировав дифференциацию мест в зависимости отуникальности услуг и товаров, которые в них можнополучить: скажем, товары повседневного спросапроизводятся и потребляются в малых городах, а каче-ственный сезонный шопинг возможен только в городах-мил-лионпиках.
173 По этой логике самыми центральными местами-городами сегодня будут те, что именуются глобальными(см. об этом главу 6).
173 Кристаллер прослеживает складывание транспорта вЕвропе, подчеркивая, что высокая стоимость и медленнаяскорость передвижения приводили к тому, что торговыегорода первоначально отстояли друг от друга примерно на10 миль, а торговля шла с жившими неподалекукрестьянами [см.: Cbristaller, 1968].
173 Только соль, пряности, шелк, золото и дра-гоценности перемещались на дальние расстояния, давначало174 поселениям на торговых путях, остававшимсянезначительными по размеру.
174 Идеи Кристаллера были развиты американскимиурбанистическими географами Чонси Харрисом и ЭдвардомУльманом, построившими после Второй мировой войныинтересную типологию городов в зависимости от характерапредоставляемых ими благ и услуг: города какцентральные места, города как транспортные узлы игорода как пункты специализированного сервиса(большинство городов сочетают в своем функционированииэти три фактора). Как центральные места города являютсяторговыми, политическими и общественными (в частности,религиозными) центрами. В качестве транспортных узловони нередко линейно располагаются вдоль водных артерий
или железных дорог. «Все города зависят от транспорта,необходимого чтобы использовать для своей поддержкиокружающие земли», — подчеркивают географы [Harris,Ullman, 2005: 48—49]. Это, в свою очередь, разрушаетсимметрию центральных мест (которая возможна, когдагорода образуются посреди гомогенных территорий, как,например, на аграрном Среднем Западе): транспортныецентры распределены по земле неравномерно в силуособенностей рельефа. Географы подробно останавливаютсяна понятии города как ворот (gateway) или как окна (чтоболее нам знакомо по истории своей страны),объединяющего «контрастные регионы с контрастныминуждами» [Ibid:. 49]. Так, Канзас-Сити и города-близнецы Миннеаполис и Сент-Пол являются и центральнымиместами для окружающих аграрных регионов, и воротами назапад страны. Порты Нового Орлеана, Саванны,Чарльстона, Норфолка традиционно служили воротами кХлопковому поясу страны. Такие города, как Балтимор,Вашингтон, Цинциннати и Луисвилль, — ворота на юго-запад страны.
174 Ульман и другие транспортные географы в 1950—19б0-е годы ратовали за использование количественныхметодов в урбанистической географии, стремясьопределить, как расстояния и соединяющие города типытранспорта (автодороги,175 железные дороги, телекоммуникации) влияли на объемдвижения между разными местами.
175 Они продемонстрировали, что экономическаядинамика существенно зависела от двух типов связанных странспортом ограничений — временных (перевозка занимаетвремя) и финансовых (перевозка требует денег).
175 Линейное программирование, факторный анализ, се-тевой анализ были привлечены для того, чтобы продемон-стрировать тесную связь экономической деятельности и ееместоположения, то есть зависимость экономики от про-странственно-временной координации труда, материалов иэнергии.
175 Так, к 1800 году большинство юродов либорасполагались на воде (низкая стоимость навигации),либо были столицами, и их росту способствовали скорееполитические обстоятельства, нежели преимущества,получаемые от торговли. Взаимосвязь транспорта игородов была неоднозначной: далеко не во всех случаяхможно с определенностью сказать, какой фактор былопределяющим для развития. Безусловно, транспорт ис-пользовался для того, чтобы расширить и ускоритьпоставку товаров в города и тем способствовать ихпревращению в промышленные центры, но и функция городакак «хаба», то есть узлового центра взаимообмена,довольно скоро начала мыслиться как самодостаточная.Шотландский экономист Том Харт приводит интересныепримеры, иллюстрирующие противоречивость связитранспорта и перспектив городского развития. Онговорит, что в XIX веке очень многие города стремилиськ коммерческой экспансии, вкладывая серьезные средствав развитие транспортного сообщения с отдаленнымирегионами, но только некоторые — Нью-Йорк и Чикаго —достигли фантастического успеха С другой стороны,шотландский Глазго стал крупным промышленным городомболее чем за сто лет до того, как в нем был построенкрупный современный порт.
175 Некоторые города выиграли от того, что вложилисьв инфраструктуру, позволившую им стать «хабами» дляперевозки грузов по морю и по суше (океан — порт —железная дорога или176 река), но далеко не всегда деньги, потраченные настроительство новых портов или аэропортов,оправдываются [см.: Hart, 2001: 102—103].
176 Когда читаешь такого рода скептические оценки, вэто с трудом верится, потому что крупные транспортныепроекты часто становятся гордостью муниципалитетов ирегиональных правительств, о них много говорится впрессе в том ключе, что процветание региона иблагополучие людей непосредственно зависят от того,
будут ли завершены или реконструированы новый вокзал,аэропорт, центр логистики.
176 Похоже, что политическая значимость подобныхпроектов, прямая заинтересованность в них первых лицрегиона и города и их активное освещение в прессе непозволяют оценить их реальную экономическую значимость.
176 Харт настаивает, что объекты, возведенные ссильным опережением спроса, могут создатьфинансовые/налоговые проблемы в городах с недостаточноразвитой экономикой.
176 Так что в выигрыше, как всегда, будут большиегорода, которым часто и в течение длительного времениудается избегать крупных вложений в свои аэропорты,склады и вокзалы. Однако статусные притязания городовпоменьше, выражающиеся в увеличении числа прямых рейсови в претензии на то, чтобы стать промежуточнымитранспортными «хабами», делают связь городов и переме-щений на дальние расстояния полем упорногосоревнования. В исследованиях последнего временирасширение авиасообщения из того или иного городарассматривается в контексте городскогопредпринимательства, то есть «глобальных» амбицийместных правительств, их стремления повысить местоконкретного города в городской иерархии.
176 Так, транспортный географ Ола Джохэнсон[см.:Johansson, 2007] на примере аэропорта в городеНэшвилл показывает, как политика, осуществляемаяальянсом местного правительства и бизнеса, хотя и невсегда успешная, способна расширить экономическиевозможности среднего по размеру города.
176 Однако проблема связи между реальными«мобильными» потребностями городского населения (ковсем ли нужным177 местам у людей есть транспортный доступ) итранспортной политикой городских властей, в частностивложениями в крупные проекты, стоит во многих городахвесьма остро и нуждается в детальном критическомисследовании.
177 Обратимся теперь к внутригородскому транспорту,обеспечивающему движение внутри города и близлежащегорегиона. Специалисты по городскому транспорту состорожностью высказываются в отношении того, только лихарактер транспортных сетей определяет форму города, нопризнают, что характер транспорта, доступного напринципиальных стадиях городского развития, существенноповлиял на плотность и размер городов.
177 Рассеяние и концентрация составляли двепротивоположные силы городского развития в XIX веке.Заводы располагались в центральных районах городов итам же сосредоточивалось жилье рабочих. Электричка,городской трамвай, метро и автомобиль сделали возможнымвозникновение так называемого города массовогоперемещения (mass transit city), для которого былохарактерно центральное расположение мест занятости ибольшинства видов активности (так что преобладающейсхемой движения была звезда; все дороги вели в центр).Тот факт, что первые линии метро Лондона и Нью-Йоркасвязывали пригород и центр, указывает на тенденцию,сложившуюся в конце XIX века и превалирующую до сих порстремление извлечь максимум прибыли из земли и активов,расположенных в центральном деловом районе, за счетлегкости доступа к ним из большинства точек города[см.: Hart, 2001: 106].
177 Городской историк Роберт Фогельсон показывает,что сам феномен американского даунтауна возникблагодаря развитию трамвайного движения: первыедаунтауны (сосредоточение крупных магазинов иразнообразных офисов на компактной территории центра)возникли на пересечении трамвайных линий.
177 Централизация и концентрация городского развитияпроявилась в них буквально: на площади, не превышавшейквадратную милю, соединились все правитель-178-ственные, финансовые, торговые институты, штаб-квартирыкорпораций и культурные заведения.
178 Концентрация мыслилась как большой стимул длябизнеса, а транспорт облегчал перемещение в центр
рабочих, клерков, деловых людей и покупателей. Чемскученнее становился деловой центр, тем привлекательнеедля жизни выглядел пригород: разделенность мест работыи жилья казалась большинству американцев естественной[см.: Fogelson, 2001: 31].
178 Так сложился пропагандируемый бизнесом имассмедиа идеал, иронически именуемый Фогель- соном«'Пространственной гармонией»: даунтаун — это сердцегорода, все, что делается для нею, благотворно и длягорода в целом. Как бы город ни расширялся, самыезначимые процессы и самые интересные события все равнопроисходят в его центре, поэтому единственное, чтотребуется, — это легкий к нему доступ. Фогельсонподробно рассматривает дебаты между сторонниками этогоидеала и его противниками, доказывавшими, что ресурсы,нужные для развития центра, наверняка будут отняты утех, кто находится на городской периферии, что нужноввести ограничения на высоту небоскребов, потому что впротивном случае владельцы земли и бизнесмены в другихрайонах города никогда не дождутся прибыли.
178 В течение XX века владельцы бизнеса в центрегорода убедились, что их интересы и интересы городаотнюдь не тождественны: все больший объемпромышленности, торговли и развлечений перемещался впригороды. Нарастающая децентрализация, считаетФогельсон, привела к тому, что даунтауны так и не воз-родили свою былую роль. Подчеркну еще раз, чтопреобладающие транспортные системы влияли на формугородов: «звездное» строение было предопределенотрамвайной сетью, а аморфное расползание городов -развитием автомобильного сообщения.
178 Том Харт прослеживает сходные тенденции в Европе,но показывает, что в крупных городах уже к 1914 годусложились и нерадиальные транспортные пути (на примеретрамвайных путей крупных городов Европы, построенных вформе сети179 или решетки, но не в форме звезды) [см.: Hart,2001: 107].
179 Развитее производства автобусов и автомобилейспособствовало нарастанию популярности моделиполицентричного города. Американские историки городовподробно рассматривают, как различные группы интересовсталкивались на протяжении XX века, способствуя вконечном счете ослаблению тенденции к чрезмернойцентрализации и уплотнению доступных большинствутранспортных сетей, не завязанных на центр [см.:Hanson, Giuliano, 2004]- Если британские городскиеисторики разрастание пригородов объясняют желаниембольшинства людей жить в частном доме с садом [см.:Thomson, 1982], то их американские коллеги признаютведущую роль в этом процессе транспортных инноваций(сначала распространение трамваев, а затем автомобилей)[см.: Jackson, 1985; Gutfreund, 2004].
179 Представление о том, что есть город, сильноизменилось в силу тесной связи субурбанизации иавтомобилизации, особенно в США. Послевоенный периодстал, по выражению географа Питера Маллера, «эройфривеев», окруживших и соединивших города. Те города,которые магистральные автодороги обошли стороной,обезлюдели. Как всегда во время строительствафедеральной системы автомагистралей, не на шутку стал-кивались интересы соперничающих городов. Так политикамштата Колорадо потребовалось убеждать в 1956 годупрезидента Эйзенхауэра в необходимости соединить Денвери Солт- Лейк-Сити за счет строительства дорогостоящейдороги в Скалистых горах. Между тем власти другогогорода — Шайенна, штат Вайоминг, — надеялись, чтоименно их город ляжет на пересечении магистралей.Росчерк президентского пера предопределил дальнейшее:сегодня мало кто слышал о Шайенне [CM ;.Judd, 1971:173].
179 Американские демографы подсчитали динамику субур-банизации за 50 лет в 39 городах и прилегающихтерриториях, насчитывавших в 2000 году свыше 1 млнжителей.
179 В 1950 году 34,1 млн, то есть 65 % жителей,проживали в городах и 18,1 млн — в пригородах, а в 2000году 81 млн — в пригородах180 и 39,1 млн (33 %) — в городах.
180 Если население городов за это время выросло на 15%, то население пригородов — в 4 раза [Greenberg, 2008:72}
180 При подсчете экспертами десяти ключевых факторов,повлиявших на американские города в 1950— 2000 годах,на первом месте оказались скоростные автомагистрали имашины, а остальные девять факторов тоже так или иначесвязаны с автомобилизацией: «...деиндустриализацияцентральных городов, обновление городов, расоваясегрегация, дискриминация на рабочем месте и городскиеволнения 1960-х — все это произошло, когда среднийкласс покинул города ради пригородов», что в своюочередь снизило доступность сервиса и сузиловозможности, связанные с проживанием в центральныхгородах [Ibid:. 72—73]. Хайвеи и субурбанизацияизменили вид и функции американского города.
180 В последние три десятилетия исследованиятранспорта испытали на себе влияние социальной иполитической теории, культурной географии, гендернойтеории, превратившись в междисциплинарное движение, врамках которого обсуждается связь транспортных систем,публичного и приватного пространства, социальных иполитических отношений, доступности тех или других мест{accessibility), пространственной и временнойорганизации деятельности людей.
Мобильность и политическая мобилизация180 Доступность для людей со скромными средствами
общественного транспорта — важное проявление социальнойсправедливости, одним из измерений которой являетсяпространственная справедливость. Социальные икультурные географы стремятся не только осуществлятьнормативный анализ этого понятия, но и рассматриватьконкретные случаи политической борьбы, в которых
вопросы пространственной справедливости и ее связи смобильностью стояли весьма остро [см -.Pfliegeretal.,2009; Norton, 2008\Fotsch, 2007].
180 Один из самых181 известных подобных случаев — кампания засправедливую систему общественного транспорта в Лос-Анджелесе, во главе которой стоял Союз пассажировавтобусов (Bus Riders Union) — социальное движениеработающих бедных, жизнь которых невозможна безавтобусов. Ему удалось оспорить интересы элиты иизменить приоритеты развития транспортной системы впользу людей с небольшими доходами.
181 История этой кампании такова. В 1980-е годытранспортные власти Лос-Анджелеса разработали планмодернизации, по которому предполагалось построитьдорогостоящую ветку железной дороги, предназначавшуюсядля соединения даунтауна с пригородами. В 1994 годувласти, испытывая дефицит бюджета, решили направитьсредства, первоначально предназначавшиеся для развитияавтобусного сообщения в городе, на эту железнодорожнуюлинию. Не забудем, что пригородной железной дорогойпользуются, как правило, благополучные обитателипригородов, тогда как от доступности автобусов зависитжизнь бедных. На автобусах в то время каждый деньдобирались до места работ около 0,5 млнафроамериканцев, а также их латиноамериканских иазиатских по происхождению сограждан. Так что, когда в1994 году было объявлено, что стоимость одноразовыхбилетов будет поднята с 1,10 долл. до 1,35, аежемесячные проездные будут отменены, те, кто добиралсяиз дома на работу, в больницы и школы на автобусе, быливозмущены. Эти решения и стали причиной создания Союзапод руководством Эрика Манна и Стратегического центратруда и сообщества (Labor/Community Strategy Center). Уэтой организации уже имелся опыт мобилизации рабочих,полученный во время массового закрытия фабрик в 1980-егоды [см.: Soja, 2000:256—257].
181 Однако в основе успеха движения лежала скореетолковая деятельность его активистов в правовом поле:они возбудили дело против транспортных властей города,обвинив их в транспортном расизме и в том, что ихполитика нарушает четырнадцатую поправку к КонституцииСША, согласно которой ни один штат не может отказатькакому-либо182 лицу в пределах своей юрисдикции в равной защитезакона, и статью 6 Билля о гражданских правах 1964года, запрещающую расовую дискриминацию получателейфедеральных льгот.
182 Иск был подан в суд от имени 350 тыс. бедныхпредставителей расовых и этнических меньшинств, Вкачестве доказательства в деле фигурировали данные онепропорциональном использовании общественных фондовдля строительства железнодорожной линии, которойпользовались по преимуществу белые представителисреднего класса, а также о предложенном властямиповышении цен за проезд на автобусе. В деле говорилось:«Хотя 94 % пассажиров, обслуживаемых транспортнымивластями города, — пассажиры автобусов и 80 % из них —цветные, транспортные власти тратят на них только 30 %своих ресурсов. Типичный пассажир автобуса — цветнаядвадцатилетняя женщина из семьи с совокупным доходом,не превышающим 15 тыс. долл., в год и не имеющей машины(согласно исследованиям, проведенным самими городскимивластями). Разительный контраст составляет то, что 70 %своих ресурсов транспортные власти расходуют нажелезную дорогу, которой пользуются только 6 %городских пассажиров, по преимуществу белых. Типичныйпассажир здесь — профессионал, доход семьи которого —около 65 тыс, долл. в год 69 % пассажиров всех пятилиний пригородной железной дороги — белые» [Cresswell,2006: 168—169]. Суд Лос-Анджелеса провозгласил в ответ,что повышение цен на билеты и отмена месячных проездных«нанесет существенные убытки принадлежащим кменьшинствам пассажирам автобусов, что приведет кпотере ими работы и жилья, неспособности получить
медицинское обслуживание, купить еду, лишит ихобразовательных возможностей и других базисныхжизненных потребностей» [Ibid;. 170].
182 Главная же победа была одержана в 1996 году,когда городские транспортные власти подписалисоглашение, по которому стоимость месячных автобусныхпроездных была уменьшена, а для организации ежедневныхперевозок отводилось значительно больше автобусов.
183 Эта история, конечно, очень вдохновляет. Временаизменились и в Америке, и повсеместно, но обсуждалосьхоть когда- либо в нашей стране неравномерноераспределение возможностей мобильности с таким четкимпониманием классовых и этнических различий? Сдается,что трезвая оценка большинством наших гражданвозможностей социальной политики государства и привелак массовой автомобилизации. Не ждать часами автобусовна остановках, не страдать от давки, не убеждаться, чтопроезд опять подорожал, — все это не было бы стольважно, если бы впереди маячили перемены к лучшему.Отмена в 2009 году социальных проездных для пенсионеровв ряде городов и регионов в ходе «монетизации льгот»вызвала локальные протесты: на демонстрации вышлипенсионеры Уфы, Екатеринбурга, Ижевска. Ноправительства — городские, региональные, федеральное —слишком заняты перебрасыванием ответственности занепопулярные меры. Так что высокая оценка американскими географами и юристами победы Союза пассажиров [см.также: Мапп, 2004], побудившего суды признать связьпроисхождения людей и того, что их интересами, какправило, пренебрегают, важна и в общем плане, так какнапоминает, что «разные люди в разных местах по-разномуоснащены и ограничены в отношении мобильности»[Cresswell, 2006: 172].
183 Дальнейшее развитие истории Союза пассажиров иего борьбы с городскими транспортными властями (борьбыДавида с Голиафом, считает кто-то из комментаторов)скорее свидетельствует об отсутствии надежных рецептовсвязанной с мобильностью политической мобилизации.
183 Так, активисты в других городах США, стремясьповторить успех, обнаружили, что проявления расовойдискриминации в организации работы транспорта оченьнелегко доказать. В самом же Лос-Анджелесеограниченность возможностей активистов в правовом полепроявилась после 2007 года, когда истек срок подписан-ного транспортными властями соглашения.
183 В соответствии с этим соглашением власти добавиликоличество автобусов на184 линии и не повышали стоимость проезда, но затем,столкнувшись со значительным бюджетным дефицитом,приняли решение о еще большем повышении стоимости.
184 Союз пассажиров пригрозил, что снова подаст всуд, но шансы выиграть дело весьма низкие как в связи сизменениями в федеральном законодательстве, так и всвязи с тем, что с тех пор расовая композицияпассажиров пригородной железной дороги сильноизменилась — среди них стало немало рабочих-латиноамериканцев [см.: Lin II, Rabin, 2007],
«Комплекс мобильностей как сплетения путей, ведущих внутрь и вовне»: взгляды Анри Лефевра
184 Одним из первых стал размышлять о связи города имобильности французский неомарксистский урбанист АнриЛефевр.
184 В этой книге о его взглядах речь идетнеоднократно, так что в данной главе я хотела бы лишькратко проанализировать, как Лефевр понималмобильность. Постижима ли мобильность города — этотвопрос для него связан с более масштабным: как возможнореальное знание о пространстве? Лефевр восстал против«контейнерного» представления о пространстве какстатичном вместилище вещей, привлекая для этого самыеразные концептуальные средства, в том числе ифизическую теорию Фреда Хойла, рассматривавшегопространство как порождение энергии [см.: Lefebvre,1991: 13],Такое знание должно одновременно учитыватьпрошлое и смотреть в будущее [см.: Ibid.-. 91], а
точнее помочь понять, как именно общества порождаютпространство и какие именно факторы стоит учесть вбудущем, размышляя о «проекте... другого пространства идругого времени в другом (возможном или невозможном)обществе» [Ibid.].
184 Тогда сегодняшнее, современное городское про-странство подлежит критике, но не слишком ли абстрактныи «умственны» используемые для его критики терминывроде185 «модернистской триады» «читаемости, видимости,постижимости» [Lefebvre, 1991: 96]?
185 Не слишком ли неосязаемы в городском пространстверезультаты развития истории, общества и культуры?
185 Не скрывает ли пространство свое содержание засмыслами, избыточными или недостающими? К тому жеиногда пространства нам лгут.
185 Так не попытаться ли проникнуть за фасадповерхностей?
185 Возможно, что ощущение стабильности, которымвеет, к примеру, от шестиэтажного дома, обманчиво. Егострогий абрис и бетон, из которого он сделан, побуждаютвидеть в доме воплощение неподвижности. Но можноувидеть в нем и нечто совершенно другое: «В свете этоговоображаемого анализа наш дом предстал бы какпронизываемый в каждом направлении потоками энергии,несомой внутрь и вовне любым вообразимым способом: сводой, газом, электричеством, телефонными линиями,радио- и телевизионными сигналами и так далее. Тогдаего образ как неподвижного уступил бы образу комплексамобильностей как сплетения путей, ведущих внутрь ивовне. Показывая соединение волн и течений, этот новыйобраз, куда точнее любого рисунка или фотографии,раскрыл бы в то же время тот факт, что этот объектнедвижимости в действительности — двусторонняя машина,аналогичная активному телу: одновременно требующаямассивного поступления энергии и основанная наинформации, а потому требующая мало энергии. Обитателидома воспринимают, получают и пользуются энергиями,
которые активно потребляются самим домом (для лифта,кухни, ванной и так далее)» [Ibid:. 93]. Сопоставимыенаблюдения, настаивает Лефевр, возможны в отношенииулицы и города в целом, который потребляет «поистинеколоссальные количества энергии, физической ичеловеческой» и представляет собой, по сути, постоянногорящий костер [Ibid],
185 Такое «энергийное» пространство не может бытьнейтральным вместилищем живого опыта людей, которые,глядя вокруг, видят прежде всего движение [см.: Ibid:,95].
185 Мобильность свя-186-зана с проживаемым временем,«величайшим благом среди всех благ», запечатленным впространстве подобно годовым кольцам дерева, но намневидимым в силу действия особой оптики.
186 Модерность — а Лефевр был ее страстным критиком —отмечена тем, что проживаемое время «утрачивает своюформу и социальный интерес, за исключением времени,проведенного за работой» [Lefebvre, 1991]. Инымисловами, «время оказывается подчинено экономическомупространству» [Ibid], оно в нем скрыто, оно «спрятанопод кучей обломков, от которых надо избавиться какможно скорее» [Ibid.-, 96]. Логика капиталистическойэкспансии приводит к тому, что «пространство опустошено— и опустошает», «ограничивает», будучи превращенным воднородное и рационализированное, лишенное границ«между городом и деревней, центром и периферией,пригородами и городским центром, сферой автомобилей исферой людей» [Ibid.-. 97]. Города превращаются в«коммерческие центры, напичканные товарами, деньгами имашинами» [Ibid: 50], а водитель автомобиля воплощаетлогику, по которой выхолащивается живое переживаниепространства в пользу его функционального использования(прежде всего специалистами): «...человек, которыйделает чертежи и знает только, как оставлять следы налисте бумаги, человек, который ездит и знает только,как водить машину, — все они вносят вклад в порчупространства, повсюду расчлененного. И все они
дополняют друг друга: водитель озабочен толькодоставкой себя по адресу, глядя вокруг, он видит толькото, что относится к делу, поэтому он видит только своймаршрут, материализованный, механизированный итехнизированный, и видит его только под одним углом, аименно функциональности: скорость, постижимость,удобство» [Ibid.. 313]. Лефевра заботит, что такимобразом теряется глубина восприятия людьмипространства, оно превращается в свой собственный«симулякр», уступая место поверхности, образованнойвизуальными знаками.
186 В работе, посвященной повседневности, Лефевркритикует стремительное изменение урбанистическоголандшафта Франции, в ходе которого историческаягородская среда раз-187-рушалась возведением все новыхдорог, необходимых для все новых автомобилей.
187 Авто «занимают почетное место в системезаменителей» [Lefebvre, 1990:104] подлинныхудовольствий, в принципе возможных в «подлинной»повседневности, .тогда как в ее капиталистическойверсии воображение людей подчинено «ложным нуждам».Циркуляция движения становится одной из основныхфункций общества, обусловливая «приоритет парковочныхмест, улиц и дорог» [Ibid:. 100] по отношению к другимсоображениям. Наблюдения Лефевра близки тем, чтосделали американские урбанисты, к примеру ДжейнДжекобс, сетуя на то, что поменялись функции городскойулицы; из места встреч горожан и повседневнойактивности она превратилась в место хранения иперемещения машин. Конструируя абстрактное,геометрическое городское пространство, технократы-управленцы, чьи интересы совпадают с интересамипроизводителей автомобилей, способствуют окукливаниюавтовладельцев в своих машинах и распаду общественногоизмерения городской жизни в силу исчезновения парков,рынков и других общественных мест.
187 Итог, подводимый Лефевром, грустен: «Автомобильпоработил повседневность, навязав ей свои законы»
[Ibid:. 101]. Порабощение автомобилем повседневностиЛефевр рассматривает в контексте плохого состоянияфранцузских дорог и соревнования водителей вагрессивности, столь знакомых нам по родным пенатам:«Движение машин позволяет людям собираться исмешиваться, не встречаясь, представляя поэтому яркийпример одновременности без обмена, заключенностикаждого элемента в своем собственном отсеке, егозамкнутости в своей скорлупе. Эти условия способствуютдезинтеграции городской жизни,., и усиливают особый"психоз" водителя; с другой стороны, реальные, ноограниченные и предустановленные опасности не мешаютбольшинству людей "рисковать", ибо машина с ее свитойраненых и погибших, с ее кровавым следом — это все, чтоостается от повседневной жизни с ее жалким рациономволнения и опасности» [Ibid],
188 Эти мысли Лефевра резонируют со свежейстатистикой, согласно которой, по данным последнегоисследования ВОЗ, ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 1,27 млн человек иоколо 50 млн получают травмы.
188 «Кровавый след» автомобилизации более чемнаполовину оставлен пешеходами, мотоциклистами ивелосипедистами. В России под колесами ежегодно габнетсвыше 10 тыс. человек Возможно, Лефевр ипогорячился,оназвав «жалким» «рацион волнения иопасности», которым мы вынуждены пробавляться вповседневности, но его диагноз переплетенности повсед-невной жизни и опасности, тревоги, неуверенности нетолько в завтрашнем дне, но и в исходе дня сегодняшнеговесьма точен (я вернусь к этой тематике в главе оповседневности).
188 Мыслитель в то же время видит мощнуюэкономическую логику, которая приводит к «расчленению,деградации и окончательному разрушению» городскогопространства [Lefebire, 1991:359]- Нацеленный надемонстрацию противоречий капиталистическогопроизводства пространства, он рассуждает о разрыве
между потреблением пространства, дающем прибавочнуюстоимость, и таким его потреблением, которое дает«только удовольствие» и в этом смысле не являетсяпродуктивным. Примером первого является созданиескоростных дорог, мест парковки, гаражей. Это«продуктивное потребление пространства»: оно производитприбавочную стоимость. С ним связаны правительственныесубсидии. А между тем «владельцы частных машин имеют всвоем распоряжении пространство, которое лично им стоиточень немного, но обществу в целом его поддержаниеобходится очень дорого. Такое положение дел приводиткувеличению числа машин и автовладельцев, что оченьустраивает производителей автомашин и усиливает ихвозможности влиять на расширение этого пространства»[см.: Ibid.]. Примером второго является разбивка паркови скверов и озеленение улиц.
188 За удовольствие же от зеленых насаждений,которое получает все городское сообщество, некомузаплатить.
188 Вот чем объясняется, что они исчезают: чембольше дорог и189 парковок, тем меньше деревьев и парков.
189 Эти рассуждения зафиксированы Лефевром в начале1970-х годов, когда о капитализме в России еще мало ктопомышлял, но сегодня трезвость (и постижимость)проведенного им анализа «автомобильности» труднопереоценить.
189 В стиле вождения, в спаянности статуса владельцаи дороговизны автомашины, в поедании парковками зеленыхмест проявляются социальные отношения капитализма.
189 Но Лефевр претендует на то, чтобы создать общуютеорию капиталистического производства городскогопространства, поэтому он завершает свою работуразмышлениями о «субстрате», базисе, основаниисоциальных отношений, каким является физическоепространство, что вновь приводит его к анализу мобиль-ности. Места, обеспечивающие мобильность, подозреваетон, обладают специфической природой, превышающей их
материальность: «На это основание (физическоепространство. — £.7.) наложены - так, что преобразуют,вытесняют или даже угрожают его разрушить, —последовательные наслаивающиеся и запутанные сети,которые, хоть они по форме и всегда материальны,существуют все же помимо своей материальности: проходы,дороги, железные дороги, телефонные линии» [Lefebvre,1991:403].
189 Помимо товаров, лежащих в основе социальныхотношений, нужно что-то еще: «Магазины и склады, гдеэти вещи хранятся, где они ждут, корабли, поезда игрузовые машины, которые их доставляют, — а поэтому ииспользуемые маршруты — нужно тоже принять во внимание.<„> Мир товаров не имел бы "реальности" без подобныхпристанищ или точек включения или без существования вкачестве ансамбля» [Ibid].
189 Два момента особенно значимы в этих рассуждениях.189 Во-первых, это коэволюция социального и
материально-технологического, на что впоследствии сталинастойчиво обращать внимание акторно-сетевая теория, азатем и сторонники «поворота к мобильностям».
189 Во-вторых, это акцент на сложной сети,образованной потоками и структурами, которые эти потокиделают возможными, — местами стоянки, надежными190 пристанищами, то есть сети, образованноймобильностью и иммобильностью.
190 Этот момент также стал ключевым в последующемизучении мобильности.
Поль Вирильо: скорость и политика190 Неспешность деревенского житья и скорость,
задаваемая городом, знакомы нам по личному опыту имногократно противопоставлены в литературе. Быстрее —значит лучше, быстрее — значит сделать больше заотведенное время, время — деньги, высокая скоростьэкономит время — все эти элементарные сегодня максимылежат в основе недовольства транспортными пробками иликачеством соединения домашнего компьютера с Сетью.
190 Производство мобильности и иммобильности,скорости и приостановки становится решающим факторомизменений социального пространства, стратификации,включенности и исключенности людей из сетей иинформационных потоков.
190 О связи скорости и современной социальной иполитической жизни писал целый ряд авторов [см.:Gleick, 1999; Rosa, 2003]. Я остановлюсь на взглядахфранцузского мыслителя, архитектора, планировщика иполитического активиста Поля Вирильо. Ему интересно,как скорость, возможная в век информационныхтехнологий, меняет городскую жизнь.
190 Если преобладающим объяснением «сжимания»пространства и времени, предложенным географом ДэвидомХарви и социологом Мануэлем Кастельсом, являетсяглобализация (см. об этом подробнее в 6-й главе), тоВирильо в своих взглядах ближе основательницесовременной социологии времени Барбаре Адам.
190 Для них ценность, которую придает скоростиобщество модерности, и есть главная причина всехизменений. По Адам, никто не ставит под вопрос ценностьскорости.
190 Все социальные проблемы рассматриваются «в тени»одержимости современного общества скоростью [см.: Adam,2003].
190 Вирильо также191-192 убежден, что скорость — в центре современнойцивилизации и политики и это скорее их негативнаяхарактеристика.
191 «Стоянка» велосипедов у библиотеки университетаГумбольдта — эмблема дружественного велосипедистамБерлина
192 Во-первых, ускоряется ведь и скорость принятияполитических решений, так что на убеждение граждан ивыслушивание их мнений ни у кого сегодня времени нет.Скорость дробит политическое сознание до такой степени,что современный человек не способен ни с кем и ни с чемотождествиться, когда пытается осмыслить своюсоциальную жизнь.
192 Публичная сфера поэтому приходит в упадок,демократия разрушается, а военно-промышленный комплексприобретает все большую власть. Столицы будущего уже небудут играть какой-то политической и социальной роли:их роль в качестве средоточия скорости выйдет напередний план [см.: Virilio, Lotringer, 2007]. Во-вторых, скорость связана с тем, что в основусовременного социального порядка уже невозможно поло-жить знание «...если скорость ответственна заэкспоненциальный рост вызванных человеком несчастныхслучаев XX века, она в равной мере ответственна заувеличение частоты экологических несчастных случаев...как и за эсхатологические трагедии, которыми угрожаютнедавние открытия, связанные с вычислением генома ибиотехнологиями. Если в прошлом местные несчастныеслучаи были еще местоположены... то глобальныенесчастные случаи — уже нет» [Virilio, 2003:24—25].
192 В-третьих, скорость ставит под угрозу подвижностьчеловека.
192 Ускорение всех измерений реальности оборачиваетсявластью машин и тех, кто их программирует [см.: Idem,2000: 122], тех, кто нацелен на «предельныепредставления» на грани возможностей искусства, науки итехнологии, оборачивается съеживанием нашего мира:
192 «Каждый раз, когда мы вводим ускорение, мы нетолько сокращаем протяженность мира, но и стерилизуемдвижение и величие движения, делая бесполезным действиедвижущегося тела» [Ibid.: 123].
192 Скорость передачи информации, которую делаютвозможной современные информационные технологии, даетнам193 контроль над пространством и временем, только времяменяется.
193 Оно уже не связано с хронологическойпоследовательностью, соединяющей прошлое, настоящее ибудущее. Оно — абсолютное настоящее.
193 Итог — «серая экология»: «загрязнение расстоянийи протяженности времени, что уменьшает простор нашегообитания» [Virilio, 1997: 58].
193 Разрушение традиционных пространственно-временныхграниц между местами и временами (положим, дня и ночи)приводит к нарастанию инерции.
193 Наиболее яркое проявление этой диалектики скоро-сти и инерции — наша прикованность к высокоскоростнымкомпьютерам. Изменение темпоральности информационнымитехнологиями Вирильо описывает, используя метафоругорода. Если дороги и мосты, канализация и зданиягородов дали людям контроль над пространством, тонематериальные технологии дали им контроль надвременем. Урбанизация пространства в прошлом уступаетместо урбанизации времени, а последняя представляетсобой «урбанизацию тела, подключенного к различныминтерфейсам» [Ibid:. 11]. Изменение времени освобождаетнас от ограничений, налагаемых делением на дни, недели
и так далее, мы свободны от «местечковой» огра-ниченности в выборе того, что читаем и любим.
193 С другой стороны, «мы» состоит из тех, ктососредоточен в метрополисах, и тех, кто остался «наместах», «выживая в реальном пространстве местныхгородков» [Ibid:. 71]. Жизнь последних не имеетотношения к высоким технологиям, разрыв между «местнымигородками» и глобальными городами неминуемо будетнарастать, так что «в наступающем столетии нам следуетбояться метрополизации» [Ibid.. 74].
193 Вирильо имеет в виду не концентрацию населения втой или иной сети городов, но «гиперконцентрациюмирового города, виртуального города, лишь пригородамикоторого окажутся реальные города» [Ibid].
193 В качестве примера он приводит высокоскоростноеметро, которым девять самых крупных городов Швейцариисобирались превратить в «суперпригород», в «столицу,которая положит конец всем столицам» [Ibid:. 80—81].
194 Вирильо пытается главные характеристикигородского пространства — плотность, сложность иразнородность — использовать для описания городскоговремени.
194 Плотными, сложными и разнородными теперьоказываются протяженность, интервалы и одновременность.Пространство и визуальное восприятие уничтоженымассмедиа, перемещающимися со скоростью света: «Всянаша жизнь проходит в протезах ускоренных путешествий»[Virilio, 1991:61].
194 Иными словами, город который рисует Вирильо,преобразован ускорением, вносимым в жизньинформационными технологиями.
194 «Реальный» город приходит в упадок уже потому,что в нем сегодня не работают привычные различениямежду городским и деревенским, центром и периферией. Наего месте оказывается «эффект реальности»: на нашепереживание пространства все большее воздействиеоказывают экран ТВ и кино. Так, аэропорт — это не чтоиное, как «проектор» [см.: Idem, 2005: 98].
194 Весьма активная критика идей Вирильо — симптомнарастающего сегодня противостояния тех, кто,продуцируя понятия и метафоры, включает их вдеконтекстуализованные масштабные «трансисторические»описания современности, и тех, кто не возражает противновых понятий, но всегда интересуется тем, как их можноисторически и контекстуально укоренить.
194 Если географ Дэвид Харви просто, по сути, отмелвзгляды Вирильо как постмодернистские [см.: Harvey,1989: 351], а социальный теоретик Джон Армитаж,наоборот, призывает внимательнее читать его тексты[см.Armitage, 2000], то политические географы ТимотиЛюк и Герод ОТуатхейл подчеркивают, что, хотяэнергичный стиль письма Вирильо и завораживаетчитателя, к его размашистым гиперболам нужно относитьсяс большим скепсисом [см.: Luke, (УТисЛЬай, 2000].
194 Возможно, не стоит преувеличивать возросшуюскорость городской жизни, ибо чрезмерное к этомувнимание вновь возвращает нас в тенета технологическогодетерминизма, отвлекая от того, что информационныетехнологии включены в сложные сети, объединяющиематериальную городскую инф-195-раструктуру и людей.
195 Стремительность циркуляции информации невозможнабез большого количества ее неподвижных носителей,включая и людей: парадоксальный образ прикованного ккомпьютеру человека, нарисованный Вирильо, побуждаетвновь и вновь задумываться о том, о чьей, собственно,скорости часто идет речь в описаниях современности.
195 Более того, реляционное мышление побуждает насанализировать акселерацию в тесной связи с еепротивоположностями: скорость, обеспечиваемуюавтомобилем, — с тем, как быстро отвыкают люди отрадости физического движения, привычный комфортресторанов быстрого питания — с невероятнымиколичеством пустых калорий, которое их посетителивынуждены поглощать. Стоит чаще напоминать себе о том,
что в городе можно активно переживать самые разныеритмы, а не только пресловутую скорость жизни. Радостинеспешной беседы, медленного чтения и другиепереживания, открываемые возможностью не торопиться,ценны сами по себе, а не только по контрасту сакселерацией.
Критика седентаризма195 Исследования мобильности тесно связаны с критикой
традиционной социальной теории за ее слепоту вотношении разных видов движения в социальномпространстве.
195 В «Социологии помимо обществ» английский социологДжон Урри [См.: Urry, 2000] противопоставилтрадиционную социологию, базирующуюся, по его мнению,на статичных структуре и социальном порядке, имобильную социологию, которая должна основываться надвижении, мобильности и случайном упорядочении.
195 Если традиционная социология рисует картину мира,поделенного на национальные государства, то это иантропологов, и урбанистов, и иных специалистовпобуждает мыслить в терминах стабильных структур.
195 Дело не только е том, чтобы подробно описатьсамые разнообразные городские мобильно-196-сти (чеммногие исследователи сейчас увлечены).
196 Важно сделать акцент на мобильности стимулом кновому мышлению о социальном мире, такому, которое быне «вычитало движение из картины», по выражениюканадского философа Брайана Массуми [см.: Massumi,2002: 3].
196 Перечислим основные составляющие этого новогомышления.
196 Во-первых, социальные науки должны стремитьсязафиксировать мир как подвижный и текучий, а не какстабильный.
196 Во-вторых, социальный мир образован разнородноймножественностью времен и пространств.
196 В-третьих, социальные науки должны исходить изтого, что социальность составляют как человеческие, таки нечеловеческие силы, а технология и обществовзаимозависимы.
196 В-четвертых, социальным наукам необходимоизбавиться от «контейнерного» мышления, в частности отописания мира как поделенного на национальныегосударства.
196 В-пятых, социальные практики — главное в обще-стве.
196 В-шестых, эмоционально-аффективная составляющаясоциальной жизни должна в теоретических описанияхпоследней занять подобающее место.
196 Рассмотрим кратко некоторые из этих составляющих.196 Тезис о подвижности и текучести социального мира
трудно, конечно, назвать новым. 196 «То, что "все вещи изменяются", представляет
собой первое смутное обобщение, которое было сделанонесистематической и еще далекой от аналитичностичеловеческой интуицией. Это тема лучших образцовдревнееврейской поэзии в Псалмах; как фраза Гераклита,она выступает одним из первых обобщений древнегреческойфилософии... и вообще на всех стадиях цивилизациивоспоминание об этом способно вдохновлять поэзию», —справедливо пишет английский философ Альфред Уайтхед,подробно исследовавший понятия процесса, протекания икреативности [см.: Уайтхед, 1990: 293].
196 Дело в том, чтобы, во-первых, само мышление иметафоры, в которых оно фиксируется, сделатьдинамичными, а во-вторых, чтобы критически выявитьобщепринятые представления о подвижности инеподвижности, понять их связь с197 моралью и политикой.
197 К примеру, не получается ли, что в нашихпредставлениях о социальной жизни мы часто неосознаннопредпочитаем то, что находится (и остается) на своемместе, тому, что движется?
197 Седентаризм, то есть точка зрения, отдающаяпредпочтение оседлому и неподвижному образу жизни передкочевым и подвижным, до сих пор куда более популярен.
197 Я коснусь трех вариантов критики седентаризма,предпринятой антропологами Т.Ингсльдом и Л. Малки ифилософами Ж Делезом и Ф, Гватгари.
197 У популярности седентаризма много причин. 197 Начнем с того, что в период модерности сложилось
воображаемое противопоставление познания и движения, тоесть уравновешенного и находящегося в покое разума иперемещающегося тела.
197 Хождение мыслилось как удел простолюдинов, авозможность добраться до цели иными средствамисвидетельствовала о более высоком социальном статусе.Вордсворт, Рёскин и другие романтики прославилизоркость, необходимую, чтобы должным образомвоспринимать красоту Озерного края, и тем спо-собствовали воцарению зрения как главного способаконтакта с миром. Американка Ребекка Солнит, авторинтересной книги о гулянии и ходьбе, убеждена, чтопервым событием, приведшим к тому, что ходьба сегоднятак непопулярна, было торжественное открытие в 1830году первой междугородной пассажирской железной дорогимежду Манчестером и Ливерпулем [см.: Soltiit, 2000:256].
197 Воспетые Нестором Кукольником первые российскиепоезда, которые с 1837 года стали курсировать междуПетербургом и Царским Селом («Дым столбом — кипит,дымится Пароход... Пестрота, разгул, волненье, ожида-нье, нетерпенье... Православный веселится нашнарод..»), также привели к тому, что люди отнынепредпочитали добираться до места сидя и беседуя.
197 Пространство, понятое как вместилище, в которомтело и дух могут оставаться в покое, положившись насилу зрения, — такое подспудное отношение к простран-ству сформировалось, как ни парадоксально, с развитиемжелезнодорожного транспорта, сделавшим возможными
путеше-198-ствия, в ходе которых путешественниковдвижение как таковое не интересовало.
198 Они стремились к пунктам назначения, удобнорасположившись в вагоне.
198 По мнению шотландского антрополога ТимаИнгольда, «ничто лучше не иллюстрирует ценность,придаваемую седентарному восприятию мира,опосредованному предполагаемо превосходящими все другиечувства зрением и слухом, не нарушенному никакимтактильным или синестическим ощущением ног», как то,что мы последние 200 лет живем в «сидящем обществе»[Ingold, 2004: 323].
198 Так что, заключает он, для обитателей современныхгородов характерна беспочвенности их не только всевремя что-нибудь отделяет от земли, будь то асфальт,стул или подошвы ботинок, но они почти не ходят, апотому лишены возможности познавания мира в движении.
198 Однако скажем без обиняков: мало ли куда и какдалеко люди могут зайти, если дать им волю. Это хорошопонимали и понимают все правители.
198 Необходимость эффективного управленияпередвижением населения, безусловно, нередко самымопосредованным образом, но все же отражалась в соци-альной теории. Движение и поток, возможно, потому такдолго входили в «слепое пятно» социальной теории, чтоотождествлялись с животным, инстинктивным,иррациональным и примитивным [см.: Blackman, 2008: 38].Антрополог Мэри Дуглас в работе «Чистота и опасносф».показал а, что мы считаем «грязью» те предметы и техлюдей, что сходят со своих мест, нарушая привычныйпорядок вещей. Антрополог Лииса Малки, развивая этиидеи в книге «Чистота и изгнание» [см-.MalkU, 1995],показывает, какую сомнительную роль в современномколлективном воображении играет метафора дерева.
198 Она преобладает в описании отношений человека сместом: укорененность приветствуется, а люди-«перекати-поле» порицаются:
«Наши седентаристские допущения опривязанности к месту приводят к тому,что мы определяем перемещение не какфакт социополитического контекста, нокак внутреннее патологическое199 качество перемещенных» [Malkii,
1997: 62]. 199 «Седентаристская метафизика» проявляется в
отношении ко всем, кто выпадает из своей нации в силуисторических событий или случайностей судьбы, ведьименно нация составляет сегодня преобладающий режимклассификации, образуя «национальный порядок вещей». ПоМалки, это обитание в постоянном месте «мыслится какнорма, а глобальный социальный факт, что сегоднябольше, чем когда-либо, люди хронически мобильны ипривычно перемещены, изобретая дома и родину вотсутствие территории», недооценивается [Ibid:. 52].
// Делёз и Гваттари прославили ризому — динамическоеобразование
199 Если Малки показывает проблематичность дерева какключевой метафоры, описывающей отношения человека сместом, то Делёз и Гваттари прославили ризому —динамическое образование, задающее направленияускользания от посягательств территориальной власти.
199 Называя доминирущую культуру древовидной, онизаявляют: «Мы устали от дерева» [Делёз, Гваттари,1996]. Не присмотреться ли, предлагают они, к чему-товроде сорняков, части которых простираются во всех на-правлениях, и в земле и над нею, произвольносоединяясь, сплетаясь друг с другом. Эта сетьотличается от дерева или корня, обозначающих место ипорядок, принципиальной неиерархичностью, произвольнойсоединяемостью, разнородностью.
199 В качестве примера города-ризомы философыприводят Амстердам: его каналы подобны переплетеннымстеблям, а за утилитарным фасадом гнездится безумие. Даи город вообще они переосмысливают весьма радикально,настаивая на его переходности, мобильности, значимости
его функции как сети: «Город — это коррелят дороги.Город существует только как функция циркуляции икругооборотов, это единичный пункт кругооборота,который создает его и который создается им. Онопределяем входами и выходами: что-то должно в неговходить и из него выходить. Он навязывает частоту. Онобусловливает поляризацию материи, инертной, живой иличеловеческой. Он побуждает тип, поток проходить особыеместавдоль горизонтальных линий. Это феномен транспоследова-тельности, феномен сети, потому что он фундаментальносвязан с другими городами.
199 Он представляет порог детерриториализации, потомучто, какой бы материал в него ни входил, он должендостаточно детерриториализоваться, чтобы включиться всеть, подлежать поляризации, следовать круговоротугородского и дорожного запечатлевания» [.Deleuze,Guattari, 1997: 297].
200 По мнению Делёза и ГВаттари, «история всегдапишется с седентарной точки зрения и во имя единогогосударственного аппарата (по крайней мере,возможного), даже когда идет речь о кочевниках.Недостает противоположности истории — ном ад ол огни»[Idem, 1987: 23).
200 Если укорененному индивиду, всю жизнь прожившемув одном городе, легко чувствовать равновесие сокружающей средой, то философы ратуют за проти-воположное, то есть за те ситуации, которые невозможноосмыслить исходя из предшествующего опыта, за то, чтобыстать кочевником, который нигде и никогда не дома. Егоединственный дом — движение.
200 Логика ризомы противопоставляет«детерриализованные» пространства и «линии полета»кочевников седентаризму, состоящему из иерархии,закрытости и симметрии.
200 Метафора номадизма в силу неумеренногопользования ею в последние двадцать лет для описаниянеиерархически мыслящих индивидов, интеллектуалов,
членов оппозиционных движений и многого другого, а вболее общем плане — конфликта между неподвижностью итекучестью, седентаризмом и рассеянием, увы, сталабанальностью.
200 Допуская, что концепция номадическойсубъективности не носит дескриптивного характера, всеже отметим, что в эпоху насильственных смещений людей снасиженных мест, в эпоху, когда вынужденная миграцияприобрела такие масштабы, энергичное противопоставление«безродности» и оседлости кажется несколько упрощенным.
Движение как основа перформативного понимания пространства и познания
201 Понятие перформативности связано спереосмыслением отношений между субъективнойдеятельностью и социальными обстоятельствами с учетомтого, что мир, другие люди, объекты и места находятся впроцессе изменения.
201 Люди могут нерефлекгивно и бессловесно входить всети «воплощенных» и чувственных отношений с другимилюдьми и объектами, нередко являясь субъектамипространственного и других видов знания, не подозреваяоб этом. Перформативность — это термин, частоиспользуемый сегодня как для того, чтобы говорить онеосознаваемых компонентах знания и практик, так и дляновых вариантов описания того, что происходит междучеловеком и местом. Упомянем, к примеру, безудержноетуристское фотографирование по бессмертному принципу«Здесь был Вася». Соблазн запечатлеть себя на фонезнакового места или сфотографировать интересный объектв музее — нет ли в этом чего-то от магической практики«запирания» значимого и дорогого (в данном случае вкаргу памяти своей цифровой камеры)? Под вопросставятся привычные основания различения между зрителеми тем, на что направлено зрение, между практикой зренияи материальностью объекта зрения [см.: Wylie, 2006].Границы между текстами и телесными повседневнымипрактиками также утрачивают свою очевидность, а «так-
тильные» варианты взаимодействия с местностью, таксказать, реабилитируются [см.: Larimer, 2003: 282;2005:85]. Возникают основанные на этих нетривиальныхподходах «генеалогии чувствительности к движению ителесных практик (освоения) ландшафта» [см.: Merriman,2006: 78] или «перформативные историографии ландшафта»[см.: Delia Dora, 2009].
201 Обитание в мире невозможно без движения.Английский географ Дорин Мэсси формулирует теориюпространства, вспоминая о том, как коллега (СтюартХолл) в течение многих лет подвозил ее на работу.
201 Пространство создается отноше-202-ниями ивзаимодействиями, в которые люди вовлечены:
202 «Ты — в постоянном процессе завязывания иразрушения связей, являющихся частью создания (1) тебясамого; (2) Лондона, который на целый день лишитсяудовольствия твоего общества; (3) Мильтон Кейнс(существование которого как независимого пунктаназначения в результате усилено); (4) самого про-странства. Ты не просто движешься в пространстве, тыего немного изменяешь, двигая его и его производя»[Massey, 2000: 225—226].
202 Город и кампус, в который стремитсяисследовательница, представляют собой совокупностьмножества историй, объединяющих людей и пространство.Некоторые из них «готовятся к ее прибытию»; из корзинвычищен мусор, двери отперты — все готово к новомуучебному дню. Города — «интенсивные и разнородныеконстелляции социальных траекторий» [Ibid;. 226]. В ихнастоящем, в горизонтальности их пространстваотложились многочисленные истории прошлого, а некоторыеиз них обречены на забвение. Но главное — это неповерхность пространства. Главное — «одновременностьтраекторий» [Ibid:. 228].
202 Возможно, вообще главная связанная спространством проблема - это проблема множественноститраекторий, необходимости помыслить «моментальное со-существование траекторий, конфигурацию множества раз-
ворачивающихся историй», а пространство и время — какрезультат взаимосвязей «местоположенныходновременностей» [Ibid: 229].
202 На возможность псрформативного участия вобитаемом и познаваемом мире указывает и уже упомянутыйТим Ингольд Он подчеркивает экзистенциальную значимостьдвижения не между абстрактными точками пространства, номежду местами в сети, образованной твоимипредшествующими маршрутами.
202 Знать, где ты находишься, — это «быть в состояниисвязать твои недавние движения с рассказами о путях,уже пройденных тобой и другими.
202 Находя свой путь, люди не пересекают поверхностьмира, план которого уже зафиксирован, как этопредставлено на географической карте.
202 Они, скорее, "чувству-203-ют СБОЙ путь" Б мире,который сам движется и все время становится на основеобъединенного действия человеческих и нечеловеческихсил» [Ingold, 2000: 155].
203 Антрополог противопоставляет два типа движения поместности: навигацию и нахождение пути (wayfinding).
203 Первая — это движение при посредстве карты. 203 Здесь главное — это координаты на карте
интересующего тебя места. 203 Тебе не нужно в данном случае ничего знать об
истории места, о тех, кто здесь раньше обитал.Нахождение же пути предполагает готовность идущего на-строить свои движения на движения других составныхчастей своего окружения, будь то другие люди или ветер.
203 Понимание своего местоположения идущим в этомслучае развивается с приобретением им разнообразногоопыта, с учетом памяти о предыдущих проделанных путях:«...каждое место содержит воспоминания о приходах внего и уходах из него и ожидания того, как до негоможно добраться, а из него — к другим местам» [Ibid..237].
203 Ингольд, черпая вдохновение в феноменологическойтрадиции, исходит из того, что люди и другие живые
существа населяют землю, не столько занимая то или иноеместо, сколько участвуя в становлении самого мира,прокладывая свой путь по земле и вплетая его в полотносвоей жизни.
203 Он полемизирует с теми, кто историю человечестваотождествляют с модерностью, понимая под историческимконтекстом своего исследования лишь последние двести-триста лет.
203 Мысль в этот период, как известно, работаладихотомически.
203 В результате сложились противопоставления природыи культуры, технологии и искусства, репрезентации иопыта, разума и материи, умозрения и чувственноговосприятия, интеллекта и интуиции, традиции и новации,цивилизации и дикости, модальностей слуха и зрения,ограниченность которых увлеченно демонстрирует сегодняцелый ряд авторов.
203 Среди них — французский социолог науки БрюноЛатур, показавший, как гибридные объекты исследованиябыли разведены по ведомствам естествознания исоциального знания (подробнее о его идеях см.204 в главе 3), и британский географ Найджел Трифт (онем идет речь во введении и главе 9), в рамках своей«нерепрезентативной теории» осваивающий невербальные идодискурсивные способы обретения людьми идентичностей.
204 Это прежде всего линии движения, а не вещиобразуют мир, убежден Ингольд.
204 Линии обитания на земле он защищает от линийовладения землей или линий ее оккупации, проложенных спренебрежением к уже существующим и плотно пере-плетенным людским путям так, как если бы передколонизаторами лежала чистая поверхность.
204 Знание обитателя местности и знание ее оккупантасоздаются по-разному, они связаны с двумя модальностямипутешествия — странствием и транспортом.
204 В первом путник всегда где-то, и это «где-то» —на пути еще куда-то [см.: Ingold, 2007: 81]. Реальностьбуквально упорядочивается им по ходу дела. Так,
называние мест здесь увязано с историями о том, как доэтих мест добираются. Во втором случае каждое движениесориентировано на особую цель, а покорительпространства, выехав из пункта А и направляясь в пунктБ, мыслит пространство между этими ориентирами как«нигде».
204 Нефтепровод или железная дорога прокладываются попрямой поверх нахоженных людьми и животными дорог итропок Они открывают доступ к прежде недоступным ресур-сам ценой потревоженных жизней тех, кто жил здесь отвека.
204 Модерность придала особую значимость прямойлинии, воплощавшей торжество детерминистского мышленияи рационального замысла над хаосом природного мира,неуклонного культурного прогресса — над отдельнымипроявлениями неуправляемости. Целеустремленная прямизнадвижения по плану противостоит всевозможным колебаниями отклонениям.
204 Линейная логика модерного интеллекта утверждаетсебя за счет критики уклончивости и извилистости путеймышления других людей, культур и времен. Отклонившихсяи сбившихся с пути нужно было направить на путьистинный, предварительно разметив вверенную территориюпрямыми линиями.
204 Не случайна связь между проведением прямых,«нормальных»205 линий и функционированием власти.
205 Эта связь содержится в английском слове ruler,два главных значения которого - правитель (тот, ктоконтролирует территорию) и линейка (инструмент дляпроведения прямых линий).
205 Правитель намечает курс действий, линейкуиспользуют для изготовления планов и чертежей. Еслипрежде в ходе возведения зданий линии наносились наземлю по ходу дела, с большой долей импровизации, топостепенно архитекторы перестали быть «бригадирами»строителей, сосредоточившись на создании чертежей.Власть чертежей и планов, часто изготовленных вдали от
мест строительства, подкрепляется сегодня законами иконтрактами. В компьютерном же архитектурном дизайнеисчезают и последние следы движения человеческой руки.
205 Все меньше и меньше следов человеческих жестов ивсе больше сфабрикованных отпечатков окружают нас.
205 Непрерывность линий уступила место соединениюточек на поверхности.
205 Вспомним многочисленные анкеты, заполняемые намипри поступлении на работу или перед поездкой заграницу. Помогающие нам писать прямо, нанесенные налист бумаги ограничители, часто состоящие из точек, надкоторыми мы печатаем буквы, воплощают для Ингольдасовременную бюрократию: движение линии в них разбито насерию точек, подписаться над которыми — не проложитьпуть, но оставить отпечаток среди тех вещей, чтоподлежат присвоению в многочисленных местах оккупации[см.: Ingold, 2007: 94]. Мы не странствуем, но летим изпункта А в пункт Б, не рассказываем истории, но, зевая,узнаем повсюду вариации одних и тех же сюжетов.Нарисованные от руки наброски маршрутов давно уступилиместо фабричным картам (а теперь и GPS-навигации).Ингольд, правда, считает, что нарисовать что-то наготовой карте -- дело сомнительное, сопоставимое сиспещрением текста книги своими пометками, по-моему,пренебрегая тем, как часто мы рисуем именно на готовыхкартах, приспосабливая их индифферентность к своейзанятости и помечая, к примеру, путь от гостиницы куниверситету.
206 Явные следы компьютерного дизайна в оформленииПотсдамерплац в Берлине
207 Ингольд выразительно описывает обреченностьсовременных городских обитателей на жизнь в окружении,спланированном и построенном не в целях обитания, но вцелях овладения. Опираясь на известное различение М. деСерто между стратегиями и тактиками, он торжествующеподчеркивает упорство и изворотливость людей и иныхобитателей городов Они все же умудряются прокладывать ипрогрызать свои пути в обход прямых линий, проложенныхстратегами. В том, что прежде было неприступно изакрыто, прокладываются проходы, а замкнутыепространства размыкаются. Это выявляет главнуюхарактеристику линий — их незамкнутость.
207 Говорим ли мы о линиях жизни или истории, линияхсоциальных отношений или мыслительных процессов,главное — чтобы у других был шанс продолжить их там,где мы остановились, и в том направлении, что имподходит. Где бы вы ни были, отсюда можно пойти ещекуда-то, заключает Ингольд,
«Поворот к мобильностям»207 Радикальность тех или иных сдвигов парадигм в
социально- гуманитарном знании, при всей еепсихологической привлекательности, частопреувеличивается. Так, «поворот к мобильностям» всоциальной теории, провозглашенный Джоном Урри, сложноотделить от общего постструктуралистскогоконцептуального движения 1980—2000 годов, которое дляодних ассоциируется с деконструкцией Деррида, длядругих — с «деторриториализацией» и «номадами» Делёза иГваттари, для третьих — с «текучей» модерностьюБаумана.
207 Отказ от дихотомичного противопоставлениявнешнего и внутреннего и от мышления в терминах центра— периферии в пользу реляционного мышления привел кпопыткам описать сети и потоки.
207 Последние — как метафора — важны тем, что у нихнет исходной или конечной точки, поэтому они позволяютмыслить движение в его материальности, но безпреувеличения его на-208-правленности и управляемости.
208 Социальные связи объединяются в сети, которыеперемещают потоки товаров, денег, людей и идей. Вместес тем различные виды движения людей, вещей, информациии идей не могут беспроблемно стать предметомисследования, они требуют перефокусировки социальногознания и специфической методологии.
208 В ходе рассматриваемого поворота складываетсяпредставление о социальном мире как образованноммножественными и пересекающимися системами мобильности.Оно тесно связано с «постчеловеческим» взглядом на этотмир, согласно которому движения вещей следуетрассматривать не как подчиненные человеческой воле, акак соучаствующие в человеческих практиках.
208 Акторно-сетевая теория Б. Латура и егопоследователей, идеи К.Хэйлз, Ф. Китглера и многихдругих исследователей, призывающих отказаться от«гуманистической» парадигмы, ставящей человека в центрисследования любых процессов, сегодня используются дляописания процессов, в которых на равных участвуют людии вещественная оснастка информационных технологий.Мобильным видится все, и прежде всего потокиинформации, и один из упомянутых авторов справедливоподчеркивает, что в «высокоразвитых и сетевыхобществах, например в США, человеческое сознаниесоставляет лишь вершину огромной пирамиды потоков дан-ных, большая часть которых перемещается между машинами»[см.: Hayles, 2006: 161].
208 Джон Урри, большой мастер разнообразных связанныхс движением перечней и типологий, также выделяетследующие типы мобильности, которые в равной степениотносятся к людям и вещам: 1) удержание на месте(заключенный, зажатая между другими машина, постер,риторическая фигура); 2) прикрепленность к месту(страдающий агарофобией человек, здание, библиотечная
книга, чувство места); 3) временная остановка(посетитель, машина в гараже, граффити, презентация);4) портативность (младенец, ноутбук, сувенир); 5) частьмобильного теш (зародыш, iPod, удостоверение личности,дизайнерская марка); 6) протез (помощник инвалида,209 контактные линзы, бедж с именем, гендер); 7)компонент мобальной системы (водитель, дорога,расписание, скорость); 8) основанностъ на коде (киборг,Blackberry, цифровой документ, компьютерный вирус)[см.: Buscher, Urry, 2009: 100].
209 Главное, чем важна «парадигма новых м об ил ьностей», как еще именует ее Урри, для понимания городов,это возможность их интерпретации в качествеобразований, заданных множественными вариантамидвижения, ритмов и скорости. Движение повсеместно,поскольку пронизывает материалы, места, пространства,настаивает Урри, выделяя четыре смысла понятия«мобильный» или «мобильность».
209 Во-первых, это что-то движущееся или способное кдвижению (мобильный телефон, мобильный человек,передвижные госпиталь или кухня, дом на колесах).Мобильность — это свойство вещей и людей, осмысливаемоев основном позитивно [см.: Urry, 2007: 7].
209 Во-вторых, это неуправляемая толпа, неуправляемаяименно в силу своей подвижности, способности выйти из-за границ, а потому нуждающаяся в наблюдении ирегулировании. Современность порождает все новые,«умные» толпы и «множества», для сдерживания которыхиспользуются все более изощренные средства надзора.
209 В-третьих, в традиционной социальной теориитермин используется для обозначения перемещенияиндивида с одной социальной позиции на другую, которые,в свою очередь, мыслятся как четко отделенные друг отдруга, так что, к примеру, можно понять, восходящей илинисходящей является социальная мобильность индивида посравнению с его родителями. Если этот вариант пониманиямобильности метафорически фиксирует карьерный рост каквертикальный, то четвертый, напротив, сосредоточен на
миграции и других вариантах географического перемещениялюдей, а потому может бьпъ сочтен горизонтальным.Стремление к лучшей жизни от века побуждало людей кпересечению больших территорий, но сегодня миграциябеспрецедентно интенсивна [см.: Ibid: 8; см. также:Mobile Technologies and the City, 2006].
209 «Поворот к мобильностям» социолог связывает сопределением степени, размаха и последствий телесных,воображаемых210 и виртуальных передвижений самого разного плана —на работу, на отдых, чтобы избежать насилия, чтобыподдержать свою диаспору.
210 В фокусе внимания, во-первых, то, как перемещениялюдей и передача сообщений, информации и образовнакладываются друг на друга и соединяются и, во-вторых,как физические и виртуальные перемещения связаны с со-циальной мобильностью, подтверждая статус и обладаниевластью в одних случаях и порождая социальнуюисключенность в других.
210 Западные исследователи городов сами могутсоставить интересный «случай» академическоймобильности, так как часто меняют места работы (ипредсказуемым образом: из Австралии — в Великобританию,а оттуда — в США). Работающая теперь в американскомУниверситете Дрексель британская исследовательница МимиШелер считает, что исследования мобильности, придя насмену традиционной транспортной географии, способныпроблематизировать привычные различения приватного ипубличного в городах.
210 Что же, с ее точки зрения, ведет к необходимоститакой проблематизации?
210 Это новые IT-технологии, новые вариантымобильности, новые варианты соединения, скажем,туристской мобильности, коммуникации, обеспечиваемоймобильными устройствами, и инфраструктуры.
210 Они приводят к появлению «новых типов публичногов приватном и приватного в публичном», препятствующихвоспроизводству общепринятых пространственных моделей,
согласно которым приватное и публичное представляютсобой две от дельные сферы [см.: Scbeller, 2004:39]
Мобильность и глобальный финансовый кризис210 Одним из зримых выражений продолжающегося на
момент издания книги глобального финансового кризисаявляется сокращение географической мобильности людей —между211-212 странами, внутри них, а также между городами ипригородами.
211 Скутер и худоба — атрибуты нью-йоркскойженственности
212 Например, в США, где население долгое время билорекорды по числу переездов внутри страны, по даннымБюро переписи населения, мобильность уменьшается, и еепродолжающееся сокращение является развитием тенденций,обозначившихся в течение последних сорока лет. Перваятенденция состоит в том, что увеличивается числодомовладельцев (с 64 % в 1968 году до 68 % в 2008),
212 Вторая тенденция — старение населения.212 Сохраняется высокая привлекательность пригородов
для жизни: в период с 2007 по 2008 год 5,3 млн людейпереехали в пригороды, а 3,1 выехали, тогда как 5,1 млнобитателей крупных городов их покинули и только 3 млн вних переехали.
212 Главное препятствие мобильности, вызванноекризисом, — тот факт, что большое количестводомовладельцев не могут продать свои дома и должны заних банкам гораздо больше, нежели способны выручить припродаже на рынке недвижимости. Безработица инеопределенность на рынке труда также не способствуютжеланию переехать. С другой стороны, многочисленныеслучаи продажи банками домов заемщиков, не способныхвыполнить договор ипотеки (foreclosures), вынуждаютлюдей переезжать в мотели, к друзьям или родителям,снимать квартиры, что в конечном счете увеличит ихвынужденную мобильность и нарушит сложившиесясоциальные связи. Особенно (и предсказуемо) страдаютсемьи с низким доходом.
Мобильные методы: следить за местами и прогуливаться с информантами?
212 На недавней конференции урбанистов,специализирующихся на исследовании постсоветскихгородов, состоявшейся в Тарту в сентябре 2009 года[см.: Cities After Transition, 2009], около десятидокладов восточноевропейских коллег были посвященыкартографированию мобильности городских обитателей наоснове данных, предоставленных провайдерами со-213-товой связи.
213 Речь шла, в частности, о том, что русские иэстонцы в Таллине проезжают разные расстояния до работыи что пражская молодежь проводит свободное время попреимуществу в центре. Возможность, так сказать,«сосчитать» мобильность сегодня привлекает многих.Масштабные сдвиги, вроде описываемого в этой главе,всегда обостряют соревнование между сторонникамиколичественных и качественных методов, и поскольку ягораздо больше верю в последние, их кратко и опишу.
213 Исследователи мобильности обращаются прежде всегок разнообразным практикам — практикам движения (ходьба,езда, полет), заблокированного движения (очередь,пробка, ожидание отложенного рейса), возможногодвижения (планы на выходной или отпуск), неподвижности
(прикованность к постели или инвалидному креслу),обитания в мире (воображаемые путешествия, если тыстеснен в средствах), создания мест (продвижение своегомузея или города среди образованной публики).Соответственно, используемые методы — антропологическиеи социологические, и прежде всего опробованные ИрвиномГофманом методы исследовательского слежения за людьмипо мере того, как те движутся, и наблюдения за тем, какони взаимодействуют друг с другом или с каким-томестом. Так участники датского исследовательскогопроекта «Туристские практики и производство мест:репрезентации, сети и стратегии» исходили из того, чтотуристские места надо понимать как «гибриды,объединяющие людей и не-человеческие объекты»,созданные «разнообразными видами мобильности иблизости, потоков предвосхищений, "перформансов" ипамяти, а также широкими социально-материальнымисетями, стабилизирующими практики обитания, создающиетуристские места» [Baerenholdt et ai., 2004: 2].
213 Включенное наблюдение, интервью с экспертами итуристами позволило им, в частности, прийти к выводу,что популярность дач среди датчан делает неформальныенекоммерческие сети, существующие вокруг ихиспользования, куда более эффективными, чем те, что214 существуют между туристскими фирмами.
214 Необычна установка членов этой команды на то, что«места подобны кораблям, перемещающимся и совсем необязательно остающимся там, где были. Они путешествуют,быстро или медленно, на большие или меньшие расстояния,в рамках сетей, образованных людьми, и не только. Местасвязаны с отношениями, с размещением (placing) людей,материалов, образов и системами различий, что этаотношения и размещения создают» [Baerenboldt et ей.,2004: 146]. Насколько же последовательны они в выбореметодов исследования? Акторно-сетевая теория (о нейподробно идет речь в главе «Город и природа»),составляющая концептуальную рамку исследования,приводит к тому, чтобы, к примеру, методы визуальной
антропологии применять не для осмысления репрезентацийтуристских впечатлений, но для того, чтобы вникнуть в«перфомансы», исполняемые туристами вместе спосещаемыми местами. Так, исследователи описалисущественную разницу в использовании фотокамер длятого, чтобы снимать те или другие сцены и пейзажи, содной стороны, и для запечатления членов семьи — сдругой. Фотографирование используется для «постановкисоциальных отношений и превращения мест в приватныетеатры счастливой семейной жизни» [Ibid.: 122].
Перформативность повседневных передвижений и не-подвижности меняет представление о социологическом ис-следовании, о связи между теорией, наблюдением и вовле-ченностью. Внимание к мобильности способно обернутьсяновыми объектами исследования. Так, английские географыдетства подробно изучают особенности детскоймобильности, стремясь проанализировать последствия ееизменения за последние пятьдесят лет, в частностисостоящего в том, что по сравнению с предыдущимипоколениями у сегодняшних детей гораздо меньше свободынезависимого передвижения по городу, то естьвозможности играть с друзьями на улице, самостоятельнодобираться до родственников и так далее.
214 Если прежде во многих странах главным местомдетской игры и других за-215-нятий была улица, тосегодня «улица» не случайно, по крайней мере по-русски,имеет пейоративное значение: от тех, кто приходит вбуквальном смысле «с улицы», не ждут ничего хорошего.
215 Предмет обоснованных родительских страхов (отпохищения до встречи с эксгибиционистом), улицасоединяется в воображении горожан со скверами и парками— местами, где детям стоит появляться лишь всопровождении взрослых. У городских властей, какправило, нет денег на освещение, обиход, оснащениетаких мест. То, чем дети занимаются вне дома, активнорегулируется, подвержено постоянному родительскомумониторингу. Воздействие физического и социальногоокружения на детскую мобильность изучается смешанными
методами, включающими формальные и неформальныеинтервью с детьми и их родителями и учителями, визиты вдома, а также туры по окрестностям, во время которыхдети показывают исследователям свои привычные маршруты,любимые места рядом с домом, в саду [см.: Christensenet al, 2003]. Это дает возможность исследовать самыеразные измерения детского обитания» в локальном мире[см.: Karsten, Van Vliet, 2006].
215 «Интервью на ходу», а также виртуальнаяэтнография и видеоэтнография применяются и для решениямножества иных исследовательских задач. Американскийсоциолог Маргарет Кузенбах считает, что прогулку вместес информантом (go- along) отличает от такихтрадиционных методов, как включенное наблюдение иинтервьюирование, возможность с ее помощью привнестимобильность в этнографическое урбанистическоеисследование. Прогулки в исследовательских целях — нетолько возможность доступа к рефлексивным сторонамопыта обитания в городских местах, но и выявлениеособенностей восприятия окружения, пространственныхпрактик, биографий и социальных отношений [см.:Kusenbach, 2003].
215 Дневники, запечатлевающие перемещения информантовв пространстве и времени, — рукописные, фото-, аудио-,видео- или комбинированные [см.: Palen, Salzman, 2002;Kenyon,216 2006] — привлекательны тем, что позволяютинформантам совмещать их рефлексию ежедневных практик ссобственно практиками.
216 Поскольку исследования мобилыгостей на их се-годняшней стадии стремятся придавать столько жезначения воображаемым перемещениям, сколько реальным,исследование возможностей, которые открывает для этогоИнтернет [см.: Bakardjieva, 2005], а также осмыслениеатмосферы привлекательных для посещения мест ведется наоснове соединения качественных исследований слитературным, художественным и «воображаемым»исследованием [см~ Baerenboldt et al., 2004].
216 Упомянутое выше стремление инициаторов «поворотак мобильности» не только обогатить социальное знаниеновым объектом исследования, но и побудить к пересмотруустановок и методов не привело пока к отчетливымрезультатам, так как «повороту» (читатель может судитьпо приведенной литературе) нет еще и десяти лет.
216 Тем не менее смена исследовательских приоритетови поиск новых способов, которыми можно было бы«схватить» передвижения людей и вещей, происходят оченьактивно.
Делёэ Ж, Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна:Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996. С. 7—31.
Уайтхед АН. Избранные работы по философии / Под ред М А Кис-селя. м.; Прогресс, 1990.
Adam В. Reflexive Modernization Tfemporalized // Theory,Culture a Society. 2003. Vol, 20, № 2. P. 59—78.
ArmitageJ. Paul Virilio: An Introduction // Paul Virilia FromModernism to Hypermodemism and Beyond / Ed. J. Armitage. L:Sage, 2000. R 1—23-
Baerenboldt et al. Performing Tourist Places. Aldershot:Ashgeit, 2004.
Bakardjieva M. Internet Society; The Internet in Everyday LifeL: Sage, 2005.
Blackman L. Affect, Relationality and the «Problem ofPersonality» // Theory, Culture and Society. 2008. Vol. 25, № 1.P. 23—47.
Buscher M., Urry J. Mobile Methods and the Empirical //European Journal of Social Theory. 2009. Vol. 12, № 1. P. 99—116,
Cbristaller W. Die zentralen Orte in Suddeutschland. EineOkonomisch- geographische Untersuchungen iiber dieGesetzeseinheit der Verbreitungund Enrwicklung der Siedlungen mit stadtischcn Funktionen.Darmstadt: Wissenscha ftlichc Buchgesellschaft, 1968.
Christensen P. et aL Children in the City: Home, Neighbourhoodand Community L: Routledge Falmer, 2003.
Cities After Transition. Tartu, 2009. [Электрон, ресурс]. URLhttp:// citiesaftertransi tion.webnode.cz/new/
Cresswett T. On the Move. L: Routledge, 2006.
Deleuze G, GuattariF. A Thousand Plateaus: Capitalism andSchizophrenia // Trans. B. Massumi. Minneapolis: University ofMinnesota Press, 1987.
Deleuze G, Guattari F. City-State // Rethinking Architecture:A Reader in Cultural Theory / Ed N. Leach. L: Routledge, 1997.P. 296—299.
Delia Dora V. Travelling Landscape-Objects // Progress inHuman Geography. 2009- № 33(3). P. 334—354.
Fogelson R.M. Downtown: Its Rise and Fall, 1880—1950. NewHaven: Yale University Press, 2001.
Fotscb PM. Watching the Traffic Go By Transportation andIsolation in Urban America. Austin: University of Tfcxas Press,2007.
Gleick J. Faster: The Acceleration of Just About EverythingN.Y.: Pantheon, 1999.
GreenbergMR Environmental Policy Analysis and Practice. NewBrunswick: Rutgers University Press, 2008.
Gutfreund OD. Twentieth Century Sprawl: Highways and theReshaping of the American Landscape, Oxford: Oxford UniversityPress, 2004.
Hanson S, Giuliano G. Geography of Urban Transportation, L:The Guilford Press, 2004-
Harris CX>, Ullman EL. The Nature of Cities // The UrbanGeography Reader / Ed, by N.E Fyfe and J.T. Kenny. L: Routledge,2005. P. 46—56.
Hart T. Transport and the City // Handbook of Urban Studies /Ed. by R Paddison. L: Sage, 2001.
Harvey D. The Condition of Post modernity: An Enquiry into theOrigins of Cultural Change. Oxford Blackwell, 1989.
HaylesK Unfinished Work. From Cyborg to Cognisphere // Theory,Culture, and Society. 2006. Vol. 23, № 7-8. P 159-166.
Ingold T. The Perception of the Environment: Essays onLivelihood, Dwelling and Skill L: Routledge, 2000.
Ingold T. The Culture on the Ground: the world perceivedthrough the feet//Journal of Material Culture. 2004. Vol. 9, №3. P. 315—340.
Ingold T. Lines: A Brief History. N.Y.: Routledge, 2007.Jackson K.T. Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the
United States- Oxford: Oxford University Press, 1985.Johansson О. Inter-Urban Competition and Air Transport in the
Deregulated Era: The Nashville Case //Journal of TransportGeography 2007. № 15-P 368-379-
JuddD. From Cowtown-to Sunbelt City // Restructuring the City/ Ed. S. Fainstein. N.Y.: Longman, 1971. P. 167— 201.
Karsten L, Van Vliet W. Increasing Children's Freedom ofMovement // Children, Youth and Environments. 2006. № 1. E 69—73.
Kenyan S. Reshaping Patterns of Mobility and Exclusion? TheImpact of Virtual Mobility upon Accessibility, Mobility andSocial Exclusion // Mobile Technologies of the City / Eds. M.Shelter, J. Urry. L: Routledge, 2006.
KusenbachM. Street Phenomenology. The Go-Along as EthnographicResearch Tool // Ethnography. 2003. Vol. 4, № 3- P 455—485.
Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World. New Brunswick:Transaction Publishers, 1990.
Lefebvre H. The Production of Space / Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
Lin II R.-G, Rabin J. The State MTA Approves Steep Hikes forBus, Rail Fares // Los Angeles Times. 2007. May 25. P. Al.
Lorimer H. Telling Small Stories: Spaces of Knowledge and thePractice of Geography // Transactions of the Institute ofBritish Geographers. 2003. № 28. P 197-217.
Lorimer H. Cultural geography: the Busyness of Being More-Than- Representational // Progress in Human Geography. 2005. №29 R 83—94.
Luke Г, O'TUaihail C.Thinking Geopolitical Space: TheSpatiality of War, Speed and Vision in the Work of Paul Virilio// Thinking Space / Ed. N. Thrift, M. Crang. L: Routledge, 2000.P 360-379-
MalkiiL Purity and Exile: Violence, Memory, and NationalCosmology among Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: Universityof Chicago Press, 1995-
Malkii L National Geographic; The Rooting of Peoples and theTerri- torialization of National Identity among Scholars andRefugees // Culture, Power, Place: Explorations in CriticalAnthropology / Ed. A Gupta, J. Ferguson. Durham: Duke UniversityPress, 1997. P. 52—75.
Mann E. Los Angeles Bus Riders Derail the MTA // HighwayRobbery- Transportation Racism and New Routes To Equity / Eds.R. Bullard, G.S. Johnson and AO. Torres. Boston: South EndPress, 2004.
Massey D. Travelling thoughts // Without Guarantees: In Honourof Stuart Hall /Eds. P Gilroy, L Grossberg, A McRobbie. L;Verso, 2000. P 225— 232.
Massumi B. Parables for the Virtual: Movement, Affect,Sensation. Durhem: Duke University Press, 2002.
Merriman P. A New Look at the English Landscape: LandscapeArchitecture, Movement and the Aesthetics of Motorways in EarlyPostwar Britain //Cultural Geographies. 2006. № 13- P 78—105.
Mobile "technologies and the City/Eds. M.SchellerJ. Urry. L;Routledge, 2006
Norton PD. Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in theAmerican City. Cambridge: MIT Press, 2008,
Palen L, Salzman M. Voice-Mail Diary Studies for NaturalisticData Capture under Mobile Conditions // Proceedings of theComputer Supported Cooperative Work Conference. New Orleans:CSCWC, 2002.
IJIieger CZ, Kaufinann V, Pattaroni LJemetin Ch. How DoesUrban Public Transport Change Cities? Correlations between Pastand Present Transport and Urban Planning Policies//UrbanStudies. 2009. Vol. 47, № 7. P. 1421 — 1437.
Rosa H. Social Acceleration: Ethical and PoliticalConsequences of a Desynchronized High-Speed Society //Constellations 2003- Vol. 10, № 1. p. 3-33.
SchellerM. Mobile Publics: Beyond the Network Perspective //Environment and Planning D: Society and Space. 2004. № 22. E 39—52.
Soja EW. Post metropolis: Critical Studies of Cities andRegions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000.
SolmtR. Wanderlust: A History of Walking, N.Y.: Viking, 2000.Thomson FML. The Rise of Suburbia. Leicester: Leicester
University Press, 1982.Urry J. Sociology Beyond Societies. L: Routledge, 2000.Urry J. Mobilities, Cambridge: Polity Press, 2007.VirilioP. The Aesthetics of Disappearance. N.Y.: Semiotext,
1991-Viriito P. Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. L:
Continuum, 2005.Virilio, P.{2003) Unknown Quantity.London: Thames and Hudson,
2003.Virilio P, Lotringer S. Pure War. Cambridge: MIT, 2007.WylieJ. Depths and Folds: on Landscape and the Gazing Subject
// Environment and Planning D: Society and Space. 2006. № 2. E519—535-
220-269 Гл 5 Город как место экономической деятельности
Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 5Город как место экономической деятельности
220 В урбанистической теории экономический анализиграл и продолжает играть ведущую роль С одной стороны,экономика городов мыслится как основа социальных,политических, культурных и прочих аспектов их развития.С другой стороны, ведутся попытки оценить сами городакак «агентов» экономического развития.
220 Какую экономическую роль играют города? 220 Если отвечать на этот вопрос исторически, то
ясно, что в прошлом их роль была беспрецедентной. Вмасштабной истории мирового капитализма, написаннойфранцузским историком Фернаном Броделем [см.: Бродель,2002; 2007], города органично вплетены в сложнуюкартину случайностей, способствовавших либопрепятствовавших движению вперед, проб и ошибок,природных ограничений и человеческой предприимчивости.
220 Говорит ли историк о разделении труда или оскладывании рынка, город участвует в этих процессах какодин из главных агентов. Говоря в общем, это городсделал разделение труда и рынок всеобщими явлениями.
220 Говоря более конкретно, это в Севилье, Марселе,Генуе, Флоренции, Венеции и Милане сложился в XVI веке«торговый капитализм». Столицы крупной торговли, этигорода стали и местом отработки новых форм промыш-ленного производства, таких как производство хлопковыхи шелковых тканей.
220 Без городов не сложились бы фордистская экономикаи промышленность, не оформились и не воплотились быполи-221-тически имперские амбиции европейских держав.
221 Поскольку главным предметом интересаурбанистической теории являются современные города, типкоторых начал формироваться около 200 лет назад, онаконкретизирует связь города и экономики, Ее интересует,как связаны город и капитализм.
221 Сегодня, когда немалое число бывшихсоциалистических либо колонизованных городов включилосьв капиталистическое развитие, вопрос о разнообразиипроявлений капитализма в городах и, наоборот, оразличных сторонах жизни капиталистического метрополисаприобретает универсальное звучание.
221 Капиталистический город сформировался в западныхстранах около 150 лет назад — к середине XIX века. Трифактора оказали наибольшее воздействие на егоформирование:
—развитие промышленности;—ускорение сообщения между регионами за счет парово-
зов и пароходов, а также изобретение телеграфа,кинематографа и двигателя внутреннего сгорания;
—массовое потребление промышленно произведенныхпродуктов (ставшее возможным за счет механизации произ-водства).
221 Строительство новых заводов, быстрый приливрабочей силы в города (население городов удваивалосьили утраивалось каждые пятьдесят лет), усиливающеесяразделение труда, усложнение физической инфраструктурыгородов, складывание банковской системы и многое другоеспособствовали тому, что с конца XIX века городапревратились в машины капиталистического накопления. Ноеще раньше — в первой половине XIX века — противоречиянового общества стали настолько разительными, чтовызвали интерес основоположников марксизма. К их трудамсегодня относятся достаточно амбивалентно: признаетсяих вклад в изучение процесса капиталистическогонакопления, но не забывается, чем для значительнойчасти человечества обернулась попытка воплощениямарксистских идей.
221 Тем не менее есть целая группа влиятельныхурбанистов, предпринявших неомарксистский (или пост-222-марксистский) анализ городов. Это такие авторы, какпрофессор Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесесоциолог Мануэль Кастельс, британский географ ДоринМэйси, американский географ Дэвид Харви.
222 Критика современного неолиберального капитализмаведется левыми урбанистами, в особенности британскими,с поистине марксистской страстью, В главах даннойкниги, посвященных городской повседневности инеклассической городской теории, идет речь и о других,не чуждых марксизму авторах — от Вальтера Беньями- на идругих представителей франкфуртской школы до амери-канского мыслителя Фредерика Джеймисона,
Становление капитализма в европейских городах: идеи К. Маркса и Ф.Энгельса
222 «Основой всякого развитого и товарообменомопосредствованного разделения труда является отделениегорода от деревни. Можно сказать, что вся экономическаяистория общества резюмируется в движении этойпротивоположности, на которой мы не будем, однако,здесь долее останавливаться», — пишет Карл Маркс в«Капитале» [Маркс, 1983: 365].
222 Пространство, в котором развивался капитализм,Маркса интересовало мало. В то же время, когда онраскрывает механизм капиталистического способапроизводства в индустриальном обществе, он, конечно,имеет в виду городское общество. Если феодальноеобщество было основано на аграрном способе производ-ства, то капиталистическое общество могло сложитьсятогда, когда из прибавочной стоимости произведенныхтоваров можно было извлечь прибыль (а для этого нуженбыл наемный труд). Это Маркс и имеет в виду вприведенном выше фрагменте. Превращение труда в товарбыло возможно главным образом в городах и на городасущественно повлияло.
222 Во-первых, образовался рынок труда. Маркссчитает, что движение в горо-223-да из деревеньосвобожденной от личной зависимости рабочей силыопределяет современную историю.
223 Немногие люди, владевшие средствами производства,могли нещадно эксплуатировать неимущих людей,привлеченных в города развитием коммерции и индустрии.
223 Сподвижник Маркса молодой радикал Фридрих Энгельсужаснулся условиям жизни этих людей, которые оннаблюдал в Ланкашире. Его исследование «Положениерабочего класса в Англии» (1845) делает его предтечей игородской антропологии, и социальной географии.Некоторым читателям это сочинение памятно, вероятно, всвязи с семинарами по истмату, стоически претерпеваемымв юности. Убеждена, что эту работу Энгельса стоитпрочитать в качестве достойного культурного артефактаСейчас можно только догадываться, пришла ли идеявизитов в трущобы английских городов в результате рас-тущей уверенности Энгельса в том, что нельзя приниматьна веру слова, которые общество говорит о себе устамисвоих идеологов, или сказались нужды семейноготекстильного бизнеса, но вот эти слова мыслителя впредисловии к работе, обращенные к рабочим,свидетельствуют, что его методология была по своемухарактеру антропологической: «Я достаточно долго жилсреди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Яисследовал его с самым серьезным вниманием, изучилразличные официальные и неофициальные документы, по-скольку мне удавалось раздобыть их, но все это меня неудовлетворило. Я искал большего, чем одно абстрактноезнание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах,наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами овашем положении и ваших нуждах..» [Энгельс, 2: 236].
223 «Классовый» словарь марксиста в это время ещетолько становится, вот почему он называет буржуазию ирабочий класс двумя «народами», настолько различными,«как если бы они принадлежали к различным расам».Познакомить общественность с практически неизвестнойдоселе «расой» рабочих — такую задачу ставит передсобой Энгельс.
224 «Полевое исследование» Энгельса продолжалосьпочти два года. Манчестер и Ланкашир, Дербишир иБирмингем, Шеффилд и «Стаффордшир, в особенностиВулвергемптон», не говоря уже о Дублине и Лондоне, -города и местности, которые он касается в тексте.
Многие темы, которые он рассматривает или впервыеставит: иммиграция и изображение иммигрантов в качестве«козлов отпущения» за насущные социальные проблемы,джентрификация, связь эксплуатации и роскоши, со-ставляют предмет активных сегодняшних обсуждений.
Его описания скученности, грязи, болезней и общейбезнадежности существования английских рабочихпредварены общей историей индустриализации иурбанизации в Англии, изложенной мыслителем достаточнотенденциозно в том смысле, что он, кажется, буквальновидит, как все былое социальное разнообразиеанглийского населения стремительно сводится к двумполярностям — рабочему классу и буржуазии: «Таквозникли большие фабричные и торговые города Вели-кобритании, в которых по меньшей мере три четвертинаселения принадлежат к рабочему классу, а мелкаябуржуазия состоит только из лавочников и очень, оченьнемногочисленных ремесленников» [Энгельс: 257].
224 Тенденциозно, а временами возмутительнополитически некорректно и отношение мыслителя кнекоторым культурным группам, положение которых онописывал, — прежде всего к «кельто-ирландскойнациональности». Ирландцы, бежавшие в Лондон, спасаясьот царящего дома голода и берясь за самую грязнуюработу, плохо влияли, считал мыслитель, на английскийработный люд.
224 Энгельс демонстрирует простодушный эссенциализм,граничащий с расизмом, когда говорит о «характере»ирландцев, которые «чувствуют себя уютно именно вгрязи».
224 Значительным ирландским присутствием отличались ксередине XIX века многие английские города, чтонемедленно нашло отражение в литературе, прежде всего втекстах Томаса Карлейля (кстати, именно этот английскийисторик и литератор впервые в 1854 году использовалслово «ка-225-питализм»), и в общих ксенофобныхнастроениях.
225 Ирландцы более всего годились на роль «козловотпущения», когда дело доходило до плохих жилищныхусловий и низкой зарплаты. Их непритязательностьпоощряла строительство новых трущоб. Энгельс, по сути,обвиняет в своей книге ирландцев в усугублении и безтого тягостного положения английских рабочих, в дурномвлиянии на людей, нравы которых и без того отличалисьпростотой.
225 Тем самым он способствовал (вместе с другимилюдьми, посетившими Англию в то время) распространениюмногочисленных стереотипов об ирландцах, которые упорновоспроизводятся и поныне.
Эта часть городской антропологии Энгельсаперекликается с сегодняшними антропологическими исоциологическими штудиями иммиграции, а именно с идеейтесной связи между переживанием страха инеопределенности, испытываемой местными жителями, ивраждебностью к не самым лучшим представителям того илииного народа, кочующим по миру в поисках заработка.
225 В его масштабной работе «различные официальные инеофициальные документы», в частности статистическийанализ, используются более часто, нежели собственныенаблюдения мыслителя, что немудрено: им описана, посути, вся Англия. Другой причиной этого могло быть то,что традиция описания городов модерности к концу первойполовины XIX века лишь складывалась, и вряд ли толькориторическим является, к примеру, следующий пассаж:«Нищенские кварталы Дублина рассеяны по всему городу, игрязь и неблагоустройство домов, запущенность улиц неподдается описанию». (курсив мой. — £.7".) Интересно,что в некоторых используемых Энгельсом источникахсправедливо отмечается практически полное отсутствиезнания о беднейших слоях населения в своей стране,сопоставимое с объемом знания об отдаленных культурах:в благополучных частях города об обитателях соседних сними кварталов знали «не больше, чем о дикаряхАвстралии и Южной Океании».
226 И до и после Энгельса социальные контрастыанглийских городов выразительно описывались писателями— от Эдгара По до Чарльза Диккенса. Так, Энгельсактивно использует тексты Томаса Карлейля для своегоанализа масштабной ирландской иммиграции и еепоследствий. Приемы контраста, противопоставленияаристократического блеска и удручающей бедности вописании городской жизни (у того же Эдгара По в«Человеке толпы», к примеру) к тому времени ужесложились. Однако именно у Энгельса мы находимпроницательные описания того, к чему может приводитьнеравномерность городского развития. Бедность ибогатство могут соседствовать на одной улице, афизическое соседство не исключает социальной пропасти,лежащей между обитателями того или иного квартала.Энгельс, среди прочего, показывает это на примерецентрального лондонского квартала Сент-Джайлс,окруженного «блестящими, широкими улицами, по которымфланирует лондонский высший свет, совсем близко отОксфорд-стрит и Риджент-стрит, от Трафалгар-сквера иСтрэнда» [Энгельс-. 266]. Наблюдатель видит«беспорядочное нагромождение высоких трех- ичетырехэтажных домов, с узкими, кривыми и грязнымиулицами», жизнь в которых протекает столь же бурно,сколь и на соседних фешенебельных улицах. ОписанияЭнгельса выразительны и полны обличительной силы:«Дома, от подвала до самой крыши битком набитыежильцами, настолько грязны снаружи и внутри, что ниодин человек, казалось бы, не согласится в них жить. Новсе это ничто в сравнении с жилищами, расположенными втесных дворах и переулках между улицами, куда можнопопасть через крытые проходы между домами и где грязь иветхость не поддаются описанию, здесь почти не увидишьокна с целыми стеклами, стены обваливаются, дверныекосяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, дверисколочены из старых досок или совершенно отсутствуют,ибо в этом воровском квартале они, собственно, ненужны, так как нечего красть. Повсюду кучи мусора и
золы, а выливаемые у дверей помои застаиваются взловонных лужах.
226 Здесь живут227 беднейшие из бедных, наиболее низко оплачиваемыерабочие, вперемешку с ворами, мошенниками и жертвамипроституции. Большинство из них — ирландцы или потомкиирландцев, и даже те, которых еще не засосал водоворотморального разложения, окружающий их, с каждым днем всеболее опускаются, с каждым днем все более и болеетеряют силы противиться деморализующему влиянию нужды,грязи и ужасной среды» [Энгельс: 226).
Сент-Джайлс, описанный подобным образом (шум, воньгниющих овощей, которыми торгуют тут же), неединственный квартал, в котором соседствуютблагополучие и безнадежность: «В огромном лабиринтеулиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков,дома в которых слишком плохи для всех тех, кто имеетвозможность хоть сколько-нибудь расходовать на болеечеловеческое жилье, и такие пристанища жесточайшейнищеты можно найти часто в непосредственном соседстве спрекрасными домами богачей» [Теш же: 267],
Как же согласовать сетования Энгельса нанеописуемость того, что ему открылось в переулкахЛондона, с этими «насыщенными» описаниями, в которыхмыслитель проницательно фиксирует главные компонентысоциальной реальности большого города? Ведь это лишь втечение последних полутора столетий марксизм, так илииначе затронув большую часть человечества, стал общимдля многих компонентом культурной памяти и популярнойинтерпретационной рамкой. В итоге противопоставлениепотребления богатых напоказ и стесненности бедных всредствах стало таким общим местом, что мы даже боимсяего банальности и очевидности. Однако Энгельс описывалЛондон, центр которого продолжал застраиваться, ипроисходящее в нем еще надо было расшифровать.
227 Так, упомянутая Энгельсом Риджент-стрит былапостроена в 1820-е годы на деньги несколькихфинансистов и задумана как место концентрации самых
престижных торговых и доходных домов [см-.Arnold,2000:48—491 ].
227 Для того чтобы привлечь богатых жильцов ипокупателей, этот район надо было228 подвергнуть тому, что теперь называетсяджентрификацией (см. об этом главу «Город иглобализация»), — вытеснить прежних обитателей ивложить капитал для увеличения экономическогопотенциала района. Джон Нэш, спроектировавшийзнаменитые классицистские колоннады зданий улицы (нынеисчезнувшие), сумел придать единый социальный смыслкварталу — отныне месту обитания состоятельных людей.
228 Выразительной стеной фасадов он закрыл домапобеднее, в которых обитали торговцы и рабочие.Риджент-стрит стала своего рода социальным барьером,отделяющим места проживания богатых к востоку от нее итрущобы Сент-Джайлса к западу настолько успеш! to, чтоблагополучные обитатели Лондона могли прожить всю жизньпо соседству с беднотой, не подозревая об этом.
228 По замечанию Стивена Маркуса, Энгельс нашелсвоеобразную стратегию «прочтения непонятного» вгороде, состоящую в том, что он изображает горододновременно и как прочитываемый, и как нерасшифруемый[ш..Marcus, 1973: 262). Планирование города в первойполовине XIX века, как это ни парадоксально, добавляетгороду «нечитаемости». Плотно стоящие друг к другуфасады богатых домов и дома бедняков, спрессованных какселедки, сосуществовали так, что люди по разные сторонысоциального водораздела видели только «своих».Потребовался «тенденциозный» взгляд социальноготеоретика, чтобы это невидимое доселе противоречиеувидеть и зафиксировать, чтобы прочитать коммерческиездания и пабы бедноты как камуфляж, симптом, видимуючасть невидимой реальности, как образования, «созданныеиз смещений и компромиссов между антагонистическимисилами и инстанциями» [Ibid].
228 Увидев классовые противоречия, Энгельс облекаетих в плоть. Он описывает, как девушки из лондонских
модных лавок слепнут, сутки напролет изготовляяпредметы для «украшения буржуазных дам».
228 «Какой-нибудь ничтожный дэнди», опять-таки«поблизости» от рабочих, «проигрывает в один вечер в
229 Классицистские здания Рнджент-стрит — классовыйбарьер229-230 фараон больше денег, чем они могут заработать втечение целого года».
230 Увидев классовые противоречия на Риджент-стрит,Энгельс изображает их в качестве главного измерениясовременной ему городской реальности: «Все, что можносказать о Лондоне, применимо также к Манчестеру,Бирмингему и Лидсу, ко всем большим городам. Вездеварварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с однойстороны, и неописуемая нищета - с другой» [Энгельс, 2;264].
230 Тропы «города контрастов», разделенного города»,с помощью которых современные авторы продолжаютизображать социальные последствия экономическихпротиворечий, в этом тексте кристаллизовались иупрочились, начав победное шествие по «городской» лите-ратуре.
230 Когда мы читаем Энгельса сегодня, нам трудноабстрагироваться от знания того, что поискиуниверсального минимума компонентов «урбанизма какобраза жизни», которые были присущи теории городовпервой половины XX века, велись с оглядкой на стандартыестественно-научного знания и с уверенностью, что к
воплощению своей сути города пришли лишь в XX веке.Между тем за полвека до Зиммеля и Уирта Энгельспроницательно замечал, глядя на Лондон, что «деньги —вот бог на земле», что человек — «лишенный воли объектвсевозможных комбинаций и стечений обстоятельств», что«все жизненные отношения оцениваются по их доходности,и все, что не приносит денег, — чепуха, непрактичность,идеализм». В особенности выразительны его описаниявлияния на людей больших городов: «Это жестокоеравнодушие, эта бесчувственная обособленность каждогочеловека, преследующего исключительно свои частныеинтересы, тем более отвратительны и оскорбительны, чтовсе эти люди скопляются на небольшом пространстве.
230 И хотя мы и знаем, что эта обособленность каж-дого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщийпринцип нашего современного общества, все же нигде этичерты не выступают так обнаженно и нагло, таксамоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большогогорода.
230 Раздробление231 человечества на монады, из которых каждая имеетсвой особый жизненный принцип, свою особую цель, этотмир атомов достигает здесь своего апогея. Отсюда такжевытекает, что социальная война, война всех против всехпровозглашена здесь открыто* [Энгельс-. 264].
231 Среди тех, с кем Энгельс говорил, собираяматериал для своей книги, был манчестерскийпромышленник С ним Энгельс идет по улицам рабочегоквартала, пытаясь понять, почему сами принципы егозастройки таковы, что обрекают рабочих на невероятнуюскученность и болезни. Ответ промышленника был циничени честен: «И все же здесь зарабатывают очень многоденег. До свидания, сударь!» [Там же-. 497). Он былдалек от того, чтобы хотя бы притворно разделитьклассовую страсть Энгельса. Разделение труда междутеми, кто зарабатывает, превращая городскоепространство в капитал, и теми, кто критикует
последствия капитализма для городов, оформившись в этомэпизоде, воспроизводится по настоящий день.
Идеи современных марксистов-урбанистов231 Американский географ Дэвид Харви в работе
«Социальная справедливость и город» называет город«центром организации данного способа производства» ипризывает географов к отказу от мнимой объективностиисследований в условиях, когда увеличиваются отрядыгородской бедноты [см.: Harvey, 1973: 202]. В книге«Сознание и городской опыт» [см.: Idem, 1985] онрассматривает связь между деньгами, временем и про-странством как основу процесса урбанизации. Онразличает денежную экономику и капиталистическуюэкономику. Первая существовала задолго до того, каквозникли крупные города. Вторая оформилась в начале XIXвека.
231 Когда промышленность пришла в города, некоторыеиз них уже насчитывали миллион и более жителей.
231 Превращение людей в товар и цир-232-куляция денегкак эквивалента этого товара соединяются.
232 Нарастает противоречие между равенством,предполагаемым владением деньгами и классовой борьбой,определяющей делание денег.
232 Согласно Харви, «деньги обладают невероятнойспособностью концентрировать социальную власть в про-странстве, ибо, в отличие от других видовпотребительной стоимости... могут без ограничениянакапливаться в определенном месте. Эта невероятнаяконцентрация социальной власти может быть использованадля осуществления в конкретном месте массивноюпреобразования природы созданием городской среды и томуподобного» \Harvey, 1985: 12].
232 Иными словами, в капиталистическом городеусиливается связь между деньгами и пространством.Создание точных карт и земельных кадастровспособствовало коммодификации пространства, то естьпревращению земли в актив, который мог быть продан или
куплен. Она базируется не только на фиксации прав наземлю, но и на том, что они отныне принадлежат некакому-то единоличному властвующему субъекту, но широ-кому кругу частных лиц. Сначала землю в городе поделилина аккуратно очерченные и продаваемые участки, затем еевладельцы научились получать арендную плату, котораяувеличивалась по мере того, как росла стоимостьгородского пространства. Близость недвижимости кцентру, рынку, вокзалу гарантировала наивысшую аренднуюплату, и с тех пор надежным способом увеличениястоимости земли стало строительство на ней зданий илидорог, каналов, железных дорог или аэропортов.
232 Книга Харви «Сознание и городской опыт» содержитодин из немногих конкретных случаев развития городскогопространства, включенных автором в большой корпус своихработ. Он ведет речь о масштабной перестройке Парижа,осуществленной бароном Османом при Наполеоне II.
232 Если некоторые москвичи изведали в полной мерегоречь насильственных переселений в 1990—2000-е годы(см. раздел о джентрификации в главе «Город иглобализация»), то парижане, особенно233 те, кто был причислен к «опасным классам» (вколичестве 350 тыс. человек), были вытеснены из трущобМонпарнаса и Ле Галдя в середине XIX столетия.
233 Осман проложил Большие бульвары по живой тканигорода, став первым из модернистских планировщиков,воплотивших свое видение нового и лучшего городавопреки всему и всем и, как правило, не считаясь с ин-тересами низов. Он построил театры для элиты, разбилнесколько парков, но главное -- обеспечил легкий доступот жилых кварталов к местам культурного потребления.Рабочий же люд был вытеснен из города на периферию —туда, где в это время возводились большие заводы.
В работе «Пределы капитала» Харви проясняет Марксовутеорию капиталистического способа производства, с темчтобы осуществить исторический анализ процессаурбанизации при капитализме [см.: Harvey, 1982].Используя труды французского неомарксиста Анри Лефевра,
Харви сосредоточивается вначале на первичном обращениикапитала, в рамках которого труд создает прибавочнуюстоимость. Рабочие придают ценность продукту, которыйпродается капиталистом для получения прибыли.Воспроизводство труда и потребление товаров такжеосуществляются в рамках первичного обращения. Харвипоказывает, насколько сложнее современная капитали-стическая политическая экономия. Маркс предвидел этусложность, сформулировав понятие сверхнакопления.Капитализм склонен порождать кризисы в первичномобращении, состоящие в избытке капитала, которыйтребует прибыльного вложения. Симптомами кризисаявляются: 1) перепроизводство товаров; 2)неиспользуемые промышленные мощности; 3) увеличениечисла безработных.
233 Кризис, разразившийся в западном мире в конце1960-х — начале 1970-х годов, пришел на сменупослевоенному буму, отмеченному почти полнымотсутствием безработицы, заметным повышениемблагосостояния людей, победой профсоюзов в борьбе засоциальные права. При этом — в Марксовых терминах —капитал продолжал сверхнакапливаться.
233 Старая234 техника не могла больше гарантировать высокойпроизводительности труда и становилась убыточной.
234 Рабочих не хватало. Борьба людей за гражданскиеправа, как это ни парадоксально, подрывала уверенностьв завтрашнем дне. Вложения в производство сократились.По мнению историка и социального теоретика РобертаБреннана, причина «хроническою» для капитализмаперепроизводства, которое привело к этому кризису, —анархическое соревнование между компаниями [см.:Вгеппап, 2006]. Компании стран Юго-Восточной Азии всилу своей технологической продвинутое™ оставили позадикомпании Европы и США, «застрявшие» в большом числестарых активов. Неолиберальные новшества привели кприватизации, дерегуляции и переносу производства изстарых промышленных центров в регионы с дешевой рабочей
силой. Это не значит, что попытки переструктурироватьпервичное обращение с тех пор прекратились. Напротив,пример японской промышленности (прежде всегоавтомобильной) побудил американских и европейскихпромышленников к «флексибилизации»: вместо большихпромышленных предприятий с иногда пожизненно нанятымирабочими пришла «гибкая» рабочая сила, соединеннаяновыми формами электронной коммуникации, нанятаянезависимыми сетями подрядчиков и субподрядчиков.
234 Еще одна причина окончания послевоенного бума вначале 1970-х — резкое (в 4 раза) подорожание нефти. Теже самые тенденции, что погрузили российские города вспячку относительного брежневского благополучия,привели на Западе к отчаянным попыткам найти новыеисточники получения прибыли. Спекуляции на недвижимостистали главной находкой с конца 1970-х годов. Созданиеновых или реконструкция старых городских пространств вкачестве мест потребления или развлечения — сегодняглавный способ, каким капиталу удается избежать кризисаи снижающихся прибылей.
234 Опасность сверхнакопления в промышленномпервичном обращении капитала на стадии индустриальногокапитализма была главной причиной переключениякапиталистов в направлении235 кратковременных спекулятивных операций с землей инедвижимостью.
235 Городское пространство стало главным способом«фиксации» капитала.
235 Присущая капиталу тенденция ускорять время своегообращения и уничтожать пространственные препятствиясвоей циркуляции обусловливает создание относительностабильных и неподвижных пространственных образований,Каждая фаза капиталистического развития укоренена вособой форме территориальной организации — «второй при-роде», состоящей из инфраструктуры (включающей транс-порт, иные коммуникации, институты управления и такдалее), через которую капитал может циркулировать [см.:Harvey, 2006]. Этот момент территориализации (который
Харви называет пространственной фиксацией — spatialfix) возможен за счет долговременных инвестиций в землюи постройки, которые в ходе каждого кризиса накопленияпереоцениваются. Это причина, по которой изменяющиесяформы урбанизации и территориальной организациигосударства при капитализме попадают в ловушкупространственно-временных противоречийкапиталистических отношений. Динамика развития капи-тализма обусловливает в городах беспрестанноестроительство нового, разрушение существующего и егоперестройку. Пространственная «фиксация» есть попыткавернуть капиталу его прибыльность, что выражается вновой конфигурации капитала и городского пространства,которая возникает после каждого кризиса. Пространство —абсолютное условие всего производства и всегопотребления, и оно должно все активнее расширяться,чтобы соответствовать логике капиталистического роста.Но пространство может стать и барьером на путиполучения прибыли и капиталовложений. Наружный покровгородского пространства периодически должен«сбрасываться» и вырастать заново. Пространственнаяфиксация связана с двумя другими вариантами обращениякапитала — вторичным и третичным. Капитал инвестируетсяво вторичное или третичное обращение (или в комбинациютого и другого).
235 Вто-236-ричное обращение -- вложения в физическийкапитал, которые после некоторого времени начинаютприносить прибыль.
236 Вторичное обращение предполагает также вложения вновые формы потребления. Так, ТВ и телекоммуникационныекомпании, вложив серьезные деньги в покупку спугников,получают хорошую прибыль. Коммерческий туризм такжепредставляет собой вариант таких инвестиций. Как этовидно из схемы Харви, вложения во вторичное обращениеделаются игроками рынка и правительствами — теми, ктоспособен обеспечить так называемый фиктивный капитал(облигации, ваучеры, ценные бумаги, государственныеобязательства). Это нужно для того, чтобы вложения,
сделанные в один тип товара, были достаточно«подвижными» для перенесения в другой тип товаров. Хар-ви отстаивает идею, что земля — форма фиктивногокапитала — это чистый финансовый актив, тесно связанныйс циркуляцией приносящего проценты капитала. Соединяяее с марксистской концепцией накопления,сверхнакопления и кризиса, Харви дает подробный анализденег, финансов, капитала и кредита, В основе — погоняза прибылью через вложение в городскую недвижимость.
236 После публикации книг Харви его идеи былиразвиты, в частности, в том направлении, что урбанистыпроследили и подробно описали механизмы приватизациигородского пространства. Места, прежде являвшиесяобщественными, стремительно переходят в частноевладение. В России эта тенденция проявляется, вчастности, в том, что из-за резкого подорожаниягородской земли парки и скверы становятся лакомым кус-ком для девелоперов. Так, в Екатеринбурге в 2005 годуторговый центр (молл) «Парк-хаус» был возведен натерритории любимого горожанами Основинского парка. Озавершении строительства центра на его сайте говорилосьтак «Активно благоустраивается прилегающая территория,завершается уборка и реконструкция рельефа Основинскогопарка, на аллеях которого сейчас заканчивается монтажсистемы освещения.
236 Готовится к открытию и сам "Парк-хаус": в будущихтор-237-238-говых галереях в три смены идут отделочныеработы, торговые помещения передаются арендаторам.
237 Схема Харви. Пути циркуляции капитала238 В здании начат монтаж технологического
оборудования. В августе жителей столицы Урала встретитсовременный молл европейского уровня, который предложитбогатый ассортимент товаров от мировых брендов,разнообразные услуги и развлечения, включая фудкорт,восьмизальный кинотеатр, боулинг, детские аттракционы иигровые автоматы». Искусная риторика PR-сотрудниковцентра позиционирует присвоение территории паркавладельцами центра как деятельность по улучшениюгородской среды, тем самым повторяя классическийриторический прием тех, кому надо оправдатьпродолжающуюся во всем мире приватизацию городов. Онсостоит в утверждении, что нам всем станет от этоголучше: города станут благоустроеннее, шопинг — удобнее,парки — ухоженнее, жизнь горожан — более «европейской».Еще одним примером этой тенденции является рекламнаякомпания «Твой дом и твой парк», продвигающая в Ека-теринбурге масштабный жилищный комплекс «Зеленая роща»с видом на небольшой одноименный парк, ценность которо-го в том, что он — в самом центре города. Территорияпарка по причине ее малости, скорее всего, этим
строительством затронута не будет. Здесь в действияхпромоутерской компании интересен другой момент:общественное место продается как частный символическийактив, который, обещают рекламщи- ки, будетпринадлежать только обитателям будущего комплекса.Будет ли ограничен доступ горожан в Зеленую рощу — поканеизвестно, но, скорее всего, обещание девелоперовбудет выполнено и еще один участок общей земли будетнавсегда изъят из коллективного пользования.
238 По сравнению с другими вариантами инвестицийнедвижимость оказывается наиболее выгодным вложением.Колебания процентной ставки накладывают отпечаток нагеографическую структуру капиталистических городов.
238 Это проявляется в том, что образуется теснаясвязь между спросом и предложением финансового капиталаи спросом и предложением зем-
239
239-240-ли. 240 Низкая процентная ставка и избыток финансового
капитала связаны с увеличивающейся стоимостью земли. 240 Стремление получить максимум прибыли от
недвижимости не только отражается в стоимости земли, нои стимулирует те способы ее использования, которыесулят наивысшую коммерческую отдачу, То, что к землеотносятся как к чисто финансовому активу, создаетгородской ландшафт, в центре которого — марксовс- кий
цикл производства, обмена, распределения и потребления.Цены на землю определяют действия девелоперов (кстати,русский Google выдает около 2 млн ссылок на это слово).
240 Какой бы притчей во языцех ни был абсурдмосковского рынка недвижимости, спекулятивный характерземли и недвижимости присущ всем капиталистическимгородам. Проницательный инвестор находит лучший моментдля вложения капитала в землю, создавая тем самымматериальную основу для получения в будущем болеевысокой, дифференциальной ренты. Городское пространствооказывается крайне зависимым от колебаний процентнойставки и тенденций развития глобальной экономики.Высокая процентная ставка означает высокую стоимостькредитов, низкий спрос на офисную недвижимость и вцелом снижение прибыли от недвижимости.
240 Сверхвложения в сектор недвижимости подвергаются«дисциплинированию» со стороны законов экономики.
240 Реальный капитал «дисциплинирует» фиктивныйкапитал через перенасыщение товарами, резкий спадпроизводства и обесценивание. В секторе недвижимостиэти тенденции проявляются следующим образом: владельцыофисных зданий, квартир, жилищных комплексов терпеливождут, пока финансовая ситуация станет болееблагоприятной.
240 Подытожим. Харви выделяет следующиехарактеристики капиталистической урбанизации:
1)государственное регулирование классового конфликта;2)создание городской среды как предназначенной для
ЭЛИТЫ;240 3)создание рынка земли и недвижимости, увязанного
с глобальной финансовой ситуацией;241 4) городское пространство — главный источник
прибыли и возможный барьер на пути ее получения.
Изменение экономической роли городов при «позднем» капитализме
241 В наши дни два ключевых фактора изменилиэкономическую роль городов: нарастание мобильности
труда и капитала и то, что города (по крайней мере,западные) в течение последних тридцати лет пересталибыть местом индустриальной экономики.Деиндустриализация — сокращение доли промышленногопроизводства в экономике развитых стран — приводит ктому, что, во-первых, индустриальная экономикасменяется постиндустриальной (основанной на IT исервисе); во-вторых, промышленное производствопереносится из развитых стран в развивающиеся; в-третьих, заводы-гиганты уступают место небольшимфабрикам, где трудятся высококвалифицированные рабочие.В центре городской экономической активности сегоднянаходится сервис. Покупателей и горожан обслуживают вторговых и развлекательных центрах, сосредоточиваяприбыль в банках и страхуя ее в страховых компаниях.
241 Помимо сервиса, с которым, как правило, исвязывают постиндустриальный характер современногогорода, можно выделить еще несколько видовэкономической активности, местом которых традиционноявляются города.
241 Это торговля: город — центр коммерции,распределяющий товары и сервис.
241 Город — это место производства. В центрепроизводства сегодня могут лежать знания, инновации,мода, исторические традиции, необходимость снабжатьгорожан едой и мебелью. Город — это центр неформальнойэкономики: здесь представлен весь спектр полулегальных,нелегальных и преступных занятий, людей, не вписавшихсяв мейнстрим (см.: Castells, 1989].
241 Отношение урбанистов к связи города и экономикинеоднозначное.
241 Критически настроены британские теоретики242 Аш Амин и Лорен Грэхем.
242 Они указывают, во-первых, на дороговизнугородской земли и недвижимости, перенаселенностьгородов и перегруженность городской инфраструктуры, чтопроявляется в автомобильных пробках, недостаткедоступного жилья, больших классах в школах [см.: Атгп,
Graham, 1997]. Все это представляет собой экономическоебремя, налагаемое городом как на бизнес, так и наобитателей города. Во-вторых, депрессивные районы, вкоторых сосредоточиваются маргиналы, являются местомбеспорядков. Американские города нередко называютместом, через которое просачиваются экономическиересурсы: социальная политика субсидий, направленных па«певписавшихся», экономически непродуктивна.
242 Другие авторы, и среди них американский географДэвид Харви (идеи которого мы уже рассмотрели),считают, что все еще возможно считать города центромэкономической активности. Большая группа авторовдоказывает, что сочетание (агломерация) разных видовэкономической деятельности в городах дает последнимсерьезные преимущества. Еще в 1920-е годы экономистАльфред Маршал отметил три ключевых фактораагломерации: концентрация квалифицированного труда,способствующая передаче знаний, умений и информации,наличие развитой сети вспомогательных фирм,обеспечивающих приток товаров и сервисов, и географиче-ская близость, способствующая контактам лицом к лицу,установлению доверия и обмена информацией. Если вгородах стран Запада, повторим, перестали размещатьпромышленные предприятия и открывать новые заводы, тоэти тенденции проявляются в странах Азии, где, как,например, в Шанхае, продолжают создаваться агломерациипромышленных предприятий. Что же сохраняетэкономическое «лицо» западных городов? По мнению АшаАмина, можно выделить три аргумента в пользусохраняющейся экономической значимости городов [см.:Атгп, 2000].
242 Во-первых, это то, что преимущества городскихагломераций продолжают перевешивать их недостатки.
242 Во-вторых, то, что города продолжают играть рольв обмене и243 передаче информации, что особенно значимо длясовременной экономики.
243 В-третьих, города — узлы глобальной экономики(см. об этом отдельную главу).
243 Сдвиг, происшедший в последние три десятилетия, —выход ряда работ, способствовавших пониманию того, чтоотношения между экономикой и всем остальным в городахвряд ли есть смысл понимать в стиле вульгарногомарксизма, по принципу «первичное — вторичное». Сегодняотношения между экономикой и культурой мыслятся каквзаимно конституирующие, что получило отражение в такихпонятиях, как символическая экономика или культурнаяэкономика городов.
Шарон Зукин о символической экономике// КОММОДИФИКАЦИЯ (COMMODIFICATION) (отангл. commodity — товар) Процесс, в ходекоторого все большее число различных видов человеческой деятельности обретаетденежную стоимость и фактически становится товарами, покупаемыми и продаваемыми на рынке. Теоретическим основанием данной идеи являются работы К. Маркса, утверждавшего, что капитализмпредставляет собой саморасширяющуюся экономическую систему, которая требует все большей коммодификации. Капитализм, таким образом, ведет к вытеснению духовных или человеческих ценностей денежными. См. также: Товарный фетишизм.
243 Город сегодня представляет собой место, в которомвозникают новые варианты сочетания экономики икультуры. Для городов культура — бизнес, а культурнаяэкономика — значимый сектор экономики в целом. Этосвязано с тем, что капитализм сегодня, возможно,находится на такой фазе развития, когда культурныеформы оказываются встроенными в производительнуюдеятельность, а культура в целом подвергается различнымвариантам коммерциализации и коммодификации.Производство и маркетинг товаров и услуг предполагаютнаделение их эстетическими и семиотическими чертами, а
в целом они оказываются предметами символической эко-номики.
243 Понятие символическая экономика ввелаамериканский урбанист Шарон Зукин.
243 В книге «Обитая в лофтах» она рассмотрелакоммодификацию городских мест, их функционирование вкачестве мест пот ребления [см.: Zukin, 1989]. Онаотметила, что такие города, как Нью-Йорк, начинаютпотреблять сами себя — в качестве города-мира,воплощающего все лучшее и интересное, что есть наземле.
243 Предметом ее рассмотрения были богемные районыНью-Йорка, их использование девелоперами в качествемагнита для состоятельных клиентов и244 последующее вытеснение первоначальных обитателей,которым стало не по карману жить в джентрифицированныхрайонах Сохо и Челси.
244 Само слово «лофт» возникло, когда фабричныепостройки стали перестраивать под жилье, не без влиянияосновоположника поп-арта Энди Уорхола, чья «фабрика»находилась па Западной 47-й улице Манхэттена. Тогда жесложилась тенденция не членить просторные помещения накомнаты, позволяя наслаждаться целостностью обитаемогопространства и его гибридной природой(мастерская/квартира), отсылающей к мифам о художниках-авангардистах. Зукин даже ведет речь о своеобразном«художественном способе производства», который, с ееточки зрения, возник в Нью-Йорке в 1970— 1980-е годы.Он состоял в переоценке зданий и улиц с точки зрениякультурного потребления и исторической реставрации,использовании художественных практик как способасправиться с безработицей молодежи и создании новогонабора ценностей, который фиксировал приматэстетических ценностей в отношении людей к городскойсреде. Практически эта тенденция выражалась встремлении девелоперов увеличить ценность недвижимостиза счет прибавления к ней художественной ценности,понимаемой в данном случае как поощрение поселения
художников в бывших промышленных зданиях,предоставляемые им льготы на аренду жилья в том илиином квартале, с тем чтобы у квартала появилась хорошопродаваемая богемная аура. С тех пор подобные мерыиспользовали коалиции городского правительства ичастных девелоперов в английских городах Ньюкасле иЛиверпуле. В американском городе Джексон (штат Мичиган)городское правительство увеличило привлекательностьперестраиваемого района (в центре которого былазаброшенная государственная тюрьма), предложивхудожникам мастерские и квартиры в прилегающих к нейпромышленных зданиях.
244 В книге «Культура городов» Зукин исследуетсимволическую экономику Манхэттена, сосредоточиваясь наотдельных его245-246 местах как примере пересечения обращениякапитала и обращения культуры, таких как Брайант-парк,расположенный недалеко от Публичной библиотеки наШестой авеню [см.: Yjukm, 1995].
245 Сегодня в Челси и Сохо художники лишь продают своикартины — жить им там уже не по карману
246 В 1930—1980-е годы парк пользовалсясомнительной репутацией как место торговли наркотиками.В 1981 году городские власти пригласили урбанистаУильяма Холи Уайта и организацию «Проектирование
публичных пространств» для разработки проекта егореконструкции. По проекту предполагалось превращениепарка в более открытое место, строительство в нем кафеи киосков и так далее. Одновременно была созданаКорпорация реставрации Брайант-парка, котораяпровозгласила своей целью сохранение присущей парку ат-мосферы оазиса среди небоскребов и функциональную егопереориентацию, с тем чтобы другие люди и по-другомумогли его использовать. В парке стали организовыватькинофестивали, бесплатные концерты под открытым небом,показы мод. Он стал популярным местом отдыха работающихв Мидтауне деловых людей. Еще одним новшеством сталиусиленная охрана и многочисленный персонал, хорошееосвещение, несколько табличек с правилами поведения.Это помогло справиться с преступностью и вандализмом:если в 1979 году в парке произошло ) 50 ограблений, топосле реконструкции — только одно: слишком хорошо онтеперь охраняется и слитком был открыт и многолюден.Вложения в парк с лихвой оправдались: оп пе только сталпопулярным местом отдыха, по и увеличилпривлекательность прилегающего района, став важнымкомпонентом сто маркетинга. Это пример того, какместный бизнес, по суш, создал популярпое культурноеместо. Если вместо баскетбольных площадок вы построитетеннисные коргы, если отвадите «нежелательных» людейповышенной видимостью охраны, если глухие заборы вокругпарка снесете, но поставите оградки вокруг детских исобачьих площадок, достойные люди сюда придут.
246 Зукин называег эту стратегию умиротворение спомощью капучино (pacification by cappuccino).
246 Она анализирует этот случай, понимая неизбеж-247-248-ность появления все новых коалиций городскогоразвития и все новых стратегий маркетинга городов.
247 Хитрости джентрификации не мешают сотням людейнайти в Ьрайант-паркс приют в жаркий полдень
// Присвоение конкретного парка капиталом248 Присвоение конкретного парка капиталом —
частный случай продолжающейся апроприации городов,когда музеи и галереи, концертные залы и филармонииработают на «символическую экономику» городов,«продавая» города как местным (прежде всего состо-ятельным) обитателям, так и туристам.
Культурная экономика городов248 Какие же условия города способствуют производству
ком- модифицированных (произведенных накапиталистических предприятиях для получения прибыли вусловиях рыночной экономики) культурных продуктов?Такого рода продукты предназначены прежде всего дляразвлечения, но также для коммуникации, саморазвития,украшения, утверждения и повышения социального статуса.Они могут быть «чисто» культурными (книга или CD) илисочетать культурное и утилитарное измерение (мебель,одежда). Скотт Лэш и Джон Урри показали, чтосовременный, так называемый поздний капитализмотличается тем, что значимость культурного измерениятоваров и услуг нарастает (соотношение междуутилитарным и символическим меняется в пользу второго),а те секторы экономики, которые производят такого рода
продукты, выдвигаются на передний план [см.: Lash,Vrry, 1994].
248 Простой факт состоит в том, что фирмы,производящие такие культурные продукты с повышеннымсодержанием символического компонента, сконденсированыв больших городах. Размещение фирм в больших городахимеет то преимущество, что здесь сосредоточенывысококвалифицированные, способные к инновациямспециалисты. Географ Ален Скотт называет большие городакреативными полями, объединяющими культурную иэкономическую жизнь [см.: Scott, 2000].
248 Неважно, в бизнесе или культуре осуществляютсяинновации,249 но ряд городов действительно демонстрируетбеспрецедентную концентрацию творческой энергии: Париж1880-х годов (пик импрессионизма) или Вена рубежа XIX—XX столетий (родина психоанализа и атональной музыки),Манхэттен 1950-х (рождение абстрактногоэкспрессионизма), Ланкашир, в котором произошлареволюция в текстильной промышленности, или известнаявсем Силиконовая долина (передовой край развития IT).Говорим ли мы сегодня о Лос- Анджелесе или Нью-Йорке,Милане или Токио, сети инноваций, сложившиеся в этихгородах, воспроизводятся, способствуя поддержаниюсуществующей специализации, будь это звукозаписывающаяиндустрия, кинематограф или мода.
249 Что же именно делает города креативными полями?249 Во-первых, в таких городах живут сообщества
профессионалов, зарабатывающих на жизнь в рамках каких-то местных производств или ремесел. Различные ремеслаили производства редко распределяются более или менеепропорционально по всему континенту - напротив, ониимеют тенденцию концентрироваться.
249 За городами закрепляется та или иная спе-циализация в производстве культурных продуктов.Соответственно, сети профессионалов, обитающих в томили ином городе, — копилки уникального know how, уменийи навыков, то есть особой встроенной в их тела
чувствительности к тому, что надо производить, как икогда. Флорентийские кожевенники и бумажных делмастера, венецианские стеклодувы, миланские дизайнеры,неаполитанские изобретатели и виртуозы пиццы — этопримеры специализации только итальянских городов.Сообщества профессионалов привлекают неофитов, которыепонимают, что, только находясь в центре того или иногоремесла или производства, имея доступ к мастерству,передаваемому из рук в руки, они достигнут необходимогоуровня.
249 Для начинающих художников таким центром будетПариж или Нью-Йорк, сценаристов — Лос-Анджелес,дизайнеров — Лондон, программистов — Силиконовая долинаили Кембридж в Бостоне, где размещается MIT.
250 Школа кожевенного мастерства во Флоренции251 Во-вторых, стремительная циркуляция информации в
социальных сетях больших городов, интенсивность иразнообразие контактов способствуют тому, что однирепутации рушатся, а у других есть шанс бытьвыстроенными, что способствует постоянному пересмотрукритериев и норм, в соответствии с которымиопределяется то, что востребовано и хорошо продается.
251 Нельзя также сбрасывать со счетов и традицииразделения труда между теми, кто входит в сложные сетипо созданию и продаже культурных продуктов. Нетхудожника без галериста, нет модели без владельцаагентства, нет архитектора без архитекгурного бюро.Журналисты, критики, спонсоры, литературные агенты,кураторы, владельцы галерей, издатели — все они разнымиспособами участвуют в создании и продвижении тех илииных артефакгои.
251 В-третьих, в городах — и как результатсознательно прополи мой политики, и стихийно —воспроизводятся сообщества профессионалов, создающих теили иные культурные продукты. Иногда местные властипредпринимают ряд мер (в частности, различные схемычастного и государ сгвен но го партнерства), чтобы
сделать свой город хай-тек-центром или чтобы черезспециализированные школы и центры переподготовкиобеспечить воспроизводство квалифицированной и узкоспе-циализированной рабочей силы.
Креативные индустрии и креативный город251 Связь города и творчества (или креативности, как
предпочитают сегодня выражаться) давно привлекаегвнимание пишущих о городе людей. Урбанист Питер Холл вкниге «Города в истории цивилизации» исследует взлетыкреативности в различных городах мира, когда тенаходились на пике развития, — от Афин Перикла досовременного Лондона [см.: Hall, 199й[.
251 Главный тезис Холла в том, что креативность —условие городского образа жизни, потому что городскаяжизнь не252 возможна без творческого решения городских жепроблем.
252 Но что делает возможным золотой век того илииного города? И почему взлет искусств и инноваций,которым отмечена история почти каждого из великихгородов, столь недолговечен? Обращаясь к Флоренции иПарижу, Вене и Сан-Франциско, Лос-Анджелесу и Токио,Холл вспоминает античные идеи «хорошей» или«счастливой» жизни, которые возникли в условияхдостаточной праздности мыслителей. Иными словами, жизньна грани выживания и сосредоточенность лишь на не-отложных практических проблемах не способствует возник-новению искры творчества. Второе условие — готовностьнаселения поддерживать творцов и вкладываться втворческие проекты.
252 В Афинах на общественные деньги были возведеныздания, часть которых дожила до наших дней. В Риме иЛондоне поддержка общественности позволилаусовершенствовать городскую инфраструктуру. В итоге нетолько, говоря словами поэта, «в наши дни вошелводопровод, сработанный еще рабами Рима», но иэлектросистемы и канализация стали своеобразными
памятниками эффективного использования общественныхденег. Третье условие — отсутствие авторитарных илитоталитарных политических режимов. Тогда появляетсявозможность восстания против существующего порядка,будь это консерватизм художников-академиков (так, поХоллу, появился импрессионизм), мужской шовинизм(суфражистское движение), непомерная эксплуатациярабочих (профсоюзы) и так далее. Четвертое условие —оригинальность решения проблем данного города.
252 Пятое — эти города привлекали творческих людейсамого разного толка: технологов, строителей, ре-волюционеров, мыслителей, а не только художников. Темне менее одни города стали центрами художественных икультурных инноваций — Афины золотого века,ренессансная Флоренция, елизаветинский Лондон, ВенаГабсбургов, Париж времен Бель Эпок, Берлин временВеймарской республики.
252 Все эти города объединяет: 1) стремительноенакопление капитала; 2) концентрация амбиций людей; 3)культурное разнообра-253-зие,
253 4) новые модели кооперации представителейразных классов (аристократов и деловых людей); 5)развитая инфраструктура, включающая изобилие мест дляустановления и поддержания контактов - салонов, кафе итак далее; б) статус столицы. Другие города —Манчестер, Глазго XIX века, Детройт периода расцветаавтомобилестроения, Силиконовая долина и Токио — сталиинновационными центрами в сфере бизнеса и технологий.
253 Что позволило этим городам стать питательнойсредой для инноваций?
253 Все эти города объединяет: 1) присутствиехаризматичных личностей (например, Генри Форда); 2)отсутствие статуса столицы, а потому привлекательностьдля аутсайдеров и не столь выраженное иерархическоераспределение возможностей; 3) общий дух творческогоразрушения. Третья группа городов (Лос-Анджелес иМемфис) успешно соединила искусство и технологию длясоздания влиятельных направлений массовой культуры.
Голливуд возник как результат технологизации искусствакино. Мемфис, штат Теннесси, расцвел после того, какименно там была изобретена звукозапись, сложилисьблюзовая и рок-н-ролльная музыкальные традиции; крометого, этот город — родина Джона Ли Хокера, Джонни Кэша,Элвиса Пресли. Наконец четвертая группа городовзнаменита социальными инновациями, отразившимися в ихфизической структуре (Рим, Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес) и в политике (Стокгольм и Лондон временкоролевы Елизаветы). Учитывая, что естественнымсостоянием городов является скорее дезорганизация, тегорода, которые предложили удачные моделисамоорганизации, останутся в истории с той жевероятностью, что и столицы искусств. В самом деле,проблемы доставки в город чистой воды или налаживаниесотрудничества между совершенно разными людьми требуют,возможно, еще большей степени креативности, чем тезанятия, которые мы привычно с этим качествомассоциируем.
253 В дискурсе менеджеров, политиков, а также рядаурбанистов креативность означает способность людейсоздавать продукты, отмеченные культурными илихудожественными досто-254-инсгвами.
254 Термин креативные индустрии (creative idustries)описывает разнообразные варианты соединения художест-венных практик и медиаиндустрии, нацеленные наполучение прибыли за счет создания и использованияинтеллектуальной собственности.
254 К таковым относят рекламу, архитектуру, искус-ство, антиквариат, киноиндустрию, дизайн,программирование для образования и развлечения, музыку,театр, телевидение и радио. К креативным индустриямотносят также здания и организации, обеспечивающиеколлективное культурное потребление. музеи, галереи,библиотеки, концертные залы, театры, находящиеся либо вгосударственном, либо в частном владении.
254 Креативные индустрии составляют значительный (и взападных странах быстро расширяющийся) сегмент
капиталистической системы. Свежая статистика на этотсчет недоступна, но тенденция очевидна; это в большихгородах наиболее велико число занятых в креативныхиндустриях. В США свыше 50 % занятых в них работниковсосредоточено в городах с населением 1 млн и выше, а изних наибольшее число — всего в двух городах — Нью-Йоркеи Лос-Анджелесе (см. таблицу 1 [Evans, 2001: 158]).
254 В Лондоне работает до 30 % всех английских«креативных» специалистов.
254 Объясняется это тем, что для создателей куль-турных продуктов типична высокая концентрация, частопоблизости от деловых районов города. КинопроизводствоГолливуда, медиаиндустрия Манхэттена, производствоодежды в Париже, издательский бизнес Лондона — примерыподобной концентрации. Рынок распространения такихпродуктов может быть чрезвычайно широк, но ихпроизводство требует от всех участников нахождения водном городе или даже районе. Другой момент, отличающийкультурную продукцию, — то, что ее значительная частьдолжна быть и «потреблена» также на месте, поблизостиот того места, где она сделана.
254 Это театральные премьеры, вернисажи, концерты,обеды от знаменитых255 шефов.
255 Таблица 1Занятость в креативных индустриях Нью-Йорка
255 Не удивительно поэтому, что театры и рестораны,концертные залы и музеи концентрируются опять-таки вбольших городах, население которых и составляет главныхпотребителей культурных продуктов.
255 Общая тенденция современного производства имаркетинга товаров (наделение их эстетическими исемиотическими чертами) здесь проявляется особенноярко. Убеждение, что «креативные индустрии» способнысоздавать рабочие места и приумножать капитал,распространено практически повсеместно. В рассужденияхна этот счет, как правило, соединяются понятияэкономики знаний, постиндустриального общества,инноваций, автономии, креативного класса (авторпоследнего — американский экономист В Флорида). Вполитике больших и малых городов, а также стран в целомэти индустрии мыслятся как спасение отдеиндустриализации, безработицы, недостаткафинансирования.
255 В 1980—1990-е годы эта тенден-256-ция, средипрочего, проявилась в том, что ряд европейских городов— Кельн и Глазго, Болонья и Валенсия, Гренобль и Реймс— организовали собственный маркетинг в качестве ев-ропейских культурных городов.
256 Кроме этого, стимулирование креативности ванглийских городах проявляется в создании культурных,или творческих, кварталов (таких, как Кварталкультурной индустрии в Шеффилде, Культурный квартал вСтоуке, Медиаквартал в Бирмингеме). Слово «квартал»эквивалентно используемому экономистами понятиюкластера — группы близких по характеру продукциипредприятий, расположенных в одном месте. В культурныхкварталах объединены бизнесы, связанные с кино,музыкой, наукой и так далее. Так, в Шеффилде в такойквартал входят кинотеатр «Шоурум», детский центр,несколько больших кафе и баров, факультет медиа,общежитие и бизнес-центр Университета Халам,медиамузыкальная студия «Ред Т^йп», ночные клубы«Лидмилл» и «Спеэминт райно», Студенческий клуб,
Национальный центр популярной музыки, Театральныйцентр. Администрация Шеффилда приняла решение создатьтакой квартал в начале 1980-х годов с целью сделатьмедиаиндустрию и культурную индустрию частью экономи-ческого возрождения города. Музыкальная студия «Редтэйп» стала первой в Англии муниципальной студией.Многие медиа- компании и культурные организации городанастолько в то время заинтересовались этим проектом(поскольку нуждались в подходящих для своейдеятельности площадях), что правительство, объявив осоздании Квартала, стало постепенно перестраиватьнаходящиеся в его собственности старые здания. Такпоявились Центр аудиовизуального предпринимательства,другие помещения, стоимость от аренды которыхправительство пускало на продолжение работы студии «РедТэйп».
256 Такая модель перекрестного субсидирования с техпор используется в ряде городов для поддержкинекоммерческой и культурной деятельности.
Европейский город культуры как бренд257 В 1980-е годы, когда деиндустриализация захватила
большинство европейских городов и традиционные отраслипромышленности утратили и экономическое и символическоезначение, министр культуры Греции предложилорганизовать соревнование городов за право называтьсяЕвропейским городом культуры. Афины первыми получилиэто право в 1985 году, за ними в 1986 году последовалаФлоренция, в 1987-м — Амстердам, в 1988-м — ЗападныйБерлин, в 1989-м — Париж, в 1990-м— Глазго, в 1991-м —Дублин, в 1992-м— Мадрид, в 1993-м — Антверпен, в 1994-м — Лиссабон, в 1995-м — Люксембург, в 1996-м—Копенгаген, в 1997-м - Фессалоники, в 1998-м —Сгогкольм, в 1999-м — Веймар. Популярность соревнованияи престижность включения в сеть европейских городовкультуры были такими, что в 2000 году были избраны сра-зу девять городов (среди них Рейкьявик, Прага и Краков,то есть город страны — не члена ЕС и города только что
присоединившихся стран), в 1999 году этот титул былизменен на звание Европейской культурной столицы.Включение новых стран — членов ЕС было отмеченопровозглашением в 2007 году Европейской культурнойстолицей румынского города Сибиу.
257 Включенность городов в национальную,континентальную и мировую экономику вынуждает ихстроить свою культурную политику с учетомвзаимоналожения различных уровней их экономическойзависимости. Так, деятельность Европейского союза посозданию общей европейской идентичности стран- членовименно городскую культуру сделала передовым краемперемен и капиталовложений. При этом капиталовложенияСоюза распространяются лишь на некоторые европейскиегорода — те, которые получили право называтьсяЕвропейским городом культуры.
257 Города включились в активное соревнование заресурсы Европейского союза, которые вкладываются в вос-становление архитектурных сооружений, развитие туризма,поддержку местных ремесел и так далее - вне учетанацио-258-нальной и даже городской экономической икультурной политики.
258 Иными словами, какое бы видение собственногоразвития иной европейский город ни имел, он вынужденвключаться в это соревнование: есть шанс получитьсредства на развитие хотя бы той части его культуры,которая по тем или иным причинам важна дляобщеевропейских целей.
258 Так, в румынском Сибиу реконструкции былаподвергнута «европейская» часть города, связанная снекогда существовавшей там большой немецкой колонией.Так и сосуществуют в нем небольшой и неотличимый отмножества городов Центральной Европы, предназначенныйдля туристов центр и разрушающийся, страдающий отнедостатка финансирования реальный город — со следамисоциалистического прошлого и крестьянского настоящего.
258 Эта тенденция интересна тем, что, сознаваяограниченность своих возможностей перед лицом
непреложного факта (люди творческих профессий всегдаконцентрировались в больших городах, и сегодня это дляних важно более, чем когда-либо), правительства малыхгородов все же не теряют надежды и создают в своихгородах пространства, привлекательные для«креативщиков», активно, кстати, используя возможностиместных вузов, Каждый город претендует на то, чтобыбьггь «креативным».
258 Объяснение этому — «дыры», оставленные в тканипочти любого города пустующими заводскими корпусами,преимущества, которые получают те города, которыесмогли стать местами IT и других новых видов производ-ства. Автор бестселлера «Креативный класс: люди,которые меняют будущее® американский экономист РичардФлорида считает, что в мировом соревновании выигрываютте города, которые способны продуцировать новые деловыеидеи и коммерческие продукты [см.: Florida, 2002;Флорида, 2005].
258 Эта способность зависит от концентрациитворческих людей — креативного класса.
258 Съезжаясь в Сан-Франциско, Остин, Сан- Диего,Бостон, Сиэтл (первые пять в списке креативных горо-259-260-дов Америки, составленном Флоридой), именно этилюди превращают города в привлекательные для многих.
259 За приукрашенным центром Сибиу— крестьянский город
260 Флорида считает, что креативный классконцентрируется не там, где есть высокооплачиваемаяработа, но в центрах креативности.
260 Если учесть, что понимание им креативногокласса весьма расплывчато (до 30 % его составляютрабочие, большинство — «креативные профессионалы®, тоесть те, кто занят в менеджменте, бизнесе, финансах,праве, медицине, и есть еще «суперкреативное ядро»,образованное теми, кто занимается компьютерами,математикой, архитектурой, инженерным делом,социальными науками, образованием, искусством,дизайном, спортом, медиа и индустрией развлечений), несовсем понятно, в борьбу за привлечение каких именно«талантов» (по Флориде, синоним творческих людей)города должны включаться, Флорида участвует вэкономической реабилитации городских центров, побуждаяраздумывающих о новом месте жительства людей выбрать впользу города, а не пригорода. Но информационный шум,который он создает вокруг этой проблемы, заявляя, чтовыбор человеком места жительства — одно из важнейшихрешений в жизни (этому посвящена его книга «Кто твойгород»), вуалирует то обстоятельство, что большинствомлюдей этот выбор совершается из достаточно узкого кругавозможностей и что он экономически, политически и такдалее ограничен [см.: Florida, 2008].
«100 (самых) креативных»260 Перечни всего «самого-самого» крайне популярны в
наши дни, и перечень «креативных» городов, составленныйР. Флоридой, был обречен на успех. Флорида известен ещеи как автор понятия креативный класс. Он не ограничилсяего теоретической проработкой, но организовал весной2003 года встречу американских представителейкреативного класса, предположительно номинированных отразличных регионов.
260 В ней уча-261-ствовали экономисты — авторы книг,популяризирующих различные варианты «экономикиразличий» (Джо Котрайт), художественные директора
музеев современного искусства, журналисты, главыкорпораций, PR-специалисты и так далее.
261 Группа получила название «The Creative 100»(«100 (самых) креативных») и написала так называемыйМемфис-манифест, который, как ожидалось, должен былстать руководством к действию городских властей,девелоперов, культурных институтов. Флоридавпоследствии с успехом огласил манифест на конференциимэров американских городов в Вашингтоне, усиливповсеместную ныне тенденцию — старания городскихвластей прославить свои города как центры инноваций,привлекательные для креативного класса. Во времявстречи активно использовалось выражение креативнаяэкосистема. Имелся в виду идеальный город, с изобилиемискусств и культуры, бурной ночной жизнью, оживленнымцентром, множеством открытых и зеленых мест, уютнымижилыми кварталами и разнообразными обитателями,разнообразно стимулирующими друг друга на проду-цирование все новых творческих идей.
Мемфис-манифест261 100 (самых) креативных нацелены на помощь
сообществам в полной реализации творческих идей,поощряя следование этим принципам:
1.Культивируй и вознаграждай креативность. Каждый —член цепочки приращения креативности. Креативность воз-можна везде и в любое время, сейчас и рядом с тобой. Непропусти.
2.Инвестируй в креативную экосистему. 261 Креативная экосистема может включать искусство и
культуру, ночную жизнь, обилие музыкальных концертов,рестораны, художников и дизайнеров, инноваторов,антрепренеров, доступные пространства, приятные жилыекварталы, духовность, образование,262 плотность, общественные места и третьи места(термин Рэя Олденбурга: не дом (первое место человека)и не работа (второе), а что-то третье (вроде паба),
куда приходишь поболтать, увидеть знакомых, пропуститьрюмочку, обменяться новостями. — Е.Т.).
262 3. Прими разнообразие, В нем истоккреативности, инновации, позитивного экономическоговоздействия. Разнообразие идей, выражений, талантов иточек зрения, обогащающих сообщества, создается людьмиразного происхождения и образования. Так идеипроцветают и создают жизнеспособные сообщества.
4.Выращивай творческих людей. Поддерживай тех, ктообъединяет и связывает. Кооперируйся, чтобы по-новомуучаствовать в соревновании и всех включить в игру.
262 5.Цени риск. 262 Преврати климат, в котором царит «нет*, в «да*-
климат. Инвестируй в создание возможностей, а не простов решение проблем. Используй креативные талант,технологию и энергию для твоего сообщества. Бросайвызов общепринятому.
6.Будь подлинным. Определи, какую ценность тывносишь, и сосредоточься на тех активах, которые делаюттебя уникальным. Смей отличаться, а не походить надругое сообщество. Сопротивляйся монокультуре иоднородности. Каждое сообщество может быть тем самымсообществом.
7.Инвестируй в качество города и основывайся на этом.Данности (климат, природные ресурсы, население) важны,но другие важные его характеристики могут быть созданыи усилены; искусство и культура, открытые и зеленыепространства, оживленный центр, учреждения образования.Это увеличит шансы сообщества, так как создаст для идейбольше возможностей оставить след
262 8. Устрани барьеры креативности:посредственность, нетерпимость, разобщенность, переездлюдей в пригороды, бедность, плохие школы,исключительность, социальную деградацию и экологическийкризис.
Потребление в городах
263 9. Возьми ответственность за перемены в твоемсообществе. Импровизируй, Меняй ситуацию. Развитие —это проект «сделай сам».
263 10. Добейся, чтобы у канедого, но особенно удетей, было право на креативность. Непрерывноеобразование высокого уровня — условие формирования иудержания креативных индивидов как ресурса сообществ(URL http//www . memphis manifesto, com).
263 Сдвиг к массовому потреблению массовопроизведенных товаров произошел в большинстве западныхгородов в начале XX столетия. Его связывают состроительством автомобильных заводов Генри Форда.Введение промышленником новой рациональной конвейернойорганизации труда (получившей название фордизма)позволило делать и продавать большое число доступныхавтомобилей. За первые двадцать лет существованиязаводов Форда (1908—1928) было продано свыше 15 млнмашин. Это начало массового потребительского рынка. Вего основе — три главных условия: 1) достаточно высокаязарплата (позволяющая покупать товары потребительскогорь(нка); 2) система потребительских кредитов,позволяющая выплачивать стоимость покупки (и проценты)в течение долгого времени; 3) идеология, котораяпотребление ставит в центр жизни человека.
263 В каких городских местах осуществляетсяпотребление? Это улица. Это магазин. Это торговыйцентр. И наконец, это дом.
263 Шопинг неразрывно связан с городскимпространством (и с пригородами, где расположено немалоечисло торговых центров). Вместе с растущейпопулярностью интернет-шопинга именно магазины ипрактика «реального» шопинга создают сегодня городскуюжизнь.
263 Можно сказать, что магазины в значительнойстепени и образуют современное городское про-264-странство: что еще мы сегодня ассоциируем с центромгорода?
264 Не случайны мнения, согласно которым шопинг — этоединственный возможный сегодня вариант публичного вре-мяпрепровождения, а торговые центры превратились всамые популярные публичные места. Посещение магазинов,обмен сведениями о том, где можно купить что-тополезное, необычное и со скидкой, важны еще и в силубыстрых перемен на рынках товаров, которые одним изкомпонентов шопинга делают систематические иоперативные социальные интеракции. Чего стоят одни лишь«исследования», проводимые в Сети, в особенности напотребительских форумах, что предваряют сегоднябольшинство покупок! Если в ходе онлайновых потре-бительских дискуссий люди в основном BE,(сказываются какрачительные эксперты, то, совершая покупки, они нередкооказываются захвачены собственными воображением и идея-ми о том, чего (в том числе этой ли вещи) они в этойжизни достойны.
264 Время, проводимое горожанами в торговых центрах,уступает только времени, которое они проводят дома и наработе (в школе). Некоторые центры стали туристскимидостопримечательностями, как, например, The Mall ofAmerica в Миннесоте. Те торговые центры, которыерасположены в центрах городов, часто соединены сотелями или квартирными комплексами. Торговыепространства (которые в России чаще называют«площадями») наводняют не только отели, но и вокзалы,аэропорты, офисные здания, больницы, что лишний разподтверждает превращение шопинга в преобладающую се-годня практику.
264 Дизайн торговых центров подчинен интересаминвесторов, девелоперов, арендаторов, а эти интересы, всвою очередь, состоят в получении прибыли от продажитоваров. Центры строятся так, чтобы покупатели хотели вних возвращаться снова и снова.
264 В отличие от других форм недвижимости, длякоторых характерно быстрое насыщение рынка изависимость от общей экономической ситуации в городе и
регионе, строитель-265-266-ство торгового центра — этонадежное вложение капитала.
265 Хиджабы на выбор в Старом городе Иерусалима266 В строительстве таких центров в пригородах обычно
заинтересованы крупные игроки торгового рынка (цепимагазинов вроде Macy's в Штатах). А в городах отстроительства центров выигрывают городскиеправительства.
266 Если в США и многих странах Европы строительствоторговых центров в 1970—1990-е годы замедлилось, тороссийские города, особенно самые крупные, до началаглобального финансового кризиса в 2008 году находилисьна пике такого строительства. Среди причин, замедляющихстроительство торговых центров, исследователи называютследующие: недостаток доступных площадей за городом и вцентре, высокая стоимость возведения и использования,сокращение правительственных инвестиций винфраструктуру, сопротивление местных сообществ,изменяющаяся демография покупателей и сегментацияторговой индустрии. Девелоперы выходят из этойситуации, реконструируя и расширяя старые торговыецентры, интенсифицируя менеджмент или пытаясьвыработать новые концепции торговых центров, такие кактематический шопинг или «горячий молл®. Получениевыгоды все сильнее зависит от продвижения имиджа
торговых центров Как правило, центры создаются крупнымикорпорациями или коалициями, объединяющими крупныемагазины (department stores), строителей и девелоперов.Обычно эти корпорации включают государственныеагентства и команды маркетологов, геодемографов,бухгалтеров, юристов, инженеров, архитекторов,специалистов по ландшафту, дизайнеров, специалистов поавтомобильному движению. Сочетание разнообразныхподходов и интересов в конечном счете возможноблагодаря главному: необходимости максимизироватьприбыль от данного торгового центра.
266 Американский географ Джон Гос специализируется наанализе семиотики торговых центров. Он проницательноотмечает: «Торговый центр кажется всем тем, чем он насамом деле не является.
266 Он стремится быть общественным местом, даже если267 он В действительности — частное владение,нацеленное на получение прибыли; местом для общения иотдыха, хотя он стремится извлекать доллары; онзаимствует знаки других мест и времен, чтобы затушеватьсвою укорененность в современном капитализме.
267 Торговый центр продает своим покупателямпарадоксальный опыт: они могут пережить опасность вбезопасности, столкнуться с "другим" как с хорошознакомым, быть туристами не уезжая в отпуск, пойти напляж посредине зимы и быть снаружи, оставаясь внутри.Это буквально фантастическое место...концептуализованное пространство, научно спланированноеи реализованное через строгий технический контроль,притворяясь пространством, творчески созданным егообитателями. Торговый центр задуман элитарной наукойпланирования, которая включает вычисление прибыли отторговли и применяет бихевиористские теории действия вцелях социального контроля. Но, однако, часть егозамысла — его маскировка в качестве популярногопространства, созданного спонтанными индивидуальнымиповседневными тактиками» [Goes, 1993:40].
267 Госс пишет это, не просто абстрактно развиваяидеи мыслителей франкфуртской школы, которые оченькритически относились к обществу потребления. Онотмечает это в результате включенного наблюдения,осуществленного в крупнейших торговых центрахСоединенных Штатов, в частности уже упомянутого TheMall of America, открытого в 1992 году. Концентрируясьна вывесках, организации пространства, регуляцииповедения посетителей, он использует семиотическийанализ: показывает, как культурные значенияконструируются посредством языка, образов, жестов,объектов. Можно спорить, насколько убедительно егопонимание киоска хот-догов как фаллического символа илиогромного обувного отдела универмага «Нордстром» сманящим запахом кожи и удачным освещением как игровойплощадки для фетишистов.
267 Однако исследователь прав, когда говорит, чтоблуждание по 520 магазинам центра, 22 тематическимресторанам, не считая бес-268-численных кафе фастфуда,совсем не обязательно должно пониматься как сдача безбоя силам рынка.
268 Он справедливо пишет, что задача критическинастроенного социального исследователя не в том, чтобыгрубо напомнить покупателю о реальности за пределамиэтого пространства, но в том, чтобы вместе с коллегамиразобраться в том «потенциале мечты», которыйсодержится в пространстве центра, и даже попытатьсяоткрыть в нем следы идей осмысленной жизни.
268 Это очень продуктивная позиция. Прогулка полюбому такому центру открывает разнообразиеповседневных практик, которые осуществляются в немлюдьми, — от поиска велосипедного рюкзака именно этойпрославленной марки (действительно очень удобного) досемейного отдыха, от window shoppingа до охоты затоварами, выложенными на распродажу.
Бауман 3. Индивидуализированное общество. Гл. 1. Возвышение иупадок труда. М.: Логос, 2005.
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпохуФилиппа II: В 3 ч. М.: Языки славянской кулкгуры, 2002.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм,XV-XVIII ВВ.: В 3 т. м.: Весь мир, 2007.
Долгин A.Б. Экономика символического обмена. М.: ИНФРА-М,2006.
Маркс К Капитал: В 3 т. М.: Политиздат, 1983. Т 1. Кн. 1.Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.:
Классика XXI, 2005-Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К и Эн-
гельс Ф. Собр. соч. Т. 2.AminA The Economic Base of Contemporary Cities // A Companion
to the City / Ed G. Bridge, S. Watson. L: Blackwell, 2000.AminA, GrahamS. The Ordinary City // Transactions of the
Institute of British Geographers. 1997, № 22. E 411-429.ArnoldD. Re-Presenting the Metropolis: Architecture, Urban
Experience and Social Life in London 1800—1840. Aldershot:Ashgate, 2000.
Brertnan R. The Economics of Global Hirbulence. L: Verso,2006.
Castells, M. et al (eds,)The Informal Economy: Studies inAdvanced and Less Developed Countries. Baltimore andLondon: )ohn Hopkins University Press, 1989.
Cities and Consumption / Ed. M. Jayne. LT Routledge, 2006Evans С. Cultural Planning, an Urban Renaissance? L:
Routledge, 2001. Florida R. The Rise of the Creative Class: AndHow It's Transforming Work, Leisure, Community and EverydayLife. N.Y.: Basic Books, 2002.
Florida Я Who's Your City: How the Creative Economy is MakingWhere to Live The Most Important Decision of Your Life. N.Y.:Basic Books, 2008.
GossJ. The Magic of the Mall: Form and Function in the RetailBuilt Environment // Annals of the Association of AmericanGeographers, 1993- Vol. 83, № 1. P. 18-47.
Goss J, Once-upon-2-time in the Commodity World An UnofficialGuide to Mall of America // Annals of the Association ofAmerican Geographers, 1999. Vol. 89, № I. P 45-75.
Hall P. Cities in Civilization. N.Y.: Pantheon Books, 1998.Harvey D, Social Justice and City. Baltimore: The Johns HopkinsUniversity Press, 1973-
Harvey D. The Limits to Capital. Oxford: Blackwell, 1982.Harvey D. Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: TheJohns Hopkins University Press, 1985.
Harvey D. Spaces of Global Capitalism. Tbwards a Theory ofUneven Geographical Development. L: Verso, 2006
Lash S, UrryJ. Economies of Signs and Space. L: Sage, 1994,Marcus S. Reading the Illegible // The Victorian City: Imagesand Realities / Ed, H.J, Dyos, W. Wolff. L: Routledge, 1973-
PefferRG, Marxism, Morality, and Social Justice, Princeton,-Princeton University Press, 1990.
Scott A. The Cultural Economy: Geography and the CreativeField // Media, Culture, and Society, 1999- № 21. P, 807—817.
Scott A The Cultural Economy of Cities: Essays on theGeography of Image-Producing Industries. L: Sage, 2000.
Scott A The US Recorded Music Industry: on the RelationsBetween Organization, Location, and Creativity in the CulturalEconomy // Environment and Planning A 1990, № 31. P 1965—1984,Zukin S. Loft Living. New Brunswick: Rutgers University Press,1989, Zukm S. The Cultures of Cities. Oxford: Blackwell, 1995.
270-313 Гл 6 Город и глобализацияТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 6 Город и глобализация
270 Верно ли представлять себе мировую экономику каксумму «контейнеров» — государств, содержащих«контейнеры» поменьше — города? Теоретики глобальныхгородов пытаются доказать, что эта популярная картинауступает место другой, на первом плане которой — Нью-Йорк, Лондон и Токио и базирующиеся в нихтранснациональные корпорации, соединенные друг с другомразнообразными связями, в которые также вовлечены и нестоль значительные города.
270 Изучение влияния глобализации на города внастоящее время представляет собой бурно развивающуюсяисследовательскую индустрию. Урбанистика в нейсоединяется с международной политической экономией ианализом мировых систем. С одной стороны, урбанистыанализируют мировые экономические сети, в которыевключены (или нет) города. С другой стороны,специалисты по международной экономике рассматривают ееорганизацию в виде городов — командных пунктовэкономики — и связей между ними. Схемы описания мировойэкономики, в центре которых лежат отдельные государстваи национальные экономики, в свете этих исследованийобнаруживают свою недостаточность.
270 Огромное количество появившихся в последние двадесятилетия исследований глобальных городов (илигородов, претендующих на этот статус) показывает, каксвязаны городская экономика и возникающая миро271-ваяиерархия городов.
271 Главные тенденции современного городскогоразвития: деиндустриализация, расширение сфер сервиса ифинансов, сегментация рынка труда, социальнаяполяризация, этнические конфликты, пространственная се-грегация — объясняются на основе обращения к динамике
мировых экономических сил. Создаются такие вариантыгеографии капитализма, которые отходят от «государствоцентричных» схем.
271 Города, несмотря на разнообразие функций, которыеони в принципе способны выполнять, — от религиозных довоенных, — со становлением промышленного обществаоказались подчиненными одной функции - способствоватьцентрализации капитала. Их размер и масштаб, какпоказал в своих исследованиях американский географ НилСмит, задавались одним критерием — географическимипределами ежедневного перемещения рабочих из дома наработу и обратно [см.: Smith, 1990: 136— 137].Социальное разделение труда между производством ивоспроизводством одновременно стало и пространственнымразделением. ГЬрода представляли собой, иными словами,территориальную организацию социального воспроизводстватруда. И, как это ни парадоксально, промышленные городавоплощали прежде всего место для воспроизводстварабочего класса.
271 В 30—60-е годы XX века, когда преобладающейэкономической политикой западных стран былокейнсианство, задачи социального воспроизводстварабочей силы выполняло главным образом государство. Отжилья до транспорта, от социальных льгот до мест отдыха- государство в городах создавало условиявоспроизводства рабочих. То, что в урбанистическойлитературе 1970-х получило название кризиса городов,отразило ту точку в развитии западных городов, когданужды капиталистического накопления, превращениегородов скорее в центры извлечения прибыли ипотребления, чем в места воспроизводства, стали братьверх. Кризис городов мыслился именно как кризиссоциального воспроизводства.
272 Кейнсианство272 Кейнсианство — экономическая теория Джона
Мейнарда Кейнса, воплотившаяся в государственнойполитике большинства западных стран в 1930—1960-е годы.
Ее суть — в акценте на государственном регулированииэкономики.
272 По Кейнсу, рыночная экономика не способнаразвиваться так, чтобы обеспечивать полную занятость.Накопление капитала встроено в ее функционирование, чтоделает совокупный спрос меньше совокупного предложения.Государство должно оказывать воздействие на совокупныйспрос: финансировать из своего бюджета заказыпредприятиям, увеличивать расходы на социальные нужды,увеличивать денежную массу, снижать процентную ставку,стимулируя тем самым инвестиционную деятельность.
272 Государственный заказ предприятиям — допол-нительный наем рабочей силы — повышение номинальнойзаработной платы — оживление потребительского спроса —рост предложения товаров и услуг — оздоровлениеэкономики — такой виделась Кейнсу логика экономическогоразвития. Эта модель способствовала формированию взападных странах смешанной экономики, в которойгосударственное регулирование эффективновзаимодействует с механизмами рынка.
272 Города стали основой капиталистического развитияв результате соединения двух тенденций: возникновениянового международного разделения труда, во главекоторого встали транснациональные корпорации, и кризисафордистско-кейнсианской технологической системы. Староеразделение труда основывалось на добыче сырья напериферии и его промышленной обработке в промышленныхцентрах. Новое разделение труда переместилопромышленную обработку сырья на периферию: нужна былаболее дешевая, чем в крупных западных городах, рабочаясила.
272 Фордистский капитализм основывался на массовомпроизводстве, кейнсианской модели управ-273-ления ираспределительной социальной политике.
273 Его кризис в 1970-е годы сопровождался расцветомпространств «новой промышленности». Силиконовая долина,Баден-Вюртемберг,
273 Третья Италия - регионы, в которых былоорганизовано «гибкое» производство, включенное нестолько в национальные иерархии, сколько втранснациональные сети. Новая организация ремесленногопроизводства, ГГ-проиэводство и финансы — главные видыпостфордистского производства.
В глобальных городах место промышленных предприятийзаняли обслуживание бизнеса и собственно индустриясервиса, а также разнообразные административно-организационные службы. Если транснациональныекорпорации охватывают весь мир, то управляются они изтрех-четырех городов — командных пунктов. Развитиеновых информационных технологий способствовало этомупроцессу нарастания концентрации управления.
В бурных исследованиях связи городов и глобализациисказывается необходимость создания теорий, адекватноописывающих капитализм в целом, его развитие, еговарианты и последствия. Так, экологические проблемы инарастание неравномерности развития регионов миратребуют более эффективного управления со стороныглобальных институтов. С другой стороны, оппозицияусреднению развития стран, которую несет с собойглобализация, сохраняя при этом глобальное неравенство,выражается во внимании к различиям между городами,странами, регионами и местностями. Накопление капиталатранснациональными корпорациями порождает негативнуюреакцию на местах. Она выражается в разных вариантах«фетишизации» (Д Харви) мест и пространств, коммер-ческой в одних случаях (брендинг мест) и сепаратистскойв других. Середина 1990-х — 2000-е годы отмеченыраспространением антиглобализационных настроений идвижений. Некоторые города (Сиэтл) стали их эмблемой.
273 В этой теме вначале мы рассмотрим понятиямирового и глобального города и дискуссии вокруг них,затем посмотрим, в каких тенденциях274 развития городов сегодня глобализация проявляетсянаиболее заметно.
Теории глобализации274 Термин глобализация стал общепринятым в бизнесе и
политике в 1990-е годы, его популярность былаподхлестнута стремительным взлетом экономик стран Юго-Восточной Азии и падением Берлинской стены, то естьуверенностью в том, что с крахом коммунизма мир быстростанет единым («глобали- зуется»). «Глобальнаяпарадигма», как ее называет изобретший понятиеглокализация R Робертсон, изменила социальную теорию,побудив ее перейти от нации к миру как главному объектуанализа. Глобализация конечно же и просто модное слово,из-за частоты употребления теряющее смысл. Происходитсмешение научного и повседневного использования терминав идеологии, политике, бизнесе, рекламе. Наблюдаякоммодификацию термина, часть ученых переключилась натермин транснационализм, часть — продолжает работать спрежним.
274 Основные проблемы теории глобализации:• происхождение и продолжительность процесса
глобализации;• движущие силы глобализации;• связь между разнородным и одинаковым в рамках
глобализации;• связь между глобальным и локальным (и степень, в
какой локальное произведено глобальным);• судьба национального государства в исторических
рамках глобализации;• связь между глобальностью (глобальноспгми) и
модерно- стью (модерностями);• социальное (прежде всего коммуникативное,
интерактивное) измерение глобализации (наряду сэкономическим, культурным и политическим измерениями).
275 Глобализация — система социальных отношенийпроизводства и воспроизводства, поддерживаемаянеравномерным развитием разного масштаба — от местногои регионального до национального и сверхнационального.Глобализация — это интенсивное (все быстрее и дальше)движение людей, капиталов и информации.
275 Во-первых, это результат различных тенденций исил, проявляющихся на разных уровнях. Во-вторых,глобализация усиливает способность капитала отсрочиватьпроявление его противоречий и лавировать между разнымимасштабами экономических процессов, углубляяпространственное разделение труда и усиливаянеравномерность развития. В-третьих, она усиливаетспособность капитала избегать воздействия иных системрегулирования и, соответственно, ослабляет возможностьгосударств сочетать развитие капитала и нужды социаль-ной политики. С экономической точки зрения глобализациясигнализирует сдвиг мировой экономики от производства кфинансам. В идеологическом плане термин означает рыноч-ную экономику и в целом распространение неолиберализма(свобода торговли, приватизация, дерегуляция).
История идеи глобализации275 • Конец XVIII — XIX век — Кант, Гегель, Маркс,
Сен-Симон, Конт изменения в характере путешествий икоммуникаций приводили к мысли, что возникает новый,единый мир.
♦ Эти изменения в восприятии пространства и времени(телеграф, телефон, самолет) не нашли места в трудахвеликих социологов-классиков 1880—1920-х годов —Дюркгейма, Вебера, Зиммеля, Тенниса.
275 *То, что происходило на их глазах, интересовалоих меньше того, как современное общество (европейское)стало современным.
276 • Их работы привели к тому, что и поныне главнымобъектом исследования (и главной рамкой) является немир в целом, а национальное государство.
• Национально-государстве иное мышление образуетбарьер на пути к новым способам анализа, к новымпредставлениям о мире.
• Большинство из нас, обучившись социологии иличему- то еще, впитали вместе со своими дисциплинами«национально-государственную аксиоматику» (Ульрик Бек),
• Бессознательно наша ментальная карта мираподелена на отдельные «контейнеры*: «американскийкультурный империализм», «природа Киргизии», «немецкаяфилософия*.
• Все в современном мире, что подвижно,одновременно присутствует здесь и там (а потомупопадает между дисциплинами и этими организующимикатегориями), социальные теоретики пытаются охватитьпонятиями транснациональных социальных пространств илогикой «не только, но и»: глобализация ирегионализация, централизация и децентрализация и такдалее.
276 • Есть ли разница между глобализацией и мировойисторией? Есть, если считать, что глобализация началасьнедавно (Э. Гидденс): причина глобализации — ростзападной модерности,
276 Нет, если считать, что она началась давно (Р.Робертсон). Мировая история изучает историючеловечества, а теория глобализации — те аспектымировой истории, которые ведут к объединению мира (илипрепятствуют ему).
Мировые города и глобальные города276 О глобальных городах и мировых городах
исследователи рассуждали с начала XX века (не прибегаяк самим терминам). Они обсуждали торговые связи имеждународные рыночные связи, усматривая зависимостьизменений в городах от международных и национальныхполитических условий.
276 Патрик Гед-277-дес — шотландский урбанист,спланировавший Тель-Авив, в книге, посвященной основамгородского планирования «Города в развитии» (1915), ужеговорит о мировых городах. Фернан Бродель и другиеисторики Европы подчеркивали, что город всегда былцентром притяжения мировой экономики.
277 Бродель называет города «логистическими центрами»и прослеживает эволюцию экономики от основанной нагородах к основанной на территориях, то есть улавливает
все более тесную включенность городов в национальныеэкономические системы и их подчиненность политическойвласти соответствующих государств.
Британский урбанист Питер Холл в книге «Мировые горо-да» выделил такие их роли: центры национальной имеждународной политической власти, правительственныецентры, центры национальной и международной торговли, атакже банковского и страхового дела, центрыконцентрации самых квалифицированных профессионалов,центры сбора и трансляции информации посредствомиздательского дела и массме- диа, центры потреблениянапоказ, центры искусства и культуры (см.: Hall, 199б|Холл определил идею мирового города как такого, вкотором «осуществляется непропорционально большая долясамого важного мирового бизнеса» [Ibid.-. 1]. Итак, наранней стадии работы теоретиков с понятием мировогогорода подчеркивалась включенность городов в экономикутой или иной страны. Так, по Холлу, космололитичностьмировых городов — выражение геополитического положениясоответствующих государств.
277 В 1980-е годы экономист Джон Фридман с коллегамисформулировал иную гипотетическую теоретическую рамкудля изучения глобальных городов. Крупный сдвиг впространственной организации капитализма состоит в том,что города стали главными моторами мировой системы, ееорганизующими узлами, выражениями (артикуляциями)глобальных, национальных и региональных товарныхпотоков.
277 Другой сдвиг в географии мирового капитализмазаключается в том, что с278 1970-х годов города и сети городов заменяютгосударства в качестве основной территориальнойинфраструктуры капиталистического развития, Фридман,во-первых, подчеркнул значимость появления в городахразвитой индустрии сервиса, состоящей,«с одной стороны,из высокого числа занимающихся контролемпрофессионалов, а с другой — из огромной армиималоквалифицированных рабочих, занятых в персональном
обслуживании... привилегированных классов, ради которыхмировой город и существует» [см.: Friedman, 1995: 322].Откуда берется армия малоквалифицированных рабочих? Еедоставляет иммиграция. Удается ли глобальному городусправиться с «социальной ценой» своего роста, состоящейв классовой поляризации и пространственной сегрегации?Отнюдь. Во-вторых, Фридман первым сформулировал идеюглобальной иерархии городов, в которой Нью-Йорк, Лондони Токио представляют мировые финансовые центры, Майами,Лос-Анджелес, Франкфурт, Амстердам и Сингапур —мультинацио- нальные центры, а Париж, Цюрих, Мадрид,Мехико-Сити, Сан- Паулу, Сеул и Сидней — важныенациональные центры. Все они входят в единую сетьгородов. Мануэль Кастельс считает формирование сетигородов столь же значимым социальным сдвигом, как ипереход от традиционной к промышленной экономике.Фридман исследует ряд городов Азии и Австралии ипредлагает новую исследовательскую стратегию:анализировать пространственную организацию новогомеждународного разделения труда [Ibid:. 69]. Главная еечерта в том, что города или городские регионы, а негосударства составляют самые важные географическиеединицы. Городские регионы можно расположитьиерархически в глобальном масштабе в зависимости оттого, каким образом они интегрированы в мировуюэкономику.
278 Идеи Фридмана были развиты британским географомЭнтони Кингом, написавшим книгу «Глобальные города:постимпериализм и интернационализация Лондона» [см.:King, 1990].
279 Если Фридман и Кинг строили свои исследования наэмпирическом анализе городов стран «третьего мира», тоамериканский экономист и социолог Саския Сассенсосредоточивается на городах стран развитогокапитализма. Неизменная и повсеместная притягательностьНью-Йорка, Лондона и Токио как мест, в которыхпроисходит все самое главное, усилила популярность ееисследований. В книге «Города в мировой экономике» она
дает такое определение глобальных городов: «Стра-тегические места, из которых ведется управлениегородской экономикой и в которых сложились самыепродвинутые варианты сервиса и финансовых операций,,,телекоммуникаций, необходимые для осуществления иуправления глобальными экономическими операциями... этоместа, в которых концентрируются штаб-квартирыкомпаний, в особенности глобальных компаний» [5assett,1994: 21].
279 С помощью концепции глобального города Сассеноспаривает один из популярных нарративов глобализации,согласно которому - в силу «сжатия пространства ивремени» (Д. Харви) — отдельные место и город больше неимеют значения. Карл Маркс одним из первых сталрассказывать историю современности так, что динамизмразвитая в ней стоял на первом плане, а пространствосчиталось не столь важным. Во-первых, развитиетранспорта и коммуникаций делает все расстоянияотносительными, во-вторых, города, как и все остальноепри капитализме, включены в универсальные экономическиезаконы, а потому одинаковы. В 1980-е годы популярнымстал образ «глобальной деревни» (М. Маклюэн), в которуюобитатели земного шара превращены силой массмедиа. Поаналогии с «концом истории», о котором толковал ФрэнсисФукуяма, французский философ Поль Вирильо считаетвозможным говорить о «конце географии»: расстояниязначат сегодня гораздо меньше, чем в прошлом, а идеюгеофизической границы становится все сложнееотстаивать.
279 Так, становится очевидным, что деление мира наконтиненты, каждый из которых понимался как замкнутый инедоступный анклав, было функ-280-цией расстояний междуними: транспорт был примитивен, а стоимость путешествийогромна.
280 Расстояние, притом что оно, бесспорно, обладаетфизическими параметрами, есть социальный конструкт. Еговеличина зависит от скорости, с которой оно может бытьпреодолено и (в капиталистических культурах) от
стоимости его преодоления. Другие пространственныемоменты складывания и упрочения коллективныхидентичностей — границы между странами или культурныебарьеры - являются, по мнению 3. Баумана, лишьследствиями того, что современным культурам присущепостоянное совершенствование транспортных средств иувеличение мобильности.
280 Многие авторы считают, что сокращение расстоянийизменяет наше понимание общественной жизни. Автортермина сжимание пространства-времени Дэвид Харвиуверен в дезориентирующем воздействии описываемой имтенденции как на псдитико-эконономическую жизнь, так ина культуру. Противоположная линия мысли представленабританским (Дейд- ри Боден) и американским (ХарвиМолоч) социологами, которые настаивают, что, вопрекивсем глобальным влияниям, люди испытывают особоепритяжение пространственной близости [см.: Boden,Molotcb, 1994:258].
280 Не получается ли тогда, что влияние сжиманияпространства-времени на повседневную жизнь сильнопреувеличено? Традиционная коммуникация, ее структуры иценности (важность разговора лицом к лицу) сохраняютсюю силу. Другое дело, что роскошь доверительногоразговора могут позволить себе не все: при всем шумевокруг IT-технологий самые рутинные операции, которыевовлечены в их функционирование, достаютсянизкоквалифицированным рабочим. Пространственно-временной порядок современного города таков, что уразных акторов и социальных групп разная способностьвключаться в коммуникационные сети и расширять за счетних свое собственное пространство и время.
280 Британский географ и социальный теоретик Найджел281 Трифт предлагает сравнить доступность глобальногопространства-времени европейским трейдерам, с ихширокополосным доступом в Интернет, постояннымиперелетами с континента на континент и качественнымсервисом в любом глобальном городе (который на них иориентирован), с «сетевыми гетто», которые есть в любом
городе и куда вообще почти никакие коммуникации недоходят, так что «сжимание пространства-времени»означает для живущих там людей необходимость попростуубивать время и обреченность лишь на то пространство,что у тебя есть [см.: Thrift, 1995: 31].
С точки зрения С. Сассен, для составляющихглобализацию потоков людей и капитала место как разимеет центральный характер. Если значение национальнойэкономики сильно изменяется (как правило, в сторонууменьшения), то особые, укорененные в отдельных местахсочетания политических и экономических возможностей,напротив, становятся все более важными. Глобальныегорода возникли в 1970-е годы, когда сильно расшириласьмировая финансовая система, а капитал стал перемещатьсямежду рынками. В городах это отразилось в созданиизданий, в которых размещались «командные пункты», ворганизации необходимых финансовым компаниям видовсервиса, в усилении социальной поляризации, в зависи-мости от труда иммигрантов. Второй виток усиления«глобальности» городов приходится на начало 1990-х споследующим повсеместным нарастанием популярностинеолиберализма, отзвуки чего проявились и в развитых, ив развивающихся странах. Протекционистскаяэкономическая политика утратила популярность, а мироваяторговля интенсифицировалась и ускорилась.
281 Стремительный рост глобальных городов обусловлентребованиями транснационального капитала (ТНК),циркулирующего в банковском деле, аудите, рекламе,финансовом менеджменте и консалтинге, а также деловомправе.
281 Глобальный контроль капитала возможен только наоснове особых мест —282 городов с их аггломеративными экономиками,технологически институциональными системами,организацией производства и так далее.
282 Глобальные города представляют собой одно-временно: 1) базы для глобальных операций ТНК; 2) местапроизводства и рынки; 3) лидеров иерархии городов,
занимающих в ней места в силу своих различающихся ролейв мировой экономике.
По мере того как регионы, в которых располагаютсяглобальные города, превосходят территориальнуюэкономику государства, умножаются новые формынеравномерности раз- вития - в глобальном, национальноми региональных масштабах. Исключительной ролиглобальных городов соответствует исключенностъ рядагородов из волнующих глобальных экономических игр. Этои те города и регионы, которым не удалось успешносправиться с последствиями деурбанизации, и такназываемая глобальная периферия, в которой проживаетбольшинство населения мира.
282 Сассен выделяет семь главных характеристикглобальных городов:
1.Рассредоточение деятельности компаний в различныхстранах Увеличиваются масштаб и сложность координацииих деятельности.
2.Многие компании решают привлечь третьих лиц длявыполнения этой работы (outsourcing), то есть поручитьменеджмент своей деятельности специализирующимся наменеджменте, консалтинге, правовых аспектах финансовойдеятельности фирмам. Те же стратегии используются длятаких обычно выполняемых силами работников самойкомпании задач, как расчет зарплаты и коммуникаций.
282 3. Глобальные компании зависят отаггломеративных экономик (понимаемых не в привычном длянас смысле экономического соединения центральногогорода и близлежащих к нему), то есть присущей тому илииному глобальному городу особой концентрациивысококвалифицированного персонала испециализированного сервиса в «информационном цен-283-тре».
283 Прибегнуть к услугам такого центра — значитрешить задачу быстрее и эффективнее, чем с опорой лишьна собственный персонал компании.
283 4. Глобальные компании могут перемещать своиштаб-квартиры, так как у них уже больше нет нужды бытьблизко к тем, кто их обслуживает, и к поставщикам.
5.Рост специализированного сервиса (когда однаспециализированная компания нанята для обслуживаниядругой специализированной компании) ведет к созданиютранснациональных городских систем, так чтоэкономическая ситуация отдельных городов уже не зависитот тех регионов, где они расположены, или даже отнациональных экономик
6.Решения о расположении глобальных компаний прини-маются с учетом доступности источников малоквалифициро-ванного труда. Столичные города с постоянным притоком вних иммигрантов — вне конкуренции. Нужды ТНК в мойщикахстекол и курьерах проще удовлетворять с помощью трудаиммигрантов, чем местного населения.
7.Космополитизм глобальных городов сопровождаетсяразрывом в доходах их обитателей.
283 Главный вклад этих теоретиков в пониманиеглобализации — включение в политический иисследовательский дискурс перспективы побежденных, ведьрастущая группа проигрывающих от глобализации людей неулавливается обычной сетью политического восприятия.Если глобализация есть политический проект, то какимобразом ее участники принимают решения? Учитываются липри этом минимальные стандарты человечности? Ктопопадает в число проигравших от глобализации? 2ho ибедняки, и служащие, низ среднего класса в развитыхстранах. Они ощущают себя брошенными как на правомфланге политики (который и работает на глобализацию),так и на левом (они не нуждаются в политических парти-ях, которые хотят обложить их ненадежный доход болеевысокими налогами, чтобы помочь безработным).
284 Сассен утверждает, что глобальные городанепредсгавимы
без тех, кто выполняет черную работу
Основные теоретики глобализации285 • Роланд Робертсон ввел термин ^локализация, при-
званный: 1) подчеркнуть разнообразие проявлений гло-бализации; 2) преодолеть нивелирование локальногосвоеобразия социальной жизни; он настаивает на разли-чении «настоящей» глобализации и репрезентаций гло-бализаций, внедряемых в сознание людей с помощьюмассмедиа: они представляют собой две стороны одногопроцесса.
• Энтони Гидденс мыслит глобализацию как оконча-тельный захват Западом остального мира; считает, чтотермин должен стать ключевым в социальных науках.
285 •Арджун Аппадураи понимает под глобализациейциркуляцию: 1) различающихся людей и мигрирующих групп(«этноскейпы»); 2) технологий («техноскейпы»); 3) денег(«финанскейпы»); 4) электронных коммуникаций исоздаваемых ими образов («медиаскейпы»); 5) идеологий(«идеоскейпы»). Подчеркивает, что возникающие «наместах» культуры уже никак не привязаны к определенномуместу и времени, насыщены образами, созданными где-тодалеко. Отсюда противоречие между собственной жизнью ивозможной жизнью, которое чувствует индивид.
• Зигмунт Бауман рассматривает социальные последствияглобализации. Глобализация есть поляризация истратификация жителей планеты на глобальных богачей илокальных бедняков, для которых нет свободы выбора, аесть обреченность и бесперспективность. Богачи уже ненуждаются в бедняках. Между теми, кто выиграл, и теми,кто проиграл, нет взаимной зависимости. Разрываютсясвязи солидарности.
285 •Ульрик Бек также сосредоточивается напротиворечиях глобализации, подчеркивая, что два«хронических бедняка» — общество и работающие люди —должны286 финансировать то, чем пользуются богачи(образование, инфраструктура, охрана природы).Идеология «глобализма» (неолиберализма) проявляется втом, что люди не действуют, но осуществляют законымирового рынка, которые вынуждают сократить социальноегосударство и демократию.
Критика теорий глобальных городов286 Одна линия критики сложилась в стане специалистов
по постколониальным городам. Ее представители, вчастности Энтони Кинг, оспаривают доминированиеэкономической логики в описании мировых городов,
286 Кинг считает, что все они описываются на основепонятий и нарративов одной дисциплины — урбанистическойполитической экономии,
286 В итоге разнообразие политических,географических, культурных, религиозных и так далееобстоятельств в каждом из таких городов оказываетсяредуцированным к трем феноменам: городские социальныедвижения, потребление и случаи государственноговмешательства в городскую политику. Кинг считает самипонятия глобального города и мирового города ограни-ченным плодом мысли американских урбанистов.
286 Гегемония западных форм знания и преобладаниеанглоязычных публикаций обусловили, во-первых,приоритет экономических критериев описания таких
городов и, во-вторых, интерес исследователей лишь ктридцати-сорока городам, расположенным либо в Штатах,либо в Европе.
286 Сам по себе этот интерес тоже достаточно узокчто, в самом деле, дает для нашего знания ответ навопрос применительно к данному городу: «Мировой этогород или нет?» Не уподобляются ли исследователи го-родским чиновникам, которым слава нескольких городов —безусловных лидеров — не дает покоя?
286 Кинг считает, что рассмотрение таких социальносконструированных понятий, как накопление капитала иэкономика, без учета исторических и287 культурных обстоятельств оставляет многие вопросыбез ответа.
287 Было бы иллюзией полагать, что понятие мировогогорода универсально приложимо и что оно может помочьпонять особые смыслы и специфические истории,сложившиеся во многих городах. В частности,компаративные культурные урбанистические исследованиядолжны больше внимания уделять религиозным движениям.Известны города, пространство и политика которыхсложились под влиянием продвижения или защиты какой-торелигии. Это Белфаст, Иерусалим, Бейрут, Тегеран,Варанаси, Рим, Стамбул. Кинг считает симптоматичным,что мировые города — феномен христианского мира ивозникли по преимуществу в протестантских странах.
287 Другая линия критики развита английскимурбанистом Полом Тейлором, который, не оспариваязначимости парадигмы в целом, считает, что главныйизъян исследований мировых городов — слабаяэмпирическая база. Дело не в плохой методологическойподготовке исследователей, но в природе доступной имстатистики. Сбор статистических сведений организовангосударственными ведомствами, которые нацелены наудовлетворение информационных потребностей прави-тельств, В результате мир измеряется«государствоцентричными» способами не толькогосударствами, но и всемирными организациями, например
ООН. Другая особенность статистики — исследованиеатрибутов, качеств тех или иных феноменов в ущербсвязям между ними. Например, нужно сравнить характерзарубежных инвестиций в тот или иной город Если высоставите таблицу, в которой города будут ранжированыпо объему инвестиций, вы ограничитесь сравнениематрибутов. Но если вы укажете, откуда приходят этиинвестиции, ваша таблица отразит реальные связи междугородами, то есть станет реляционной. Даже если потокилюдей, товаров и информации, то есть связи городов,измеряются статистикой, эти данные оказываютсяпогребены под обилием сведений об атрибутах.Исследования мировых городов должны демонстрироватьинтенсивность связей между ними.
287 Доступная статисти-288-ка не позволяет эти связипродемонстрировать: преобладают сведения о странах, ане о городах.
288 Как с этой сложностью справляются авторыключевых текстов о мировых городах? Тейлор сравниваетработу со статистикой, таблицы и иллюстрации в текстахМануэля Кастельса, Саскии Сассен, специалистов поэлектронным коммуникациям в городах Стивена Грэхэма,Саймона Марвина и других. Он просматривает эмпирическуюбазу их работ с точки зрения того, насколько онаотражает связи между городами, то есть указывает,откуда и куда поступают информация, товары, деньги,люди и так далее, Хотя работы «отца-основателя» всегоэтого поля исследований Джона Фридмана носилигипотетический характер, последующие тексты носятэмпирический характер, но какой именно? Тейлорзамечает, что сведения о государствах и городахзанимают в этих книгах почти одинаковое место и чтосреди сведений о городах встречается просто статистиканаселения (а что это говорит о характере мировыхгородов?). Он справедливо добавляет, что, когда мычитаем социологическую литературу, посвященную нацио-нальной экономике и политике или государственнойистории, мы ведь не ожидаем, что сообщаемые в ней
сведения могут быть беспроблемно распространены нагорода. Почему же тогда в литературе о мировых городахсодержится такое обилие данных о государствах?
288 Далее, тезис о том, что эти особые, мировыегорода своей деятельностью превосходят государственныеграницы, должен быть подтвержден демонстрацией связеймежду ними. Тейлор обнаруживает, что во всем этоммассиве литературы о сетях городов и городскихиерархиях только 6 % приводимых данных прямоиллюстрируют их наличие! Это лишь информация о полетах,выполняемых из города в город, телекоммуникациях,доставке грузов.
288 Тейлор призывает урбанистов вместе преодолеватьэтот «кризис доказательности», и посетители созданногоим сайта Сети исследований мировых городов и гло-бализации могут познакомиться с проведенной с тех порра-289-ботой,
289 В изложении данной темы используются в том числеи иллюстрации с этого сайта (см.: Website on WorldCities and Globalization (GaWC). URLhttp :// www . lboro . ac . uk / gawc / ).
289 Нил Смит считает, что части литературы поглобальным городам (включая книги С. Сассен) недостаетрадикального продумывания последствий изменениямасштаба протекающих сегодня экономических процессоаДа, города и ТНК стали главными игроками современнойэкономики, так что торговые связи налаживаются междукомпаниями, а не между странами. Но какие последствияэто имеет для традиционной функции городов — бытьместом социального воспроизводства? Сассен простоподчеркивает полярность глобальных городов, то есть тотфакт, что их богатство и привлекательность дляглобальных трейдеров и менеджеров возможны за счетневидимого и дешевого труда тысяч мигрантов, что онитакая же значимая часть глобальных городов, как иофисные небоскребы, элитные дома и бесконечные бутики.Смит рассуждает иначе. Вводя понятия реваншистскогогорода и неолиберального урбанизма, он показывает, как
функции и роли городов изменились в результате двухвзаимно усиливающих друг друга тенденций: (1) города, ане нации стали главным местом организации производстваи (2) правительства отказались от либеральной городскойполитики. На место американского Среднего Запада илинемецкой Рурской области — классических примеровиндустриального развития — пришли Шанхай и Мумбай, Сеули Сан-Паулу, Мехико-Сити и Бангкок Если традиционныепромышленные регионы были «становым хребтом»национальных экономик, то эти мегаполисы — основаэкономики глобальной. В то же время современнаяправительственная политика часто бросает города напроизвол судьбы. Американские президенты последних трехдесятилетий печально прославились публичными жестами,из которых было ясно: выживание городов и их жителей —их собственная проблема и правительства не будут в этихцелях делиться своими ресурсами.
289 От отказа президента Форда поддержать Нью-Йорк во290 время финансового кризиса 1970-х годов до закрытаяпрезидентом Клинтоном в 1996 году системы welfare — всеэто может быть истолковано как симптомы«переформатирования» государств и правительств —превращения их в самостоятельных экономических игроков.Если сильно огрубить суть дела, получается, чтосубъектов, ответственных за социальное воспроизводствонаселения и обладающих достаточными для этогоресурсами, в мире больше не осталось: всех, включаяправительства, волнуют только производство и финансы.
290 Дебаты по поводу «расползания» пригородов в США иЕвропе, кампании за «возрождение» европейских городов,обсуждение проблем экологической справедливости - всеэто свидетельствует, что развитие городов сегодня вседальше и дальше отходит от задач социальноговоспроизводства. Смит предлагает именно в этомконтексте рассматривать проблему кризиса ежедневногоперемещения работников из дома на работу и обратно.Экономически обусловленное географическое расширениемногих городов не позволяет им выполнять одну из
главных своих функций — способствовать доставкеработников из дома на работу и обратно. Противоречиемежду экономическими процессами и географической формойгородов проявляется повсеместно. Москва в этомотношении давно стала притчей во языцех: то, каквыглядят по утрам пригородные электрички, конечныестанции метро, не говоря уж о ключевых автомагистралях,— грустные иллюстрации цены, которую люди платят своимпроведенным в дороге временем за неразрешимость этогопротиворечия. Но Смит напоминает, что в Сан-Паулу людиотправляются на работу в 3:30 утра, тратя до четырехчасов на дорогу в один конец. Точно так же дела обстоятв зимбабвийском городе Хараре четыре часа ты едешь наработу, твой рабочий день длится шестнадцать часов,добравшись домой опять через четыре часа, ты «остатоквремени» спишь.
290 По требованию Всемирного банка транспорт во мно-гих городах «третьего мира» был приватизирован, так чтои в291 денежном отношении эта цена возросла так, что виных случаях люди тратят на дорогу до 45 % недельногозаработка!
291 Смит справедливо утверждает, что сетования наслабую развитость городской инфраструктуры в такихслучаях совершенно недостаточны. Здесь проявляетсядругое географическое противоречие — между чрезвычайновысокой стоимостью земли, сопровождающей централизациюкапитала в сердцевине городов, и маргинальнымипригородами, где рабочие вынуждены жить на те гроши,что им платят те, кто ответствен за централизациюкапитала. Эти гроши, то есть искусственно заниженныезаработки тех, кто находится на нижнем конце пищевойцепи неолиберализма, — условие эффективной цен-трализации капитала. Так что, по Смиту, передним краемнеолиберальной трансформации городов являются неевропейские столицы, а стремительно растущиеметрополисы Латинской Америки, Азии и Африки, гденикогда и не было прочной связи между городом и
социальным воспроизводством. В этих городах ставятсярекорды производительности труда и человеческойвыносливости, и, кажется, никто пока не помышляет обунте.
Глобальные города и государственная политика291 В исследовании глобальных городов, как правило,
воспроизводится тезис об уменьшении роли государства ввек усиленной глобализации.
291 Современный российский контекст побуждает ккритическому рассмотрению противопоставленияглобального и локального в российских городах (пусть ниодин из них не может в полной мере претендовать настатус глобального города). Государство, как главныйэкономический агент, играет главную роль в том, какимобразом Россия и ее города включены в мировуюэкономику.
291 Государства и во многих других странах активнопереизобретаюг себя как главное292 территориальное, регулирующее и институциональноеусловие ускорения глобального накопления капитала. ЭрикСуингеду [Swyngedouw, 1996] называет эту новуюконфигурацию территориальной организации государства«глокальным» государством. Оно невозможно без особыхмест в городе, в которых и посредством которыхподдерживается территориальная, технологическая,институциональная и социальная инфраструктураглобализации. Поэтому, несмотря на все успехи в дешевойи стремительной передаче информации в любой уголокЗемли, города — узлы, через которые организована гло-бальная система производства и обмена. Суингедуподчеркивает, что дихотомии «глобализация -- местноеразвитие» можно избежать, если все время учитыватьнепрерывное социальное производство пространства,которому присущи разнородность и конфликтность. Самоеважное, что глокализация тесно связана с властнымиотношениями в обществе.
292 Иными словами, подчеркнем это снова,представление о глобализации как о процесседетерриториалиэации, который конкретные места делаетвсе менее значимыми, не выдерживает критики.Происходит, наоборот, ретерршпориашзация, то естьусиление роли территориальных предпосылок для цир-куляции глобального капитала. Этот процесс происходит вразных пространственных масштабах, в том числе и вмасштабе государства. Как показывают американскийгеограф Нил Бреннер и британский политический теоретикБоб Джессоп, в мировой экономике города и государствадиалектически объединены: это государства продвигаютсвои города как привлекательные узлы транснациональныхинвестиций, и это города остаются точками координаттерриториальной организации государства и местнымуровнем управления [см.: Brenner, 1998,Jessop, 1990].
292 Джон Фридман отмечает противоречие междуполитической подоплекой территориальных интересовгосударств и глобальным управлением производством [см.:Friedman, 1995:69].
292 Нередко отношения между глобальными городами итеррито-293-риальной политикой государств выливаются вбитву между глобально мобильными ТНК и неподвижнымигосударственными территориями.
293 Противоречия между интересами транснациональногокапитала и национальными интересами сопровождаютсясамыми разными вариантами социальной и политическойборьбы — между ТНК и обитателями городов; между «своим»правительством и обитателями городов; между «глобал изованной» и национальной буржуазией; между трудом икапиталом. Управление глобальных городов фрагментирова-но, что тоже усиливает угрозу конфликтов. Так, интересыглобального капитала состоят в совершенствованиигородской инфраструктуры, то есть строительстве всеновых дорог, портов, аэропортов, а также в увеличениипривлекательности городов для тех, кто управляет егодвижением. Увеличение притягательности состоит и в том,что «неприглядные» граждане должны удерживаться на
расстоянии, быть под наблюдением и полицейскимконтролем. С другой стороны, глобальный город — магнитдля рабочей силы, прежде всего иммигрантов, которыеприезжают в него жить. Возникает задача обеспечениясоциального воспроизводства всех этих людей: строи-тельство жилья, налаживание здравоохранения,образования, общественного транспорта, социальныхльгот. Поэтому социальная цена глобального городапревышает регулятивные способности государства имуниципалитетов. Не случайно Фридман и Уолф называютместное правительство «главным лузером» в этомсочетании глобально навязываемых ограничений.
293 Нарастание глобальной взаимоувязанности экономикиоборачивается сокращением дееспособности региональных игородских правительств. Традиционные структурысоциального и политического контроля за развитием,рынком труда и распределением ресурсов искажаютсялогикой международной экономики, влиятельные игрокисообщаются друг с другом вне сферы государственногорегулирования. Уйдя из сферы социальной политики,государство увеличивает свою активность в сфересоциального контроля.
293 Эрик Суингеду под-294-черкивает, чтоправительства пытаются насаждать неолиберальнуюрыночную дисциплину, продвигать ценности эффективности,увеличения собственной востребованности на рынке труда[см.: Swyngedouw, 1997b],
294 Эта пропаганда ведется не без лукавства: естьслои населения, которые не могут на равных участвоватьв гонке за призовые места в мировой экономике. Темсамым существенные слои населения оказываются из нееисключенными. Страх социального недовольства побуждаетгосударства наращивать авторитарные меры в своейполитике. С другой стороны, новая рабочая сила городовсостоит из мигрантов и частично занятых людей. Первыевключены в культурные и социальные сети, основанные наиных ценностях. Вторые — в силу частичной занятости —
не могут претендовать на связанные с их социальнымвоспроизводством ресурсы.
Итак на привычную многим из нас карту мира,образованную территориями государств, сегоднянакладывается карта глобальных городов. Но глобальныегорода остаются и связанными с территориями своихгосударств, и ограниченными политикой своихправительств. Так что сегодня активно переплетаются ивзаимонакладываются самые разные формы территориальнойорганизации: империи и то, что от них остается, центр ипериферия, рынки международные, национальные и местныеи конечно же города.
Макро/микро, локальное/глобальное294 Глобализация — не только макропроцесс, то есть
что-то происходящее помимо повседневной жизни людей, нетолько горизонтальный, но и вертикальный процесс. Онапроявляется и на уровне жизненного цикла быстроменяющихся индивидов (например, сокращение общего опытапредставителей разных поколений). Локальноепроизводится глобально.
294 Мы становимся более чувствительными к локальномупо мере на-295-растания глобализации (Аппадурай,Дирлик).
295 Современное индивидуальное «я» поразительнопохоже повсюду в мире, но имеет местные особенности(Мейер).
295 Глобальное и локальное — по поводу ихсоотношения существуют две позиции. Первая —глобализация делает мир однородным, культуры иинституты стандартизируются, происходит«макдоналдизация» (Ритцер) экономик и культур: стан-дартные способы приготовления фастфуда распространяютсяповсеместно, в том числе не только на приготовлениепищи. Макдоналдизация = американизация.
295 Вторая позиция — силы, нацеленные наоднородность, производят разнородные результаты.Одинаковая продукция потребляется в разных местностях,
этнических, гендерных и так далее контекстах. Висследовании Д, Уотсона [Golden Arches East, 1997],посвященном работе макдоналдсов в Восточной Азии,делается вывод они — двигатели локализации, универ-сальная модель обязательно используется с местнымивариациями. Продукты глобализации могутраспространяться только через особые местные «ниши» —через подчеркивание (или создание) местныхособенностей. Местное сопротивление глобализации — эторефлексивная глокализация (Робертсон). Люди сознательностремятся сделать местными процессы гомогенизации.
// Джентрифика́ция (англ. gentrification) — реконструкция и обновление строений в прежде нефешенебельных городских кварталах либо согласно программе запланированного городского восстановления, либо в результате решений, принимаемых профессионалами и управляющими. Этот процесс иногда называют городской рециркуляцией.
Джентрификация в России и Москве295 Пожилая учительница географии старейшей
екатеринбургской гимназии № 9 любила дразнить снобов-старшеклассников отрезвляющими сентенциями. Онаспрашивала, на какой улице тот или иной из них живет, ипредавалась воспоминаниям о том, какого рода люди наней селились прежде: «Улица Жукова (в престижном районев самом центре города. — Е.Т,), говорите? Ну да, какже, в 1950-е годы на ней одни бараки стояли!
295 Никто не знает, где он будет жить через трид-296-цать лет и какие люди поселятся в его доме».
296 Для «центровых» школьников, многие из которых сдетства сроднились с ощущением привилегированности,напоминание о том, что престижным их район стал совсемнедавно, скорее забавно: социальная однородность места,
где они живут, достигнута и вряд ли будет в скоромвремени разрушена. Те же, кто в школу приезжает изспальных районов, понимают, что их родители, еслипозволят обстоятельства, скорее переедут в пригород,чем в центр, настолько там теперь дорогое жилье.
296 Эти хорошо всем знакомые наблюдения связаны сболее общей тенденцией увеличения роли российскихгородов в развитии неолиберального капитализма, ихфункционирования в качестве узлов соединения различныхрынков и контроля за капиталовложениями в сферусервиса, производства товаров, рекламы, транспорта,потребления. Эта тенденция выражается в строительстве иперестройке городской среды. Растущий спрос на офисы иквартиры приводит к энергичному разрушению парков,улиц, зданий и возведению новых строений, которые вовсех городах выглядят все более похожими, а сами городапревращают в места столкновения самых разных социальныхи политических тгтересов. Джентрификация — вложения вгородское пространство для того, чтобы сделать егопривлекательным для состоятельных людей, — самое яркоевыражение неолиберального изменения городского про-странства. Возведение корпоративных небоскребов, росткоттеджных поселков в городах и за их пределами,огороженные элитные дома и комплексы домов сограниченным доступом пешеходов и автомобилей иусиленной охраной (gated communities), а также сетивлиятельных игроков рынка недвижимости, включающиемуниципалитеты, девелоперские фирмы и так далее,которые принимают решения о том, в какой район иликвартал «прийти», — вот в чем выражаетсяджентрификация.
296 Методологически это понятие соединяетэкономические, социальные и культурные процессы: поизменению, к примеру, улицы Жукова за тридцать летможно проследить, как пе-297-ресекаются мировыефинансовые и культурные потоки, с одной стороны, иместные идентичности — с другой.
297 Если говорить о джентрификации в российскихгородах, то внимание российских и зарубежныхисследователей в этом отношении пока более всегопривлекает джентрификация московского центра.Неолиберальные тенденции в ней проявляются следующимобразом: с одной стороны, государство устранилось отрегуляции рынка недвижимости, с другой стороны,социопространственная структура центра регулируетсярынком. Отличают московскую джентрификацию две характе-ристики: во-первых, в Москве чаще, чем в другихгородах, люди вытесняются из своих квартир не«невидимой рукой» рынка, но авторитарными мерами; во-вторых, к началу приватизации жилья около 80 %обитателей центра жили в коммуналках.
297 Как обитатели центральных кварталов понимают своюобщность по месту жительства, на кого рассчитывают вслучае конфликта с девелоперами, что значит для них —жить в центре? В небольшом исследовании, проведенном в2005— 2006 годах, я опросила группу давних обитателейцентра, живущих в пределах Садового кольца, — и тех,кто от джентрификации выиграл, переселившись изкоммуналки в отдельную квартиру в результате успеышоготорга с девелоперами, получив возможность сдать своювторую квартиру за хорошие деньги, и тех, кто,напротив, проиграл и теперь скучает о прошлой жизни всамом центре.
С начала 1990-х Москва воплощает общий урбанистиче-ский тезис, что стремление получить максимум прибыли отнедвижимости не только отражается в стоимости земли, нои стимулирует те способы ее использования, которыесулят наивысшую коммерческую отдачу. В Москве сложилисьсамые коммерчески успешные способы приобретения иперестройки недвижимости, воплощения полномасштабныхстроительных проектов и связанной с ними спекулятивнойдеятельности. Большинство исследований джентрификации вМоскве сосредоточилось на так называемой Золотой миле —районе улиц Остоженки и Пречистенки.
297 Написав о ней в разные годы свои
298 тексты, берлинский урбанист Кордула Гданек,московские урбанисты Ольга Вендина, Анна Бадьина и ОлегГолубчиков убедительно показали, что Москва повторяеттраекторию городов с быстрорастущими финансовымсектором и сектором обслуживания бизнеса: в нейрасширение джентрификации зависит прежде всего отстратег ий дсвелоперов, Ольга Вендина считает главнойпроблемой городской среды Москвы трудноразрешимоепротиворечие между ценностью городской территории как«недвижимого имущества» и как «общественного богатства*[см.: Вендина, 2008]. Застройка Остоженки воплощает этопротиворечие. Кордула Гданек показала, как политикагородского прави тельства усугубила «эксклюзивность»этого района [см.: Gdaniec, 2006]. Бадьина и Голубчиковввели различение между неопосредованной иопосредованной фазами джентрификации в этом районе[см.: Badyina, Golubchikoiv, 2005]. Первая началась в1993 году — тогда отдельные бизнесмены и агентстванедвижимости покупали коммуналки и перестраивали их влофты и офисы.
298 Опосредованная фаза началась в 1998 году, когда врайон пришли корпоративные девелоперы, началасьагрессивная маркетинговая кампания по продвижениюрайона как элитного, а реконструкция по принципу «квар-тира за квартирой» сменилась реконструкцией по принципу«квартал за кварталом». Урбанисты описываютспецифический «договор об инвести циях», которыйзаключался между девело- перами и городом, в силукоторого девелоперы получали в пользование землю иправо на строительство в обмен на передачу городу 50 %площадей.
298 Между девелоперами и городскими властямисложились разного рода союзы, и тем, «административныйкапитал» которых был выше, земля выделялась гораздобыстрее.
298 Старые дома модернизировались, отражая и процессывыгодного вложения капитала, и культурные ценности
класса профессионалов, которые покупали переоборудо-ванные квартиры. Возводились и новые здания.
298 Классические принципы городского управления:зонирование, архитектурные нормативы, разрешения,инспекции, пе-299-300-реговоры с жильцами — все этоиспользовалось по мере перестройки района.
299 Сообщество за воротами — в районе Золотой милиМосквы
300 «Бустеризм», бум на рынке недвижимости со-провождался и подковерными переговорами, и открытымиконфликтами. Если, описывая джентрификацию в некоторыхрайонах Лондона, исследователи (Тим Батлер, вчастности) утверждают, что тех, кто въезжает впереоборудованные дома, отличает прежде всего высокийуровень культурного капитала, то в Москве картинасложнее. Обладателями культурного капитала оказываютсядавние обитатели центра. Они ценят район, в которомживут, за архитектурные сокровища, что неподалеку, заисторию, которой дышит каждый поворот. Те же, кто не-давно поселился, рассматривают свое место жительствапрежде всего как выгодное вложение средств и каквыражение высокого статуса.
300 Настроения и действия задетых джентрификациейлюдей, с которыми мне удалось провести интервью, можноподелить на три группы.
300 Первая группа грустит о переменах, полнаностальгии по тому, как родные кварталы выглядели впрошлом, и отдает себе отчет в масштабе и скорости, скакой исчезают старые здания и культурно значимыеместа. Исчезнувшие церковь, школа, детский сад,скверик, памятник архитектуры упоминаются этими людьмис горечью и грустью. Одним примером публичноговыражения таких настроений является деятельность группыэнтузиастов, работающих при Музее архитектуры им.Щусева, которые создали несколько веб-сайтов в целяхувековечивания Москвы, которой нет (см.:moskva.kotoroy.net/), где не только собираютсяфотографии, истории о ценных зданиях, но и обсуждаетсяпроисходящее.
300 Вторая группа — недовольные. Степень ихорганизованности может различаться. Территориальныесообщества возникают по конкретным поводам, большинствокоторых — действия девелоперов, их сговор с властями,обман. Так, группа активистов общества «Оставьте нас впокое!» организовала пикет в сентябре 2006 году на углуПречистенки и Остоженки.
300 Обыч-301-но вытеснение людей строится по одному итому же сценарию: городские власти принимают решение отом, что здание находится в аварийном состоянии инуждается либо в сносе, либо в перестройке, на жителейоказывают давление и власти и девелоперы, а дальшесобытия развиваются по-разному.
301 Интервью показывают, что в общественнуюактивность по месту жительства люди не очень верят,часто ограничиваясь единовременным выражениемнедовольства на митинге или участием в пикете,написанием письма президенту и ожиданием ответа.
301 Третья группа реакций может быть названа«примирившиеся и удовлетворенные». Многие бывшие жильцыперестраиваемых домов улучшают свои жилищные условия.Те, для кого жизнь в «центре центра» - значимая частьидентичности, ценят не только «стратегическое»расположение своих новых жилищ, близость к метро и
прочие житейски значимые вещи, но и ауру традиции иистории. «Когда ты здесь живешь, ты знаешь, чтопроисходит в мире и Москве, просто пройдясь по улице»,— говорит один обитатель. Они остались там, где жиливсю жизнь, они избавились от необходимости считаться ссоседями по коммуналке — все это к лучшему Другое дело,что здания, в которые они переезжают, были построены вразное время, и нередко случаются грустные открытия.Если здание было возведено, скажем, в 1930-е годы, тоне исключено, что строители использовали для заполненияперекрытия между квартирами... солому: в то время лучшебыло не жаловаться на нерегулярные поставкистройматериалов. В этих обстоятельствах неизвестно,удастся ли владельцам этих квартир передать свою соб-ственность внукам.
301 Все три группы респондентов соглашаются, чтомежду московским правительством с его собственнымиделовыми интересами и девелоперами существуетмасштабный договор (некоторые используют слово«заговор»).
301 Игра с «элитарными» притязаниями покупателей,подчеркивание, что этот рай-302-он «всегда» был элитным— только часть их маркетинговых стратегий.
302 Напротив, те, кто джентрификацией оказываетсязадет, не хотят забывать, что, вообще-то, наПречистенке-Остоженке обитал довольно пестрый люд.Классовая подоплека джентрификации, то есть то, чтолюди со средствами поселяются там, где другие ходили вшколу и в церковь, огорчает одних и встречает циничныеоценки других. Двусмысленность настроений связана собщей сложностью определения морального измерениякапитализма. Люди понимают, что социальные иполитические изменения неизбежны, они согласны с тем,что капитализм безжалостен, но главное, что оничувствуют в отношении этих центральных улиц: «Мы тожездесь живем».
Джентрификация: как «новая аристократия»
преобразила кварталы бедноты302 Термин джентрификация (gentrification) был введен
в 19б0-е годы британским социологом Рут Глас Отсылка кдворянству — gentry — использована в нем не без ирониидля обозначения переделки бедных и рабочих городскихкварталов для вкусов и нужд более состоятельных людей.
302 Начавшись с лондонского района Айлинггон(Islington), по словам Глас, «один за другим во многиерабочие кварталы Лондона вторгся средний класс — высшийи низший. Поизносившиеся, скромные клетушки и домики —две комнаты вверху и две внизу, — когда срок их арендызакончился, поменяли хозяев и стали элегантнымидорогими жилищами. Большие викторианские дома, давноили недавно оказались переделаны в меблированныекомнаты или дома на несколько семей. «Этот процесс"джентрификации", начавшись в данном районе,продолжается до тех пор, пока все первоначальныежильцы-рабочие не вытеснены и его социальный характерне изменяется» [Glass, 1964).
Джентрификация как глобальная стратегия303 Процесс, который начался в 1960-е годы в
отдельных районах Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Торонто,распространяется сегодня, во-первых, по всем уровнямиерархии городов. Он замечен и в промышленных, и внебольших городах, в Бристоле и Глазго, Детройте иГалифаксе Во-вторых, он все глубже захватывает тегорода, в которых начался: если джентрификация 1970-хобошла стороной Бруклин и Бронкс, то сегодня она идеттам полным ходом. В-третьих, процесс приобрел гло-бальный характер еще и потому, что наблюдается теперьповсюду — от Южной Африки до Швеции. Ведущий теоретикджентрификации Нил Смит считает, что сегодня онаповсеместно используется как стратегия, вытесняющаялиберальную городскую политику. Происходит переход отполитики социального воспроизводства, которая былаприоритетом последней, к политике производствакапитала, стоящей в центре неолиберального урбанизма.
Неолиберальное государство становится агентом, а нерегулятором (как раньше) капитализма. В итоге из местасоциального воспроизводства город превращается в местоинвестиции капитала.
303 Идут дискуссии относительно того, стоит лисчитать проявлением джентрификации то, что в Россииназывают коттеджными поселками, то есть переселениесреднего класса в пригороды, а также считается лиджентрификацией возведение нового жилья в центрегорода. Отрицать это — придерживаться того значенияджентрификации, что было введено Рут Глас. Утверждатьэто — допускать, вместе с ведущим теоретикомджентрификации Нилом Смитом, что различие между реаби-литацией существующего жилого фонда, новым строитель-ством и переделкой заброшенных зданий более несущественно, что термин сегодня относится к гораздоболее широкому кругу явлений [см.: Smith, 1996:39].
303 По его словам: «Как в широком контекстеменяющейся социальной географии, мы можем адекатнопровести различие между реабилитацией жилищно-304-гофонда XIX века, возведением новых жилых башен-кондоми-ниумов, открытием рынков во время фестивалей дляпривлечения местных и неместных туристов, умножениемвинных баров и бутиков, торгующих всем что пожелаешь,строительством современных и постсовременных офисныхзданий, в которых работают тысячи работников, ищущихжилье... Джентрификация — более не узкая и донкихотскаястранность на рынке жилья, но передний край куда болеемощной тенденции — классовой переделки центральногогородского ландшафта» [см.: Smith, 1996: 391-
304 Классовое измерение джентрификации неразрывносвязано с вытеснением людей со скромными средствами изпрежних мест обитания. Давление со сторонысостоятельных людей поднимает цены до такой степени,что прежние обитатели районов и кварталов либо самипредпочитают продать или сдать свое подорожавшее жилье,либо оказываются вытесненными. Так, обитателейперестраиваемого дома на Плющихе может посетить нанятый
девелоперами юрист и в зависимости от того, какие речион услышит в ответ на свое предложение рассмотретьварианты переезда (то есть в зависимости от того,ориентируются люди в ситуации или нет, способны онизащитить свои интересы или нет), они могут оказатьсялибо в хрущевке в Выхине, либо в доходном доме началаXX века рядом с Третьяковкой.
304 Пишущий о джентрификации в Лондоне экономист КрисХамнет убежден, что вытеснением прежних жителей каксамостоятельной проблемой можно пренебречь, так какразмер рабочего класса в любом случае сокращается. Егозаменяет, а не вытесняет средний класс. Другие авторы,особенно те, кто пишет по заказу городскихадминистраций, предпочитают говорить не оджентрификации, а о «регенерации городов», «городскомренессансе», «устойчивом развитии городов». Эти вы-ражения и понятия удобны тем, что выводятсоответствующие экономические процессы из-подсоциальной критики.
304 Между тем именно классовая природа джентрификациизначима для305 критически настроенных урбанистов, которыепонимают, что изменение классовой конфигурации того илииного квартала неразрывно связано с вытеснением тех,кто жил здесь раньше.
305 Джентрификации — производство городскогопространства для состоятельных жильцов. Этот процесс,имея классовую подоплеку, неразрывно связан снесправедливостью. Для исследователя этот процесспредставляет собой дилемму: описывать (и такихисследований большинство) вкусы и пристрастия новыхобитателей этих кварталов и районов — среднего класса —или пытаться включить в обсуждение мнения пострадавших.Первые изучены досконально, но последствия джент-рификации для старых жителей, выбор которых не столь ужи велик в условиях бума на рынке недвижимости,обусловленного неолиберальной регуляцией, представляютсерьезные трудности для исследователей. Тех, кого
побудили переехать, или тех, кто живет под угрозойпереселения или выселения, не так- то легко найти илиразговорить. А девелоперы тоже не рвутся откровенничатьс исследователями. В этом смысле выделяется небольшаягруппа исследователей, которую уже не очень интересуютпрактики среднего класса, а больше — институциональныеи структурные механизмы, которые создают для нихпространства. В манифестах планировщиков, заявленияхгородских властей, новых проектах девелоперов классоваясуть джентрификации надежно спрятана за обтекаемымисловами, как в следующем высказывании мэра Лондона:«Высотные здания — очень эффективный способиспользования земли и важный вклад в созданиеобразцового устойчивого мирового города. В ЦентральномЛондоне они обеспечивают необходимое число помещений,отвечающих нуждам глобальных компаний — в особенностифинансовых и занятых обслуживанием бизнеса. Вообщеговоря, они отвечают стратегии создания высочайшегоуровня активности в местах, вмещающих наибольший объемтранспорта.
305 Хорошо спроектированные высотные здания могутстать и архитектурными достопримечательностями, покоторым будут узнавать районы, где они306 возведены, а также внести важный вклад врегенерацию» [см.: Mayor of London, 2002: 249].
306 Тем самым увеличивается значимость исследований,в которых отражены интересы всех обитателей того илииного подвергаемого джентрификации района. Так,чикагские урбанисты Дэвид Уилсон, Джаред Уоутерс иДэнис Грамменос рассматривают ситуацию в районе Пилсен,который претерпевает джентрификацию с середины 1980-х.Авторы, во-первых, помещают этот случай в контекстобщего брендинга Чикаго как постиндустриального города,его, так сказать, продажи мировому капиталу; во-вторых,они реконструируют три конкурирующих между собойдискурса по поводу джентрификации: 1) девелоперский — впользу джентрификации; 2) местного сообщества, котороехотело бы сохранить район для тех, кто уже в нем живет;
3) коалиционный (то есть группы бизнесменов иактивистов, которые за джентрификацию, но так, чтобыона была проведена с учетом этнического и культурногонаследия района). Соответственно, те истории, которыепомещают Пилсен в нарратив упадка или, наоборот,возрождения, используются разными социальными силами.Удивительно, но это мексиканские рабочие районапреподносятся СМИ как преданные своей территории, тогдакак те, кто хочет извлечь из него максимум прибыли,изображены в виде предателей района. Авторы показывают,каким образом репрезентации обретают материальную силу,буквально воплощаясь в сегодняшнем статусе района.
306 Том Слейтер, один из самых заметных левыхкритиков джентрификации, предпринял сравнительноеисследование джентрификации в Торонто и Нью-Йорке итого, как она отражена в академических статьях [см.:Slater, 2004]. Если канадская джентрификацияизображается учеными и СМИ как процесс, у которого естьосвободительный потенциал, то нью-йорк- ская —«реваншистская», мстящая рабочему классу, крадущая унего городские кварталы и районы,
306 Джентрификация в Торонто потому эмансипаторская,что она соединяет разные классы,307 способствует взаимопониманию и толерантности (дляканадского городского планирования вообще оченьхарактерна увлеченность идеями социального смешения —social mix). Слейтер, однако, демонстрирует, чтовнимательный анализ почти любого случая джентрификациивскрывает более сложную картину, нежели изображаемаяучеными и СМИ.
307 Так, квартал Саут-Паркдейл (South Parkdale)обрел печальную славу после того, как жившие домапсихические больные были выселены из своих квартир впроцессе перестройки квартала для среднего класса.Альянс региональных и городских властей, а такжемобилизованная полиция подавили попытки оспоритьпроисходящее, В Нью-Йорке Слейтер рассматривает районЛоуэр Парк-Слоуп в Бруклине. Финансовые рынки и рынки
недвижимости повсеместно стали международными, ипонятно, что в Нью-Йорке эта тенденция проявляетсясильнее, чем где- либо. За 1997—2004 годы средние ценына дома для одной семьи удвоились, что нашло отражениев таких терминах, как суперджентрификация икорпоративная джентрификация. Парк-Слоуп — элитныйрайон Бруклина — в итоге этих тенденций превратился водин из самых популярных районов всего Нью-Йорка,символ его бурного экономического роста конца 1990-х(сейчас прекратившегося). В 1997 году в городе былопринято постановление, согласно которому владельцыдомов, где стоимость аренды квартир превышает 2 тыс.долл. в месяц, не подпадают под какие-то ограничениястоимости аренды. Это значило, что цена за арендуквартир могла подниматься бесконечно, и в итоге большиеотряды высокооплачиваемой публики (молодые биржевыеброкеры, издатели, интернет-антрепренеры, часть юристови докторов) быт и вытеснены из Манхэттена на окраиныБруклина, Квинса и Бронкса, которые в свою очередьстали стремительно джент- рифицироваться. Что жеслучилось с теми людьми, которые прежде жили вперестраиваемых домах?
307 Большинство из них — испаноязычныемалооплачиваемые рабочие и служащие — вначале получилиуведомления от владельцев квартир308 о том, что аренда их квартиры возросла в два раза,а затем и уведомления о выселении.
308 Можно ли, однако, считать, что их ситуация —результат «кражи» средним классом обиталищ бедныхлюдей? Вряд ли: в условиях, когда все больше нью-йорк-ских районов остаются доступными только для корпоратив-ной элиты, выбор жилья для среднего класса тожесужается.
308 Итог: какие бы нарративы джентрификации нипредлагали урбанисты, всегда есть смысл исследовать,как конкретно она проявляется в том или ином районе икакое отношение к себе вызывает.
Брендинг городов308 Глобализация усилила необходимость продажи
отличий городов друг от друга. Те или иныедостопримечательности, знатные горожане либо продуктыот века составляли предмет гордости городов. Городскиевласти издавна пытались придать городамисключительность. Однако только в последние двадцатьлет продвижение имиджа города на международном рынкестало целенаправленной стратегией правительств. Однипытаются позиционировать себя как лидеры ГГ-индустрии,Другие — как привлекательные для туристов. Старыепромышленные города пытаются приспособить городскуюсреду к новому международному порядку, не претендуя наведущие места в обслуживании бизнеса, но либо сохраняявысокоспециализированные отрасли промышленности, либосоглашаясь на те функции, которые возможны для них вновом международном разделении труда (к примеру, бытьлогистическими центрами).
308 Тема маркетинга и брендинга городов популярнасреди городских властей. Интеллектуалы пытаютсявыполнить социальный заказ, периодически занимаясь«брейнстормингом». Одно такое собрание прошло весной2008 года в Екатеринбурге.
308 Посте лекции столичного социолога Ю. Согомонова отеории вопроса участники городского Философского кафепыта309-лись предложить многообещающий образ города.
309 Предлагались следующие варианты: 1) город,расположенный на границе Европы и Азии; 2) город, гдеубили царя, но хранят теперь память о нем; 3) рабочийгород; 4) город примирения (версия Ю. Согомонова).Негативность одних (удел царской семьи) и потрепанностьдругих (граница Европы и Азии), неактуальность третьих(рабочий город) и абстрактность четвертых (городпримирения) предложений вызвали лишь всеобщую фру-страцию.
309 Создатель теории маркетинга Филипп Котлер сосвоими соавторами по книге о маркетинге мест [см.:Котлер и др., 2005: 214] формулирует пять критериев
эффективности имиджа города: 1) соответствиедействительности (по этому критерию «город примирения»не выдерживает критики: кто, когда, с чем примирился —что можно ответить на эти вопросы? Неизвестно); 2)правдоподобие (Котлер и соавторы особеннопредостерегают против формулировок «лучший в..,»); 3)простота (плохо, когда рекламируется несколькорядополо- женных образов); 4) притягательность (изимиджа должно явствовать, почему людям стоит жить,работать, инвестировать, приезжать в качестве туристовв данный город. Правда, в качестве примера приводитсяЗальцбург с его поднадоевшим Моцартом — особенно послеюбилея последнего в 2006 году. Почему Моцарт делаетЗальцбург неотразимым, скажем, для работы местом - несовсем ясно); 5) оригинальность (авторы книги упрекаютза неизобретательность тех маркетологов городов,которые злоупотребляют выражениями «в це!ггре Европы»или «дружественная атмосфера»).
309 Маркетинг городов и в целом мест был стимулированскладыванием и популярностью маркетинга какэкономической дисциплины. Многое, что пишетсяприменительно к городам, — экстраполяции теориимаркетинга на такой специфический «продукт», как город.Именно так написана книга британских авторов Эшворта иВоогда «Продавая город».
309 Авторы310 определяют маркетинг городов как процесс, которымгородская деятельность как можно теснее увязывается стребованиями значимых покупателей — так, чтобы довестидо максимума экономическую и социальную эффективностьфункционирования города [см.: Ashwortb, Voogd, 1990:11].
310 Сдвиг к брендингу городов произошел в конце 1990-х годов в силу успеха и широкого применения стратегийбрендинга, а также появления понятия корпоративногобрендинга. Наделение продукта особой идентичностью,лежащее в основе брендинга, — деятельность, которойиздавна отдавали дань городские власти. Город должен
получить уникальную идентичность, чтобы, во-первых,люди знали о его существовании (кто знал о городеМышкин Ярославской области до ею успешной маркетинговойкампании?), во-вторых, чтобы он воспринимался жителямии посетителями как обладающий такими качествами, какихбольше ни у кого нет (где еще в мире есть Музей мыши,кроме как в Мышкине?), и, в-третьих, чтобыпреобладающие варианты его «потребления* отвечали целямвластей и населения (в Мышкин стало приезжать гораздобольше туристов, что устраивает и жителей и власти,которые добиваются включения Мышкина в Золотое кольцо).
310 В более же общем виде у города тогда есть шансстать брендом, когда, ю-первых, хорошо понятны иизвестны его «продаваемые» отличия и, во-вторых,разработана совокупность маркетинговых мер, которые этиотличия используют.
Вендина О. Реквием по общественным пространствам Москвы //Архитектур, вестн. 2008. № 2.
Игрицкий Ю. Рец, на кн.: Сассен С. Потеря контроля?:Суверенитет в век глобализации. Нью-Йорк, 1996 // Pro et contra.1999- Т. 4. С 222— 227.
Котлер Ф, Аашунд ТС, Рейн И, ХайдерД- Маркетинг мест. СПб.:Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.
Левченко Э. Россия — часть глобальной истории [Интервью с ССассен}//Экономика и время. 2003. № 21,
Сассен С. Приведение глобальной экономики в действие: роль на-циональных государств и частных факторов // Международ, журн,социал. наук. 2000. № 28. С 167—175.
Сассен С. Утрата контроля? // ГЬндер и глобализация: теория ипрактика международного женского движения / Под общ. ред Е. Бал-лаевой. М.: МЦГИ—ИСЭПН РАН, 2003.
Сассен С. Когда города значат больше, чем государства // Новоевремя. 2003. № 43.
Сассен С. Обманчивый лик европейской миграции // Деловая не-деля. Киев, 2004. №51.
Слука НА Градоцентрическая модель мирового хозяйства. M.iПресс-Соло, 2005.
Albrow М. Travelling beyond 1лса1 Cultures. Sociospaces in aGlobal City// living the Global City / Ed J. Eade. L; N.Y.:Routledge, 1997.
AppaduraiA. Disjuncture and Difference in the Global CulturalEconomy // Modernity at Large — Cultural Dimension ofGlobalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
Asbwortb GJ, VoogdH. Selling the City: Marketing Approaches inPublic Sector Urban Planning L: Belhaven Press, 1990.
Badyina A, Golubchikow O. Gemrification in Central Moscow — aMarket Process or a Deliberate Policy? Money, Power and Peoplein Housing Regeneraton in Ostozhenka // Geografiska Annaler.2005- № 87. P. 113— 129.
Boden D, Molotch H. The Compulsion of Proximity// Now Here:Space, Time and Modernity / Ed. R. Friedland, D. Boden.Berkeley: University of California, 1994 R 101-105-
Brenner N. State Territorial Restructuring and the Productionof Spatial Scale: Urban and Regional Planning in the FRG, 1960—1990 // Political Geography. 1997a. № 16(4). P. 273—306.
Brenner N. Global, Fragmented, Hierarchical: Henri Lefebvre'sGeographies of Globalization 11 Public Culture. 1997b. № 10(1).P. 137—169.
Brenner N. Global Cities, Global States. Global City Formationand State Territorial Restructuring in Contemporary Europe //Review of International Political Economy 1998. № 52. P. 1—37.
Cvetkovicb A, Kellner D. Introduction: Thinking Global andLocal // Articulating the Global and the Local — Globalizationand Cultural Studies. Boulder: Westview Press. 1997. P. 1—32.
Eade J. Living the Global City: Globalization as a l/зса!Process. L; N.Y.: Routledge, 1997.
Friedman J. The World-City Hypothesis // World Cities in aWorld- System / Ed. P.L Knox, PJ. Taylor. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1995. P. 317-331.
Gdaniec С. Kommunalka und Penthouse. Stadt undStadtgesellschaft im postsowjetischen Moskau. Mbnster: LitVerlag, 2006.
Gentrification of the City / Ed N. Smith, P Williams. L: Allenand Unwin, 1986.
Glass R. London: Aspects of Change. L: Macgibbon a Kee, 1964.Global Networks, Linked Cities. London / Ed. S.L Sassen. L;
N.YJ Routledge, 2002.Golden Arches East: McDonald's in East Asia // Ed J.L Watson,
Stanford University Press, 1997,East Asia, (Stanford University Press, 1997Hall P. The World Cities. L: Heinemann, 1996.Hannerz U. Transnational Connections — Culture, People,
Places. L; N.Y.: Routledge, 1996.
HiebertD. Cosmopolitanism at the Local Level. The Developmentof Transnational Neighborhoods // Conceiving Cosmopolitanism.Theory, Context, and Practice / Ed S. Vertovic, R Cohen. Oxford:Oxford University Press, 2002.
Jessop B. State Theory: Putting Capitalist States in theirPlace, University Park: Pennsylvania State University Press,1990.
Jessop B. Fordism and Post-Fordism: a Critical Reformulation// Pathways to Industrialization and Regional Development / Ed.M. Storper, AJ. Scott. N.Y.: Roudedge, 1992. P. 46—69.
Jessop B. Post-Fordism and the State // Post-Fordism: A Reader/ Ed. A Amin. Cambridge: Blackwell, 1994. P. 251—279-
KavaratzisM. City Marketing: The Past, the Present and SomeUnresolved Issues //Geography Compass. 2007. № 1(3). P 695—712.
King A Global Cities: Post-Imperialism and theInternationalization of London. L; N.Y.: Routledge, 1990.
King A Culture, Globalization and the World-System —Contemporary Conditions for the Representation of Identity.Minneapolis: University of Minnesota Press, 199*7-
Mayor of London. The Draft London Plan. Draft SpatialDevelopment Strategy for Greater London. L: Greater LondonAuthority, 2002.
Patteeuw V. City Branding: Image Building and Building Images.Rotterdam: NAI Publishers, 2002.
Robertson R Globalization — Social Theory and Global Culture.L: Sage Publication, 1996.
Sassen S. Cities in a World Economy. Pine Forge Press, 1994.Sassen S. The Global City. New York, London, Tokyo. Princeton:
Princeton University Press, 2001.Slater Т. North American Gentriflcation? Revanchist and
Emancipatory Perspectives Explored 11 Environment and PlanningA, 2004. Vol. 36. R 119t-1213.
Smith N. Uneven Development: Nature, Capital and theProduction of Space. Oxford: Blackwell, 1990,
Smith N. Blind Man's Buff, or Hamnett's PhilosophicalIndividualism in Search of Gentriflcation? // Transactions ofthe Institute of British Geographers. New Series. 1992, № 17. P110—115.
Smith N. The New Urban Frontier: Gentriflcation and theRevanchist City. N.Y.: Routledge, 1996.
Smith N. New Globalism, New Urbanism Gentriflcation as GlobalUrban Strategy // Antipode. 2002. № 34- E 427—450.
Smith N.. Filippis J. de. The Reassertion of Economics: 1990sGentriflcation in the Lower East Side // International Journalof Urban and Regional Research. 1999. № 23. P. 638—653.
Swyngedouw E. Reconstructing Citizenship, the Re-scaling ofthe State and the New Authoritarianism: Closing the BelgianMines // Urban Studies. 1996. № 33(8). R 1499-1521.
Swyngedouw E. Neither Global nor Local: 'Glocalisation' andthe Politics of Scale // Spaces of Globalization / Ed K. Cox.N.Y: Guilford Press, 1997a. R 137-166
Swyngedouw E. Excluding the Other: the Production of Scale andScaled Politics //Geographies of Economies / Ed. R. Lee, J.Wills. L: Arnold, 1997b. R 167-177.
Thrift N. A Hyperactive World // Geographies of Global Change/ Ed R Johnston, R Taylor, M. Watts. Oxford: Blackwell, 1995- R18—35-
TUrner BS. Cosmopolitan Virtue. Loyalty and the City //Democracy, Citizenship and the Global City / Ed. E.F. Isin L;N.Y.: Routledge, 2000.
Wilson £>, Wouters/, Grammenos D. Successful Protect-CommunityDiscourse: Spatiality and Politics in Chicago's PilsenNeighborhood // Environment and Planning A 2004. № 36(7). P.1173— 1190.
World City in A World System / Ed P. Knox, P. Taylor,Cambridge: Cambridge University Press, 1995-
314-355 Гл 7 Городская политика и управление городом
Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 7Городская политика и управление городом
314 Город — обсуждаем ли мы организацию его простран-ства или надежды его обитателей — зависит от того, какорганизована в нем власть. Управление городом и участиев его управлении горожан — два полюса исследованийгородской политики. Эти исследования обращаются как кхитросплетениям современного менеджмента, так и кполитическому участию населения. В городах рождалисьрадикальные политические идеи, в них проходилидемонстрации, в них угнетенные люди одерживали своискромные победы. В городах рабочие, этническиеменьшинства и женщины боролись за свои права и частичнопобедили: за последнее столетие условия их жизнизаметно улучшились.
314 Чем отличается городская политика от «просто»политики? Это сложный вопрос, учитывая, что границумежду городским и негородским становится все болеесложно провести и что в городах живет большинствонаселения любой страны. Чтобы различить обсуждениенациональной и городской политики, для обозначенияпоследней используют термины местный, региональный. Этоне способствует ясности, потому что различение «вцентре — на местах» — это политическое различение,связанное с тем, как работает современное государство.«Городское» — это и пространственная и политическаякатегория.
314 Городское или местное, как его ни определяй,тесно связано с национальными экономикой иполитическими процессами, а также государственнымиструктурами.
315 «Укрепление властной вертикали» — стратегияроссийского правительства при президенте Путине —повлияло на политику городских правительств в России.Настойчивые разговоры о поощрении местного
самоуправления сочетаются с сокращением автономиигородов, с нарастанием их зависимости отгосударственного финансирования. История ряда другихстран (например, Англии) тоже отмечена сравнительнойслабостью городских правительств, как и слабостьюгородских политических движений и сильной центральнойсистемой управления. Местные правительства имели всвоей компетенции вверенные им территории, но еще доослабевания их власти в 1970-е годы они должны былисчитаться с национальными стандартами и процедурамиуправления. Городское управление будет понято нами темточнее, чем полнее мы примем во внимание, что всягосударственная политика имеет последствия на местах,что любое решение центрального правительства отзываетсяв городах. Управление городами — дело отнюдь не толькосамих городов. Тем не менее история той или другойстраны обусловливает разные варианты взаимодействияцентральной и городской власти. Так, в США городскимвластям автономия гарантирована Конституцией. Ещефранцузский историк Алексис де Токвиль описал городскиеправительства как органичную черту американскойдемократии. Не удивительно, что самые влиятельныетеории городской политики сложились в этой стране. Это,разумеется, не значит, что они обладают универсальнойприменимостью.
315 Изучение городской политики включает институтыгородского управления, их политические функции, ихтрадиционные виды и современные модификации, а такжесоциальные и политические последствия их ослабления.Роль общественности, частного сектора, общественныхинститутов в городской политике также составляетзначимый компонент.этого исследовательского поля.Наконец, интересному анализу подвергается в последнеевремя сама риторика изменений и инноваций в городскомуправлении.
315 Мы рассмотрим вначале элитарные,316 плюралистские теории и теории «машин роста», краткообратимся к концепциям городских режимов и институтов,
подытожим дискуссию об отличии городского правительстваи городского управления, коснемся влияния глобализациина городскую политику и разберем ситуацию с городскимиполитическими движениями «снизу».
Элитарные и плюралистские модели316 Какие модели лидерства «отцов» города сложились в
истории городов и какие следствия они имеют дляполитики, в особенности для экономического развития?Какие стратегии способствуют, а какие препятствуютэкономическому развитию? В каких городах лидерыследовали особым стратегиям управления и к какимрезультатам это привело? Какие сдвиги в городскомполитическом климате (или культуре) сопровождали разныеварианты городской политики? Первая группа теорийгородской политики стремилась ответить на два главныхвопроса: у кого есть власть в городе и как властвующиеэтой властью распоряжаются.
Элита, городская верхушка — таков был историческипервый ответ на вопрос, кто властвует в городе.Учитывая, что в классической политической теории городбыл моделью политического устройства, немудрено, что кгороду приложима общая линия мысли, развитая Платоном иАристотелем в эпоху Античности, Макиавелли в периодВозрождения, Вильфре- до Парето и Гаэтано Моска в XIXстолетии. Правят избранные — силой своей мудрости,хитрости и интриги, а также находящихся в ихраспоряжении материальных ресурсов.
316 Исторические исследования вариантов организациигородского управления показывают, что это правилораспространяется и на американские города.
316 Американские социологи Роберт и Хелен Линд,одними из первых применившие к городу методы социальнойантропологии, исследовали в 1920—317-1930-е годытипичный город Среднего Запада — Мунси (штат Индиана).
317 Чтобы подчеркнуть его типичность, они дали емуназвание Миддлтаун и написали о нем две книги, которыевпоследствии стали социологической классикой. Исследуя
религиозные верования обитателей города, а такжепредрассудки, бедность, проституцию, алкоголизм, онизаметили огромное влияние на городские дела одной семьи— семьи Болл, основавшей в этом городе университет ивладевшей стекольной фабрикой,
К аналогичным выводам (о том, что властвуют элиты)пришел американский социолог Флойд Хантер на примереАтланты 1940— 1950-х годов [см.: Hunter, 1953]. Он тожевывелАтлан- ту под условным названием «региональныйгород». «Структура власти» (Хантер ввел этот термин вязык социальной теории) была исследована им с помощьюне только включенного наблюдения, но и «репутационногометода». Хантер составил список из 175 гражданскихлидеров, бизнесменов, политиков и показал его экспертам— профессионалам и уважаемым в городе людям (тем, ктолучше всего владел ситуацией). Почти со всеми сорока,кто набрал наибольшее количество голосов, он провелинтервью, спрашивая их опять о том, кого они считаютсамыми главными в городе и каковы две самые главныегородские проблемы. Он также опросил лидеров сообществаафроамериканцев, планировщиков, социальных работников.Полученные им выводы гласили, что на верхушке городскойвластной пирамиды — самые крупные бизнесмены, корпора-тивные топ-менеджеры и юристы, живущие в одном районе ихорошо друг с другом связанные (чаще всего упоминалсямагнат «Кока-Колы» Роберт Вудраф). Это в их деловыхразговорах рождались инициативы, которые затемобсуждались в более широких кругах («Клуб 49» и «Клуб101»), Кстати, аналогичные группы были позднее описаныв других городах, к примеру такая группа, как «Комитет25-ти» в Лос-Анджелесе.
317 Затем, если идея получала одобрение,формировался комитет, обсуждалось, какие именно людибудут общаться с прессой, и, лишь318 когда все было решено и распределено, идеястановилась предметом формального публичногообсуждения. Но «политика», в смысле конкретногонаправления действия, уже была определена в ходе
неформальных дискуссий среди обладающих экономическойвластью людей. Хантер затем опробовал этот метод еще ив Сейлеме (штат Массачусетс).
Многие посвященные городам неакадемические текстывоспроизводят одно из самых распространенных «видений»городов — как творений обладающих значительной властьюиндивидов. Приведем один из недавних примеров: «Врезультате усилий Юрия Лужкова Москва решительнопреобразилась. Теперь она не похожа ни на уютный город,где "стаи галок на крестах", ни на цветаевский"нерукотворный град", ни на оплот державной гордости, вкоторый ее превратила харизматическая сталинскаяархитектура. Москва теперь, собственно, ни на что непохожа. Поскольку обрела непоправимую и неповторимуюиндивидуальность. В том смысле, что являет собой теперьна редкость стройный и пунктуально реализованныйиндивидуальный проект» \Арпишкин, Перестройка, 2006].
Понимание городской среды как воплощения индивидуаль-ной воли властителей имеет давнюю историю.Архитектурные причуды монархов и технократическиеиллюзии относительно социальной инженерии, мегаломанияи инструментализм часто сливаются в амбициях мэров ипрезидентов до неразличимости. Систематическое ирационально упорядоченное видение мира, выражаемое вличной «философии» правителей, сочетается с их верой вэффективное управление теми, кто создает городскоепространство, — архитекторами и бизнесменами,застройщиками и политиками. То, что многих из нас вгородах волнует — грандиозные архитектурные проекты,появление на пустом месте целых кварталов и, увы,разрушение «отслужившего свое», — связано с громкимиименами архитекторов и их заказчиков.
318 «Париж Миттерана» или «Москва Лужкова», «ЛондонБлэра» или «Нью-Йорк Джулиани», не говоря уж о «БерлинеГитлера» или «Риме Муссолини», — эти словосоче-319-танкя тем для нас привычнее, чем более активнопропускается наше восприятие городов сквозь призму
массмедиа, которым присуще персонифицировать любыесоциально-политические и культурные процессы.
319 Для историков и эстетически чувствительныхкомментаторов это открывает громадное поле рефлексии, врамках которого можно до бесконечности комбинироватьанализ идиосинкразии правителей, вкусов и мастерстваархитекторов и конечного результата. Политическийспектр такой рефлексии тоже достаточно широк отлиберального обличения равнодушия властей к нуждамжителей до консервативного прославления единоличногопринятия решений. Такая стратегия позволяет решить иглавную задачу нормативного анализа, давая вроде быочевидный ответ на пресловутый вопрос об адресатеответственности. Между тем, как бы ни был привлекателенэтот ход мысли и как бы каждому из нас ни былоочевидно, что те, кто обладает ресурсами и властью,продолжат формировать городскую среду по своемуразумению, важно попробовать занять болеедиалектическую позицию в отношении того, кто и чтосоздает городскую среду, какие «творческие силы» (итолько ли человеческие) оказываются вовлеченными всоздание совокупного продукта.
Противоположная по смыслу, то есть плюралистская тео-рия была сформулирована американским политическим тео-ретиком Робертом Далем в книге «Кто правит?». Своеисследование он провел в Нью-Хейвене (штатКоннектикут). Он был согласен с тем, что в прошлом (вXVIII и XIX веках) городская политика действительнобыла элитистской, но был убежден, что в XX веке еехарактер изменился [см.: Dahl, 1961], Идет ли речь оразвитии города, об образовании, о партийных номи-нациях, в решения оказываются вовлечены самые разныелюди и группы давления. Нет замкнутой группы, котораярешала бы все. Иначе говоря, на поставленный вопрос«Кто правит?» Даль отвечает «Не одна группа, анесколько».
319 Это означало, что ни одна группа не могламонополизовать власть, потому что власть оказываетсяраспределенной среди большого числа320 носителей противоположных интересов.
320 Впрочем, противоположных только до определеннойстепени, так как конкурирующие за власть группы состоятиз бизнесменов и представителей среднего и высшегосреднего класса. Даль сосредоточился не на репутациях,а на спектре интересов людей, вовлеченных в принятиеконкретных решений, используя подробные опросники иглубинные интервью. Теоретик признавал, что социальноенеравенство неустранимо и что оно сказывается навозможностях политического участия. В то же время онбыл убежден, что групповая мобилизация, приводящая ксоревнованию между властными коалициями, пустьопосредованно, но сокращает последствия неравенства.
Эдвард Банфилд в книге «Политическое влияние»рассмотрел, каким образом мэру Чикаго удалось создатьвластную коалицию под его, «босса», руководством [см.;Banfield, 1961]. Нельсон Полсби во «Власти сообщества иполитической теории» рассмотрел, как решения,принимаемые коалициями элиты, были обусловлены исоциальной стратификацией, и политическими тенденциями[см.: Polsby, 1980].
320 Дебаты между плюралистами и элитистами (позднеенео- элитистами) помогли понять, что власть в городезаключается не только в занятии формальных постов, но ив способности определять, какие темы юобще станутпредметом политического обсуждения. Так, неоэлитисты —политические исследователи Питер Бахрах и Мортон Баратц(также проведя эмпирическое исследование в Балтиморе) —в работе «Два лица власти» показали, что интересыместной элиты могут быть настолько превалирующими, чтоинтересы иных горожан просто не становятся предметомобсуждения [см.: Babrach, Baratz, 1962]. Мэтью Кренсонутверждал, что до 1970-х годов загрязнение воздуха вбольшинстве американских городов не обсуждалось какотдельная проблема [см „Crenson, 1971].
320 Способствовавшим загрязнению большим промышленнымкомпаниям удавалось — через массмедиа - убедитьнаселение в том, что этот процесс неразрывно связан сэкономическом ростом и появлением новых рабочих мест.
Теория машины городского роста321 Как видно из предыдущего обсуждения, те работы
существенно влияли на складывание теории городскойполитики, которые строились на конкретных случаях,исходили из местного контекста. Этот подход получилназвание «новой городской политики», и с ним связанытеории, возникшие после 1970-х годов. В их центре ужене вопрос «Кто управляет?», а вопрос «Для чего?»(формулировка Логана и Молоча). Понятно, что городомуправляют сообщества бизнесменов, но с какой целью?Опираясь на уроки политической экономии, теоретикиобращают внимание на явление бустеризма (от англ. boost— расширять, проталкивать, рекламировать) — продвижениястратегии быстрого развития города любой ценой. В этойдеятельности объединялись амбициозные мэры, пред-приниматели, владельцы недвижимости и узлов транспорта.
В 1970-е годы Харви Молоч — американский городскойсоциолог и автор метафоры «город — машина роста» — до-бавил к названию своей (сегодня классической) статьиподзаголовок «политическая экономия места». Молоч непервым привлек образ машины для описанияфункционирования капиталистической экономики в городах:У Маркса «машинная» метафора была вплетена в ею разборкапиталистического отчуждения, в демонстрацию того, чтотруд человека при капитализме становится чуждой емусилой, что выражается в том, что человек порабощентрудом (вместо того, чтобы самому его контролировать).Если инструмент служит мастеру, то в случае машинногопроизводства рабочий служит машине. Другой знаменитыймарксистский урбанист — Анри Лефевр — это тожеотмечает. «Город — это действительно машина, но это инечто большее и нечто лучшее: машина, приспособленная к
определенному использованию — использованию социальнойгруппой» [Lefebvre, 1991; 345].
321 Машина не рассчитана на благополучие всех своих«винтиков», если воспользоваться популярной советскойметафорой, — и с помощью этой метафоры322 Молоч проблематизирует популярную идею о том, чтовыгодные для элиты процессы городского развития вконечном счете выгодны для всех горожан.
322 Популяризации этой идеи способствовали преждевсего городские власти. Но были и теоретики, достаточноотчетливо сформулировавшие эту идею. Американскийполитический теоретик Пауль Питерсон в книге «Пределыгорода» настаивает: «Интересы городов — это не суммаиндивидуальных интересов жителей и не стремление иметьоптимальный размер. Напротив, политика и программытогда осуществляются в интересах городов, когда ониподдерживают или усиливают экономическое положение, со-циальный престиж или политическую власть города вцелом» [Peterson, 1981: 20].
322 Молоч и ряд других авторов были настроены болеекритически и предположили, что экономический ростгородов отнюдь не всегда тождествен увеличению суммыобщественных благ. «Машина роста» - это не город кактаковой, а коалиция элит, нацеленная на извлечениеприбыли из городской земли и всего, что на нейвозведено. Молоч был первым, кто столь отчетливо описалдоминирование в послевоенной американской городскойполитике идеологии роста: «Рост — это экономическая иполитическая сущность практически любой даннойместности... стремление к росту составляет ключевуюдействующую мотивацию консенсуса местных политическихэлит, сколь бы расколоты они ни были в отношении другихпроблем» [Molotch, 1976: 310].
322 Молоч показал, что даже сильные города (Нью-Йорк,к примеру) должны участвовать в кампаниях роста,продавая себя международному и национальному бизнесу,но отстаивая при этом свои политические интересы.
322 И он был первым, кто, опираясь на обширныйфактический материал, показал, что, вопрекиоптимистической риторике властей предержащих, мас-штабные строительные проекты и иные стратегии ростадалеко не всегда оборачиваются новыми рабочими местамии сопровождаются адекватной социальной политикой.
322 Его кон-323-цепция машины роста состоит из трехкомпонентов: 1) коалиция элит, 2) лоббирование элитамимомента роста как отвечающего их долговременнымэкономическим интересам; 3) диспропорции в выгодах отроста.
323 В книге «Городские состояния», написанной вместес Джоном Логаном, теория города — машины ростапротивопоставлена экологическому подходу чикагскойшколы (о нем рассказывается в главе «Классическиетеории города») и марксистскому подходу [см.: Logan,Molotch, 1987]. Недостаток первого — в допущении«невидимой руки рынка», устанавливающей равновесие врасселении горожан. В действительности свободноесоревнование горожан за свободное пространствоневозможно. Высокий спрос на жилье невозможноудовлетворять до бесконечности. Дома обладаюткачествами, которые либо увеличивают, либо уменьшают ихстоимость; кроме того, люди часто привязаны к вполнеопределенным частям города, что чикагская модель не всостоянии описать. Недостаток второго подхода — всведении города к месту эксплуатации, к «печальномупоследствию логики капиталистического накопления»[Ibid.-. 10]. Марксизм считает, что те, кто снимаетжилье, — просто работники, а собственники жилья —капиталисты. Получается, что целый ряд важных длягорода игроков марксистский подход просто не способенинкорпорировать, в силу чего картина городскогоразвития получается чрезмерно упрощенной. Авторысчитают, что развитие города лучше объясняетсянапряжением, во-первых, между владельцами городскойнедвижимости (они могут использовать меновую стоимостьсвоих владений) и жителями (использующими по-
требительную стоимость) и, во-вторых, между противобор-ствующими группами бизнес-элит. Элиты, политики,массмедиа и коммунальные предприятия составляюткоалицию роста.
323 Вспомогательные участники коалиции — этоуниверситеты, профсоюзы, учреждения культуры, владельцымалого бизнеса.
323 Каждая группа преследует при этом свои цели, ноубеждает население в том, что от роста и вложений внего выиграют324 в конечном счете все: «Совокупный рост изображаетсякак общее благо; считается, что увеличениеэкономической активности поможет всему городскомусообществу» [Logan, Molotcb, 1987: 33].
324 Между тем авторы убеждены, что вдействительности, «за редкими исключениями, консенсусмежду городскими группами элиты возникает по поводуодного вопроса. Этот же вопрос разделяет элиты и тех,кто использует город для жизни и работы. Это вопросроста» [Ibid.: 50]. Члены коалиции позитивнорасценивают любой вариант роста, это и позволяет имэффективно работать вместе, независимо от различныхцелей.
324 Но результаты роста распределяются неравномерно:природа машины роста такова, что потребительнаястоимость большинства обменивается на меновую стоимостьнескольких.
324 Каким образом это происходит? 324 Как те или другие места города циркулируют на
рынке недвижимости? Авторы вводят понятие специальнойпотребительной стоимости для того, чтобы зафиксироватьсубъективную ценность того или иного места для жителей.Специальная потребительная стоимость отличает место отдругих товаров. Другое качество места состоит в том,что оно открывает доступ к другим благам и людям, ноэтот доступ прекращается, если человек меняет местожительства. Таким образом «переживания и мотивыфокусируются на определенном месте» [Ibid.: 18]. Люди,
покупающие дома в особо значимых для них местах, вносятвклад в развитие всего жилого района. Его качество(ресурсы, которые он предоставляет, егопривлекательность и связанная с ней способностьмобилизовать людей на какие-то действия) определяетжизненные шансы его жителей. Владельцы же устанавливаютспециальную меновую стоимость своей недвижимости. Укаждого владельца — монополия на свой сегмент рынка не-движимости. Часто стоимость их владений зафиксирована.Владельцы стараются ее поднять, но есть препятствия ихэкономической активности, к примеру разная стоимостьквартир на нижних и верхних этажах высотного дома.
324 Недвижимость отличается от других товаров тем,что не может создаваться325 только частным образом: любое строительство илиреконструкция предполагает переговоры с правительствоми другими внешними инстанциями.
325 Логан и Молоч предлагают социальную типологиюпредпринимателей рынка недвижимости. Первый тип —«везучие», то есть те, кто унаследовал собственностьлибо владеет ею в результате счастливого стеченияобстоятельств; второй тип — «активные», то есгь те, ктоищет удачные места и участки для вложений; третий —«структурные спекулянты», то есть те, кто не толькоспособен предсказать, как изменится стоимость кон-кретной недвижимости, но и обладает ресурсами, чтобыускорить этот процесс в устраивающем их направлении.Последний тип — самый важный в модели роста.Конкурирующие группы элиты, сотрудничающие справительством, объединяются под прикрытием доктриныценностно нейтрального развития города, то есть идеи,что только свободный рынок определяет использованиеземли. В действительности рынок социальноконструируется в том смысле, что те, кто его кон-тролирует, делают это к своей собственной выгоде.Авторы описывают разнообразные махинации городскогоистеблишмента, указывая, в частности, на «бесконечноелоббирование, манипулирование и задабривание» как на
ключевые ресурсы получения и поддержания власти вбольших городах [см.: Logan, Molotcb, 1987: 293]- Приэтом активисты местных сообществ, по мнению Мслоча иЛогана, играют достаточно двусмысленную роль. Онивыступают от имени жителей, пытаясь побудить городскоеправительство, к примеру, использовать ограничения позонированию земли в пользу жителей. Но нередко ихактивность лишь способствует успеху предпринимателей внеустанной борьбе за повышение ренты.
325 Что разительно отличает типичную картинуполитических аспектов развития постсоветского города и,к примеру, американского — это степень и характероспаривания интересов коалиции бизнесменов и политиковактивистами местных сообществ и прогрессивнымиполитиками.
325 В компаративном326 исследовании двух городов, Чикаго и Питсбурга,изложенном в книге «Бросая вызов машине роста», БарбараФерман показывает, как местные сообщества в Питсбурге,действуя в благоприятном политическом климате широкойгражданской поддержки, смогли отстоять своепрогрессивное видение строительства жилья иэкономического развития в целом [см.: Ferman, 1996]. ВЧикаго, напротив, вызов стратегиям развития был брошенна электоральной арене, где преобладали делегированныеот районов политики, видевшие угрозу в любой не-зависимой политической активности по месту жительства.Что бы ни исходило от местных сообществ, пряталось подковер, и в итоге чикагская машина роста не встретиланикаких препятствий. Российские машины роста городовследуют скорее чикагскому сценарию. Если в Америкекаждый случай нужно рассматривать отдельно, потому чтоиногда местные сообщества все же одерживают верх, то вРоссии последнего десятилетия, хотя местные деталиинтересны, исход дела удручающе предсказуем.
Теории городских режимов
326 Интерес к неформальной стороне действий городскихвластей, к тому, что происходит по ту сторонувыступлений мэров и разрезаний красных ленточек,воплотился в дискуссиях по поводу различных типовгородских режимов. Понятие городского режима фиксируетнеформальные управляющие коалиции, реально принимающиерешения и определяющие городскую политику. Вотопределение городского режима, данное КларенсомСтоуном:
326 «Формальные и неформальныесоглашения, на основе которыхобщественные органы и частные интересыдействуют вместе для принятия иисполнения решений» [Stone, 1989= 6].
326 Кстати, свое исследование городской политикиСтоун вел опять-таки на примере Атланты (он рассмотрелчетыре десятилетия, 1946—1988 годы), и понятие го-327-родского режима возникло в ходе его попыток описатьнеформальное партнерство между городским правительствоми бизнес-элитой.
327 Городское правительство озабочено сохранениемвласти, расширением поддержки со стороныобщественности. Бизнес-элита, понятно, думает обувеличении прибыли. Городской режим складывается изконфликта между экономической и политической логиками врамках правящей коалиции. Когда коалиция становитсяправящей коалицией? В центре коалиции — членыгородского правительства. Но их голосования и принятыхими решений недостаточно: для управления городом обычнонужны куда более значительные ресурсы. Вот почемурешающими для коалиции являются ресурсы, находящиеся вовладении частных лиц, и сотрудничество их владельцев свластями. Взаимные обязательства формальных и нефор-мальных участников коалиции (чиновников, политиков изаинтересованных лиц) — органическая часть реальных со-глашений, посредством которых ведется управление. Так,в Атланте сложился сильный режим, основанный намежрасовой коалиции между белой элитой города и черным
средним классом. Стоун подчеркивает, что понятиеправящей коалиции указывает на ключевых акторов,осознающих свою ведущую роль и лояльных соглашениям,гарантирующим им их позиции. Но управленческиесоглашения выходят за пределы круга «инсайдеров».Какие-то жители города могут знать тех, кто их прини-мает, и пассивно поддерживать принятые решения. Другиемогут и не знать, и не поддерживать, придерживаясьтаких общих принципов, как «нет смысла бороться сгородским правительством». Третьи могут сознательнобыть в оппозиции, а четвертые — прагматическипридерживаться взгляда, что поддерживать «лузеров» и«гнать волну» просто неумно. Так что в понятии режимаучитываются не только «инсайдеры», но и разная степеньприверженности горожан принимаемым решениям, и то, какименно с ними консультируются.
327 Соглашения нечетко зафиксированы, а их пониманиеакторами может меняться, так что, предупреждает Стоун,понятие городского ре-328-жима не надо реифицировать.
328 Это тем более важно, что типы режимов могутразличаться даже в одной стране — они мог>т бытьвключающими и исключающими, расширяться до пределовагломерации городов либо, напротив, сужаться до цент-рального района.
328 Деннис Джад и Пол Кантор [см.: Enduring...,1992] продолжают дифференциацию городских режимов,выделив четыре цикла их развития в США До 1870-х годовв городах-антрепренерах все было под контролемкупеческой элиты. До 1930-х годов, когда бурнаяиндустриализация сопровождалась волнами иммиграции ииммигранты быстро создавали политические организации,бизнес должен был работать с политическимипредставителями иммигрантоа Это была политика городамашин. Период 1930—1970-х годов — время наибольшего го-сударственного вмешательства. В коалиции Нового курсаэкономическое развитие городов стимулировалосьфедеральным правительством, и правительство же следилоза расширением базы Демократической партии. Когда
этнические меньшинства набрали достаточный вес, этотрежим уступил место последнему, который на современномцикле развития способствует экономическому росту иполитическому включению.
328 В любом случае теория городского режимапозволяет исследовать степень участия бизнеса вгородской политике и учитывать его мотивацию.
Институциональные теории328 В теории города как машины роста, как и в теории
городских режимов, правительство — национальное и вособенности городское — не обладает достаточнымиресурсами, чтобы быть сильным, независимым субъектомвласти. Есть, однако, группа теорий, в которыхотстаивается тезис о том, что в центре городскойполитики — формальные политические институты города.
328 У них есть власть, источником легитимности ко-329-торой является суверенность национальныхгосударств.
329 В основе этой группы теорий лежат идеи МаксаВебера о неразрывной связи модерных обществ иадминистративных систем и о власти как о способностиличности навязать другим свою волю (личности,изменяющей характер действия в зависимости от типаобщества). Традиционное доминирование предполагалоустановление легитимности правления на основе унас-ледованной позиции в социальной иерархии и апелляции кпрошлому.
329 Харизматическое доминирование вытекало из особыхкачеств и достижений личности.
329 Наконец, рационально-правовое доминированиеосновывало свою легитимность на бюрократических навыкахи рациональных правилах администрирования. Образованныеуправленцы мыслились Вебером как ключевые деятелиобщества модерности. Не случайно те английскиетеоретики, которые именно городское правительствопомещают в центр городской политики, называют себя
неовеберианцами. Их американские коллеги относят себя к«правительственному» или «городскому» менеджеризму
329 Теорию городского менеджеризма в I960—1970-е годыразработал английский городской социолог Рэй Пол. Онпонимал город как организованную систему распределенияресурсов, проявляющуюся в идентифицируемых способахорганизации городского пространства и неизбежноприводящую к систематическому воспроизводствусоциального неравенства [см.: РаЫ, 1975]. Ресурсы —земля, разнообразные виды капитала, здания(коммерческие, промышленные, жилые) и социальныересурсы (инфраструктура, места отдыха, медицина иобразование). Пол предположил, что путь к пониманиюлогики способов организации городского пространствалежит на пути изучения мотивации и идеологии «городскихменеджеров» — работников муниципалитетов,планировщиков, застройщиков, инвесторов, банкиров,риелторов, иными словами и государственных служащих, ивладельцев частного капитала.
329 Это они решают, что строить и где, это их вкусынаходят воплощение в новых проектах, это они даютразрешение на застройку но-330-вых и перестройку старыхтерриторий.
330 Контролируя доступ к часто скудным ресурсам(жилью, образованию), они определяютсоциопространственное распределение населения.
330 Однако Пол посвящает свою книгу демонстрации неих всесилия, а, напротив, того, что эти люди в своюочередь подвержены воздействию разнообразных факторовили сил, находящихся вне их контроля. Во-первых, этополитические факторы (к примеру, влияние на решениямуниципалитетов национальных правительств, в своюочередь зависящих от международной циркуляциикапитала). Во-вторых, это экономические факторы, таксказать логика рынка, которую не всегда можно учесть ипредвидеть в менеджерских решениях. В-третьих, это про-странственные факторы. Три из них особенно интересны.Первый можно назвать «упрямством расстояния». Оно
проявляется в том, что если одно место в пространствезанято, то поселиться или расположиться можно только пососедству, и так до бесконечности, что делаетнеизбежной «тиранию расстояния»: пространственноенеравенство людей в отношении наиболее привлекательныхдля жизни мест вытекает из самой логики пространства.Два человека или два коллектива не могут одновременнозанимать одно место в пространстве. Второй — «инерцияиспользования»: стихийно сложившийся вариантиспользования данного места или совокупности местпредопределяет то, как они будут использоваться вбудущем. Третий — «конформизм соседства»: то, как будетиспользоваться данный участок земли, определяется тем,как уже используется земля вокруг него. Три эти группы«сил» значительно ограничивают возможности и амбициигородских игроков, что побудило Пола описывать ихдеятельность не в терминах ничем не ограниченноговлияния, но лишь «вмешательства» или «посредничества» впроцессах, которые, по большому счету, никто неконтролирует (и за которые никто в конечном счете неотвечает).
330 Этот ход мысли независимо от Пола развиваютнекоторые сегодняшние политические философы, говоря оневозможности беспроблемного приписывания ответствен-331-ности за происходящее какому-то одному правителюили властной инстанции: слишком сложным стал мир,слишком тесно переплетены происходящие в нем процессы.
331 Уже упомянутый в этой главе Мэтью Кренсон рисует,как городское правительство и политические партиисплоченно действуют, чтобы вести политику, не обращаяськ городской общественности и поэтому не принимая врасчет социальные интересы [см.: Crenson, 1971].Английский исследователь Синтия Кокберн такжепоказывает, что слабая или разобщенная городскаяобщественность становится главной причиной, почемугородским властям столь легко преследовать лишь своисобственные политические задачи [см.: Cocburn, 1977].
Эта группа теорий убедительно показывает те моментыразворачивания городской политики, которые особенноярко проявляются в России. В чем они состоят? Городскоеправительство совмещает в своей деятельности иэкономическую и политическую логику. Экономическаяпроявляется в том, что правительство является главным«стейкхслдером» в городской экономике, предоставляярабочие места и потребляя сервис и товары. Политическаяпроявляется в изобретательном использованииполитических и правовых привилегий. Повсеместно, а нетолько в России, у правительства их гораздо больше, чему частного бизнеса. Среди них — право контролировать иограничивать движение городского транспорта,избирательное зонирование городской земли, правоэкспроприировать частную собственность для общественныхнужд (это фиксируется в понятии eminent domain в США иcompulsory purchase в Англии).
331 В действия городского правительства существеннуюсложность привносит тот факт, что центральноеправительство, изымая из крупных городов налоги,перекладывает на них ответственность за затраты, вособенности на социальные нужды. Бремя налоговогокризиса перекладывается на города, и урбанистыпоказывают, что самым тяжелым образом оно сказываетсяна бедных городах, где особенно остра нужда всоциальных выплатах.
332 Налоговые кризисы, которые время от временизахватывают города, зависят от общего состоянияэкономики. В главе о глобализации уже упоминалсяналоговый кризис 1970-х годов в Нью-Йорке. В период с1930-х по 1970-е годы городское правительство тратилозначительные средства на социальные нужды, серьезновкладываясь в здравоохранение, образование и так далееувеличивая расходы на 4—5 % каждый год начиная с 1945года. Между тем городская налоговая база за это времясокращалась с переездом большого числа людей впригороды. Правительство под давлением политиковзанимало деньги у банков, чтобы сохранить рабочие места
и бизнесы, все увеличивая долг города, пока Нью-Йорк в1974—1975 годах полностью не лишился права брать вдолг. Управление городскими финансами перешло в рукицентрального правительства, 40 тыс. рабочих былиуволены, и этот период стал поворотным пунктом вполитике большинства западных городских правительств.Уже никогда столь значительные средства не будутнаправлены на социальные нужды. А зависимость городовот банковских кредитов (так как налоговая базапродолжает сокращаться) приводит к тому, что ихполитика начинает определяться скорее консервативнымикредитующими инстанциями, нежели нуждами населения.
Городское правительство и городское управление332 В англоязычных дискуссиях о городской политике
различают городское правительство (urban government) игородское управление {urban governance'). Первый термин— городское правительство — подчеркивает, чтотрадиционно управление городом велось из единогоцентра, который сам был встроен в иерархию вышестоящихправительств и воплощал вертикальный принципуправления.
332 Второй термин куда более сложен, им обозначаютпроцесс управления городам, в который333 вовлечены разнообразные партнерства.
333 Он относится к «сетям», вовлеченным в принятиерешений и достижение консенсуса. Если управлениегородской жизнью, ведущееся городским правительством,исходит из одного центра, иерархично и предполагаетдирективный стиль, то управление городской жизнью состороны партнерств полицентрично и горизонтально.Другое отличие, которое фиксируют эти термины, зак-лючается в том, что городское правительство более илименее одинаково повсюду, тогда как в рамках городскогоуправления конкретное сочетание институтов, которыегородское правительство привлекает к принятию решений иот которых просто зависит, может меняться, В любомслучае тенденция, которую маркирует само это
терминологическое различие, заключается в расширениичисла инстанций, участвующих в управлении городом:бизнеса, некоммерческих организаций, массмедиа,наднациональных институтов (например, Европейскогосоюза) и так далее. Эти инстанции действуют в целомспектре масштабов.
333 С одной стороны, среди них могут бытьвнутригородские организации, например добровольныеорганизации и школы, а также вузы с элементамисамоуправления. С другой стороны, транснациональныекорпорации могут обсуждать с городским правительствоморганизацию обучения или получения концессий приоговоренном объеме их инвестиций.
333 Показателен пример взаимодействия властей испанс-кого города Толедо и корпорации «Даймлер-Крайслер».Корпорация была освобождена от налога на недвижимость,а 16 местных компаний и 87 семей были переселены, чтобыобразовалось пространство, достаточное для еерасширения.
333 Теоретики городского управления — британскиегеографы Марк Гудвин и Джо Пэйнтер — считают, что уистоков этой тенденции целый ряд масштабныхэкономических и политических процессов, которые можнопроанализировать с помощью теории регуляции,разработанной группой парижских экономистовв 1970—1980-егоды [см.: Goodwin,Painter, 1996].
333 В фокусе этой теории — социальные иинституциональные334 попытки справиться с противоречиям и кризиснымитенденциями, связанными с накоплением капитала.
334 Тип регуляции — центральное понятие этой теории,пытающейся понять, как развитие капитала можно сделатьстабильным. Тип регуляции — это, во-первых, сложноесочетание социальных норм, условностей, традиций изаконов, помогающих «нормализовать» процесс накоплениякапитала; во-вторых, институты и практики местногоуправления. Выделяют фордистский и постфордистский типырегуляции.
334 В рамках фордистского типа (который в Англии былраспространен в течение 1950— 1970-х годов) местноеправительство, во-первых, строило большие жилые массивыдля рабочих, что давало им возможность участвовать вмассовом потреблении товаров и тем самым поддерживатьрост производства; во-вторых, выделяло масштабныесоциальные льготы. Экономический кризис, происшедший в1970-е годы в Англии (как и в США), обусловил серьезныеперемены в управлении городами. Национальноеправительство в поиске причин кризиса возложило винуименно на городские правительства (см. также раздел«Институциональные теории»), что обусловило утрату имиавтономии. Если прежде они сами регулировали городскоеразвитие, то отныне стали объектами государственногорегулирования. Государство изменило характер городскогоуправления: отныне оно не исходило уже из единого цен-тра. Необходимость предоставлять горожанам услуги,льготы, жилье — все, что прежде составлялоответственность городского правительства, — теперь былараспределена между государственными, частными инекоммерческими организациями. Избираемое городскоеправительство как главный агент управления пересталосуществовать, уступив место множеству инстанцийгородского управления.
334 Привлекательность разработанной 1удиином иПэйнтером теоретической рамки в том, что они склонны вкаждом конкретном случае исследовать, произошел лидействительно сдвиг к принципиально иному(постфордистскому) типу регуляции,335 а также необратим ли сам переход от городскогоправительства к городскому управлению. Английскиегородские географы Роб Имри и Майк Рако на примерегородов Кардифф и Шеффилд показывают, что междутрадиционным правительством и новым управлением гораздобольше преемственности, чем хочется думать сторонникам«тотально» децентрализованного горизонтальногогородского управления [см.: Imrie, Raco, 1999]. К
примеру, недостаток прозрачности столь же присущ новымформам управления, сколь он был присущ и прежним.
335 Приведем таблицы из работы Гудвина и Пэйнтера. Впервой (см. таблицу 2) использованы идеи и тезисы какиз выступлений управленцев, так и из академическихстатей. Гудвин и Пэйнтер с ее помощью пытаются оценитьразмер и характер воздействия на города, вызванногоразрушением фордистского типа регуляции.
335 В таблице 3 они конкретизируют эту задачу,формулируя исследовательские вопросы для изучениягородского управления. Особенно существенно, чтовопросы сформулированы так, чтобы оценить степень, вкакой протекающие изменения взаимодействуют друг сдругом и друг друга усиливают, Вместо абстрактногопостулирования «идеального» по- стфордистского типарегуляции географы призывают к глубокому качественномуи каузальному анализу ситуации в каждом городе.
335 Как видно из таблиц 2 и 3, исчезновениефордистского типа регуляции не единственный фактор,приводящий к поиску других принципов городскогоуправления. Невозможность продолжения фордистскогоуправления, в свою очередь, вызывается глобализацией.Правительства часто сами всячески поощряют соревнованиемежду городами за ресурсы, вызывая тем самым явление«нового локализма», когда местные власти готовы какугодно продвигать свои территории на национальном иглобальном рынках.
335 Если в рамках фордистского типа регуляциисоциальные льготы были связаны с правом каждогоиндивида на минимальные жизненные стандарты, то при«постфордизме» они увязаны с успешностью экономического
336 Таблица 2Новые тенденции в управлении городами в Англии
336 * Теория рынка дуального труда основана на разделенииэкономики на первичный и вторичный секторы, то есть секторы свысоко- и низкооплачиваемыми профессиями, что близко различениюформальной и неформальной экономики. Занятые во вторичном секто-ре — обычно временно нанятые люди, не имеющие перспектив карь-ерного роста, их зарплата определяется рыночной ситуацией. Сюдавходят низкоквалифицированные работники, вне зависимости оттого, заняты они физическим трудом, офисной работой илисервисом. Низкая квалификация, низкий заработок, отсутствиекакой-либо связи с опытом или образованием работника,временность работы — это то, что их всех объединяет.
337 Продолжение табл. 2
339 Таблица 3Новые тенденции в управлении городами в Англии и связанные с ними исследовательские вопросы
342 развития страны в целом и данного города вчастности.
342 Так что в разных городах складываются разныесистемы предоставления льгот в городах, которым«повезло», то есть экономические ресурсы которыхвостребованы мировой экономикой, у населения большешансов не страдать от дерегуляции. И наоборот: власти«депрессивных» городов часто оставлены на произволсудьбы центральными правительствами, потому что имнечего предложить национальной и тем более мировойэкономике. В то же время механизмы регуляции городскогоразвития, осуществляемые центральным правительством,по-разному воспринимаются и используются на местах.Неравномерность развития городов возрастает еще и поэтой причине.
342 В рамках фордистского типа регуляции государствобыло озабочено сокращением неравномерности развития:возводились новые города, утверждались стратегииразвития городов и инфраструктуры, ресурсыперераспределялись между регионами. Ему на сменуприходит иной подход: устранением наихудших последствийнеравномерного развития сегодня никто всерьез неозабочен. Города, повторим, должны соревноваться заполучение центральных ресурсов. А «центр» побуждаетгорода самостоятельно привлекать инвестиции, создаватьрабочие места — нередко за счет уровня жизни людей. Витоге система регулирования отличается крайнейгеографической неравномерностью.
Городская политика и глобализация342 Изменения, привнесенные в городскую политику
глобализацией, заключаются в усилении соревнованиямежду городами. На первый план поэтому выходит тот типгородского режима, что выделил еще один ключевойтеоретик городских режимов — Стюарт Элкин, —предпришшательский [см .-.Etkin, 1987].
342 Другие два выделенные им типа — федеральный иплюра- листский (см. отличный разбор типологии Элкина встатье343 В.Г. Ледяева [Педяев, 2006:6—8]).
343 Возможности установления прочных связей сглобальной экономикой лежат на пути усилениянеолиберальной линии политики, и прежде всего — резкогосокращения социальной политики и ускорения приватиза-ции, Национальные и местные особенности охоты заглобальным капиталом могут различаться, значит, будетотличаться и характер влияния глобализации на тот илииной город.
Степень участия российских городов в соревновании замеждународные и федеральные ресурсы, понятно, разная,но в любом случае экономическое пространство, в которомони сегодня обитают, сильно изменилось. Когда решается,в каком городе пройдет следующая встреча, скажем,
Шанхайской организации сотрудничества, когда менеджментеще одного автомобильного гиганта прикидывает, гдеименно в России возвести завод, когда очереднойевропейский банк затевает открытие здесь своихфилиалов, когда ведутся переговоры между агентамисовершающей мировой тур поп-звезды и российскимиорганизаторами гастролей — в подобных и множестве дру-гих ситуаций такие метафоры, как соревнование городовили поиск ими своей ниши на международном рынке, весьманасущны. Капитал может прийти в этот город, а можетприйти и совсем в другой: каждый знает, что если уж чтосегодня и отличается безграничной мобильностью, так этоименно капитал. Чтобы его взор остановился на этом, ане на другом городе, недостаточно усилий толькогородских властей. Они могут понимать, что без развитойинфраструктуры, налоговых послаблений, проработанногозаконодательства деньги в город не придут, но понимаюти другое: для увеличения собственной привлекательностинужны, как у нас говорят, дополнительные средства,которые городская экономика сгенерировать не может.Помимо изощренного лоббирования наверху, которое можнотакже понимать как соревнование за выгодное положение впространственном разделении труда в рамках страны, идетеще пресловутая борьба за потребителя.
343 Зарубежные инвесторы, во-первых, своеправительство с федеральными ре-344-сурсами, во-вторых,и потребители, в-третьих, — вот три источника исоставные части состоятельной городской экономики, закоторые постоянно приходится конкурировать.
344 Значимость символической составляющей мировогокапитала проявляется на уровне городов в том, чтосредства, добытые в сражениях на всех трех фронтах,нередко направляются на проекты, призванные «поднятьпрестиж». Чей престиж реально поднимают разнообразныевысотные здания, фестивали, чемпионаты, конференцииполитических партий - остается для многих большимвопросом. Гигантизм, которым были одержимы управленцы и
идеологи советских времен, — проклятие временпостсоветских.
Иной глава города сегодня перечисляет строящиесяотели, консульства и представительства западныхкомпаний с теми же интонациями и гордостью, с какимиего предшественник (а подчас и он сам) рапортовал отоннах стали и проката. Но понятийная рамка, в которойего речи циркулируют, существенно поменялась; речь ужене идет о народном хозяйстве великой страны. Речь идето мировом рынке, в котором город обоснованно надеетсязанять подходящую нишу. Город — в лице городскихвластей — поэтому занимается «маркетингом» самого себякак товара, на который стоит потратиться, вложив в негосредства (см. об этом главу «Город и глобализация»).Рассуждения о городе как компании и бренде сегоднявесьма и весьма многочисленны: «Каждый город можносравнить с компанией, которая более или менее успешнопродвигает свои услуги потребителям. По мнениюбизнесменов, принявших участие в Экономическом советеНовосибирска, город пока не вполне преуспел вразработке и внедрении маркетинговой стратегии. Этоприводит к отставанию в сфере девелопмента ипривлечения инвестиций» [Ермолаева, 2006].
344 Воздействие глобализации на развитие городовимеет серьезные социальные последствия.
344 Привычные нам по теоретическим работам выражения«утверждение демократии на местах», «местноесамоуправление» и так далее сами по себе сего-345-днястановятся проблематичными.
345 Английский специалист по гражданскому участию вгородской политике Вивьен Лаундис говорит, чтотрадиционно именно «на местах» люди вступали в контактс политиками или служащими муниципалитетов, получалильготы и являлись членами сообществ [см.: Lowndes,1995]. Само понятие гражданства (по крайней мере, взападных странах) было тесно связано с членствомчеловека в местном сообществе и его идентификацией сним. Политическое участие тоже осуществлялось на
местном уровне. Что же меняется сегодня? Понятиеместного используется разными политическими (частонеместными) силами с противоречивыми цепями. О местномсамоуправлении и необходимости его развития говорятсегодня представители Всемирного банка, ООН, Государ-ственного агентства США по международному развитию. Этопонятие используется для легитимации центральной властии оправдания неолиберальной политики, для оправданиястатус- кво и кооптации «гибких» местных лидеров.Городской режим должен потому стать двустороннимуправляющим органом — посредником между государством,национальными и международными организациями, с однойстороны, и местными жителями и организациями — сдругой. И это городской режим может определять степеньи характер взаимодействия горожан с «глобальнымобществом», тем более что пока еще не ясно, спо-собствует ли глобализация распространению демократичес-ких ценностей или, напротив, поощряет более жесткуюрегуляцию жизни людей правительствами.
345 Реакция городских правительств на процессыглобализации описана рядом исследователей (ЭрикСуингеду, Боб Джессоп) как новый локализм.
345 Предпринимательский городской режим, как явствуетиз его названия, выводит предпринимательскуюдеятельность городских партнерств на первый план,подчиняя себе остальные стороны их политики:экономическая логика подчиняет себе политическуюлогику.
345 Создание и увеличение городских активов мыслитсякак самый надежный путь включения горо-346-да вмеждународное разделение труда.
346 Растут альянсы мэров, муниципалитетов,владельцев недвижимости и иного динамичного бизнеса,представляя собой коалиции роста. При этом иэлитистские теории, и теории городских режимов, ка-жется, одинаково хорошо описывают происходящее: частоодновременно действуют и харизматичный мэр или политик,собравший под своим руководством сплоченную команду, и
несколько «кластеров власти», контролирующих различныесферы городской жизни. Кооперация официальных и неофи-циальных властителей оказывается жизненно необходимой,для того чтобы развитие города было динамичным и чтобыбыло можно продвигать город как создающий благоприятныйклимат для бизнеса и торговли. «Новый локализм»проявляется в том, что почти каждый город хочетзанимать заметное место на карте глобализации, а потомупечатает рекламные брошюры и постеры, создает веб-сайты, пестрящие фотографиями гостиниц, конференционныхцентров, аэропортов. На эти фотографии никогда непопадают промзоны и спальные районы, районные больницыи старые автобусы.
346 Городские власти избирательно манипулируютсимволическими ресурсами, занимаясь имиджинирингам(imaginee- ring). Этот термин придумал американскийгеограф Чарльз Рутгейзер в книге о том, как городскиевласти Атланты «продавали» город в канун и во времяОлимпийских игр 1996 года [см: Rutheiser, 1996].Городской Олимпийский комитет и ряд частных компанийпровозгласили Атланту «городом мирового класса»,«мировой столицей прав человека» и «городом, которыйслишком занят, чтобы поощрять ненависть» [Ibid.-. 227—231]. Критики участия Атланты в соревновании за правостать городом Олимпиады обвинялись в недостатке духакооперации. Мэр города обвинял критиков в том, что онихотят слишком многого, настаивая на продуманнойсоциальной политике властей.
346 Рутгейзер показал, что проведение Олимпиады вАтланте усилило социальные проблемы, углубилосуществующий разрыв между белыми и черными, богатыми ибедными.
347 Городские активисты пытались убедить власти«показать человеческое лицо города» во время Олимпиады,построив достаточное число приютов для бездомных ипридумав, куда деть людей из перестраиваемых районов. Осоциальной цене проведенного в городе события говоряттакие цифры: 15 тыс. человек были выселены из жилых
районов, 9,5 тыс. доступных квартир было потеряно, 350млн долл. из городского бюджета вместо социальных нуждбыли направлены на нужды Олимпиады. Так что понятияолимпийского духа, космополитизма, нового слова встроительстве городов и так далее, которыми авторыпропагандистских брошюр о&ьяатяли, почему Олимпиадастоль важна для городского развития, только закрывалиот глаз мира реальные городские проблемы.
347 Маркетинг мест городскими властями сопровождаетсястроительством новых городских кварталов и зданий —эмблем, свидетельствующих о передовых взглядах властейи инновационном потенциале городов. Названия этихкварталов и зданий синекдохически становятсявоплощением глобальных амбиций властей, будь этопарижский Ла-Дефанс, лондонский Кэнери-Уорф илиБэттери-Парк в Нью-Йорке.
Городские социальные движения347 Обсуждая городскую политику «снизу», мы опять
сталкиваемся с вопросом, как отделить именно городскиедвижения от тех, что носят более широкий смысл, Кпримеру, многим памятно движение за гражданские права1960-хгодоввСШАи Европе. Этнические и сексуальныеменьшинства, женщины и иммигранты — многие, преждеслабо представленные в публичной сфере социальныегруппы именно тогда заговорили в полный голос.
347 Как связаны эти движения и города? 347 Тогда городские улицы и общественное пространство
городов стали местом массовых протестов. 347 Улицы европейских и американских городов и прежде
были свидетелями протестов, но 1960-е годы348 вывели на арену общественного внимания новыхсубъектов политики.
348 Ими стали сквоттеры, занимавшие заброшенные дома,участники союзов жильцов и забастовок против повышенияарендной платы, «отвоевывавшие улицы» феминистки, бо-ровшиеся против расовой сегрегации афроамериканцы.
348 Вдохновение и надежда людей в ту пору былинастолько велики, что это не могло не отразиться и вурбанистических книгах. Французский неомарксист АнриЛефевр провозгласил право на город. Каждая социальнаягруппа имеет право включиться в процесс принятиярешений, связанных с организацией социальногопространства. Право на город — это право не бытьисключенным из общественного пространства городскогоцентра либо жилых районов. Лефевр протестует противспособов, какими профессионалы-планировщики и городскиебюрократы создают городское пространство с тем, чтобысвести к минимуму спонтанные политические действия инейтрализовать возможное сопротивление (см.: Lefebvre,1996,1-е фр. изд. — 1968). Испано-американский социологМануэль Кас- тельс, сам принимавший участие вофранцузских волнениях 1968 года и высланный за это изстраны, написал книгу «Город и массовое движение». Онпопытался сконструировать теорию городских социальныхдвижений как часть теории изменения города [см.:Castells, 1983]. Город складывается и изменяется в силуконфликта различных социальных групп (классовых, эт-нических, гендерных). Кастельс понимал городские соци-альные движения как сильные межклассовые союзы, возник-шие вокруг проблем коллективного потребления городскихресурсов. Они всегда, считает Кастельс, являлисьисточником складывания формы и структуры города, но вовторой половине XX века это влияние стало особеннозначимым. Основываясь на вторичных источниках, Кастельсрассматривает многочисленные случаи городскойсоциальной борьбы — от роли городов в кризисеИспанского государства в XVI веке до городских волнений1960-х годов в США.
348 Кастельс описывает борьбу за доступное жилье идеятельность профсоюзов в Па-349-риже, движениясквоттеров в Перу, Мексике и Чили, местные сообществаИспании.
349 Как он пишет, его целью была не разработкакакой-то универсальной теоретической рамки, но «на-
хождение источников исторических структур и городскихсмыслов... чтобы вскрыть сложные механизмывзаимодействия между различными и конфликтующимиисточниками воспроизводства и изменения города»[Castells, 1983: 835].
349 Ценность этой книги, на мой взгляд, вдемонстрации сложных взаимосвязей между сознательнымидействиями людей, стихийными проявлениями недовольстваи ограничениями, которые на них накладываютсуществующие структуры, а также в невозможностисоздания универсальной теории, которая подытожила быпричинные связи урбанизации.
349 Книга Кастельса важна еще и тем, что существеннокорректирует героические образы городского активизма —от Гавро- ша В. Гюго и Стены коммунаров до кадровтелевизионных новостей, показывающих многолюдныедемонстрации на улицах европейских городов. Кастельсговорит, что ни разу, несмотря на некоторый успех,участникам движений не удалось добиться своих целей.Дело в том, считает он, что битва низов тогда выиграна,когда задеты интересы правящего класса. Что же, какправило, происходит в истории? Забастовка в Глазго 1915года, когда рабочие протестовали против низких зарплати высоких цен на жилье, закончилась тем, чтогосударство объявило о жилищной реформе. Трудящиесямассы вроде бы выиграли, но и правящий класс непострадал [см.: Ibid.-. 37]. Подобным же образом итогомволнений в США в 19б0-е годы стала разработкаредистрибутивных федеральных программ, увеличение со-циальных льгот. С другой стороны, в лексикон полициивошло выражение «максимально возможное числоучастников», обозначающее степень активности местногосообщества в ответ на призывы движения борьбы загражданские права.
349 Кастельс отмечает, что социальные реформы былиэпизодическими, часто ограничиваясь теми регионами, гдеволнения были особенно сильными, что в итоге этихволнений политический
350 климат Америки стал еще более консервативным, чемдо них.
350 В других случаях, как например, волнения в Сан-Франциско, в Мишн-Дистрикт, неуспех движения былобусловлен неспособностью его главных участников —геев, латиноамериканских иммигрантов и бездомных —договориться об общих целях.
350 Английский урбанист Кристофер Пикванс разработалтипологию городских социальных движений, основанную напредмете борьбы горожан [см.: Pickvance, 1985]. Онвыделил четыре таких предмета оспаривания: 1) выделениежилья и услуг, 2) доступ к жилью и услугам; 3) контрольи управление городской средой; 4) социальные иэкологические угрозы. Понятно, что участникисоответствующих движений могут пересекаться. Онпредупреждает о возможности манипуляции идеямисоциальной справедливости со стороны различныхполитических сил и допускает возможность альянса междуактивистами низовых движений и политическими партиями.Пикванс также предлагает свою версию ответа наприведенный выше вопрос о том, когда же социальныедвижения делаются именно городскими. С его точкизрения, должны, во-первых, иметь место именно местныеполитические движения; во-вторых, участники движенийдолжны жить недалеко друг от друга; в-третьих (этоткритерий сформулировал Кастельс), должен подниматьсявопрос коллективного потребления благ городской жизни(транспорта, жилья, здравоохранения и так далее). Врядли это удовлетворительные критерии. Другая имеющаяся наэтот счет литература убеждает, что здесь, как и вдругих вопросах, которыми задается урбанистика, нуженанализ конкретных случаев, объясняющий, почему именно вэтих местах с такой-то конфигурацией политических иэкономических тенденций возникли конфликты. Частопроисходят конфликты между планировщиками идевелоперами, с одной стороны, и активистами местныхсообществ, которые выступают против новых масштабныхпроектов, — с другой.
350 Не менее часты конфликты между владельцамиквартирных комплексов и их жильцами по поводу повышенияарендной платы.
351 Однако все чаще и чаще приходится задумываться отом, как в сегодняшнем разобщенном мире, где неосталось, кажется, никаких коллективов — ни на работе,ни по месту жительства, — можно вообще помыслитьцеленаправленную деятельность местных сообществ?
351 Американо-канадские социальные теоретики игородские политические активисты (они называют себяорганизаторами мест] )ых сообществ) Кэтрин Черч и ЭрикШрагге описывают различные коалиции политиков, группинтересов и местных сообществ, сложившиеся в Канаде иАмерике начиная с 19б0-х годов [см.: Learning...,2008], В частности, они рассматривают партнерства,практикующие так называемый социальный маркетинг, тоесть использование частного сектора для продвижениядеятельности местных сообществ. Они демонстрируют тутенденцию, что само функционирование организаций поместу' жительства нередко зависит от государственнойподдержки. Так, в 1993 году американское правительствосоздало программу «Зона возможностей» (EmpowermentZone), нацеленную на развитие ресурсов местныхсообществ и сокращение бедности.
351 У программы четыре элемента: 1) географическиопределенная цель — сообщество; 2) основанное на данномсообществе стратегическое планирование; 3) участиесообщества в управлении программой; 4) всестороннееразвитие сообщества (то есть развитие физическойинфраструктуры района, экономики и человеческихресурсов). Таким образом было частично компенсированоисчезновение масштабных социальных программ из повесткидня федерального правительства (таких, как жилищнаяреформа или реформа здравоохранения). Вместо этогосообщество, как ожидается, само должно нести ответ-ственность за собственное возрождение — с помощьюосуществляемых на местах программ центральногоправительства. Так, развернута кампания по
экономическому развитию местных сообществ (CED —community economic development).
351 Ее цель — сократить уровень бедности черезобучение, переобучение и создание рабочих мест,поддержку мелкого бизнеса, на-352-нимающего долгоевремя остающихся без работы жителей, кредиты на поддержание местных инициатив.
352 Опыт ее участников показывает, что в конечномсчете инвестиции определяются интересами рынка, понарастающей становящегося международным, а потому тех,кто принимает соответствующие решения о развитиитерритории данного города или района, мало заботит то,как эти решения отзовутся «на местах». «Идеологическая»же сложность состоит в том, что участники кампаниипонимают: государство, по сути, перекладываетответственность за социальное обеспечение невписавшихся в новую экономику людей на их же плечи,призывая обитателей бедных кварталов статьпредпринимателями и обеспечить себя пристойным жильем ивсем прочим. Но ряд инициатив, предполагающихпартнерство работодателей, правительства и обездоленныхлюдей, все же выглядят очень вдохновляющими.
352 Они были исследованы канадской сетьюисследователей и активистов местных сообществ (NALL),вместе работающих в рамках сорока проектов понеформальному обучению людей, вытесненных с рынкатруда, в организациях местных сообществ (к примеру,людей, прошедших лечение в психиатрических лечебницах,или людей, работающих на дому). Кэтрин Черч вьщелаеттри вида такого обучения. Первое обучение —«организационное», то есть знакомство со способами,какими местные организации позиционируют себя в рамкахпредпринимательской культуры, придумывают программы,одновременно способные получить финансовую поддержку инацеленные на социальную и экономическуюсправедливость. Проходящие такое обучение активистыучатся специфическому жаргону, используемому всовременных спонсорских организациях, где вместо
старого выражения «защита интересов обездоленных черезобучение» предпочитают слышать «общественноеобразование» и так далее. Второе — «обучение соли-дарности». Все подобные организации обучают участниковтому, как найти свою нишу на рынке труда или создатьдля себя альтернативный рынок.
352 Солидарность проявляется на ветре-353-чах, гдевремя от времени собирают (обычно изолированных)участников программ: те сами делятся друг с другомопытом, как более эффективно вести переговоры сработодателями.
353 Третий вид обучения — «самопереопределение»,связанное с овладением новыми навыками, а значит, ивозможностями, которые оно открывает на рынке труда.Черч анализирует новые возможности местных организацийпо посредничеству между правительством и мелкимбизнесом и показывает, насколько эти организацииуязвимы в силу их зависимости от правительственногофинансирования и в целом включенности в сложную ипротиворечивую систему зависимостей: финансовой (отправительства) и социально-моральной (от членов местныхсообществ).
353 Этот анализ позволяет нам сформулировать главныйитог рассмотрения современной городской политики иуправления: они имеют место, но испытываютбеспрецедентное влияние внешних сил.
Арпишкин /О, Перестройка В. Лужков. Семьдесят лет. Культурныйгерой Москвы и ее властитель // Моск. новости. 2006. № 35[Электрон ресурс}. URL http://www.mn,m/print.php?2006—35—3
Глазынев ВЛ, Провинциальная Россия. М.: Нов. иэд-во, 2003,Ермолаева Е. Город как компания // Газета «Континент Сибирь»,2006. 5 мая [Электрон, ресурс]. URLhttp :// com . sibpress . ru /05.05.2006/ realty/76611/
Ледяев ВТ. Кто правит? Дискуссия вокруг концепции властиРоберта Даля // Социол. журн. 2002. № 3, С. 31—68.
Ледяев ВТ. Модели эмпирического исследования власти: западныйопыт // Власть и элиты в российской трансформации: Сб. науч. ст./ Под ред АВ. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2005. С 65—79-Ледяев ВГ. Эмпирическая социология власти: теория «машин рос-та» // Власть, государство и элиты в современном обществе / Под
ред. АВ, Дуки и В.П, Мохова. Пермь: Перм. гос. технол. ун-т,2005. С 5—23- Ледяев ВГ. Социология власти: теория городскихполитических режимов // Социол. журн. 2006. № 3—4. С. 46—68.
Ледяев ВТЛедяева ОМ. Позиционный метод в эмпирических ис-следованиях власти в городских общностях // Элитизм в России: заипротив / Под общ. ред. В.П. Мохова. Пермь: Перм. гос. технол.ун-т, 2002. С. 134-140.
Ледяев ВТ^Ледяева ОМ. Репутационный метод в эмпирическихисследованиях власти в городских общностях // Журн. социологии исоциальной антропологии. 2002. № 4- С. 164—177.
Babracb Р, Baratz М. Two Faces of Power // American PoliticalScience Review. 1962. № 56. P. 947—952.
BanfteldE. Political Influence. Glencoe Free Press, 1961.CastellsM. The City and the Grassroots: A Cross-Cultura)
Theory of Urban Social Movements Berkeley: University ofCalifornia Press, 1983-
Cockbum C. The Local State. L: Pluto Press, 1977.Crenson MA. The Unpolitics of Air Pollution: a Study of Non-
Decision Making in the Cities. Baltimore: Johns HopkinsUniversity Press, 1971.
Dabl R- Who Governs? Democracy and Power in an American City.New Haven: Yale University Press, 1961.
Elkin S. City and Regime in the American Republic. Chicago:University of Chicago Press, 1987.
Enduring Tensions in Urban Politics / Ed. D. Judd, P. Kantor,N.Y.: Macmillan Publishing Company, 1992.
FermcmB. Challenging the Growth Machine: Neighborhood Politicsin Chicago and Pittsburgh. Lawrence: University Press of Kansas,1996.
Goodwin M, Painter J. Local Governance, the Crises of Fordism,and the Changing Geographies of Regulation // Transactions ofthe Institute of British Geographers. 1996 Vol, 21, № 4. P 635-648.
Hunter F. Community Power Structure.- A Study of DecisionMakers. Chapel Hill: The University of North Carolina Press,1953-
ImrieR, RacoM. How New is the New Local Governance? Lessonsfrom the United Kingdom //Transactions of the Institute ofBritish Geographers. New Series. 1999- № 24. P. 45—64.
Lawrence BF. Challenging the Growth Machine: NeighborhoodPolitics in Chicago and Pittsburgh. Lawrence: University Pressof Kansas, 1996.
Learning Through Community: Exploring Participatory Practices/ Ed. K. Church, N. Bascia, E. Shragge. Dordrecht: Springer,2008.
Lefebvre H. The Production of Space / Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford Blackwell, 1991.
Lefebvre H. Writing on Cities. Cambridge: Blackwell, 1996.Logan]Rn Molotch HR. Urban Fortunes: The Political Economy of
Place. Berkeley: University of California Press, 1987.Lowndes V. Citizenship and Urban Politics // Theories of Urban
Politics / Ed. by D. Judge, G. Stoker, H. Wolman. L: Sage, 1995.E 160—180.
Lynd R, Lynd H. Middletown: A Study in Contemporary AmericanCulture. N.Y.: Harcourt, Brace, and Company, 1929
Lynd R, Lytul И. Middle [own in Transition. A Study inCultural Conflicts. N.Y.: Harcourt, Brace, and Company, 1937.
MolotchHR. The City as a Growth Machine: Toward a PoliticalEconomy of Place//American Journal of Sociology. 1976. Vol. 82,№ 2. P. 309—355. PablR Whose City? Harmondsworth: Penguin, 1975.Peterson P. City Limits. Chicago: University of Chicago Press,1981. Pickvance C. The Rise and Fall or Urban Movements and theRole of Comparative Analysis // Environment and Planning D.Society and Space. 1985. № 3.P. 31—53-
Polsby N.W, Community Power and Political Theory. 2nd cd. NewHaven; Yale University Press, 1980.
Rutbeiser Cb. Imagineering Atlanta. The Politics of Place inthe City of Dreams. L; N.Y.: Verso, 1996.
Stone C. Regime Politics: Governing Atlanta 1946—1988.Lawrence: University Press of Kansas, 1989.
356-402 Гл 8 Социальные и культурные различия в городеТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 8
Социальные и культурные различия в городе356 Ключевая идея теорий, имеющих дело с городскими
различиями, в том, что различия не только создаютсягородской жизнью, но и сами создают город Отсюдамногочисленные характеристики города как места встречис «другими», как места, где городской обитатель всегда— в присутствии тех, кто на него не похож Не случайнометрополисы в США и Европе издавна сравниваются с ги-гантскими машинами либо обслуживающими механизмами,плавильными тиглями и системами очистки, тюрьмами иубежищами. Во всех этих случаях город воображается вкачестве микрокосма всего общества, содержащего все егоразнообразные элементы и удерживающего их вместе вдинамическом равновесии. С XVIII века городуприписывалась магия, особая химия его функционирования,когда различные социальные элементы (классы иэтнические группы) превращаются в новую городскуюпублику и когда создается общая космополитическаякультура.
356 Переживание города его обитателем включаетопыт столкновения, пусть мимолетного, с людьми, отли-чающимися от него расово, этнически, классово и такдалее. Интенсивность городской жизни образует и то, чтолюди с ограниченными возможностями, пожилые люди, людиразличных сексуальных ориентаций — словом, все«отличающиеся» люди не только резонно считают городсвоим, но и хотят, чтобы с их нуждами считались.
356 Вопрос о том, «что делать» с го-357-родскимразнообразием, издавна входил в число забот плани-ровщиков, политиков, интеллектуалов.
357 Разнообразие мыслится как такая характеристикагорода, которая увеличивает его функциональность.Многосторонность обитателей города — предпосылканаивысших человеческих достижений, не случайнотеоретики ратуют за приоритет разнообразия впланировании городов, настаивая на том, чтобыпроектируемое городское пространство поощрялоежедневное смешение людей, социальных групп, практик.
357 Мы вначале рассмотрим издавна сложившиеся взглядына различия, затем подытожим литературу о городскомразнообразии, вышедшую в период массового переезда впригороды, обратимся к обсуждению миграции в города иразберем литературу о социальном неравенстве.
Чарльз Бут — один из первых исследователей городскихразличий
357 В работе «Жизнь и труд жителей Лондона» Бутвыделил части города, населенные разными социальнымислоями [см.: Booth, 1969: 3]. Чтобы сделать своивыкладки наглядными, он создал карту Лондона, в которойиспользовал семицветный код Черным обозначались люди,находящиеся на социальном дне. «Очень бедные» былиобозначены синим. «Смешанное население» — темно-красным, «весьма благополучные» — розовым, «среднийкласс» — красным и «богатый высший класс» - желтым.Главная переменная, которую Бут использовал для выде-ления районов, — процент бедных. Бут не чурался иморальной стигматизации низших классов, именуязакрашенные черным районы «порочными и склонными кпреступлениям».
357 Картографирование, к которому он прибег,воспроизводило практику создания карт колоний Англии вАзии и Африке, создававшихся для эффективногоуправления этими пространствами.
358 Реформаторы начала XX века питали иллюзию, что сбыстрыми ростом и социальным расслоением европейскихгородов можно справиться, если точно представлять себе,кто и где живет. Картографирование социальных икультурных различий с тех пор стало постояннойпрактикой урбанистов.
Многочисленное разнообразие: Луис Уирт и Аристотель358 Как разнообразие понималось в классических
теориях? Для них, напомним, было характерно стремлениепостроить универсальную модель города. Классикчикагской школы Луис Уирт предложил для такой модели
три переменные: а) размер населения; б) плотностьзаселения; в) разнородность обитателей и групп. Такимобразом, сосуществование в городе различных людей исоциальных групп — это константа урбанизма. Тезис онепрерывности генеалогии городов, заметим, воспро-изводится и в послевоенной урбанистике вплоть досегодняшнего дня. Любой город, стало быть, подпадаетпод сформулированное Уиртом «минимальное» определение:относительно большое, постоянное и плотно заселенноепоселение социально разнородных индивидов.
358 Свою теорию урбанизма Луис Уирт начинает сотсылки к античному мыслителю: «Со времен "Политики"Аристотеля признано, что увеличение числа обитателейпоселения свыше определенного предела повлияет наотношения между ними и на характер города. Большиечисла предполагают, как подчеркивается, больший размахиндивидуальных вариаций. Далее, чем больше числоиндивидов, участвующих в процессе взаимодействия, темзначительнее потенциальные различия между ними» \Wirth,1996: 99].
358 Апелляция к Аристотелю не случайна: социологнацелен на удержание универсального смысла города, какон сложился во времена расцвета Афин.
358 Полис — город-государство — особая359-360 форма социально-экономической и политической организации общества, по видимости, привлекал Уирта нерасторжимостью социального порядка и географического пространства.
359 360 Остановимся на «Политике» Аристотеля и вкратце
сравним универсалистское видение города, присущее томуи другому мыслителю. Логика, которую инициировалАристотель, состоит в том, что город создаетсяправителями в соответствии с рядом параметров.Государственный деятель сравнивается с ткачом иликораблестроителем: лучше материал — достойнеерезультат. Поскольку материал законодателя —«совокупность граждан», то вопросы о том, «как великодолжно быть их количество и какие они должны иметьприродные качества» [Аристотель, 1984: Pol, VII, 4,1326а, 5], приобретают первостепенную важность. «Мера»— вот чем руководствуется Аристотель, отвергаякрайности малочисленности и перенаселенности. Идеальныйразмер проектируемого сообщества задан критериямислышимости (голос глашатая должны слышать все) и знаниягражданами друг друга (чтобы должности доставалисьдостойным).
360 Что же получается, если городское населениеразрастается сверх этой меры? Ничего хорошего. Городоказывается не в состоянии выполнять сюи функции, аправа гражданства присваиваются «иноземцами иметеками», затерявшимися в избыточном населении.Вообще, современного читателя по мере чтения Аристотеляпо нарастающей преследует призрак фу- кольдианскогоПаноптикума — «легкую обозримость» населения вводитмыслитель в качестве предела для разрастания го-
сударства, простодушно поясняя: «Пребывание на глазах удолжностных лиц особенно внушает истинный стыд и страх,свойственный свободным людям» [Ibid.: Pol., VII, 11,1331а, 40]. ГЬродское пространство организовано строгоиерархически. Пространственную и ценностную вершинуиерархии образуют «удобно объединенные» здания «длякульта и здания для сисситий главнейших должностныхлиц».
360 Эти здания должны иметь подобающий,соответствующий их назначению вид и361 быть «более укрепленными сравнительно с соседнимичастями города» (Аристотель, 1984: VII, 11,1331а, 35).
361 Ниже следует «свободная площадь», свободная в томсмысле, что торговля на ней запрещена и «ниремесленники, ни землепашцы, ни кто- либо иной изподобного рода людей не имеет права ступать на нее,если его не вызывают должностные лица».
«Политика» — locus classicus аргумента о том, чтополис, который «по природе предшествует каждомучеловеку» (Pol,, 1,9, 1253а, 25), — воплощение иусловие совокупного усилия по созданию всего, в чемнуждаются люди. Полис представлял, во- первых, единуюполитическую систему, энергия которой концентрироваласьв пределах городских стен, и, во-вторых, экономическуюконструкцию, позволяющую соединять ресурсы, необходимыедля под держания и улучшения жизни. Существуя как частьсложной международной системы городов-государств, полисдолжен был отражать угрозу как извне, так и изнутри. В«Политике» Аристотель делает набросок своей гео-политики, согласно которой великая Греция призванавластвовать над негреческими народами, и формулируетрасистское оправдание рабства: по природе для грековплохо быть порабощенными, и по природе же греки могутпорабощать кого угодно: «...одни люди повсюду рабы,другие нигде таковыми не бывают» (Pol., 1,18,1255а,30). В то же время «Политика» написана в полнойуверенности в существовании того, что Макс Веберназывал нравственно ориентированным космосом — миром,
воплощающим или по крайней мере стремящимся квоплощению блага. В «Политике» сквозит такжеуверенность в том, что если в материальной формеантичного полиса целостно сконцентрировано все ценное,произведенное и придуманное людьми, то как таковой онсуществует «ради достижения благой жизни» (Pol., I, 8,1253а, 30).
361 Уирт, следуя «системному» видению Аристотеля,когда обсуждается возможность равновесия междуключевыми компонентами города, далек как отаристотелевского натурализма, так и от этическойуверенности античного мыслителя в прин-362-ципиальнойориентированности социальной реальности на добро.
362 Классик чикагской школы, стремясь к систематиче-скому представлению имеющегося знания о городе каксоциальном образовании, прагматически интересовалсятем, что лежит в основе экономики и культуры города,«элементами урбанизма, отличающими его как типколлективной жизни». Аристотель активно соединял толькопервую и третью характеристики города — размер иразнородность: «...в состав государства не тольковходят отдельные многочисленные люди, но они еще иразличаются между собой по своим качествам (eidei),ведь элементы, образующие государство, не могут бытьодинаковы» (Pol., II, 4,1261а, 25).
362 Противопоставляя полис союзам — военному иплеменному, - мыслитель убежден: «То, из чегосоставляется единство, заключает в себе различие по ка-честву» (Pol,, II, 4, 126la, 30). И в другом месте:«Невозможно всем гражданам быть одинаковыми» (Pol, III,2, 1277а, 40).
362 Различия горожан, значимые для Аристотеля, носятпрежде всего экономический характер («отличия,обусловливаемые богатством»): «...одни семьи, конечно,бывают состоятельными, другие -- бедными, третьи имеютсредний достаток» (Pol, III, 1, 1289b, 30— 35),«знатные в свою очередь различаются по богатству,благородству происхождения, добродетели, образованию и
тому подобным отличительным признакам» (Pol., IV,1,1291b, 30). Различия, на которых концентрируетсяУирт, — те, что, напротив, ломают жесткие кастовыеделения, усложняют имеющуюся классовую структуру,порождая в итоге куда более сложную систему социальнойстратификации, нежели та, что имелась в ранних типахобщества.
362 «Упорядоченная и связная теоретическая рамка, скоторой могло бы начаться исследование» — это то, чемозабочен Уирт. Стратегия ее создания — датьисследователю возможность анализироватьмногосторонность урбанизма сквозь призму небольшогочисла аналитических категорий.
362 Аристотель тоже отдает себе отчет в теоретическойприроде своего анализа, упоминая о «проектируемом» имгосудар-363-стве (см.: Pol, VII, 8,1329а, 40).
363 Этому, на первый взгляд, противоречитдетальнейшее перечисление в VII книге «нормативов»,выполнение которых необходимо для жизни «здорового» го-рода — от центрального положения города по отношению кокружающей его территории и его близости к морю, отобращенности города к востоку и налаживанияводоснабжения так, чтобы питьевая вода была отделена отпрочей, до совмещения в планировке города прямого(полезного для жителей) расположения улиц с запутанным(дезориентирующим врага) и заботы о городских стенах.
363 В то же время Аристотель, кажется, осведомлен оспецифической природе нормативности как таковой,заключая свой перечень требований таким образом: «Всеэто нетрудно придумать, но труднее выполнить на деле:слова — результат благих пожеланий, их осуществление —дело удачи» (Pol., VII, 9, 1331b, 20).
363 Социальные различия мыслятся Аристотелем какпомеха нормальному развитию полиса: «Разноплеменностьнаселения, пока она не сгладится, также служитисточником неурядиц: государство ведь образуется не изслучайной массы людей, а потому для его образованиянужно известное время. Поэтому в большей части случаев
те, кто принял к себе чужих при основании государстваили позднее, испытывали внутренние распри» (Pol, V, 2,1303а, 30).
363 Перечисляя и территориальные препятствия единствугосударства, он все же именно экономические различиясчитает причиной «распрей»: «И подобно тому, как навойне переправы через рвы, хотя бы и очень небольшие,расстраивают фаланги, так, по-видимому, и всякого родаразличие влечет за собой раздоры. Быть может, сильнеевсего раздоры эти обусловливаются различием междудобродетелью и порочностью, затем между богатством ибедностью» (Pol., V, 2, 1303b, 15).
363 Если мы вспомним, что «масса, состоящая изремесленников, торговцев, поденщиков, не имеет ничегообщего с добродетелью» (Pol., VI, 2, 1318а), тонемудрено, что полис зарезервирован мыслителем для«порядочных и знатных».
363 Каким же364 образом три параметра урбанизма — плотность,величина населения и разнообразие — переосмысляютсяЛуисом Уиртом?
364 Если Аристотель противопоставляет свойидеальный город другим городам — Кирену, Сикиону,Коринфу, Сиракузам, то Уирт строит другоепротивопоставление: город — деревня. Это различениебыло одним из основных для многих социальных теоретиковXIX и XX веков при конкретизации более общей оппозициимодерность — домсдерность. Знаменитое различениеФердинанда Тённиса «общества» и «сообщества» получилоразвитие в трех оппозициях: во-первых, в различенииособых типов человеческих отношений: межличностных ивнелично- стных; во-вторых, в различении типовпоселений; деревенское и городское и, в-третьих, вразличении типов общества: традиционное и модерное-Уирт следует концептуальной стратегии Тенниса,состоящей в том, чтобы сделать эти различения мак-симально свободными от каких-либо эмпирических корре-лятов, и рисует картину отношений людей, характерных
для любого города в их противопоставленности деревне:«Социальное взаимодействие столь разных типов личностив городском окружении ломает жесткость кастовых линий иусложняет классовую структуру, создавая болееразветвленную и измененную сеть социальнойстратификации, нежели та, что присуща более сплоченнымобществам. Повышенная мобильность индивида,увеличивающая диапазон стимулов со стороны большогочисла разных людей и подвергающая его статус колебаниямв разных социальных группах, образующих социальнуюструктуру города, ведет к приятию им нестабильности инебезопасности в мире в качестве нормы. Этот факт такжеобъясняет искушенность и космополитизм городскогообитателя. Он не привержен всецело ни одной группе.
364 Группы, с которыми он связан, организованыотнюдь не иерархически.
364 Различные интересы, обусловленные различнымиаспектами социальной жизни, делают индивида членомсильно различающихся групп, каждая из которых можетпретендовать лишь365 на какую-то одну сторону его личности.
365 Эти группы сложно расположить в видеконцентрических кругов так, чтобы узкие группы были быокружены более широкими, как в деревенских сообществахили в примитивных обществах. Скорее, эти группырасположены по касательной или пересекаются самымиразными способами» \Wirth, 1996:101].
365 Уирт, следуя линиям мысли, намеченным до негоЗиммелем и Парком, настаивает на деперсонализации ичастичности городского индивидуального существования,что сопровождается поверхностностью большинствасоциальных интеракций, их соединенностью с какой-тоодной частью жизни индивида.
Отмеченный им космопополитизм горожанина, проявляю-щийся в его практиках и многоуровневости егоидентичности, только возрос за те годы, что прошлипосле опубликования текста. Сегодня его часто связываютс явлениями транснационализма или говорят о смене
национальных идентичностей космополитическими. Однимииз форм «нестабильности мира», которую как данностьпринимает горожанин, стали относительность культурныхценностей и возрастающее ощущение их произвольности.Космополитизм же эволюционировал не в направлениикакого-то мифологического «мирового гражданства», но всторону усиления рефлексии людьми характера своейпринадлежности и идентичности. Отмеченное Уир- томпересечение векторов идентичности выражается в том, чтолюди склонны проблематизировать и пересматривать, какимобразом в их жизни соотносятся персональная, нацио-нальная и ряд других идентичностей.
Послевоенная городская этнография о городских различиях и отношении к ним
365 Эмпирическое изучение различных образов жизнигородских обитателей было продолжено после Второймировой войны рядом городских социологов и этнографов.
365 Многие366 авторы критически рассматривали рост пригородов, наразные лады обличая «пригородный образ жизни».
366 Герберт Пшс, методологически продолжая традициичикагской школы, предложил скорее сочувственный взглядна небогатых обитателей пригородов в книге «ОбитателиЛевиттауна». Он показал, что в пригородах возниклиразличные, отличные от «чисто» городских социальныегруппы [см.: Gans, 1967]. Ганс замечательно использовалметодологию включенного наблюдения и в другой своейзнаменитой книге «Городские селяне», первое изданиекоторой вышло в 1962 году, показав, как американо-итальянские жители Норт-Эвда в Бостоне, замкнутоживущие в своей городской деревне, со всеми их теснымиродственными и прочими связями, не смогли противостоятьаппетитам девелоперов, облюбовавших их район дляперестройки в соответствии с нуждами богатых жильцов[см.: Idem, 1982].
366 В «Обитателях Левиттауна» Ганс рассматриваетновый тип городского поселения, разработанный
девелопером Уильямом Левитгом и воплощающийпослевоенную версию американской мечты. Возвращающимсяс войны солдатам и их семьям нужно было жилье, онирасполагали для этого субсидиями, выданнымиамериканским правительством, но не всегда могли найтидома по душе среди имеющегося жилого фонда. Ле- виттиспользовал технологии массового производства длясоздания в пригородах кварталов, имитирующих дома,построенные в колониальном стиле и преобладавшие наКейп Коде — в популярной курортной зоне штатаМассачусетс. Пшс оспорил поспешные критическиеобобщения относительно «пригородного образа жизни»,показав, что те, кто там живет, скорее воспроизводятповсеместно присущие среднему классу стратегииприспособления своих нужд к новому окружению исоциальным обстоятельствам. Левиттаун — это, конечно,не утопия, показывает Ганс, но и рисовать его каксредоточие бездуховности тоже не стоит.
366 Его книга была направлена против эксплуатациикритиками «пригородного образа жизни» идейгеографического де-367-терминизма.
367 Они считали, что гомогенность и спланированностьпригородов обязательно приведут к социальной изоляции икультурной стагнации живущих там семей. Ганс, во-первых, показал, что окружающая среда не стольнепосредственно поощряет те или другие модели поведенияи, во-вторых, что поведение если и формируется, то несверху — планированием, а снизу — реальнымивзаимодействиями с окружающими. В пригородах живут неконформисты, а самые разнообразные сообщества, вчастности сообщества рабочих, нижнего и высшегосреднего класса. Они по-разному смотрят на вещи и своеместо в мире и по-разному справляются с вызовамиповседневности. Так, нижний средний класс «стремитсяпримирить возможности американской мечты с реальностьютого, что жизнь им может предложить» [Gans, 1967: 145].Этот взгляд на вещи проявляется, во-первых, в стратегии«поддерживать видимость» и жить прилично и, во-вторых,
в отношении к «ним» как источнику проблем. «Они» — этоправительство, интеллектуалы, иностранцы, люди, живущиена пособие. Они усиливают и без того неотступный страх,что относительно безопасная жизнь в хорошо устроенномдоме может внезапно кончиться. Та сфера, которуюобитатели могут контролировать, весьма ограниченна. Это— их домашняя жизнь. Это — приватность ихсуществования. Вот чем объясняется тог факт, чтоничего, кроме их собственного дома и его обустройства,обитателей Левиттауна всерьез не волнует:
367 «Больший контроль дает большуюбезопасность, а с достаточнойбезопасностью люди могут ослабитьнежелательные социальные связи иделать больше собственных жизненныхвыборов Даже удобство и комфортпреследуются затем, чтобы усилить эточувство контроля, ибо достижение этихпо видимости материалистических целейтакже дает обитателям Средней Америкичуть больше оснований надеяться, чтоони никогда не потеряют достигнутогоили вернутся к жизни на уровне выжи-вания» [Ibid.: 2].
368 По Гансу, главное, что тревожит этих людей, — этоте, кто ниже их по социальной лестнице, представляясобой и досадное напоминание о том, откуда они саминачинали, и конкурентов на рынке труда.
368 Он говорит о трех главных недостатках всехобитателей Левиттауна, то есть представителей рабочего,нижнего среднего и высшего среднего класса. Первыйнедостаток — сложности в совладании с конфликтом,классовым (между всеми перечисленными группами) илипоколенческим. Каждая группа предполагает, что этодругие должны подчиниться ее ценностям и разделить ееприоритеты. Второй недостаток — неспособность иметьдело с плюрализмом. Разнообразие американского общества
обитатели Левиттауна не признают, другие стили жизни непринимают. Взрослые не принимают подростков (инаоборот), те, кто побогаче, — тех, кто победнее (инаоборот). Причина — в особой социальной композиции та-кого поселения: по большей части это молодые семьи смаленькими детьми. Одержимость семейными ценностями,желание воспитать детей в соответствии со своимпониманием мира приводит к враждебности — кодноклассникам детей, соседям, добровольнымассоциациям. Все они — поле борьбы за защиту семейныхценностей, которые, однако, не надо понимать чересчуридеалистически. Семейные ценности — это прежде всегодоход семьи. Даже благополучные люди не чувствуют себянастолько благополучными, чтобы позволить другимрешать, как его потратить. Отсюда битвы между семьями исообществом по поводу того, как именно должны быть по-трачены деньги, внесенные fta нужды сообщества. Тольков отношении собственного дома возможен абсолютныйконсенсус. Но взгляды на то, каким должен бытьсовершенный дом, у разных людей отличаются. Вот почему,отвергая плюрализм, эти люди отвергают прежде всеговозможные сомнения других в абсолютности их образажизни.
368 Жить среди себе подобных и отвергатьотличающихся — естественно вытекающая отсюда позиция.
Генераторы разнообразия: Джейн Джекобс369 Американо-канадский урбанист и политический
активист Джейн Джекобс в книге «Смерть и жизнь большихамериканских городов» (1966) увязала разнообразие (онаего еще называла «организованной сложностью»), котороеспособна производить городская жизнь, с физическойформой города.
369 Предысторией появления ее книги было послевоенное«обновление городов» (urban renewal). Правительственныепрограммы по строительству жилья идеологическисопровождались критикой традиционного устройства идовоенного развития городов. Так, Е. Петерсон, редактор
книги, выразительно названной «Города ненормальны»,обличает перенаселенность американских городов,заявляя, что с любой точки зрения толькодецентрализация городов улучшит ситуацию вздравоохранении, экономике, инфраструктуре,нравственном климате [см.: Peterson, 1946: 11],
369 Джекобс резко критиковала традицию модернистскогопланирования городов, согласно которой идеальный городсостоял из открытых пространств, высотных зданий,низкой плотности заселения и пригородов. Ее возмущаласкорость, с какой пустели города, когда началосьвеликое переселение американцев в пригороды. Вместе слюдьми города покидала надежда. Расчистка городскихтрущоб, строительство кварталов муниципального жилья(как правило, состоящих из высотных домов) — при всейсоциальной полезности — смущали ее тем, что угрожалиразрушить естественную ткань городской жизни, внестиэрозию в жизнь городских сообществ. С точки зренияДжекобс, этот процесс усиливала политика федеральногоправительства, введшего «евклидовы стандартызонирования», согласно которым города разделялись настандартные районы, с тем чтобы снизить плотностьнаселения и отделить друг от друга разные способыиспользования земли (отделение промзон от жилыхкварталов и так далее).
369 Она одной из первых провозгласила, чтомодернистская традиция планирования не370 принесла желаемых результатов.
370 Вместо разрыва с традицией, предложила она, естьсмысл к ней присмотреться. Тогда станет понятно, чтоулица, а не «блок» пригородных домов — залогвитальности города.
370 Джекобс считала, что традиционный («европейский»)тип моноцентричного города потому столь привлекателен,что плотно заселен и социально и культурно разнороден.Она предлагает четыре главных способа усилениягородского разнообразия: 1) короткие улицы и кварталы;2) сочетание разных функций внутри одной улицы или
района; 3) здания должны различаться по возрасту,степени изношенности, характеру использования и составужильцов; 4) плотность заселения [см.: Jacobs, 1966:301, 318J. Прототипом такого идеального квартала былаХадсон-стрит, улица в Гринич-Вилледж, на которойДжекобс жила, когда писала свою книгу.
370 Выглядывая из окна и наблюдая за обитателямиквартала, она использовала что-то вроде «индуктивногометода», обобщая паттерны поведения соседей доидеальной модели городского соседства: лавочки имагазинчики вместо супермаркетов, знание соседей поименам, у каждого есть своя экологическая ниша в томсмысле, что такой район способен обеспечить занятостьпочти всех разнообразных своих обитателей, Джекобссчитала, что самые разные проявления разнообразия —физического, социального, культурного, экономического,временного — должны быть взаимосвязаны между собой,создавая разные варианты использования места и разныетипы его пользователей. «Витальность» города виделасьей как максимально разнообразное и полное использованиегородского пространства сутки напролет.
370 Поскольку книга Джекобс задевала как интересыархитектурно-планировочного истеблишмента, так и коллег— авторов книг о городах, ее взгляды встретили оструюкритику.
370 Льюис Мамфорд оспорил ее мысль, что именно улицадолжна являться местом разнообразных практик исоциально благотворной интеракции различных попроисхождению и занята-371-ям людей [см.: Mumford,1962].
371 Это в деревне все всех знают, напомнил он, так неполучается ли, что идеальный квартал оптимален лишь сточки зрения предотвращения преступности?
371 Он упрекнул Джекобс в приверженностиностальгически- романтической версии прошлогоамериканских городов и в пренебрежении болеемасштабными социальными силами, сокращающими
пространство городской свободы. Похожая линия критикибыла развита Гербертом Гансом [см.: Gans, 1994: 35].
371 Адресованные Джекобс упреки в романтизме связанысо знанием им типичных потребностей представителейсреднего класса, которых не привлекает перспективапоселиться в богемном либо рабочем квартале: они хотятрастить своих детей в безопасном окружении. Поэтому несоциальная пестрота, скажем, района Норт-Энд в Бостоне(там, где он провел свое исследование) привлекает их,но либо высотные жилые дома с консьержами, либосоциально однородные пригороды.
Улицы Джейн Джекобс371 Джейн Джекобс жила на Хадсон-стрит, 55, в Гринич-
Вил- ледж, в небольшой квартире в старом доме, надмагазином сладостей. Она боролась (и победила в этойборьбе) с Робертом Мозесом, который собирался построитьэкспрессвей в Нижнем Манхэттене, — по первоначальномуего плану эта дорога должна была пройти черезчетырнадцать кварталов Хадсон-стрит. Ее мысли по поводугородского разнообразия можно найти в тексте раздела, афотографии позволят увидеть, как любимая ДжекобсГринич-Вилледж выглядит сегодня.
371 Иных магазинчиков уж нет, и люди поменялись (этосегодня очень дорогой район), но все-таки сохранилосьнемало деталей, объясняющих, почему именно этот вариантгородской жизни (включающий улицы, по которым тянетпройтись, кафе, в которых хочется посидеть, цветы,которые хочется посадить) был и остается дорог многимлюдям.
372 Улицы Джейн Джекобс
Город иммигрантов373 Восемь утра. Метро «Парк культуры». 373 С трудом протиснувшись через холл к нужному входу
на эскалатор, ты слышишь голос «наблюдающей запорядком» женщины. Воплощение патерналистскойгосударственной политики, она с упорством автоматанапоминает пассажирам отом, как нужно пользоватьсяправой и левой сторонами «лестницы-чудесницы». Но иног-да она позволяет себе импровизацию: «Улыбнитесь другдругу: ничего не поделаешь, нас тут очень, очень многов Москве». Один из настенных стендов тоже шлетпримиряющее послание: аристотелевское «Пород — единство
непохожих» проиллюстрировано аккуратно — в виде решетки— расположенными цветами. Изображения розы и вербены,пожалуй, годятся в качестве аналогии того, что тывидишь вокруг, когда дело доходит до различий. Выросши,как сегодня бы сказали, в расово однородном окружении,ты фиксируешь прежде всего этнические различия.
373 Отмечаешь Красивую девушку-кореянку, тщательноодетого азербайджанского джентльмена, усталых рабочих-молдаван, группку вьетнамок. Кто-то из этих людей своюэтичность умело обыгрывает, тогда как для повседневныхзабот других она значения tie и мест. Есгь, конечно, итакие представители «мульти культурной» Москвы, кого тыпочти никогда в метро не видишь: таджикские рабочие, кпримеру. И есть немало таких, для кого повседневныемаршруты чреваты неприятностями. Перенаселенный город,привлекая многих, а потому становясь нее более и болееразнообразным, входит в современную фазу развит ия,которая может быть выражена словами того же Аристотеля:«Совершен! ю справедливо, что i ic должно считатьгражданами всех тех, без кого не может обойтисьгосударство» (Pol, III, 3,1278а, 5).
373 Зависимость городов от миграции (прежде всего издеревень) обозначилась в начале XIX века.
373 Если нужда городов во все новых деревенскихжителях объяснялась высокой смерт-374-375-носгью средирабочих на заводах, то самим деревенским жителям городсулил иную степень свободы.
374 Сколько лет должно пройти, чтобы в России сталивозможны аналогичные плакаты, изображающие вьетнамцев итаджиков?
375 Комментаторов второй половины XIX века этасвобода в особый восторг не приводила: оии опасалисьволнений, ибо уж слишком песгра была новая городскаяпублика. Мегафоры искры, спички, ящика с динамитом,парового котла переходили из памфлета в памфлет.Поведение низших классов мыслилось как заведомопатологическое, чреватое вспышки ми преступности.
375 Настороженностью и реформаторским оптимизмом вотношении к иммигрантам отличались исследования авторовчикагской школы (см. об этом подробнее в главе«Классические теории города»), Роберт Парк искал путиувеличения эффективности социального контроля иассимиляции иммигрантов, прослеживая, как все новые ихволны меняют город, создавая в нем новые зоны жизни.
375 Энтони Берджес отразил в своих книгах, как сукоренением иммигрантом меняются их обиталища — отдешевых ночлежек городского центра до отдельных домов вблагополучных пригородах. При всей настороженностичикагские авторы видели, что иммиграция — моторгородской жизни и что новый городской порядок связан странсформацией традиционных линий привязанности иидентичности людей.
375 Массовое переселение американцев в пригороды вначале 1960-х годов привлекло внимание социологов
Натана Глезера и Дэниэла Патрика Мойиихэна. Не там ли,в пригородах, размещался теперь настоящий «плавильныйкотел» американской нации, когда стандарты американскоймечты оказались одинаково привлекательными (с разнойстепенью доступности) для представителей различныхэтнических и расовых групп? Назвав свою книгу «По тусторону плавильного котла», авторы показывают напримере этнических групп Нью-Йорка, что если смешение ипроизошло, то отнюдь не в направлении всеобщейгомогенизации (см.: Clazer,Моупйзет, 1970].
375 Они полемизируют и с банальным пониманием этогопонятия, и с марксистским тезисом, что в промышленныхгородах этничес-376-кие различия уступают местоклассовым.
376 Исследовав пять этнических групп:афроамериканцев, пуэрториканцев, евреев, выходцев изИталии и Ирландии, они показали, что этническиеидентичности успешно воспроизводятся от поколения кпоколению иммигрантов. Впоследствии их выкладки былиподтверждены социологическими опросами. Так, когда вопросник национальной переписи 1980 года был включенвопрос, из какой группы предков люди происходят, лишь б% опрошенных сказали, что они только американцы, тогдакак 83 % указали как минимум еще одну группу, изкоторой происходили. Авторы не обошли стороной иисточники межрасового напряжения, указав, в частности,непропорционально высокий процент афроамериканцев ипуэрториканцев, получающих социальные льготы.
376 Новым феноменом стали этнически гомогенныепригороды. Социолог Тимоти Фонг описывает «первыйпригородный чайнатаун» — Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом в Калифорнии, прожив в нем больше года ииспользуя материалы устной истории [см.: Fong, 1994].Лицо китайской миграции в Америку сильно изменилось:часто превосходящие белых образованием и амбициями,современные выходцы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии очень не похожи на своихпредшественников, потевших с середины XIX века в
китайских прачечных. Фонг рисует Монтерей-Парк какпересечение классовых, этнических и расовых конфликтов,отражающих, с одной стороны, нарастание антикитайскихнастроений во всей стране, а с другой стороны,сложности в жизни стремительно растущего города,преображенного китайцами за считанные десятилетия. Онипокупали дома и кондоминиумы, с усмешкой слыша заспиной мифы о своем невероятном богатстве, но в итогесделали этот гарод самым желанным местом жительства длякитайцев, приезжающих в Калифорнию.
376 В течение 1990-х годов Б исследованиях миграции,предпринимаемых городскими географами, социологами,этнографами, изменились теоретические основания.
376 Раса, этичность,377 гендер и другие категории, фиксирующие различия,стали рассматриваться как социально сконструированные.
377 Соответственно, в фокус внимания вошли процессыконструирования расы и этничности социальнымипроцессами и культурными репрезентациями. Городскиегеографы Лаура Пулидо, Стив Сидави и Роберт Воеосмысливают расизм как процесс, прослеживая, как в двухсообществах Лос-Анджелеса — Торрансе и Верноне —городское планирование, основанные на расе разделениетруда и дискриминация на рынке жилья вплетаются в то,что они называют проявлениями экологического расизма[см.: Pulido, Sidawi, Vos, 1996]. Белым легчеобезопасить себя от выбросов токсичных веществ, аработа на нефтеперерабатывающих и химическихпредприятиях — удел латиноамериканцев. Авторыобращаются к анализу «расистской политико-экономическойистории», чтобы показать, как современные проявлениярасизма укоренены в почти вековой истории этих городови как бессмысленно говорить о каком- то одномвсеобъемлющем расизме. Рассуждая о том, какаяметодология была бы оптимальной для исследования этихсложных тенденций, авторы упрекают сторонников количе-ственного анализа в том, что те придают слишком многозначения скорее самим расовым категориям, нежели
расизму как процессу. Разнообразие проявлений расизмаво времени не свести к отдельным и измеримым актамдискриминации, вот почему необходимо «археологическое»,то есть принимающее во внимание эволюцию расизма вкупес обусловливающими его социальными, экономическими икультурными факторами, изучение конкретных случаев сприменением качественных методов.
377 Напряжением между конструктивистами и«эссенциалистами» отмечено и изучение городскойэтничности российскими исследователями.
377 Укорененности у нас эссенциализма как те-оретической установки способствовал тот факт, чтодолгое время велись по преимуществу этнографическиеисследования этничности, нацеленные на описаниекультурных характеры-378-стик этносов, в том числе июродских [см.: Будина, Шмелева, 1989].
378 С другой стороны, с формированием в 1970-е годытакой специфической дисциплины, как этносоциология,изучение культурного и социального разнообразия вРоссии отмечено фундаментальной двусмысленностью:отводя этнографии изучение «традиционно-бытового слоя»,этносоциологи претендуют на то, чтобы освещать«социальные параметры культурной деятельности» нации,оценивая соотношение в ней «современного» и«традиционного» по шкале, включающей «уровеньурбанизированности» и «втянутости» именно в «со-временные экономические, социальные, политические и тд.процессы» \Арутюнян, 1992:4].
378 Этнограф и политический деятель ГалинаСтаровойтова книгу «Этническая группа в современномгороде» [см.: Старовойтова, 1987] посвятила татарам,армянам и эстонцам доперестроечного Санкт-Петербурга.
378 Молодому читателю будет полезен небольшойисторико-научный экскурс, чтобы представить себеатмосферу, в которой проходила подобного рода работа.Коллега Старовойтовой свидетельствует: «Диссертационнаятема ("Психологическая адаптация нерусских групп всовременном русском городе"), в книжном издании
получившая название "Этническая группа в современномсоветском городе" (Л, 1987.174сгр.), была поддержанаученым советом института, однако отдел науки горкомаотказался дать разрешение на массовый опрос, как тоготребовала тема, аргументируя это, кроме всего прочего,тем, что Старовойтова не была членом КПСС. Кроме того,руководству отдела представлялось, что оно само всезнает, что нужно знать в сфере межнациональныхотношений, и опрос мог, якобы, только привлечь вниманиек несуществующей теме» [Чистов, 1999].
378 Старовойтова рассматривала так называемыеэтнодисперсные группы, фиксируя развитые в них путиэтнической идентификации, воплощающиеся в бытовыхпрактиках и ценностных установках.
379 В исследовании «Русские: Этносоциологическиеочерки», проведенном сотрудниками Института этнологии иантропологии, русская нация характеризуется «высокимуровнем урбанизированное™» [Русские, 1992:42], что, помнению авторов, объясняет стабильный приток русскогонаселения и крупные города СССР Социологическиеисследования миграции этнических групп включают«статусные» и «поведенческие» характеристики мигрантов,обитающих в различных «этнических средах». Эти средывидятся объективными «регуляторами миграционногоповедения», тогда как субъективные регуляторыобразованы этническими ценностями, например ориентациейиндивида на «однонациональный» или «многонациональный»состав среды. Тем самым «объективное» и «субъективное»определяют друг друга. Первое ограничено трудовымколлективом и кругом друзей, второе зависит отудовлетворенности жизнью. Города, в особенностистоличные, «вызывают большую психологическуюнапряженность, неудовлетворенность», от которых могутпострадать межнациональные отношения [Там же-. 73].
379 Масштабность подобного рода анализа и егообъективизм, позволяющие вообще не обращаться к критикесуществующего социального порядка, привлекли запоследние тридцать лет множество исследователей и легли
в основу процветающей и поныне этносоциологическойиндустрии.
379 Приведем в качестве еще одного примерасоциологическое исследование межэтнических отношений вгороде Пермь — «Национальный вопрос в городскомсообществе» [см.: Лейбо- вич и др., 2003]. Его авторы,отмечая, что национальные мифы «становятся интегральнойчастью всех форм общественного сознания» [Там же. 13],подробно разбирают местные проявления этничности вконтексте новых тенденций социальной стратификации.Однако методология, избранная авторами, скореесоциально-психологическая, так как они нацелены нареконструкцию «этнических образов» друг друга, которыеесть у представителей пермских этнических групп.
379 Среди «и но националов» выделяются «продвинутые»,то есть успешно осво-380-ившие русскую культуру, ирусским, утверждают авторы, контакты с ними полезны,так как это помогает найти свою собственнуюидентичность.
380 Исследования такого рода исходят из существованиянеизменных стабильных культур, представители которыхмогут быть более или менее «урбанизованы» или«продвинуты», то есть размещены по некоторой, очевиднойдля социологов этой школы, шкале социального развития.
380 Неслучайно представители противоположной,конструктивистской социологической школы (большинствокоторых работает в Санкт-Петербургском центренезависимых социологических исследований) подвергаюттакой эссенциализм резкой критике, подчеркивая, что егопредставители недооценивают вероятность своегонегативного влияния на горожан: «Социолог, ничтожесумняшеся, предлагает людям (которые, возможно, до егопоявления даже не задумывались о столь волнующихисследователя вещах) оценить уровень интеллекта тех илииных "национальностей", степень их чуждости, указать,какой национальности не должен быть кандидат в мэрыПерми, высказать свое мнение о том, с человеком какойнациональности он не одобрил бы брак своей дочери, и
так далее и тому подобное. Вам не кажется, что сам фактиспользования авторами расистских инструментовизмерения (мало чем, впрочем, отличающихся отаналогичных инструментов других "этносоциологов" и"этнопсихологов") оказывает сильное влияние нареспондентов? Я не сомневаюсь при этом, что, укрепляятакими исследованиями расизм и ксенофобию в обществе,исследователи искренне считают себя борцами с расизмом»[Воронков, 2004].
380 Допуская, что автор рецензии погорячился,возлагая на пермских социологов вину за пробуждение вгорожанах темных страстей, отметим задетый иминтересный методологический аспект возможности влияниясоциальной мысли на общественные нравы.
380 Отыскивание расистских предрассудков в текстахколлег рано или поздно приводит энтузиастов этого делак пониманию того, что ригидность и инертность соци-381-альных и культурных стереотипов и предрассудков,проглядывающих в иных ученых штудиях, фактическинеизменяемы.
381 Как бы проблематичны ни были чьи-то «политикиидентичности», они могут никакого влияния на социальныеизменения не оказывать. Влияние академических текстовсегодня весьма и весьма ограниченно.
381 Пытаясь сократить «расистское» влияние текстовколлег, санкт-петербургские социологи Виктор Воронков,Олег Паченков, Ольга Бредникова, Оксана Карпенко,Сергей Дамберг [см.: Этничность-, 2000, Карпенко, 2002;Бредникова, Паченкое, 2001] исследовали этническиесообщества Санкт-Петербурга, с тем чтобыпродемонстрировать меру социальной сконстру-ированности самого понятия этничность. Так, например,Оксана Карпенко борется за политически корректное(иное, нежели «гости нашего города») именование новыхобитателей общего городского пространства. Установлениесвязи между бытующими метафорами и определяющими ихкогнитивными и прагматическими факторами тем болеенеобходимо, что, когда используется метафорическое
понятие, читатель или говорящий может «не считать» егометафоричность и понять сказанное буквально (либо онможет сознательно играть на смешении буквального ифигурального смыслов слова). Кроме того, метафоры могутпониматься буквально, когда говорящие и слушатели необращают более внимания на метафорический характервыражений, буквально используя идиоматические фразы.Отсюда необходимость «критического анализа метафор», втрадицию которого, как мне кажется, вписывается тёкстКарпенко.
381 Проведя дискурсивный анализ свыше трехсотгазетных статей, питерский социолог попыталасьпроблематизировать классический риторический ходиспользующийся националистами, «регионалистами» имногими другими, в чьи политические и практическиезадачи входит проведение и охрана границ между своей ичужой территориями.
381 Этот ход состоит в распространении на масштабныепространства идеализиро-382-ванного паттерна отношенийв семье и мышления о стране, городе и иной территории втерминах родного дома.
382 Социализация людей как членов территориальнойгруппы непременно включает усвоение ребенком этогохода, начиная с нотаций школьной уборщицы («Ты же усебя дома не соришь!»), урока истории с плакатом«Родина-мать зовет!» и кончая неизбежностьюстолкновения с разными вариантами недовольства местныхжителей «понаехавшими тут». Помню, как поразила меняфраза сокурсницы, вышедшей замуж «в Москву» в 1980-егоды и к моменту моего визита наслаждавшейся новымивозможностями всего полгода: «Ты не представляешь, какэто здорово, когда город закрывают. Чувствуешь себясовершенно как дома: никого лишнего, так спокойно, да ивсе, что хочешь купить, можешь быть уверена, тебедостанется!»
382 Фиксируя раздражение, с которым жители столицвстречают превращение их общего дома в «проходнойдвор», Карпенко изобретательно демонстрирует, как
бессознательное следование жителей и властей популярнойметафоре дома проявляется в описании ими отношениймежду приехавшими в город давно и мигрантами. Чересчуруверенное поведение тех, кто должен бы помнить о том,кто тут на самом деле хозяин, мыслится как результатнебрежности в охране границ дома, а конкуренциямигрантов со старожилами на рынке труда и за социальныеблага — как покушение на и без того ограниченныересурсы хозяев.
382 Исследовательница резонно говорит, что дихотомияместные — гости упрощает сложную картину миграционныхпроцессов, позиционируя как конфликт групп теконфликты, которые часто имеют индивидуальную природу,делая все более отдаленной перспективу правовогозакрепления прав мигрантов и решения спорных случаев.
382 Радикальный вариант социально-конструктивистскойметодологии реализуют Ольга Бредникова и Олег Паченков,исследуя повседневные практики питерских торговцев —выходцев из Азербайджана, с тем чтобы показать, чтосамо членение383-384 на этносы — это навязываемая интеллектуаламикатегоризация, мало значимая для самих ее объектов.
383 Гордость, а не предубеждение — измененное названиеромана Джейн Остен может стать личной кампанией противпредрассудков, нацеленных на других
384 Но какой бы произвольной ни казалась «этничность»с точки зрения социально-конструктивистской парадигмы,все же настаивать и на ее практической иррелевантносги— слишком сильный ход: она давно стала «категориейпрактики», если воспользоваться термином Дж Брубейкера.Двусмысленность полученных коллегами результатов хорошоразбирает санкг-петербургский социолог Михаил Соколов,в целом скептически оценивающий итоги разработкисоциально-конструктивистской парадигмы в России: «Дажето единственное исследование (исследование Бредниковойи Паченкова. — Я 71), которое цитировалось, чтобыдоказать несостоятельность эссенциалистской позиции, вдействительности содержит в себе массу доводов, которыемогут быть интерпретированы в ее пользу <..,> То, что унеэссенциалистских подходов есть преимущества в ин-терпретации современной российской реальности, надо ещедоказать» [Соколов, 2005].
384 Ирония состоит в том, что «эссенциалисты» и«конструктивисты», занимая крайние полюсаметодологического спектра, приходят к похожимрезультатам, в которых единственным объектом критикиоказываются коллеги-интеллектуалы. Этно- социшогификсируют в Москве «надэтническое» столичноесамосознание «с очевидной доминантой гражданского обра-за» [Арутюнян, 2007]. Представители социальногоконструктивизма также склонны скорее искать«надэтнические», то есть объединяющие людей, моменты.
384 Теоретическая необходимость отстоятьпроизвольность, а потому иррелевантность этничности какмаркера различий, приводит Владимира Малахова в статье«Этничность в большом городе», во-первых, к апелляции кобщему советскому прошлому представителей всехэтнических групп в современной России и, во-вторых, кутверждению, что этничность задействуется сегодня лишьв политических (представителями национальных движений)и385 коммерческих (запрос культурного рынка на«разнообразие») целях [см.: Малахов, 2007].
385 Исследования же, основанные на разного родастатистике и социологических опросах, убедительнодемонстрируют воплощение этнических и иных различий всоциальном пространстве крупного города. Опираясь наданные двух переписей населения, архивы префектур,отделов ЗАГСов и МУВД, динамику цен на жилье,результаты социологических опросов, московский географОльга Вендина не только картографировала «этническийландшафт» Москвы, но и вычленила следующие факторы,затрудняющие интеграцию мигрантов в московскую жизнь[см.: Вендина, 2004; 2005]. Во-первых, это внутренняяполяризация этнических групп («боссы» и «пролетарии»),а также внутри- и межгрупповая дискриминация. Во-вторых, это произвол, вымогательства и дискриминация состороны властей и правоохранительных органов. В-третьих, это сильный рост экономической миграции,представители которойнаселяютокраинныерайоныстолицыивсилуслабых перспективвертикальной мобильности и нарастающего «окукливания»социальных групп, скорее всего, так и останутся визоляции. В-четвертых, это проблематичный статуспринимающего сообщества- низкий уровень общественнойсолидарности, сильное и нарастающее социальноерасслоение, сочетание прагматической эксплуатации инегативных стереотипов.
385 Продуктивными кажутся результаты рефлексиислабости либерального дискурса о миграции и попыток егопопуляризовать в России рядом других экспертов.Реалистична оценка Дениса Драгунского: «Мигранты — каклюбые чужаки — дегу- манизированы в глазах большинствакоренных жителей. Их воспринимают не как полноправныхграждан и, разумеется, не как ближних в христианскомсмысле слова, а как средство производства или источникповышенной опасности (часто и то, и другоеодновременно).
385 В Москве названия одних этносов стали синонимамидешевой, безотказной и практически бесправной рабочей
силы, названия других — синонимами неправед-386-нонажитого богатства.
386 Названия третьих обозначают угрозу жизни исобственности местных жителей» [Драгунский, 2003].
386 Эту позицию подкрепляет результатамисоциологических исследований Лев Гудков: «Считают, чтонужно ограничить проживание на территории Россиивыходцев с Кавказа в 2004 году — 46 %, в 2005 — 50 % —это в самом общем виде. Если брать по отдельнымпунктам, скажем, установить запрет на приобретениесобственности, на проживание, на занятие должностей, втом числе и для граждан России, то там порогзапретительного рефлекса поднимается до 60—70 % и дажевыше. Резко отрицательно относятся к тому, чтобымигранты покупали квартиры и дома — 58 %, чтобыобразовывали собственный бизнес (открывали кафе,магазины, автосервис) — 64 %, покупали бы земли длябизнеса или жилья — 65 %, заводили крупные предприятия— 74 % и т.д Запреты касаются и работы по найму, хотя,казалось бы, здесь явная ощутимая польза, выигрываютвсе. Тем не менее против того, чтобы мигранты работалив частном бизнесе, — 53 %, на государственноймуниципальной службе — 69 %, в правоохранительныхорганах — 74 %. То есть три четверти населенияотличаются вполне выраженным запретительным рефлексом»[Гудков, 2006].
386 Иркутский специалист по миграции историк ВикторДятлов настаивает на необходимости создания институтовадаптации и интеграции мигрантов, перспективы полнойассимиляции которых крайне осложнены тем, что эти людииначе социализованы и настроены на иные механизмысоциального контроля. Контакты нередко ведут квыяснению отношений, что чревато конфликтами. Ученыйведет исследования диаспор как нового элемента жизнисибирских городов [см.: Дятлов, 1995; 1999а; 19996;1999в; 2000; 2004], в том числе описывая усложнениесоциальной организации этнических сообществ на рынках,в пригородах, общежитиях как предпосылку вероятного
формирования в России чайнатаунов — постоянныхкитайских общностей.
386 Так, в исследовании иркутского рынка «Шанхай»Дятлов и его соавтор Кузнецов, вызывая ассо-387-циациис работами авторов чикагской школы, воссоздают - наоснове проведенных интервью, включенного наблюдения ианализа прессы — «экологию» китайскою рынка и егофункционирование в качестве «социальною организма»[смДятлов, Кузнецов, 2004].
387 «Экологические» исследования городов сталипервыми проводить именно чикагские авторы (см. о них вглаве «Классические теории города»), предложиврассматривать социальную жизнь городов как воплощеннуюв географической и материальной среде.
Впечатляющие итоги анализа социальной жизни рынкаДятловым и Кузнецовым еще раз показывают, что еслииспользование «передовой» исследовательской парадигмы(социальный конструктивизм) в эмпирическихисследованиях не всегда приводит к успеху, то обращениек оправдавшей себя методологии не подводит. Неслучайно, несмотря на очевидную устарелость рядаконцепций чикагцев, отработанная ими методологиясоциологического картографирования отдельного городапродолжает активно использоваться повсеместно.
387 Дятлов и Кузнецов описывают эволюцию китайскогорынка Иркутска с начала 1990-х годов как места встречицивилизаций, олицетворения «желтой опасности»,специфического инфраструктурного узла, источникапоступлений в городской бюджет, места заработкаиркутчан и демократичного шопинга, центра снабжениявсего региона, источника криминала и милицейскоговымогательства, места встречи нелегальной миграции икоррумпированного государственного аппарата. Статьяхороша еще и совмещением двух видов исследовательскойоптики — извне и изнутри: того, как город видит «Шан-хайку», и того, как организована на рынке социальнаяжизнь. Так, один из интересных аспектов динамикисосуществования рынка и города — в том, что социальный
статус горожан определяется в том числе и тем, покупаютили не покупают они вещи на «Шанхайке».
387 Мне кажется, исследователи здесь нащупалиуниверсальную характеристику сложной жизни постсо-ветского российского города.
387 Главный оптовый или мелкооп-388-товый рыноксуществует везде, китайцы заправляют на большинстветаких рынков, а горожане могут оценивать свой соци-альный рост по тому, совершают ли они ответственныепокупки по-прежнему на таком рынке или уже могутпозволить себе поход в крупный торговый центр с егобесчисленными бутиками европейских брендов.
388 Взгляд на рынок «изнутри» позволяет вычленитьструктурирование его социальной жизни по принципунациональных блоков, в которых продаются определенныевиды товаров, что определяется «капитанами», «пат-ронами» — лидерами китайской общины, бизнесменами сопытом и образованием.
388 Исследование социальных сетей китайскихторговцев в Иркутске перекликается с тем, что провеламериканский социолог Роджер Уэлдингер [Waldirtger,2001], один из создателей понятия этническоепредпринимательство. Изучив пять регионов США, онпоказал, как функционируют аналогичные социальные сетисреди мексиканцев, китайцев, филиппинцев, корейцев,кубинцев и вьетнамцев. Хорошо образованные и обладающиепредпринимательской жилкой корейцы собираются в группы,что присуще и низкоквалифицированным мексиканцам.Повсеместно проявляется и тот принцип, что со «дна»рынка труда начинают недавно приехавшие, тогда какдавно осевшие в этом месте монополизируютстратегические посты и решения.
388 Выкладки, наблюдения и исследования Вендиной,гудкова, Драгунского, Дятлова, Карпенко и ряда другихавторов перекликаются с рассуждениями их западныхколлег о необходимости дополнить «розовое»представление о глобализации как сулящей росткосмополитического сознания горожан более
реалистическим анализом взлета фундаментализма,«нативизма», ксенофобии, консерватизма, новых формадаптации во многих мировых городах — магнитахмиграции.
388 Теоретическое осмысление миграции в города впоследние годы характеризуется акцентом надвойственности этого феномена; миграция, с однойстороны, решает проблемы занятости и даже389 усиливает «креативность» городов, но, с другойстороны, углубляет социальную поляризацию.
389 «Город как контекст», в рамках которого нужнопродолжить изучение миграции, — на таком подходесправедливо настаивает в одноименной статье амери-канский антрополог Каролин Бретель. Конкретный городпредставляет особое социальное поле, где сочетание егособственной истории, сегодняшнего дня («депрессивный»или нет) и разного уровня сил и тенденций определит,каково в нем будет мигрантам. На этом скажется и то,какова продолжительность местного опыта взаимодействияс «понаехавшими», и то, одна или несколько группмигрантов в нем доминируют, и то, поощряют ли деломинтеграцию мигрантов местные и центральные власти.
Социальная сегрегация и поляризация389 Социальная сегрегации и поляризация сопровождали
жизнь городов, наверное, с момента их возникновения. ВДревнем Риме и Афинах существовали кварталы, где селилирабов, в Средние века возникли гетто и кварталы дляпредставителей тех или иных гильдий ремесленников икупцов. О том, как эта тенденция усилилась в XIX и XXвеках, мы рассуждали в главе «Город как местоэкономической деятельности». Определение в городахразличных, нередко социально противоположных зон —предмет давнего интереса урбанистов.
389 Публикация работы Дэвида Харви «Социальнаясправедливость и город» и его исследования вместе сЛатой Чаттерджи рынка недвижимости в Балтимореобусловили поворот от количественных исследований
жилищной дифференциации городов в сторону внимания кэкономическим и социальным процессам, структурирующимрынок жилья, которые соединялись с классовыми иэтническими различиями.
389 От индивидуальных и групповых предпочтений ученыеперешли к изучению социальных ограничений, выражающихсяв про-390-странственной и социальной сегрегации [см.:Harvey, 1973; Harvey, Chatterjee, 1974].
390 В 1980-е годы эти исследования были поглощеныболее общими по характеру рассуждениями о социальнойполяризации в глобальных городах, когда вначале ДжонФридман и Гещ Вулф заявили о том, что для мировогогорода характерна «поляризация социально-классовыхразличий» [см.: Friedman, Wolff, 1982:332], а затемСаския Сассен заговорила о новой классовой структуреглобальных городов (см. об этом подробнее в главе«Город и глобализация»), в частности о поляризованнойструктуре занятости, приводящей к существованию страт свысокими и низкими доходами, что связано с постояннымпритоком мигрантов в эти города. Интересной сторонойсоциальной поляризации в глобальных городах являетсянеясный статус «социальной середины» (мы вернемся кэтому ниже, разбирая взгляды Питера Маркузе). МануэльКастельс в своих работах связал поляризацию и«информационный город», подчеркнув, что информационныеспособности и возможности различных социальных группкрайне неодинаковы.
390 Среди тех, кому идея «дуального»,поляризованного города кажется излишне одномерной, —американский теоретик городского планирования ПитерМаркузе [см.: Marcuse, 1989; 1997; 2000]. Он, во-первых, возражает против того, чтобы считать«разделенный» город чем-то новым, указывая, что тенден-ция поляризации сложилась знакомым нам всем образом ещена заре промышленной революции. Во-вторых, он призываетне упускать из виду процессуальность поляризации:модели расселения в соответствии с разделением труда ирасовыми и гендерными различиями существуют, но они
проявляются не столь жестко и определенно, как этоказалось чикагским социологам Берджесу и Парку.Приведем «процессуальное» определение поляризации:«Похоже, лучше представлять ее с помощью яйца ипесочных часов. Обычное распределение населения городанапоминает яйцо: самое широкое посередине и сужающеесяк концам.
390 В ходе поляризации середина сдавлива-391-ется, аконцы расширяются — пока все это не становится похожимна песочные часы.
391 Середину яйца можно определить как "опосредующуюсоциальную страту". <„> Или, если поляризация — междубогатыми и бедными, середина относится к группе людейсо средними доходами <...> Это метафора не структурныхразделяющих линий, но континуума вокруг одногоизмерения, распределение которого становится понарастающей бимодальным» [Marcuse, 1989:699].
391 Но как быть, если поляризация идет одновременнопо ряду измерений? На такую возможность указываютМолленкопф и Кастельс, подчеркивая, что сочетаниекультурной, экономической, политической поляризации вНью-Йорке приводит к тому, что если в городском ядре,образованном профессионалами корпоративного мира, пустьи разными по происхождению, прослеживается подобиеединства, то на периферии города имеет местодезорганизация: население здесь фрагментирова- но порасовому, половому, этническому, профессиональномупризнаку, что только усиливается разнородностью мест, вкоторых оно проживает [см.: Dual City, 1991: 402].
391 Выдвигая метафору «города кварталов», Маркузе.строит следующую классификацию того, что он называет«отдельными городами» внутри современных городов. 391 В «жилых» городах он выделяет 1) «роскошные зоны»,для которых характерна специфическая инфраструктураторговых центров, мест развлечения и отдыха и такдалее; 2) «джентрифицированные» кварталы,предназначенные для профессионалов, менеджеров, яппи(он добавляет к числу их обитателей и университетских
профессоров), иронически замечая, что «фрустрированнаяпсевдокреативность их занятий ведет к поискуудовлетворения в иных сферах, находимых в потреблении испецифических формах культуры, в "городской жизни",лишенной ее первоначального исторического содержания иболее связанной с потреблением, чем с интеллектуальнойпродуктивностью или политической свободой» [Marcuse,2000: 273]; 3) пригороды — место обитания хорошооплачиваемых рабочих и мелкой бур-392-393-жуазии, длякоторых дом — залог финансовой безопасности, наследствои место обитания; 4) город снимаемых квартир имуниципального жилья, обитатели которого могут бытьоттуда вытеснены в случае, если этот квартал облюбуютдевелоперы; 5) покинутый город — место очень бедных,тех, кто либо никогда не работал, либо работает оченьредко, место расовой и этнической дискриминации исегрегации.
392 Вечный расклад даунтауна: недостает ресурсов — становись экзотическим зрелищем для других393 «Города бизнеса» разделяются на следующие
группы: 393 1. Контролирующие места, то есть места больших
решений, которые принимают владельцы яхт и лимузинов,хотя и избегающие ярко выраженной пространственнойукорененности, но все же чаще всего обитающие на
верхних этажах корпоративных небоскребов. Маркузеназывает «цитаделями» образцы последнего поколениятаких зданий, «умных» зданий, н которых и живут иработают капитаны корпоративного мира. Бэттери- Парк вНью-Йорке, Доклэндс в Лондоне, Ла-Дефанс в Париже,Беринни в Сан-Паулу, Луджиазуи в Шанхае — примеры такихкварталов,
393 2. Города бизнеса — города улучшенного сервиса,то есть кварталы офисных зданий, «стратегически»группирующиеся в центре города (но они могут бытьрасположены и на окраине или вообще рассеяны погороду).
393 Работающие здесь живут в джентрифицированныхрайонах,
393 3. Город прямого производства, концентрирующий нетолько управление промышленностью и некоторые ее виды,но и сервис, правительственные здания, офисы ведущихфирм. 4- Город неквалифицированной работы инеформальной экономики, иммигрантских предприятий инебольших фабрик и мастерских. Чайнатаун в Нью-Йорке икубинский квартал в Майами — примеры таких городов.
393 5. Безработный город — город тех вариантовнеформальной экономики, которые вне закона, город, гдесосредоточены самые вредные производства и свалки, очи-стные сооружения, гаражи, тюрьмы.
393 Маркузе, известный своей резкой критикойполитики ныо-йоркских властей, описывает такой хорошознакомый русским читателям ее компонент, как очисткуцентра города от «нежелательных элементов» (улицы394 центра должны служить обитателям «цитаделей» иджентрифицированных кварталов), а также изобретательноезанавешивание фасадов пустующих или перестраиваемыхдомов (он их называет потемкинскими деревнями длябогатых). Если уж и говорить о новых моментах процессаполяризации, заключает Маркузе, так это то, что«лишние» люди, в частности безработные, поселились вгородах навсегда и количество их будет только расти.Будут расти и процессы джентрификации, а вместе с ними
— вытеснения прежних обитателей обустраиваемых длябогатых кварталов с помощью правительственной ре-гуляции,
«Геттоизация» и бедность394 Как городская этнография и социология описывают
положение «невписавшихся» людей, перебивающихся отодной временной работы к другой или вообще неработающих? Оценки и используемые понятия,объяснительные стратегии и мера радикализма выводовздесь очень зависят от политической позиции авторов.История последних трех-четырех десятилетийсвидетельствует, что некоторые понятия, которые ихавторы предложили в чисто описательных целях, былиподняты на щит представителями радикальных правыхвзглядов на социальную политику.
394 Так случилось с понятием underclass, введеннымГуннером Мердэлом, которое стали использовать для фик-сации «сущностных» и не поддающихся реформированиюхарактеристик городской бедноты, особенно афроамери-канской, а поэтому — для критики политики welfare.Схожую траекторию проделало понятие культуры бедности,введенное американским антропологом Оскаром Льюисом.Антисоциальное поведение крайне бедных людей мыслилосьв течение I960—1980-х годов как неизбежное следствиетого положения, которое они занимают в социальномпространстве городов.
395 В конце 1990-х вышло несколько работ городскихэтнографов, осмысливающих процессы городскоймаргинализации и «геттоизации». Митчелл Данейе в работе«Тротуар» воссоздал жизнь чернокожих обитателей нижнего— наводненного туристами — Манхэттена, зарабатывающихна жизнь, предлагая прохожим книги и журналы [см.:Dimeter, 1999]. Элайя Андерсон в книге «Код улицы»описал гетто Филадельфии, отмеченное борьбой между«приличными» и «пропащими» семьями [см.: Anderson,1999]- Кэтрин Ньюман в книге «Стыдной работы не бывает»сосредоточилась на работающих бедняках Еарлема и
способах, которыми они стремятся сохранить своедостоинство [смNewman, 1999].
395 «Достоинство» — не случайное здесь слово. Всякийзанимавшийся качественными исследованиями срединепроцвета- ющих слоев населения знаком с этимгуманистическим соблазном — так описать жизньинформантов, чтобы они были не просто жертвамиреструктуризации экономики. Но так ли беспроблемностремление описать повседневную жизнь этих людей, чтобывызвать сочувствие к их положению? Ломая голову надинтервью, что мне дали в конце 1990-х годов екате-ринбургские учителя, я отчетливо помню, как всепрочитанное об «униженных и оскорбленных» стучало вголову, обернувшись несколькими забракованными главами,которые казались то излишне пафосно обличающими власти,то лицемерно жалеющими моих героинь. О результатесудить читателям [см.: Трубима, 2002], но проблемаинтерпретации жизни тех, кто сам о ней говорит как овыживании, и в частности проблема того, что делать супомянутыми гуманистическими клише и позывами кморализированию, — вызов для исследователей, работающихпо обе стороны Атлантики. Скажу попутно, что у нас естьне только свободные от этих слабостей, но и вызывающиеогромное уважение работы Евгении Долгиновой, опублико-ванные в журнале «Русская жизнь», описывающие ситуациюв небольших городах России.
395 В частности, Долгинова написала о двух городахСвердловской области, в которых работники396 шахт и заводов с помощью голодовки пыталисьдобиться выплаты зарплаты.
396 Вернемся к трем упомянутым выше книгам. В ихцентре — бедный американский чернокожий пролетариат и«люмпена- пролетариат.
396 К примеру, Данейе изображает бездомных обитателейГринич-Вилледж не как зависимых от наркотиков и небрезгующих преступными актами объектов расовой дис-криминации, но как людей, сознательно выбравших жизньна улице, попрошайничество и прикрывающую его торговлю
журналами в поиске способов установить контроль надсобственной жизнью. Не только их столики становятся«местом социального взаимодействия, ослабляющимсоциальные барьеры между людьми, существенноразделенными социальным и экономическим неравенством»[Duneier, 1999-. 71], не только их уличная торговляоказывает цивилизующее воздействие на всех к нейпричастных, но и сами эти люди своим постоянным видимымприсутствием на улицах, оказывается, способствуютусилению социального единства. Подобным образом КэтринНьюман в своей книге настаивает, что подростки Гарлемасвободны в своем выборе между пособием и зарплатой,легальной работой и торговлей наркотиками, зависимостьюот государства или работой в низкооплачиваемых, но«нестыдных» местах предприятий сервиса. Понятно, чтоскептически настроенный читатель рано или поздно невынесет такого розового портрета нью-йоркских отвержен-ных, Между тем эти книги, рассказывающие о ежедневноммужестве представителей социального дна крупныхгородов, пользуются большим успехом у американскойчитающей публики. Они, однако, встретили достаточносдержанную реакцию в академических кругах, где стревогой наблюдают размывание границ междуисследовательским журнализмом и полевой работой иснижение стандартов научной состоятельности, вызванных,повторим, ориентацией издательств на прибыль, а потомуна продаваемость социологических книг.
396 Продаваемость увеличивают такие приемы, какотделение до-397-стойных бедных от недостойных, историиуспеха достойных, социальный оптимизм, сопровождающийсязамалчиванием вопроса о том, «кто правит».
397 Прочтет читатель такую книгу и сможет дальшепредаваться иллюзии о том, что он живет в справедливоми демократическом обществе, где стбящие люди, пустьдаже им не везет, обязательно «пробьются».
Социолог Лоик Вакант, подробно разобрав недостаткикаждой из этих книг, приходит вот к каким существеннымвыводам. Во-первых, нарастающая коммерциализация
деятельности академических издательств увеличиваетозабоченность авторов и редакторов перспективами продажкниг, что приводит к активному использованию давнооправдавшей себя романтизации отверженных. Другое дело,что на дворе неолиберальные времена, так что социальныеисследователи подключаются к пропаганде новойгосударственной политики «менеджмента» бедных, в центрекоторой - возлагание на них самих ответственности засобственный удел. Если нарисовать ту их часть, что«выбирает честный труд», то о тех, кто все-таки «вы-бирает» иное, легче сказать, как это делалось в I960—1970-е годы, «сами виноваты». Во-вторых, Вакантконстатирует отсутствие фундированной теории, которуюможно было бы положить в основу подобных исследований.Вакант скептически оценивает перспективы основанной наэмпирических наблюдениях теории (grounded theory),называя индуктивистской установку на то, чтобы начать свещей, увиденных и услышанных на улице, и закончитьтеоретической для них рамкой, «эпистемологическойсказкой» \Wacquant, 2002:1481]. В-третьих, он всуществующей организации обучения и карьерного роста ввысшей школе Америки видит главную причину двухраспространенных заблуждений: того, что проведениеполевой работы дает ученому индульгенцию на«теоретическую рассеянность», и того, что «социальныетеоретики» не должны марать руки об эмпирическоеисследование, поскольку к ним потом не будут относитьсясерьезно» [Ibid:. 1523].
397 В-четвертых, он находит недостаточным частовыдвигаемый городскими398 этнографами аргумент, что, хотя с теоретическойточки зрения их работы могут вызывать вопросы, онипреследуют лишь скромные цели описания повседневныхпрактик своих информантов. Микромир субъектовисследования тесно связан с макромиром масштабныхматериальных и символических отношений: «...в каждыйсинхронный срез наблюдаемой реальности встроено двойное"оседание" исторических сил в форме институтов и
обладающих телами агентов, наделенными особымиспособностями, желаниями и предрасположенностими»[Wacquant, 2002:1523], каждый фрагмент, избранный дляизображения, связан с интуицией или несформулированнымигипотезами, определяющими, какие именно сведения будутизбраны из обилия эмпирического материала, так чтогородская этнография и сильная теория взаимодополняемы.
398 В своем сравнительном исследовании городскоймаргинальное™ в городах Америки и Франции «Городскиеотверженные» Вакант использует метод систематическогокартографирования социальной дифференциации в гетто тойи другой страны [см.: Wacquant, 2006]. Это позволяетему выявить внутренний социальный антагонизм междутеми, кто понимает неизбежность приспособления кструктурам общества, где доминируют белые, идеморализованными агентами неформальной экономики. Эти«позициональные» различия открываются исследователютолько в результате длительного наблюдения, связаны сразличиями в предрасположенностях людей, что живут поразные стороны этой невидимой границы внутри гетто, ипри посредстве накапливаемой динамики социального иморального дистанцирования определяют, насколько разныесудьбы уготованы людям, вроде бы происходящим из одногоместа.
398 Вакант также вводит понятие сломанного габитуса,созданного из противоречащих друг другу когнитивных иэмоциональных схем, возникшего в результате длительногосуществования в условиях социальной нестабильности ипорождающего противоречащие друг другу поступки,оконча-399-тельно лишающие их носителя шанса эффективноприспособиться.
399 Разруху в районах муниципального жилья в США иупадок пригородов вокруг крупных французских городовобъединяют безработица, плохие жилищные условия,насилие, социальная изоляция и преобладание мигрантов —все это включает в себя, как он выражается,«фантастический» трансатлантический дискурс«геттоизации».
399 Экономические и символические силы соединяются втом, что, например, разложение французского рабочегокласса усугубляется его стигматизацией со стороны тех,кто «символически доминирует».
399 Три десятилетия назад в «Различениях» ПьерБурдье, знаменитый коллега Ваканта, допускал, чтосолидарность с другими помогает рабочим противостоятьсимволическому насилию настолько успешно, что искусствожить им совсем не чуждо, а жизненные испытания научилиих мудрости.
399 Конец 1990-х годов отмечен окончательнымисчезновением классовой солидарности. Исключенность изобщества уже ничем не прикрыта и не украшена. Как иаристотелевские правители, современные городские властиуспешно приучают городских обитателей к социальномупорядку, оставляя без минимальной социальной защиты«неподдающихся».
Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. М, 1984. Т. 4.Арутюнян ЮВ. Введение // Русские: Этносоциол. очерки, М.: Наука,1992.
Арутюнян ЮВ. О симптомах межэтнической интеграции в пост-советском обществе (по материалам этносоциологического исследо-вания Москвы) // Социс. 2007. № 7 [Электрон, ресурс]. URL:hup:// 2008.isras.nj/files/File /Socis/2007—07/Arutyu пуз Л .pdf
Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность / Подред. В.И. Дятлова и др. Москва; Иркутск: Наталис, 2005.
Бредникова О, Паченков О. Азербайджанские торговцы в Петер-бурге: Между «воображаемым сообществом» и «первичными группа-ми» //Диаспоры. 2001. № 1. С 132—147,
Будима ОР, Шмелева МИ. Город и народные традиции русских- Поматериалам Центрального района РСФСР М.; Наука, 1989-
Вендина О. Могут ли в Москве возникнуть этническиекварталы? // Вестн. общественного мнения: Данные. Анализ.Дискуссии. 2004. №3(71). С. 52-64.
Вендина О. Мигранты в Москве: грозит ли российской столице эт-ническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России,Вып. 3- M.: Центр миграцион. исслед. Ин-та географии РАН, 2005.
Воронков В, Рец на кн.: «Национальный вопрос в городском сооб-ществе...» // Неприкосновенный запас. 2004. № 6.
IудковЛ'. Выступление на научном семинаре Евгения Ясина вФонде «Либеральная миссия». 20,09.2006 [Электрон, ресурс]. URL:http:// www.l iberal .ru/si tan_prin t.asp?Rel=l68
Драгунский Д. Демографический туман и национальные перспективы// Космополис. 2003. № 3 [Электрон, ресурс]. Режим доступа:demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit06.php
Дятлов В. «Кавказцы» в российской провинции: криминальныйэпизод как индикатор уровня межэтнической напряженности //Вестн. Евразии. 1995. № I. С. 46—63. (В соавт).
Дятлов В. Кавказцы в Иркутске,- конфликтогенная диаспора //Нетерпимость в России: старые и новые фобии. M.: Моск. ЦентрКарне- ги, 1999а. С. 113-135.
Дятлов В. Торговые меньшинства как источник этнополитическойнапряженности в российской провинции (на примере Иркутска) // Вдвижении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции вЕвразии, M,; Наталис, 19996. С 240—265.
Дятлов В. Диаспора: попытка определиться в понятиях // Диаспо-ры. 1999а № 1. С 8—23.
Дятлов В. Современные торговые меньшинства: фактор стабиль-ности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). M,:Наталис, 2000.
Дятлов В. Диаспора: экспансии термина в общественную практикусовременной России // Диаспоры. 2004- № 3- С 126—138.
Дятлов В, Кузнецов Р. «Шанхай* в центре Иркутска. Экология ки-тайского рынка // Эконом, социология. 2004. Т. 5. № 4. С 56—71.
Карпенко О. «...И гости нашего города...» // Отечественныезаписки. 2002. № 6.
Лейбович ОЛ., Стегний ВЯ., Кабацкое АЯ^ Лысенко О Л, Шушко- eaНВ. Национальный вопрос в городском сообществе. Социокультурныехарактеристики межнациональных отношений в большом уральскомгороде на исходе XX века. Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 2003,
Малахов В. Этничность в большом городе // Неприкосновенныйзапас. 2007. № 1.
Миграция китайцев и дискуссия о «желтой опасности* в дореволю-ционной России // Вестн. Евразии. 2000. № 1 (8). С. 63—89.
Русские: Этносоциол. очерки, М.: Наука, 1992.Соколов М. Социологический солипсизм: анализ одной научной
позиции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т.8, № 1. С 198-210.
Старовойтова Г. В. Этническая группа в современном советскомгороде. Л.: Наука, 1987.
Трубина Е. Рассказанное Я: Отпечатки голоса. Екатеринбург Изд-во УрГУ, 2002.
Чистов КВ. Послесловие // Старовойтова Г Национальное самооп-ределение: подходы и изучение случаев. СПб.: Лимбус Пресс, 1999.С 196—203.
Этничность и экономика в постсоциалистическом пространстве:Сб. ст.: По материалам международ- семинара (Санкт-Петербург, 9—12 сентября 1999) / Под ред. О. Бредниковой и др. СПб.: Центрнезависимых социологических исследований, 2000.
Anderson Е. Code of the Street. Decency, Violence, and theMoral Life of the Inner City. N.Y.: W.W. Norton a Company, 1999-
Booth Ch. Life and Labour of the People in London. 3d ed (1902-1903); Reprint. N.Y.: Augustus V. Kelley, 1969. Vol. 17.
Brettell C. The City as Context: Approaches To Immigrants andCities // Proceedings, Metropolis International Workshop,Lisbon, Sept. 28—29, 1999. Luso-American Development Foundation.
Dual City Restructuring New York / Ed. J.H. Mollenkopf, M.Castells. NY.: Russell Sage Foundation, 1991.
DuneierM. Sidewalk. N.Y.: Farrar, Straus, and Giroux, 1999-Fong TP. The First Suburban Chinatown: The Remaking of
Monterey Park, California. Philadelphia: Temple UniversityPress, 1994.
Friedman J., Wolff C. World City Formation, an Agenda forResearch and Action //International Journal of Urban andRegional Research. 1982. №6 P. 309-344-
GansHJ. The Levittowners: Ways of Life and Politics in a NewSuburban Community. N.Y: Columbia University Press, 1967.
Gam HJ. Urban Villagers: Group and Class in the Life ofItalian-Americans. N.Y: Free Press, 1982.
GansHJ. Urban Vitality and the Fallacy of Physical Determinism(Review of Jane Jacobs' book) // People, Plans and Policies.-Essays on Poverty, Racism, and Other National Urban Problems.N.Y: Columbia University Press, 1994. R 30—40.
GlazerN,MoynthanDP. Beyond the Melting Pot. Cambridge: МГГPress, 1970.
Harvey D. Social Justice and City, Baltimore: The JohnsHopkins Press, 1973.
Harvey D, Cbatterjee L Absolute Rent and the Structuring ofSpace by Governmental and Financial Institutions // Antipode.1974. Vol. 6, № 1. P. 22-36.
Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. N.Y,:Random House and Vintage Books, 1966.
Marcuse P. «Dual City*: a Muddy Metaphor for a Quartered City// International Journal of Urban and Regional Research. 1989.Vol. 13, № 4. P. 697-708.
Marcuse P The Enclave, the Citadel, and the Ghetto: What HasChanged in the Post-Fordist U. S. City // Urban Affairs Review.1997. Vol. 33, № 2. P. 228—264.
Marcuse P. Cities in Quarters // A Companion to the City / EdS. Watson, G. Bridge. Oxford: Blackwell Publishers. 2000. P. 270—281,
Mumford L Mother Jacobs' Home Remedies for Urban Cancer // TheNew Yorker, 1962. Dec. 1.
Newman KS. No Shame in My Game: The Working Poor in the InnerCity. N.Y.: Knopf, 1999.
Of States and Cities; The Partitioning of Urban Space / Ed. P.Marcuse, R. van Kempert Oxford Oxford University Press, 2002.
Peterson E. Cities are Abnormal // Cities Are Abnormal / Ed. EPeterson. Norman: University of Oklahoma Press, 1946. P. 3—26.
Pidido L, Sidawi S, Vos B. An Archaeology of EnvironmentalRacism in Los Angeles // Urban Geography. 1996. Vol. 17, № 5. P.419—439-
Wacquant L. Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, andthe Pitfalls of Urban Ethnography // American Journal ofSociology. 2002. Vol. 107, Na 6. P, 1468—1532.
Wacquant L. Urban Outcasts: Toward a Sociology of Advanced Ma-rginality. Cambridge: Polity, 2006.
WaldingerR. Strangers at the Gates: New Immigrants in UrbanAmerica. Berkeley: University of California Press, 2001.
Wirtb L Urbanism as a Way of Life // The City Reader / Ed RT,LeGates, F Stout. L; Routledge, 1996. P. 97—106.
403-440 Гл 9 Город и повседневностьТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 9Город и повседневность
403 Не является ли само противопоставление видимогои невидимого, присутствующего и отсутствующегопроявлением особой культурной логики? Эта логикасложилась и упрочилась в модерности, побуждая заповерхностью искать глубину, за сказанным — под-разумеваемое, за привычным — необычное. Не эта ли
логика надолго сделала повседневность — поверхностную,говорливую и привычную - либо фоном для социальныхисследований, либо тем, чему они себяпротивопоставляли, культивируя дистанцию от ежедневныхзабот? В XX веке интерес к повседневности воплотилсвоеобразный этический импульс: ключевым для модерностидолжен был быть опыт повседневности, лежащий в основекультуры большинства, а не элиты. Для этого его надобыло увидеть, сменив исследовательскую оптику, нацеливее теперь на раскрытие скрытого значения практик итехник городской повседневности, ее пространств ипредметов. И вот уже собственно в повседневности ищутдиалектику видимого и невидимого, прошлого инастоящего, ординарного и сверхординарного. При этомосознается, что поиск невидимого, скрытого и глубокогосмысла в потоке событий не единственная возможная цель.
403 Городская жизнь сама по себе, как она протекаетсегодня и завтра, тоже очень важна. Но какую стратегию«обрамления» того, что открывается твоему взору,выбрать, какой фокус избрать?
403 Остановиться ли на отдель-404-ном индивиде вего отличии от всех других или попытаться схватить самотечение времени в повседневности?
404 Можно ли ограничить пространствоповседневности либо стоит говорить об особом месте, вкотором ее только и можно наблюдать и проживать? Этим идругим вопросам посвящена сегодня обширная литература.В этой главе я попытаюсь проследить основные линиианализа повседневности, не упуская из виду тот факт,что все посвященные повседневности тексты описываютповседневность городскую.
Город как место и время повседневности404 Как соотносятся теоретическое обсуждение
повседневности «вообще» и городской повседневности?404 Немецкий феноменолог Бернхард Вальденфельс,
обсуждая типы понимания повседневности, о городерассуждает в следующем контексте. Различные формы
деятельности, включенные в разные сферы жизни,подчиняются несопоставимым правилам и существуютавтономно. Повседневность же — это пространство длясоединения разделенного и встречи всего и вся. В этомсмысле она противостоит нарастающей фрагментации нашейжизни и несопоставимости логик, определяющих общение сблизкими или чужими людьми. Повседневность представляетсобой «место обмена и обмен мнениями». Город и естьтакое место. Он проявляет суть таким образом понимаемойповседневности. Он, однако, может стать «плавильнойпечью» для обособленных ценностей и стилей жизни придвух условиях. Во-первых, если «ему удаетсяпротивостоять тотальной функционализации». Приходят наум многочисленные в нашей стране города, в центрекоторых «градообразующие предприятия».
404 Города, возникавшие для выполнения единственнойфункции - беспроблемного воспроизводства промышленнойрабочей силы для заводов, имеют небольшие шан-405-сыстать «местом обмена».
405 Во-вторых, если это большой город. Тогда городможет быть «чем-то большим, нежели собранием памятниковкультуры, построек специального назначения и линийдвижения транспорта» [Валъденфельс, 1991:48—49].
405 И действительно, это жизнь больших городов леглав основу всех известных нам теоретических подходов кповседневности «как таковой». Британский географНайджел Трифг не без иронии замечает: «Труднопредставить ситуационистов1 в Стивенэйдже, де Серто вКатфорде или Лефевра в Льюисхэме» [Thrift, 2000:399]. 1 Ситуационисты (Situationists International) — члены революцион-ного, антибуржуазного, анархо-марксистского политического ихудожественного движения, оформившегося в Европе в 1960-е годы.Город воплощал для ситуационистов кульминацию капиталистическогоотчуждения и «колыбель революции», то есть место, в котороммогут зародиться революционные движения, нацеленные на созданиеальтернативного капитализму общественного устройства.
405 Льюисхэм, к примеру, депрессивный лондонскийжилой массив, часто именуемый «городом крэка». Ничегоне говорящие нам названия призваны продемонстрировать
неизбежность, с какой предметом классических описанийгородской повседневности становились не просто большиегорода, часто столицы, но центры этих городов — Парижа,Лондона, Нью-Йорка. Вес уже написанного об этих особыхпространствах таков, что, кажется, любой сиюминутныйжест, а тем более взгляд исследователя из своего окна,расположенного в средоточии цивилизованного мира,приобретает в них особую значительность. Это города саурой, словно приглашающие зарыться в «чудесныхскладках изношенного каменного пальто», как некогданаписал Беньямин о Париже. Они — сладкая, неотпускающая от себя отрава.
405 Они ошеломляют. 405 Многое из того, что Беньямин пишет об ауре
произведений искусства, приложимо и к ним: эффект аурысостоит, вероятно, в соединении качества нашегопереживания и собственно культурной среды, которая этопереживание делает возможным.
405 Здесь индивид переживает особые игры пространстваи406 времени, сам становясь местом встречи с миром,встречи мимолетного мгновения и вечности, мифа ирациональности, приватного и публичного, экстерьера иинтерьера.
406 Если место городской повседневности — это именнобольшие города, то как дело обстоит с ее временем?Велик соблазн вычленить в повседневности ее сиюминутныепроявления и другое, «длинное» время и прослеживатьодновременное протекание разных длительност ей илитемпоральностей повседневности. Тогда возникаетпроблема соединения в повседневности моментов новизны,которой бомбардирует нас город (новые здания, моды,нравы), и более «медленного», «геологического» ееизмерения. В литературе о повседневности я бы выделилакак минимум три варианта такого соединения.
406 Это, во-первых, соединение повседневности и, таксказать, повсеночности.
406 Желание и страх — невидимая эмоциональнаяинфраструктура городов. Зигмунд Фрейд [см.: Фрейд,1997), Вальтер Беньямин [см.: Benjamin, 1999), авторзамечательной книги «Незримые города» итальянскийпрозаик Итало Кальвино [см.: Кальвино, 1997),британский географ Стив Пайл [см.: Pile, 1996] описалипарадоксальные соединения между городскимифантасмагориями и реальностями.
406 Города — переплетение ассоциаций, соединениепарадоксов и двусмысленностей, образов, представляющихжелания и скрывающих страхи.
406 Во-вторых, это воспроизводство «структурповседневности». В трудах Ферпана Броделя былавсесторонне развита мысль о том, что пестрота новизныне должна заслонять от пас степень, в какой каждый изнас безотчетно воспроизводит целый ряд рутинныхдействий, уходящих во времена, когда отношения людей сместами их обитания только становились [см.: Бродель,2007].
406 Бродель, как и Вальденфельс, считает, что по-вседневность (и прежде всего вещи, которые являются ееопорой, — еда, одежда, жилище) проявляет суть общества.Но вот незадача — эти мелочи обычно ускользают отвнимания.
406 Вот почему их нужно тщательно рассмотреть, таксказать прочитать, а затем очистить от этой коркимелочей спрятанную под407-408 ней структуру.
407 Вездесущность повседневности обыграна в оформленииМузея человека в Париже
408 Но чтение повседневности — задача поистинебезбрежная: начав с одного, переходишь к другому, азаканчиваешь «взвешиванием» мира, то есть пониманиемтого огромного места, которое занимает в немматериальная жизнь. Немного облегчает дело то, что уматериальной жизни - медленные ритмы, которые поддаютсяописанию на языках демографии, пищи, одежды, жилища,технологии, денег, городов. Обычно эти истории пишутсяотдельно друг от друга и остаются на периферииобщепринятой истории. Таким образом, повседневностьпроявляется через потребляемые вещи и людей,вовлеченных в практики их использования, через незна-чительные повторяющиеся обыденные детали. Просеивая эту«пыль истории», ученый способен за видимым беспорядкомусмотреть порядок, к обычной истории добавить историюповседневности и тем самым увековечить повседневностькак основу материальной жизни, почти неподвижную всвоей рутинности под бременем более динамичного теченияэкономической жизни, то есть рыночной экономики, и«реального капитализма». Незаметные, никому неизвестные жизни, страдающие от неравенства инесправедливости, составили (и продолжают составлять)фундамент капиталистической динамики.
408 Бродель настаивал на нашей бессознательнойвовлеченности в повседневность, структуры которой —
мотивы, импульсы, стереотипы, способы действия — многоеза нас решают. Это «длинное» время описано наиболееподробно литераторами и историками в историях большихгородов, позволяя нам сравнивать с ними ритмы труда иотдыха и меру свободы нравов в своем городе. ПитерАкройД в «Биографии Лондона» [см.: Акройд, 2005]воссоздает эволюцию лондонских толп с XVI по XX век,сопровождающуюся нарастанием их безличности ибезразличия: «...это исполинское месиво безымянных инеразличимых особей, это великое стечение неведомых душвоплощало как энергию города, так и егобессмысленность» [Там же, 455].
408 Он тщательно реконструирует жизнь лондонскихдетей409 и пьяниц, женщин разных сословий и городскихоригиналов, давая читателю возможность насладитьсяфактурой вроде бы исчезнувшей жизни.
409 Однако же концентрация на нынешних лондонскихулицах мужчин с сизоватыми носами и количество «фриков»убеждают, что, по меньшей мере, «длинное» времяэксцентричности и излишеств каким-то образом в лондон-ской современности воспроизводится.
В-третьих, это «геология» собственно вещного мира по-вседневности. Опять-таки, при всей стремительностизаполнения нашей жизни все новыми предметами (некоторыеиз них способны создавать новые практики иливидоизменять традиционные практики повседневности)[см.: Гладарев, 2006], целый спектр необходимых дляжизни вещей укореняет нас в истории. Как подчеркиваетИрвинг Гофман: «Мы не можем сказать, что миры создаютсяздесь и сейчас, потому что независимо от того, говоримли мы об игре в карты или о взаимодействии в ходехирургической операции, речь идет об использованиинекоторого традиционного реквизита, обладающеюсобственной историей в большом обществе» [Goffman,1967: 27—28]. Пьем ли мы кофе [см.: Алябьева, 2006],обретаем ли особый опыт жизни в коммунальной квартире[см.: Утехин, 2004], отмечаем ли праздники [см.: Дубин,
2004], вещный мир сообщает социальной жизниустойчивость.
409 Но все же как можно помыслить город как место (ивремя) повседневности? Одна линия исследованиягородской повседневности связана с поиском сутисоциальности и того, как она, собственно, даначеловеческому восприятию. Если мы хотим мыслитьповседневность в ее связи с нашим отношением ксоциальному миру, то мы должны проблематизировать нашевнимание к повседневности, увидеть, так сказать, егоместо и характер.
409 Эксперты по повседневности единодушно замечают,что наше внимание фрагментарно и мимолетно.
409 Во-первых, в городе слишком многое происходитодновременно, и мы спасаемся от эмоциональныхперегрузок поверхностностью внима-410-ния.
410 Во-вторых, повседневность складывается из того,что мы и не настроены замечать. Невидимаяинфраструктура городской жизни, делающая эту жизньдостаточно упорядоченной и предсказуемой, принимаетсянами как должное.
410 В-третьих, наше внимание связано с переживаниемгородской жизни: с обменом мимолетными взглядами,подслушанными разговорами, визуальным пиром летнегогорода, с легкостью и изобретательностью одеяний егообитателей или депрессивностью затянувшейся зимы. Онотакже связано с опытом городской жизни и обусловленнымиим предрасположенностями.
410 И действительно, совершая рутинные действия ипередвижения, что мы замечаем? На что на минутуотвлекаемся? Привлекут ли наше внимание выплескиспонтанности — скажем, громко кричащие подростки?
410 Остолбенеем ли мы от смелого наряда прохожей?Хмыкаем ли мы заинтригованно, увидев пожилогонезнакомца с молодой спутницей?
410 Вглядимся ли тайком в детали жизни обитателейблагополучного квартала?
410 Настроены ли мы блюсти приличия или скорее,удовлетворяя любопытство, «шпионить» за жизнью других?
410 Обличители мы недостатков или замотанные рабочиелошади?
410 В повседневности для всех есть место, но сама этаобласть жизни содержит противоположные потокиинтересов.
410 Во-первых, в ней, если это публичнаяповседневность, ты не один, а потому должен считаться сприличиями. Во-вторых, ты не можешь оставить дома самоеглавное свое содержание — опыт и желания, а потому они,так или иначе, прорываются и делаются явными для дру-гих. Отсюда осмысление повседневности как области конф-ликта. Одна сторона конфликта — те силы, чтопринуждают, подсматривают, журят, напоминают,регулируют, штрафуют. Другая — все мы, дорожащиесвободой и самовыражением. Эту линию осмысленияповседневности создали Зигмунд Фрейд, Анри Лефевр,Ирвинг Гофман, Мишель де Серто.
410 Именно в повседневности проявляются следы нашегоподчинения и нашего сопротивления социальному порядку.
410 Но, может быть, повседневность сама и являетсясферой домини-411-рования каких-то социальных сил?
411 Именно так ее рассматривают феминисты и другиеисследователи, для которых важнее всего политическаязадача критики повседневности как сферы угнетения.
411 В этой работе соединяют усилия философы иисследователи, работающие в области cultural studies.Итальянский философ Джорджо Агамбен, исследовавший тепространства, в которых воплощается в европейскойистории чрезвычайное положение, не выполняются правачеловека, а его жизнь сведена к животной, пишет:«Сегодня нам следует ожидать не только появления новыхлагерей, но и всегда новых психиатрических регулирующихопределений и категорий жизни в городе. Лагерь, которыйсегодня надежно угнездился внутри города, — это новыйбиополитический номос планеты» [см.: Agatnben, 1998:176]. Он призывает не только урбанистов, но и соци-
альных теоретиков, социологов, архитекторовпересмотреть в этом свете модели понимания иорганизации общественных мест мировых городов[см.-.Ibid:. 181].
411 Итальянский мыслитель в своей работе «Homo Sacer»проводит интересные параллели между некоторымиустановлениями античного римского права и современнойдемократической политикой. Фигура, вынесенная вназвание работы, относилась к представителям некоторыхсоциальных групп, которых общество не моглоинтегрировать, а потому они были вытеснены из правовогопространства, они просто жили, являясь, как выражаетсяАгамбен, носителями нагой жизни.
411 При этом о них нельзя сказать, что они были внезакона: они оставались ни вне, ни «внутри» закона.
411 Почему Агамбен считает эти тонкости римскогоправа значимыми сегодня?
411 Демократическая политика, утверждает он, содержитв себе обещание соединить биологическую и политическуюжизнь индивидов.
411 Но это обещание она не выполняет: и сегодня естьгруппы людей, которые биологически существуют, но ихжизнь не имеет экономического или политическогозначения.
411 К таким группам относятся прежде всего беженцы. 411 Начиная с 1915 года одни европейские государства
начали их вытеснять, а другие — ви-412-деть в нихугрозу собственной целостности.
412 Легитимировать создание этих групп позволялариторика «чрезвычайного положения», «исключительнойситуации», «особой опасности». Пространствомчрезвычайного положения стал лагерь — для перемещенныхлиц, концентрационный, для беженцев.
412 Агамбен называет лагерь «матрицей современнойполитической жизни», подчеркивая, что часто онрасположен гораздо ближе к пространствамповседневности, чем этого бы хотелось их обитателям.
412 Объявленная правительствами многих городов войнапротив наркотиков, преступности, терроризма и бедностивыражается не только в повышенных мерах безопасности ваэропортах, на стадионах и в концертных залах, но и вкампаниях «нулевой толерантности», сопровождающихсяжестким обращением с проблемными группами населения —«цветной» молодежью, безработными, уличными торговцамии так далее.
412 Нарушение «дресс-кода» может стать поводом кнадеванию наручников, а «неформальное» поведение —предметом пристального внимания милиции.
412 Спокойствие, необходимое доя повседневной жизнигородского обитателя, сочетается со страхом: что, еслиименно тот магазин, куда ты ходишь за покупками, таветка метро, которой ты пользуешься, тот аквапарк, кудав кои-то веки выбрался, станут роковыми для тебя — из-за чьей-то небрежности или злой воли?
412 Амбивалентность повседневности — этохарактеристика, которую выдвигают на первый планисследователи города. Настроенность городскогообитателя на возможность неожиданной встречи иразъедающая его тревога о будущем и безопасностиблизких, повседневность как объект неустанногорегулирования и пространство для выплесков жизненнойэнергии, сочетание в ней инерции и традиции с однойстороны, и неустанных изменений — с другой, — тольконекоторые проявления этой амбивалентности.
412 Рассмотрим, каким образом развиваласьтеоретическая традиция понимания городскойповседневности как сочетающей статус-кво и егооспаривание.
Улицы как места обитания коллектива: Вальтер Беньямин413 В той индустрии, что сложилась в философии и
cultural studies вокруг имени и идей ВальтераБеньямина, доминирует специфический субъект модерногогорода — фланер [см.: Беньямин, 2000]. Беньяминобнаружил фигуру фланера в текстах Бодлера. У
последнего это горожанин, любопытство и героическоеотстаивание собственной самобытности которого делалиего эмблемой модерности. Фланерство предполагало такуюформу созерцания городской жизни, в которой отстра-ненность и погруженность в ритмы города былинераздельны, вот почему Бодлер говорит о «страстномзрителе».
413 Беньямин в первой версии своего эссе о Бодлере игородской модерности пишет, что фланер — это старик,лишний, отставший от жизни городской обитатель, жизньгорода слишком стремительна для него, он сам скороисчезнет вместе с теми местами, что ему дороги: базарысменятся более организованными формами торговли, истарик сам не подозревает, что подобен в своейнеподвижности товару, обтекаемому потоком покупателей.Позднее Беньямин приходит к более знакомому намописанию «гуляки праздного», который не спешит поделам, в отличие от тех, с кем его сталкивает улица.Фланера описывали и как привилегированного буржуа,царившего в публичных местах, и как потерянногоиндивида, раздавленного грузом городского опыта, и какпрототипа детектива, знающего город как свои пятьпальцев, и просто как покупателя, с радостьюосваивавшего демократичную массовую культуру XIX века.Но чаще всего фланер наделяется особой эстетическойчувствительностью, для него город — источникнескончаемого визуального удовольствия. Аркады торговыхрядов соединяют для него ночь и день, улицу и дом,публичное и приватное, уютное и волнующе-небезопасное.
413 Фланер — воплощение нового типа субъекта,балансирующего между героическим утверждением соб-ственной независимости и соблазном раствориться втолпе.
414 Причина беспрецедентной популярности этой фигуры— в скандальности ее ничегонеделанья, бесцельныхпрогулок, остановок около витрин, глазения, неожиданныхстолкновений. Другие-то в это время демонстрируют своюпродуктивность, добросовестно трудясь либо проводя
время с семьей. «Левых» исследователей образ фланерапривлекал потенциалом сопротивления преобладающиммоделям поведения, героизмом противостояния бюргерствуи негативным диагнозом капитализма. Этот образ вызвалтакже прилив интереса исследователей к публичнымпространствам, в частности центральным улицам, гуляя покоторым люди становились объектами взглядов друг друга.
414 Между тем в «Пассажах» Беньямин подробноописывает другого городского субъекта — «коллектив»,который постоянно и неустанно «живет, переживает,распознает и изобретает» [Benjamin, 1999; 423]. Еслибуржуа живет в четырех стенах собственного дома, тостены, меж которыми обитает коллектив, образованызданиями улиц. Коллективное обитание — активнаяпрактика, в ходе которой мир «интериоризируется»,присваивается в ходе бесконечных интерпретаций так, чтона окружающей среде запечатлеваются следы случайныхизобретений, иногда меняющих ее социальную функцию.
414 Беньямин остроумно играет аналогиями междужилищем буржуа и обиталищем коллектива, выискивая наулицах Парижа и Берлина своеобразные эквивалентыбуржуазного интерьера. Вместо картины маслом врисовальной комнате — блестящая эмалированнаямагазинная вывеска. Вместо письменного стола — стеныфасадов с предупреждениями «Объявления не вывешивать».Вместо библиотеки — газетные витрины. Вместо бронзовыхбюстов - почтовые ящики. Вместо спальни — скамьи впарках. Вместо балкона — терраса кафе. Вместо вестибюля— участок трамвайных путей. Вместо коридора — проходнойдвор. Вместо рисовальной комнаты — торговые пассажи.
414 Дело, как мне кажется, не в попытке мыслителяподобными анало-415-гиями сообщить достоинство жизнитех, у кого никогда не будет «настоящих» рисовальной ибиблиотеки. Его скорее восхищает способность парижанделать улицу интерьером в смысле ее обживания иприспособления для своих нужд.
415 Он цитирует впечатление одного наблюдателясередины XIX века о том, что даже на вывороченных для
ремонта из мостовой булыжниках немедленнопристраиваются уличные торговцы, предлагая ножи изаписные книжки, вышитые воротнички и старый хлам.
415 Беньямин, однако, подчеркивает, что эта средаобитания коллектива принадлежит не только ему. Онаможет стать объектом радикального переустройства, какэто произошло в Париже во время реформ барона Османа.Проведенная Османом радикальная перестройка Парижаотражала увеличение стоимости земли в центральныхрайонах города. Извлечению максимума прибыли мешало то,что здесь издавна жили рабочие (об этом также шла речьв главе «Город как место экономической деятельности»).Их обиталища сносились, а на их месте возводилисьмагазины и общественные здания. Вместо улиц с плохойрепутацией возникали добропорядочные кварталы ибульвары. Но опять-таки «османизация», которойпосвящено немало страниц «Пассажей», описываетсяБеньямином вместе с теми возможностями, которыепреобразованная материальная среда города открывает дляприсвоения ее беднотой. Широкие проспекты не простонавсегда овеществленные притязания буржуазии нагосподство: они открыты для формирования икристаллизации культурного творчества пролетарскихколлективов. Прежде беднота могла найти для себяубежище в узких улицах и неосвещенных переулках. Османположил этому конец, провозгласив, что наступило времякультуры открытых пространств, широких проспектов,электрического света, запрета на проституцию.
415 Но Беньямин убежден, что уж если улицы сталиместом коллективного обитания, то их расширение иблагоустройство не помеха для тех, кому они издавна416 были домом родным.
416 Рационалистическое планирование, конечно,мощная, неумолимая сила, претендующая на такуюорганизацию городской среды, которая и прибыль быгарантировала, и гражданскому миру способствовала.
416 Власти извлекли урок из уличной борьбы рабочих;на мостовых были устроены деревянные настилы, улицы
расширены, в том числе и потому, что возвести баррикадуна широких улицах гораздо сложнее, к тому же по новымпроспектам жандармы могли вмиг доскакать до рабочихкварталов. Барон Осман победил: Париж подчинился егопреобразованиям. Но баррикады выросли и в новом Париже,
416 Одну часть работы Беньямин посвящает смыслувозведения баррикад на новых, благоустроенных улицах:пусть ненадолго, по они воплотили потенциалколлективного изменения городского пространства. В XXвеке, когда память о революционных потрясениях, чтолегла в основу новых праздников, стерлась, толькопроницательный наблюдатель может почувствовать связьмежду массовым праздником и массовым восстанием: «Дляглубокого бессознательного существования массы радо-стные праздники и фейерверки — это всего лишь игра, вкоторой они готовятся к моменту совершеннолетия, к томучасу, когда паника и страх после долгих лет разлукипризнают друг друга как братья и обнимутся вреволюционном восстании» [Беньямин, 2000: 276).
416 Тем временем власти и коммерсанты разработалидругие стратегии взаимодействия с городскими«коллективами». Разнообразные блага цивилизациистановились все более доступными в складывающемсяобществе потребления: активно, в качестве именно«народных праздников» проводились всемирныепромышленные выставки, во время которых «рабочийчеловек как клиент находится на переднем плане» [Тамже: 158].
416 Так складывались основы индустрии развлечений. 416 Вторым значимым средством эмансипации городскихобитателей стал кинематограф, как нельзя лучшеотвечавший тем сдвигам в механизмах восприятия горожан,которые пришлись на ру-417-418-беж XIX и XX столетий.
417 Проблематизация границы между интерьером иэкстерьером по-питерски
418 О массовом предназначении нового искусствасвидетельствует не только тот факт, что первые ки-нотеатры возникли в рабочих кварталах и иммигрантскихгетто, но и то, что в 1910—1930-х годы их строительствоактивно шло параллельно в центре городов и впригородах.
418 В «Произведении искусства в век механическойвоспроизводимости» читаем: «Наши пивные и городскиеулицы, наши конторы и меблированные комнаты, нашивокзалы и фабрики, казалось, безнадежно замкнули нас всвоем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этотказемат динамитом десятых долей секунд, и вот мыспокойно отправляемся в увлекательное путешествие погрудам его обломков» [Беньямин, 2000: 145]. Выставки Икинотеатры, а еще универмаги — места фантасмагории,места, куда люди приходят, чтобы отвлечься и развлечь-ся. Фантасмагория — эффект волшебного фонаря, создающе-го оптическую иллюзию. Фантасмагория возникает, когдаумелые мерчандайзеры раскладывают вещи так, что людипогружаются в коллективную иллюзию, в мечты о доступномбогатстве и изобилии.
418 В опыте потребления, главным образом во-ображаемого, они обретают равенство, забывая себя,становясь частью массы и объектом пропаганды. «Храмытоварного фетишизма» обещают прогресс без революции:
ходи меж витрин и мечтай, что все это станет твоим.Кинотеатры помогут избавиться от чувства одиночества.
Эстетическое и повседневное418 В городах повседневная жизнь подверглась
коммодификации (или товаризации — встречается и такойвариант перевода слова commodification).
418 Начало эстетизации как мира товаров, так и мираповседневности было положено, согласно Беньямину, в XIXвеке, с созданием первых универсальных магазинов, вкоторых отрабатывались стратегии привлекательнойраскладки новинок, с нарастанием ценности балконов, скоторых можно было обозревать толпу в безопасномотдале-419-нии от запахов и столкновений.
419 Производство вещей и социальное воспроизводство,массовое потребление и политическая мобилизация впредставлении Беньямина — все это соединяется вгородском пространстве.
419 Знаменитый фланер интересен мыслителю и егозавороженностью изящными мелочами, умело расположеннымив витрине и на прилавке. Мечты фланера — и о деньгах,на которые все это можно купить. Описывая в эссе«Париж, столица девятнадцатого столетия» места, вкоторых индустрия предметов роскоши нашла возможностьпоказать свои достижения — пассажи и торговые выставки,— Беньямин демонстрирует истоки большинстваиспользуемых сегодня способов рекламы товаров исоблазнения покупателей. Так, говоря о том, что приотделке пассажей «искусство поступает на службу кпродавцу», Беньямин предвосхищает размах, с какимбольшинство сложившихся в рамках искусства стратегийорганизации зрительного восприятия транслируется ииспользуется визуальной культурой с коммерческимицелями. Частью этого процесса становится то, что«фотография, в свою очередь, резко расширяет, начиная ссередины века, сферу своего товарного применения»[Беньямин, 2000: 157]. Этим достигается «утонченность визображении мертвых о&ьектов», что кладется в основу
рекламы, и придается необходимый ореол «"specialite" —эксклюзивной товарной марке, появляющейся в это время виндустрии предметов роскоши» [Там же. 159].«Эксклюзивность», «элитарность», «стильность» — слова,которыми с середины позапрошлого века и до сих порпестрят билборды и рекламные проспекты. «Эксклю-зивность» девальвировалась от неумеренногоупотребления, и вот уже в рекламе возводимого жилогодома мы читаем «исключительный».
419 Слова все же второстепенны по отношению ккачественному изображению, способствующему, каквыразился Беньямин, «интронизации товара»: сегодняшняяжурнальная индустрия является плотью от плотикультуриндустрии, опора которой на клише и повторенияуже знакомых потребителям сюжетов и ходов была описанадругими представителями критической теории — Адорно иХоркхаймером.
419 Еще в 1940-е го-420-ды ими была отчеканенаформула, хорошо, как мне кажется, описывающая суть ипостсоциалистического культурного потребления:«Градация жизненных стандартов находится в отношенииточного соответствия со степенью связанности тех илииных слоев и индивидов с системой» \Адорно,Хоркхаймер,1997: 188].
420 Эстетизация охватывает такие тенденции, кактеатрализация политики, повсеместная стилизация и«брендинг», а самое главное — рост значимости видимостисубъектов и тенденций в публичном пространстве инарастание общей зависимости от тех, кто определяет,кто, что и на каких условиях может быть показано.Согласимся, сегодня именно эстетическое измерениепроисходящего выходит на передний план, как если быэстетические ценности настолько поднялись в общейиерархии ценностей, что их преследование искупаетмногочисленные жертвы.
420 Проблема не в том, какой стиль и где продви-гается, но скорее в том, что стиль используется —открыто и скрыто — даже в тех областях, где прежде
царила голая функциональность. Эстетизация обликалюдей, объектов повседневности, городского пространстваи политики в качестве доминирующей тенденции фигурируетв наши дни в самого разного рода текстах в качествесамо собой разумеющегося аргумента. Эстетика — в видедизайна — проникает сегодня повсюду, не будучи ужедостоянием только общественной, финансовой иликультурной элиты: «В некотором смысле эстетическим,убийственно эстетическим, оказывается все» [Бод- рийяр,2006:10б]. Продвижение приятных для наших чувств (ипрежде всего зрения) субъектов, предметов и интерьеровстановится поистине повсеместным. Способы, какимикрасота и чувственность, совершенство и роскошь сегоднявостребованы, весьма разнообразны, а пути, какими людипобуждаются платить за них, достаточно изощренны.
420 Однако в их основе, по мнению критиковэстетизации, — универсальный механизм «низведения <...>до степени всего только объектов администрирования,которым заранее формируется любой из под421 разделов современной жизни вплоть до языка ивосприятия» \Адорно, Хорюсаймер, 1997: 56].
421 Не этим ли механизмом сегодня равноопределяются и манипулирование электоратом, и«мерчандайзинг», когда единственный путь к нужномутовару в магазине предполагает знакомство со всемассортиментом, а запах кофе или корицы с яблоками вмагазине побуждает к импульсивным покупкам? Задачасоздания эстетической атмосферы стоит пфед стилистами идизайнерами, политтехнологами и косметологами,осветителями и экспертами, бухгалтерами и рекламщиками,PR-специалистами и оформителями — всеми теми, ктовключен в значимый для позднего капитализма процессделания из вещей чего-то большего, нежели простополезные и осязаемые предметы. Эстетизация наращиваеткак прибавочную стоимость товаров (без подобающейнаружности сегодня не будет продан ни один продукт, аэпитет «дизайнерский» часто означает лишь «болеедорогой»), так и их потребительную стоимость-
пользование и любование вещами сегодня нерасторжимы.«Стильность» и понимание того, как ее найти,подчеркнуть, продать, продвинуть, навязать, составляютодно из определений того различия, которое «новыекультурные посредники», как их называл П. Бурдье,настойчиво проводят между собой и своими клиентами.
421 Порождать желание и стимулировать новые и новыекруги потребления — вот их задача.
421 В итоге практики повседневности, включая и«контркультурные», профессионализуются икоммодифицируются.
Повседневность как пространство спонтанности исопротивления:
Анри Лефевр и Мишель де Серто421 Французский неомарксистский философ Анри Лефевр
говорит о «бюрократии контролируемого потребления», обобъединении сил рынка и правительственной власти.
421 Он исследует потенциал повседневной спонтанности:способна ли422 она противостоять как структурам угнетения, так ирутине обыденности?
422 Повседневность, когда она свободна от рутины иблизка по смыслу содержательному досугу, «предполагаетсамобытный поиск - и неважно, умелый или неуклюжий —стиля жизни, а возможно, и искусства жизни, своего родасчастья» [Lefebvre, 1992: 58].
422 Лефевр считал повседневность главным угломзрения, под каким следует рассматривать город. Онполемизировал с той традицией осмысленияповседневности, которая сложилась в европейскойфилософии во второй половине XIX — начале XX века. Оназадана трудами С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Г. Зимме- ля,М. Шелера, М, Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. В ее основе —дихотомия подлинности индивидуального самопревзойденияи неподлинности повседневного существования с оглядкойна других [см.: Трубина, 2004а; 20046]. Находясь подвлиянием Хайдеггера, Лефевр все же возражает против
тезиса о неподлинности повседневности. Повседневность —это «реальная жизнь», происходящая «здесь и сейчас»,это место встречи человека и истории. У философии естьдолг: начав с анализа повседневности, обрестиинтеллектуальные орудия понимания современности и ееизменения. «Конкретность» повседневности и еетворческая энергия должны лечь в основу соединенияинтеллектуальных и материальных аспектов жизни.
422 Время повседневности — одновременно кумулятивно инекумулятивно, непрерывно и прерывно, Кумулятивность внем связана с пронизанностью повседневности языком,который историзирует опыт и включает людей в процессытруда и потребления, что оборачивается реификацией иотчуждением [см.: Lefebvre, 1990:324]. «Длинное» времяповседневности проявляется в архаических временныхциклах, связанных с ритуалами, ритмами жизни тела,традиционными символами. Связь в нем прерывности инепрерывности в том, что, с одной стороны, онообразовано следующими друг за другом событиями, сдругой стороны, в нем всегда возможны кризис, разрыв,обновление.
422 Это значит, что от своих носителей — людей — по-423-вседневность требует не только способности кпостоянной адаптации, но и способности ксоприкосновению с различными историческимидлительностями и пространственными образованиями.
423 Эти последние помогают различить в по-вседневности противоречия, сформировать адекватное со-циальное сознание, а тем самым увеличить шансы наиндивидуальное и коллективное освобождение. Отчуждение,которым чревата повседневность, может быть преодолено спомощью тех ресурсов, которые она в себе содержит, Упонятия повседневности тем самым выдвигается на первыйплан политическое измерение: призывы к изменению жизни,утверждает Лефевр, ничто без создания подходящихпространств. Урок советского конструктивизма, считаетон, в демонстрации взаимосвязи между новыми социальнымиотношениями и новым типом пространства [см.: Lefebvre,
1991: 59]. Пространства повседневности как раз такиепространства: они годятся для изменения, идет ли речь орутинных практиках или материальных компонентах. Как ивсе городское пространство, они соединяют «близкийпорядок» и «отдаленный порядок», то есть, с однойстороны, практики индивидов и групп, а с другой —институциональные практики (см.: Lefebvre, 1990].
423 Как Лефевр объясняет необходимость измененияповседневности? С его точки зрения, капитализм создает,«производит» для себя особое, «абстрактное»пространство за счет наложения ограничений на ритмыповседневности. В итоге образуются три типапространства: I) пространственные практики (они создаютповседневность); 2) репрезентации пространства(упорядочивающие пространство виды знания,репрезентаций и дискурсов); 3) пространстварепрезентации (создаваемые материально и телесно).
423 О первом типе он рассуждает так Если ты знаешь,что такое «торговый центр», «на углу», «рынок», то тывладеешь соответствующей пространственной практикой —ориентации среди городских улиц или шопинга.
423 Второй тип — карты, чертежи, модели, расчеты,используемые экспертами-профессиона-424-лами,создающими и преобразующими пространство.
424 Третий тип включает эмоционально нагруженныеобразы, символы и смыслы, мифы и легенды (все это можнобыло бы назвать культурными пространствами, но Лефеврсчитает, что использование этого слова не только ничегоне проясняет, но и запутывает дело). Святые ипроклятые, мужские и женские, прозаические ифантасмагорические места — их объединяет укорененностьв истории — и общей и индивидуальной.
424 Большинство профессионалов, с грустьюконстатирует Лефевр, заняты репрезентациямипространства. Лишь некоторые — на стороне пространстварепрезентации. Так, он противопоставляет Ле Корбюзье,технократическая суть архитектуры которого у него невызывала сомнений, и Фрэнка Ллойда Райха, создавшего
«коммунитарное пространство репрезентации, восходящее кбиблейской и протестантской традиции» \Lefebvre, 1991:43].
424 Для последовательного марксиста творчество Райхаотнюдь не бесспорно, в том хотя бы смысле, что домастиля «прерия», конечно, составили эпоху в архитектуре,но предназначались-то для элиты. А вот были ли когда-тосозданы пространства репрезентации, предназначенные дляколлективного проживания?
424 Вряд ли. Лефевр прослеживает два параллельныхпроцесса: нарастание абстрактности представлений опространстве и подверстывание человеческих телесности ичувственности под идеологические и теоретические нужды.Города в итоге «обестелесниваются», а тела опусто-шаются: технократам-планировщикам интересны только ихполезные функции и предсказуемые движения.
424 Планы архитекторов, замыслы планировщиков,амбиции властей (репрезентации пространства) ивоспринимаемый мир пространственных практик, какправило, находятся в конфликте,
424 Репрезентации побеждают гораздо чаще, так чтоможно говорить о своеобразной «колонизации»повседневности теми, кто сначала на бумаге воплощаетсвои, специфические о ней представления, а затемпринимается за переустройство жизни.
424 Репрезентации пространства представляют собой425 «смесь понимания и идеологии — всегда относительнуюи находящуюся в процессе изменения» [Lefebvre,1991:41].
425 Вопреки своей абстрактности, они вовлечены всоциальную и политическую практику: «...отношения,установившиеся между объектами и людьми врепрезентируемом пространстве, подчинены логике,которая рано или поздно их сломает в силу недостатка уних последовательности» [Ibid.]. Сами же эти ре-презентации, насыщенные плодами человеческого воображе-ния и символизации, свободны от выполнения требованийсвязности и последовательности. Лефевр упрекает
этнологов, антропологов, психоаналитиков в том, что теслишком зациклены на «своих» репрезентациях, описывая,к примеру, сны и детские воспоминания, лабиринты ипроходы как образы и символы материнской утробы,игнорируя те варианты репрезентаций, порождаемыесоциальной практикой, что с ними сосуществуют или импротиворечат «Поскольку повседневная жизнь остается врабстве у абстрактного пространства (с его оченьконкретными ограничениями); поскольку единственныесовершаемые улучшения — техническое усовершенствованиедеталей (например, частота и скорость транспортировкиили частично улучшенные удобства); короче говоря,поскольку единственная связь между рабочимипространствами, пространствами свободного времени ижилыми пространствами задается инстанциями политическойвласти и их механизмами контроля, постольку проект"изменения жизни" должен оставаться не более чемполитическим призывом, выдвигаемым или оставляемым всоответствии с нуждами момента» [Ibid.-. 59-60].
425 Но творческие проявления телесности («жизнь безтеорий», как выражается Лефевр) могут сломать этотгрустный расклад, так что тела погруженных вповседневность людей не только опосредуютвзаимодействие практик и репрезентаций, но и могут егоизменить. Главный вектор этих позитивных изменений —расширение спектра желаний, которые в городах можноудовлетворить так, чтобы их населяли не только работ-ники, но и не чуждые разнообразных страстей субъекты.
425 По-426-вседневная жизнь обладает праздничнымпотенциалом, его только нужно высвободить.
426 Рассуждения Лефевра трогают своим идеализмом иогорчают допущением, что разрыв между повседневностью ивластными структурами — это в конечном счете классовыйразрыв. Его возмущает молчание «пользователей»городского пространства, смирившихся с тем, что онопреобразуется в соответствии с планами ипредставлениями властвующих; «Почему они позволяютманипулировать собой так, что это наносит ущерб их
пространствам и их повседневной жизни, не отвечая наэто массовым восстанием?.. Скорее всего, такое странноеравнодушие достигается посредством отвлечения вниманияи интересов пользователей, бросания подачек в ответ наих требования и предложения или поставки суррогатов дляудовлетворения их жизненных потребностей» [Lefebvre,1991: 51—52].
426 Мишель де Серто не уверен, что горожане могутпроявить свою креативность лишь в массовом восстании.Его объединяет с Беньямином (и ситуационистами)допущение, что городские обитатели могут ежедневнооспаривать рациональность капиталистического города идаже сопротивляться ей. Ему интереснее те повседневныеизобретения и приспособления, которыми люди отвечают наподавление здесь и сегодня. Пространства повседневноститаковы, что в них проявляется культурная логика,считает де Серто. Иногда, правда, «неясные переплетенияповседневного поведения» препятствуют ее раскрытию. Дляэтого приходится занять по отношению к ним дистанцию —подняться, к примеру, на смотровую площадку знаменитогонью-йоркского небоскреба. До неба так близко, чтонебоскребы кажутся гигантскими буквами, на нем начер-танными, а город раскрывается всевидящему взору какогромный текст. Где-то далеко внизу желтеют бесконечныетакси, и можно только догадываться о том огромноммножестве тел, что пишут городской текст, не читая его.
426 «Обычные практики» города, как называет пешеходовде Серто (в том смысле, в каком мы говорим «врач-практик»), обитают в пространствах,427 которых не осознают, обладают их «слепым знанием» ивместе — своими телами — создают пространственные сети,или поэмы.
427 Процессы, организующие обитаемый город,совершаются вслепую, никто их не создает и никто их ненаблюдает. Как далеки они от «геометрических» или«географических» пространств, создаваемых, например,теоретическими конструкциями, и от единообразнойупорядоченности пересечений улиц, которая открывается
взгляду с высоты. «Постоянно взрывающаяся вселенная»[Certeau, 1984: 91] — вот как де Серто называет то, чтопроисходит внизу, у подножия небоскребов. Разнообразиепрактик реальных людей и пестрота историй, которые этипрактики образуют, взрывает единообразие и ясностьпанорамного традиционного представления о городе, ДеСерто противопоставляет этой абстрактной, спланиро-ванной, читаемой пространственности «другую»,включающую антропологическое и поэтическое освоениегорода. Безымянный прохожий - господин повседневности,он ее проживает и создает ему присущими формамиобитания в городе, не пытаясь их интерпретировать илипереводить на научный язык.
427 Нечитаемость и невидимость — вот что создаетповседневность.
427 Так что ошибаются те, кто считает, чтоповседневность можно представить, составляя, к примеру,перечни вещей. Пространственные практики обитателейгорода оплели его весь невидимой сетью. Какие-то из нихможно снять на камеру, описать, заморозить во времени,но самонадеянно считать, что их можно прочитать иосмыслить. Это все равно что считать картутождественной территории. Затрудняет их прочтение и то,что они не рутинное повторение раз и навсегдаотработанных приемов, но постоянное приспособлениектому, что навязано, обходные маневры и уловки тех, кто«тоже тут живет» и кто, как может, сопротивляетсяпопыткам регулирования. Де Серто называет такиепрактики тактиками — «искусством слабых». Пространство,где применяются тактики, — «чужое», подчиняющеесяправилам чуждой людям власти.
427 Так что тактики - это428 маневры «в поле зрения врага», это использованиеуглов, скрытых от наблюдения [см.: Certeau, 1984: 37].
428 Серто считал, что эти сферы автономного действия,объединенные в «сети антидисциплины», противостоятмонотонности несвободной повседневности. Тактикииспользуются «непризнанными создателями, поэтами своих
собственных дел», прокладывающими свои проходы в«джунглях функционал истской рациональности» [Ibid.-.34]. Тактики — неформальное использование городскихпространств, их присвоение через занятия, не предусмот-ренные создателями. Сегодня не столько тактикипешеходов, сколько тактики водителей могут служить томуиллюстрацией. Шоссе и дороги предусмотрены для«стратегического» перемещения из одного пункта вдругой. Каким, однако, тактическим разнообразиемотмечено поведение людей на дорогах: они флиртуют,выпендриваются, играют с детьми, говорят по телефону(опять-таки тактики такого говорения могут бытьразличными), слушают музыку, смотрят фильмы и такдалее. Создатели пространств используют «стратегии». Ихпользователи — «тактики». Но де Серто допускает и менеедихотомич- ное толкование: и то и другое сочетается вдеятельности людей: первое — систематическаяцеленаправленная деятельность, связанная с достижениемдолговременных целей, второе — непосредственныедействия, связанные с конкретными и кратковременнымизадачами.
428 Де Серто использует термин пространственныеистории, чтобы подчеркнуть взаимозависимость текстовыхповествований и пространственных практик. По мере тогокак люди прокладывают себе путь от одной точки города кдругой, они создают личные маршруты, насыщенныесмыслом. Познакомить других с этим смыслом можнопосредством письма. Личные маршруты («пространственныепрактики») «тайно структурируют определяющие условиясоциальной жизни» [Ibid:. 96].
428 Создатели текстов о городах, выбирая метафоры,создавая противопоставления, выделяя одно и опускаядругое,429 создают истории, которые впоследствии становятсялегендами или суевериями, что добавляет описываемым вних пространствам глубину и значимость [см.: Certeem,1984: 106— 107].
429 Передвигаясь в рамках физического и социальногопространств, каждый из нас несет с собой воспоминания,предчувствия, прихотливые ассоциации. Рано или позднота часть города, в которой мы обитаем ежедневно (убольшинства это маршрут «работа — дом»), становитсяаналогом нашего личного биографа: в ней материальнозафиксированы значимые для нас места. Аналогия с такимитекстами, как альбом фотографий (или папка сфотографиями в компьютере) или дневник (или опять жеблог), здесь очень сильная. Есть места (страницы,снимки), которых мы избегаем. Есть места, которые мыпомним другими, как раз об этом, о том, что наша памятьи городские места перформативно соединяются каждый раз,когда мы в них оказываемся, де Серто пишет следующимобразом: «Память — это лишь странствующий ПрекрасныйПринц, кому случилось пробудить Спящую Красавицу — истприм без слов. "Здесь была булочная". "А вот здесь жиластарая миссис Дюпюи". Нас удивляет факт, что места, вкоторых жили, наполнены присутствием отсутствий. То,что мы видим, означает то, чего уж нет:"Посмотри, здесьбыло...", но больше этого не увидеть... Каждое местопреследуют бесчисленные призраки, затаившиеся вмолчании, чтобы быть или не быть "вызванными". Человекнаселяет только призрачные места — в противоположностьтому, что подчеркнуто в Паноптикуме* [Ibid.-. 143—144].
429 «Призрачные» места оживляют призраки людей, мести событий, из которых состоят наши биографии ивзаимодействие с освоенной частью города.
429 Воспоминания и предвосхищения вплетены впространственный опыт и повседневные практики, делаякаждого из нас носителем «длинного» времени по-вседневности и сообщая нам чувство укорененности вобжитом пространстве.
430 Одно из призрачных мест — Еврейское гетто в Венеции — существует только на картинах
431 Музей наизнанку: «призраки» исчезнувшейповседневности
посреди повседневности настоящей431 Задача сообщения городским участкам и местам
значительности стоит перед работниками культурнойиндустрии города. Она часто решается возведениемскульптур, установкой мемориальных досок, придумываниемновых экскурсий и выставок, проведением художественныхакций. Как правило, все эти меры связаны с реальносуществовавшими персонажами и эпизодами, о которыхсоздаются истории. Этот процесс редко бывает свободенот мифологизирования. Ряд представителей культурнойиндустрии Екатеринбурга решили «обнажить прием»,организовав выставку-мистификацию.
В ноябре — декабре 2004 года, пока шла реконструкцияздания Музея истории Екатеринбурга, художница ЕленаГладыше- ва и куратор проекта, сотрудник музея РаисаЗорина на временном деревянном заборе, окружавшемстройку, разместили «брутально» оформленные, в грубыхдеревянных рамках экспонаты, воплощающие невозможностьрасчленения были и легенды в наших отношениях спрошлым, в том числе с той его материальной «пылью»,
как выражается Бродель, для всего объема которой простоне найдется места в музеях.
431 Не получается ли, что именно эта «пыль», то естьвещи случайные и эфемерные, соединяются в современномсоциальном воображении с обсуждаемыми де Серто«призраками» городской повседневности? Авторы выставкиисходили, кажется, именно из этой идеи. Музейнымиэкспонатами стали «призраки прошлого», которые редконаходят последний приют в музеях настоящих: слезы, пенаот выпитого шампанского, запахи, даже отражение света«красного фонаря».
431 Подчеркнутая материальность экспонатовимпровизированного музея — кошмы, кожи, кирпичей,цемента — была тоже сымитирована, чтобы усилить эффектмистификации.
432 То, что выставка и забор располагались на однойиз самых оживленных улиц Екатеринбурга, придало этойакции дополнительную объемность: повседневностьсегодняшняя была, так сказать, поставлена лицом к лицус повседневностью ушедшей. « Призраки» напомнили о себематериально, но не навязчиво. Вот примеры музейныхэкспонатов: «Образец железной руды из шахты,изображенной на первом гербе города. 1781 год»,«Фрагмент трубы первого городского водопровода. Декабрь1925 год», «Отпечаток уха, слышавшего голос И.С.Козловского в Свердловском театре оперы и балета в 1925году», «Заколка для галстука, оброненная В.В,Маяковским во время выступления в Свердловске, 1928год», «Рукавица пер востро ите ля Урал- машзавода. 1930год», «Чулок М. Плисецкой, оставленный в репетиционномзале. 1942 год», «Недокуренная сигара, забытая Ф,Кастро во время пребывания в нашем городе. 1963 год»,«Каркас погремушки миллионного жителя (23 января 1967года) города Свердловска», «Струна от дежурной гитарысвердловского рок-клуба, на которой играли группы"Урфин Джус", 'Трек", "Наутилус Помпилиус", "Чайф","Настя", "Агата Кристи"». Публика не осталасьравнодушной: случайные ошибки в пояснениях энергично
исправлялись чернилами, редко когда тротуар передзабором пустовал.
432 Характеристикой нашей повседневности явилось ито, что некоторые экспонаты исчезли...
Репрезентируемое и нерепрезентируемое в повседневности432 Картина повседневности, нарисованная де Серто,
несет на себе отчетливый отпечаток «поворота к языку»:не только городская реальность всегда уже истолкована,представая перед нами в тех или иных вариантах языковойрепрезентации, но и чтение и речь выступаютфундаментальными операциями городского существования:«Рассказы о путешествиях одновременно воспроизводяттопографию действий и порядок общих мест.
432 Они являются не только "приложением" кнепритязатель-433-434-ным "лешим" высказываниям ириторике.
433 Музей наизнанку434 Они не просто замещают эти последние и переводят
их в область языка. Они фактически организуют нашиперемещения. Повествования слагают путь прежде всегоили по мере того, как ноги его проходят» [см.: Серто,2004: 78].
434 В речи прогулок пешеходы непредсказуемопроговаривают город — в противоположность
зафиксированности созданного планировщиками городскогоязыка — его инфраструктуры, расположения улиц и такдалее. Однако обитатели города «говорят», не вполнепонимая, что делают, обладая, повторим, «слепымзнанием» и образуя с другими горожанами «неясныепереплетения». Только тем, кто создает повествования,дано восстановить «читаемость» тех или иных мест,расправить складки сложенных в них веков и вернуть про-шлое этих мест тем, у кого оно было украдено. Неполучается ли тогда, что де Серто (вместе с Беньяминоми Лефевром) создал влиятельное урбанистическоеметаповествование, в рамках которого власти и обитателигорода замкнуты друг на друга в бесконечномпротивостоянии: первые регулируют и организуют, вторые,импровизируя, сопротивляются, не вполне себе в этомотдавая отчет, а потому находясь в ожидании рассказчикао своем уделе?
434 Австралийский исследователь в области culturalstudies Меган Моррис упрекает де Серто в том, что тот,при всем безусловном вкладе в исследованияповседневности, предложил слишком универсальный взгляди обусловил возникновение специфического, неизбежнобанального дискурса о повседневности: «...обычное —более не объект анализа, но место, из которогопроизводится дискурс» [Morris, 1990: 35]. Исследованияповседневности, намеревавшиеся противостоять капита-листической рациональности, все же сами от нее несвободны. Мы уже вели в главе о разнообразии речь отом, что инерция и интересы издательского рынкаприводят к возникновению потока однотипных продаваемыхурбанистических сочинений.
434 Ирония в том, что описания повседневности самириску-435-ют стать частью повседневного пейзажа,воспроизводя одни и те же мыслительные ходы обудовольствии, импровизации и сопротивлении.
435 Если же говорить не о социологии городскихисследований, но собственно о содержании теории деСерто, то Моррис полагает, что сама ее основанность на
ряде оппозиций обнаруживает ее чрезмернуюабстрактность. «Верх* и «низ», система и процесс,планирование и жизнь, теория и практика, синхрония иистория, структура и история, теория и история (story)— в каких конкретно пространствах воплощаются первые ивторые члены этих оппозиций? Не получается ли, что чемдальше «вниз», в гущу городской повседневности, темсложнее обнаружить в ней царство пешеходов,нарисованное де Серто? Исследовательница сомневается втом, что «пространственное распределение функций»,таких как «смотрение/движение, наблюдение/действие,картографирование/функционирование», осуществленное деСерто в его теории городской повседневности, можнопродуктивно приложить к конкретным городскимпространствам, таким как австралийские пригород илиторговый центр. При всей похожести друг на друга каждоеиз этих мест обладает специфическими историями ифункциями. Мужчины и женщины развивают отличающиесяэмоциональные связи с этими местами, которые вряд лисможет прочитать «гуляющий грамматик, считывающийсходства между местами» [Morris, 1998: 67].
435 Еще более масштабно несогласие с идеями де Серто,которое выражает Найджел Грифг. В главе онеклассических теориях города уже шла речь о том, чтоактивные исследования культурных репрезентаций,проведенные в ходе «культурного» поворота в городскойгеографии и других дисциплинах, вызвали озабоченностьтех авторов, которым все же более значимыми кажутся«нерепрезентируемые» измерения городской жизни, то естьее материальная среда, инфраструктура и те аспектычеловеческого существования, которые ускользают и отосознания, и от воплощения в языке.
435 Главная претензия Трифга к де Серто состоит втом, что тот именно язык считает436 основным ресурсом социальной жизни.
436 Автор так называемой нерепрезентативной теории,Трифт намерен избежать ловушек традиционногорепрезентационного мышления, то есть, к примеру, поиска
все новых многочисленных случаев культурногомаркирования городского пространства. Что же он пред-лагает? Рассматривать город как поле действиямножественных сил, человеческих и нечеловеческих, каксовокупность самых разнообразных компонентов, средикоторых человеческое и социальное отнюдь не всегдалидируют: «Урбанизм повседневности должен проникнуть всмешение плоти и камня, человеческого инечеловеческого, недвижного и текучего, эмоций идействий» \Amin, Thrift, 2002: 21]. Соответственно,взгляд на город де Серто и других кажется Трифтучересчур «гуманистическим», то есть чересчур чело векоцентристским. Поиск проявлений человеческого ичеловечности в гуще повседневности слишком подчиненгосподствующим повествовательным рамкам, которыеприводят к тому, что исследователь (сам де Серто и те,кто работает в его традиции) определенным образомрисует «маленького», простого человека. Вспомним ещераз: тактики — это практики слабых. Увидеть в жизни«слабых» человеческое — значит воссоздать поэзиюповседневности, проявляющуюся не столько в практиках,сколько в легендах и памяти о тех или иных местах. Но илюди, и практики, и легенды видятся в этой традициистиснутыми системой, зарегулированными директивами,надзираемыми полицией и так далее. Трифт же, как исоздатель теории акторов-сетей Брюно Латур, вообще нерасположен воссоздавать логику той или иной системы,будь то город или общество в целом. Как они с АшемАмином пишут в недавней книге, «нам неинтереснысистемы: это слишком часто предполагает, что угородской жизни есть какая-то имманентная логика»[Ibid:. 2]. Вместо этого — фокус на «многочисленныхсистематизирующих сетях», лишь предварительноупорядочивающих теоретическое видение города.
436 Различение же между большим и малым, практикамии системой, мобильностью и инфраструк-437-турой, накотором основаны идеи де Серто, слишком жестко иметафизично.
437 Другое дело, что пока еще не ясно, сколько икаких исследователей может привлечь идея о том, что«большую часть жизни в городе составляет, скорее,механическая циркуляция тел, объектов и звуков речи,равно как и наличие и регуляция в ее недрахтрансчеловеческой и неорганической жизни (от крыс доканализации)» \Amin, Thrift, 2002: 228].
437 Более конкретное исследование, которое Трифтпредпринимает в полемике с де Серто, нацеленопродемонстрировать, что тот неправ еще и в том, чтоименно прогулки сделал архе- типической городскойпрактикой в век, когда люди не столько ходят, сколькодобираются от места к месту на машине [см.: Thrift,2008: 75—88]. «Поворот к материальности» как главныйфокус исследования города сегодня (и Трифт, безусловно,един из ключевых его участников) — это внимание кматериальным аспектам городской среды, их активной ролив повседневности. Автомобиль конечно же может считатьсяздесь ключевым агентом. Это автомобилизация определяетто, как город освещается и размечается. Этоавтомобилисты выработали свой особый язык, которыйневозможно свести к основным культурным кодам. Но,возможно, еще более интересен в этом контекстесвоеобразный симбиоз человека и машины, в которомидентичности того и другого участника нерасторжимопереплетены, что порождает разнообразные эмоции,связанные с тем, что машина становится проекцией телаводителя. Там, где вождению способствуют бортовойкомпьютер и GPS-навига- тор, агентоподобные качествамашины становятся еще более выражены, их ужебессмысленно рассматривать — в духе cultural studies1970-х годов — только как культурную проекциюсексуальных фантазий или статусных амбиций. Машина темсамым превращается в вариант тех городских мест систориями и богатыми функциями, о которых увлеченнописал де Серто.
437 С музыкальной системой (иногда и видео),контролем климата, совершенством эргономики интерьера,
коммуникатором и прочим автомобиль, с одной стороны,делает его обладате-438-ля автономным, а с другойстороны, помещает, вместе с другими, его на карту,делая видимым и прослеживаемым издалека — родными,полицией, другими автомобилистами.
438 Что тогда остается невидимым в повседневности? 438Трифт предлагает, скорее, говорить, во-первых, о
разных типах видимости, во-вто рых, о том, чтоповседневное поведение отнюдь не всегда неторопливо иотнюдь не всегда находится «по месту жительства», и, в-третьих, что автомобилизация, при всех сложностях,привносимых ею в жизнь города, несомненно, открываетновые возможности осуществления свободы.
438Здесь, однако, неизбежно возникает вопрос о ценеэтой свободы в век непрерывно растущих цен на бензин идругих проявлений глобальной взаимозависимости земныхобитателей. Воспроизводит ли метанарративповседневности, стиснутой меж тисками власти,британский социолог Зигмунд Бауман, рассуждая оповседневной жизни, когда он говорит о том, что все мы«заложники» экспертных знаний и технологий, потребностьв которых поддерживается рыночной экономикой [см.:Бауман, 1996: 214—215]? Тогда недостатки городскойсреды становятся проблемами улучшения нашей собственнойжизни: «...невыносимый шум уличного движенияпревращается в необходимость вставить двойные рамы.Загрязненный городской воздух связывается снеобходимостью покупки глазных капель... То, чтообщественный транспорт приходит в негодность, наводитна мысль о покупке автомобиля, а вместе с тем и обувеличении шума, еще большем загрязнении воздуха иусилении болезненного нервного напряжения, равно как ио еще большем расстройстве общественного транспорта»[Там же]. На даче или в путешествии, за чтением или вовремя волнующего производственного совещания горожанена время снимают с себя «вес» города, только чтобы,импровизируя и приспосабливаясь, возмущаясь и мечтал,вновь ощутить его тяжесть.
438 Взгляд исследователя на повседневность нередкообусловлен как его более общими теоретическимизадачами, так и социально-культурным контекстом.
438 Дух 1960-х воплотился в439 критичности и утопизме, присущих позиции АнриЛефевра, а в поисках Мишелем де Серто следовсопротивления капиталистической рациональностипарадоксально проявились и влияние структурализма, истремление видеть в горожанах способных к деятельностисубъектов.
439 Романтическая увлеченность де Серто и егомногочисленных последователей проявлениями неожиданногои непредсказуемого в повседневности сменилась болеетрезвыми описаниями«микровласти» повседневности, изкоторых следовало, что повседневность вряд ли стоитпоэтизировать и наделять аутентичностью, делая из нееабсолютную противоположность системе власти. Конец XXстолетия отмечен стремлением оспорить уверенность ввозможности описать общие механизмы городской повсед-невности в рамках одной теории (это проявилось вкритике идей де Серто со стороны Меган Моррис) идоказать социаль- но-культурную специфичность той илидругой повседневности. С другой стороны, в идеяхНайджела Трифта можно увидеть стремление построитьдостаточно масштабную теорию.
439 То, насколько это осуществимо в отношениидоязыковых, не- репрезентируемых, эмоциональныхаспектов повседневной жизни, и задает, мне кажется,одну из современных «интриг» постижения повседневности.
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения, М.; СПб.:Медиум-Ювента, 1997.
Акройд П. Биография Лондона, М,: Изд-во Ольги Морозовой, 2005.АлябьеваЛ. Кофе и город, или «Какую радость ежедневно дарит
нам кофейня!» //Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2006. Вып.I. Осень.
Бауман 3. Мыслить социологически, М,: Аспект-Пресс, 1996.Беньямин В. Озарения, М.: Мартис, 2000.
БодрийярЖ. Пароли. Екатеринбург У-Фактория, 2006.Бродель Ф. Структуры повседневности. М.: Мой мир, 2007.Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональ-
ности //Социологос. Вып. 1. Общество и сферы смысла / Сост, В.В.Винокуров, АФ.Филиппов. М.: Прогресс, 1991. С 39— 50.
Гладарее Б. Женщина, мужчина и мобильный телефон // Социс.2006. № 4. С. 68—76,
Дубин В. Будни и праздники // Дубин Б. Интеллектуальные группыи символические формы. М.: Нов. изд-во, 2004 С. 232—251-
Кальвина И. Незримые города. Киев: Лабиринт, 1997-СертоМ. де. Рассказанное пространством // Объять обыкновенное:
Повседневность как текст по-американски и по-русски / Ред. ТДБенедиктова, М.: Изд-во Моек гос. ун-та, 2004. С 75—95.
Трубима Е. Признавая обычное: повседневность в философииСтэнли Кавелла // Объять обыкновенное: Повседневность как текстпо-американски и по-русски / Ред. ТД Бенедиктова. М.: Изд-воМоск. гос. ун-та, 2004а. С. 35-47.
Трубила Е- Аутентичность // Современный философский словарь /Ред. В.Е. Кемеров, Т.Х, Керимов. М.: Академ, проект, 20046. С.66—74.
Утехин И. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004.Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни, СПб.: Алетейя, 1997.Agambett G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life.
Stanford: Stanford University Press, 1998.Атгп A, Thrift N. Cities: Reimagining the Urban, Cambridge:
Polity, 2002.Benjamin w. The Arcades Project. Cambridge Harvard University
Press, 1999.Certeau M. de. The Practice of Everyday Life. Berkeley:
University of California Press, 1984-Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face
Behaviour. N.Y.: Anchor, 1967. (Цит, по: Вахштайн В. Социологиявещей и «поворот к материальному* в социальной теории //Социология вещей, М.: Территория будущего, 2006.)
Lefebvre Н. Everyday Life in the Modern World, New Brunswick:Transaction Publishers, 1990.
Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.Lefebvre H. Critique of Everyday Life. L; NY: Verso, 1992.
Vol. 1.Morris M. Banality for Cultural Studies // Logics of
Television / Ed. P. Mellencamp, Blooming ton: Indiana UniversityPress, 1990. P. 14—43-
Morris M. Ibo Soon Too Late: History in Popular Culture,Bloomington: Indiana University Press, 1998.
Pile S. The Body and the City: Psychoanalysis, Subjectivityand Space, L: Routledge, 1996.
Thrift N. With Child to See any Strange Thing: Everyday Lifein the City // A Companion to the City / Ed. S. Watson, G,Bridge. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. P. 398-409-
Thrift N. Non-Representational Theory. Space, Politics,Affect. Oxon: Routledge, 2008.
441-493 Гл 10 Город и метафорыТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ГЛАВА 10 Город и метафоры
441 Скорее метафоры, а не утверждения определяютбольшинство наших убеждений», — заметил американскийфилософ Ричард Рорти.
441 Насколько этот довод значим для рассуждений огороде? В данной главе пойдет речь о тропах (преждевсего метафорах), которые используются вурбанистической теории и «сопредельных» дискурсах, кчислу которых, с одной стороны, относится философское исоциально-гуманитарное знание, а с другой стороны,
языки повседневности. Я остановлюсь вначале науниверсальных предпосылках использованияпространственных метафор, затем рассмотрю ключевыеклассические метафоры города, а также особенности ихиспользования сегодня.
Пространство как означаемое и означающее441 Пространство как таковое и его самое знакомое
большинству из нас воплощение — пространство городское— представляют собой как источник интерпретаций, так иих объект, играя «попеременно роли означаемого иозначающего», «пространства-содержания и пространства-фигуры», «денотируемого и коннотируемого пространства»,«высказываемого и высказывающего» Щенетт, 1998: 127—128].
441 Эта сложность в начале 1960-х стала предметоманализа французского лекси-442-колога Жоржа Маторе, а вначале 1970-х — французского же философа Анри Лефевра.
442 Жорж Маторе в книге, посвященной «современномупространству» [Matore, 1962. См. пересказ и разбор этойкниги в эссе Ж Женетта «Пространство и язык» в егокниге «Фигуры»], рассматривает, с одной стороны,многочисленные пространственные метафоры, когда втерминах пространства описывается что-то иное, а сдругой — теоретические описания пространства учеными ифилософами и его изображения в литературе и искусстве.Ж. Женетт обращает внимание на явную асимметрию междутем и другим, которой отмечена эта книга. Онапроявляется в том, что о пространстве как таковом, по-видимому, сказать можно не так уж много. Не случайно,говорит он, в той части книги, где речь должна былаидти о содержании репрезентаций пространства, ученыйпредпочитает обсуждать их форму-, каким образом такиевыразительные приемы, как перспектива в живописи,монтаж в кино или описание в литературе, позволяют«справиться» с пространством. Более того, исследовательнастаивает, что «наше пространство, являющеесяколлективным пространством, значительно более ра-
ционализовано, чем пространство индивидуальной грезы ипоэтического воображения [Ibid.-. 173. Цит. по: Женетт,1998: 128]. Женетг заключает на этом основании, что вкниге идет речь скорее о социальной риторикепространства, а разбираемые метафоры близкижурналистским или интеллектуальным клише (этот моментбудет очевиден ниже, когда пойдет речь об использованииметафор города в российском общественном дискурсе).
442 Если Маторе был достаточно равнодушен кпоэтическим тайнам пространства, то Аири Лефевру недавали покоя идеологические завесы, скрывающие егосоциальную суть.
442 Он ставит цель демистифицировать работукапитализма в пространстве, а для этого также призываетк «внимательному исследованию связи между пространствоми языком» [Lefebwe, 1991: 99] и настаивает нарадикальном переосмыслении социально-443-гопространства с помощью своей теории производства про-странства.
443 Если пространство производится, то и вещи (кото-рые прежде мыслились как размещающиеся в пустом про-странстве) и дискурс способны предоставить «ключи исвидетельства этого продуктивною процесса» [Lefebvre,1991:37], Тем самым на место пространства каквместилища приходит пространство как процесс —«процесс, который включает процессы означения, небудучи к ним сводимым» [Ibid,].
443 Значимость метафор для осмысления пространствасостоит, по Лефевру, в том, что они часто становятсяпрепятствием для понимания пространственных практик.Репрезентации пространства представляют собой «смесьпонимания и идеологии — всегда относительную инаходящуюся в процессе изменения» [Ibid.: 41]. Вопрекисвоей абстрактности, они вовлечены в социальную иполитическую практику: «...отношения, установившиесямежду объектами и людьми в репрезентируемомпространстве, подчинены логике, которая рано или поздно
их сломает в силу недостатка у них последовательности»[Ibid.].
443 Тем самым можно заметить существенное сходство вотношении двух французских авторов к пространству и егорепрезентациям: и тот и другой, допуская значимостьиндивидуально найденных интеллектуальных илихудожественных репрезентаций пространства, настаиваютна «коллективной» природе пространства, проявляющейся«рационально» (Мато- ре) и обладающей жесткой логикой(Лефевр). Но если первый, по крайней мере косвенно,признавал невозможность отделения «пространства-содержания» от «пространства-фигуры», то второгоудручала степень, в какой преобладающие репрезентациипространства деформируют и маскируют его социальную ипроцессуальную суть.
443 Одной из главных предпосылок продуктивногоосмысления пространства Анри Лефевр считает отказ оттех представлений о теле, что отстаивались в «предавшейтело» классической философии, и охват современнойтеоретической мыслью444 «тела вместе с пространством, тела в пространстве итела как прародителя (или создателя) пространства»[Lefebvre, 1991: 407].
444 Философы от Декарта до Гегеля были вовлечены в«великий процесс метафориэации, который тело отбросил иподверг отрицанию» [Ibid]. Имеется в виду свойственноефилософии расщепление пространства на постижимое (сутьдуховного абсолюта) и непостижимое (естественное, необлагороженное духовностью и, возможно, являющее собойупадок абсолюта). Пространство как форма и пространствокак субстанция, величественное пространство Космоса исумрачное пространство Земли были в ходе классическойметафориэации разделены, как были разделенывыразительное и осмысленное, означающее и означаемое,содержание сознания и реальность, психическое исоциальное, проживаемое и осознаваемое. Живое тело,представляющее собой «и субъект и объект одновременно»,такими понятийными оппозициями не ухватывалось, чем и
объясняется страсть, с какой Лефевр обрушивается наклассическую философию и отказывается следовать ееметафорам. Классические метафоры строились на сведениивнешнего к внутреннему, социального к психическому.Мыслитель видит в их связи с «бессодержательнымиабстракциями» возможность власти над реальнымипространством и материей: «Логикаредукции/экстраполяции прилагается к классной доске какдоске рисовальной, к чистому листу бумаги каксхематизму во всех его формах, к письму как бессодер-жательной абстракции. Последствия этого modus operandiдаже более тяжелые, поскольку пространство математиков,как и любая абстракция, есть могущественное средстводействия, доминирования над материей — а потому иразрушения» [Ibid:. 298-299].
444 Переход от пространства тела (восходящего ккартезианскому представлению о теле как протяженнойвещи) к осмыслению «тепа в пространстве»осуществляетсяЛефевром генеалогически.
444 Он прослеживает два параллельных процесса:нарастание абстрактности представлений о пространстве иподверегывание человеческих телесности и чувственности445 под идеологические и теоретические нужды (поудачному выражению одного из комментаторов,«декорпореализацию» [см.: Gregory, 1994]).
445 В процессе редукции социального и физическогопространства к пространству эпистемологическому (оно жепсихическое, дискурсивное, картезианское) «свойствапространства как такового эффективно переносятся науровень дискурса, и в особенности на уровень дискурса опространстве» [Lefebvre, 1991:61]. «Тело» в ходе такоймысленной работы также мобилизуется, но скорееинструментально, как посредник между психическим исоциальным. Понятно, что трудно представить, каксвязаны между собой абстрактное «тело» философскойтеории, «понятое просто как опосредование между«субъектом и объектом», и «живое и плотское тело», укоторого есть и специфические пространственные качества
(симметрия и асимметрия) и особая энергия (процессыобмена, выделения, отходы) [Ibid],
445 Онтологическое у Лефевра нередко соединяется систорическим, вот почему свой анализ связи телесности ипространства он реализует, с одной стороны, толкуя о«скотомизации» и «деспиритуализации» тела в ходеевропейской истории (что он связывает с усилением роливизуальности и языка), а с другой стороны, сочувственноизлагает взгляды Лакана, показывая, в какой мересоциальное пространство есть пространство запрета.
445 Примеры такого пространства — необсуждаемое входе коммуникации членов общества, разрыв между теламии сознанием людей, трудности социальноговзаимодействия, влияние социального воздействия насамые непосредственные отношения (ребенка с матерью),невозможность полноценных отношений в окружающей среде,созданной из «совокупностей зон ограничений и запретов»[Ibid.: 35].
445 Да, этот взгляд на вещи отстаивает «логическую,эпистемологическую и антропологическую первичностьязыка по отношению к пространству» [Ibid.: 35], нобессознательное существует, и кто знает, может быть,именно исследование различных проявлений городской«подпольной» жизни вдохнет в психоанализ новую446 жизнь1. 1 Лефевр здесь выступил пророком; в течение последних двух де-сятилетий сложилась интересная традиция психоаналитической ур-банистики. См., например, [Pile, 1996; Vidler, 1992].
446 Пространственный же анализ должен «объяснить ге-незис и построить критику тех институций и подмен,перестановок и метафоризаций, анафоризаций и так далее,которые изменили рассматриваемое нами пространство»[Lefebvre, 1991:404], ведь «знаку присуща силадеструкции, ибо ему присуща сила абстракции» [Ibid:,135]. Процессы метафоризации и визуализации мыслятсяЛефевром как параллельные, взаимо- усиливающие и«работающие» на модернистскую троицу: читаемость—видимость—постижимость. Они связаны с целым рядом
социальных практик которые вроде бы способны ухватитьистину пространства, но в действительности только егодробят, производя множество «обманчивых фрагментов»[Ibid:. 96]. Метафоризация проявляется в том, что телазахвачены не только фрагментами раздробленногопространства, но и сетью того, что философы называют«аналогонами» - образами, знаками и символами: «Этитела вынесены из себя, перенесены и опустошены, таксказать, посредством глаз: мобилизованы каждое мыслимоепритяжение, волнение и соблазн, чтобы очаровать тела ихдвойниками в приукрашенных, улыбающихся и счастливыхпозах; и эта кампания по опустошению тел оказываетсяэффективной в той именно степени, в какой предложенныеобразы отвечают тем "потребностям", что они же ипомогли сформировать» [Ibid:. 98].
446 К метафоризации добавляется метонимиэация,предназначенная с помощью части показать целое (этотехника, убежден Лефевр, которую с легкостью можноиспользовать неверно). Ее «ошибочное» использованиеусугубляет процесс фрагментации пространства. Этотпроцесс также «ошибочный», ибо, по глобальной логикеистории, целостное пространство должно принадлежатьцелостному человеку; Этот процесс происходит вреальности, в «целом».
446 Способны ли «части» — к примеру, фильмы,реклама, фотографии — что-то в этом отношении447 сделать?
447 Способны они обнажить исторические «ошибки» вотношении пространства? Вряд ли, ибо «ни один образ неспособен исправить эту ошибку», поскольку сами образыдробят пространство, они сами — его фрагменты[Lefebvre, 1991: 96— 97].
447 Декупаж и монтаж — разрезание вещей иперестановка полученных частей в сочетании с ошибкой ииллюзией, уже содержащимися во взгляде художников икарандаше чертежников, — все это вовлечено висторическую работу абстракции, все это участвует вфетишизации абстракции и навязывании ее людям в
качестве нормы. «Чистая» форма отделяется от«нечистого» содержания — от проживаемого людьми времении от их осязаемых, весомых, теплых тел. Метафорыпоэтому работают как идеологическая и художественнаязавеса, неизбежная и часто влекущая обманчивойточностью и ясностью, но драматически отчуждающая людейот пространства и собственных тел.
«О, узнаю этот лабиринт!» и чувство пространства как вместилища
447 Перейдем теперь к идеям, почерпнутым в техдисциплинах, что создают, по выражению Лефевра,«антропологическую сцену» социального пространства. То,что осмысление и репрезентация реальности людьмизависят от их предрасположенности к определеннымметафорам, — один из главных выводов когнитивнойлингвистики и символической и когнитивной антропологии.Сразу же подчеркнем, что сама пространственная природатерминов, используемых для описания метафорическойактивности, таких как приводимые ниже«картографирование», «рамка» и т.д., является одним измногочисленных проявлений повсеместности именнопространственных метафор.
447 Согласно когнитивной антропологии, в ходеэволюции люди приобрели способность перекрестногокартографирования, применяя навыки, приобретенные в од-448-ной области, для другой.
448Эта когнитивная способность положила началоантропоморфизму и тотемизму и выявила масштабный сдвигв человеческом познавательном опыте:
448 «В ходе развития и эволюциичеловеческий ум претерпевает трансформацию:от заданного сериями относительнонезависимых когнитивных областей к такому,в котором идеи, способы мышления и знаниясвободно перемещаются между этимиобластями» [Mithen, 1999: 154].
448Выводы когнитивной лингвистики достигнуты с опоройна исследования искусственного интеллекта, в ходекоторых было выявлено существование психологическихрамок, которые люди используют, чтобыконтекстуализовать новую информацию. Мы осмысливаемновое, структурируя его на основе уже известного. Новыесферы знания осмысляются через сложившиеся когнитивныесхемы. Это понимание мышления как картографированиянового на основе имеющегося опыта объясняет, почемупроцессы интерпретации и понимания ассоциируются преждевсего с метафорой. Универсализм этого подходапроявляется в уверенности его сторонников в том, чтовсе носители данной культуры имеют более или менееидентичный набор базисных метафор. Однако егонацеленность на выявление прежде всего базисных метафоркак инвариантов постижения мира и демонстрацию ихпредсказательной силы не всегда согласуется с очевиднойнеобходимостью сохранять «открытость» результатовинтерпретации. Проиллюстрирую это вот на каком примере.
«О, узнаю этот лабиринт, и вот этот угол я тожехорошо помню!» — эту фразу могла бы произнести крыса,умей она говорить, когда ее второй раз помещают влабиринт, из которого надо найти выход. Джефф Хокинсприводит этот пример для демонстрации значимостисистемы памяти для функционирования мозга: крысапомнит, как она выбралась в прошлый раз изисследованного ею помещения, что помогает ей делатьнужные повороты на перекрестках \Хокинс, Блейксли,2007: 102—103].
448 Крыса использует карту местности, что у неесложи-449-лась с помощью проб и ошибок в первый раз,для того чтобы увереннее ориентироваться в лабиринте вовторой раз.
449 Интересно сопоставить этот образ крысы-исследователя, эффективно извлекающей уроки из прошлогоопыта освоения пространства, с образом человека, упорноэкстраполирующего собственный телесный опыт наокружающий мир, который лежит в основе влиятельной
теории метафорических понятий, развиваемой когнитивнымилингвистами Джорджем Лакоф- фом и Марком Джонсоном.Наше чувство пространства, с их точки зрения,инстинктивно и основано на том биологически всеобщемфизиологическом факте, что «каждый из нас естьвместилище, ограниченное поверхностью тела и наделенноеспособностью ориентации типа "внутри — вовне"» \Лакофф,Джонсон, 2004:54]. Неврологические истоки метафорвыдвигаются в этой теории на первый план, а осмыслениеих социальной динамики, а также взаимодействиядискурсивного и социального в их функционированиипрактически отсутствует. С другой стороны, трудно что-то возразить, когда читаешь, что вместилище содержит всебе пространство и отграничено от внешнего мира. Эта«онтологическая», как ее называют исследователи,метафора — действительно повсеместна: она успешноприменяется независимо от масштаба описываемого фено-мена, от комнаты до окружающей среды в целом, с помощьюсопутствующих метафор, таких прежде всего, как«граница».
449 Исследователи ничего не пишут о том, как связанымежду собой вместилища, но опять-таки опыт обращения сосвоим собственным телом, в которое что-то время отвремени «входит», и опыт нахождения тела в пространствепозволяет построить простую цепочку: тело—комната—дом—улица- район—город—местность—край—страна. Одновместилище вмещает другое вместилище, которое в своюочередь образует часть большего вместилища.Традиционный обыденный взгляд на вещи гармоничнососуществует с географическим.
449 Географ от века смотрел на мир так, чтобы земноепространство разбивалось на единицы, удобные дляанализа и понима-450-ния.
450 Понимания... и управления, как ясно нам сегодня. 450 Структурирование территории на основе
ограниченных пространств, точки входа в которые (ивыхода из них) людей, вещей и информацииконтролируются, — это и условие нормальной жизни, и
предпосылка политики, и главный принцип профес-сионального картографирования. Именно этим объясняетсясосуществование в географической литературе района,города, местности, региона, национального государства иконтинента. Представления об их соотношении,сложившиеся в период модерности, — иерархические-, одновходит в другое по принципу матрешки. Когнитивныелингвисты добавили бы, что это не специфическийзавоевательный и дисциплинарный характер модсрностиобусловил доминирование такого представления, но,повторим, фундаментальный телесный опыт человека. Междутем умница крыса, о которой я упомянула выше,напоминает нам о возможности мыслить в центре мета-форической активности не столько уже заданного своимтелам субъекта, сколько субъекта, способногоприспособиться к новому окружению, формируя с ним новые(но тоже определяющие его) отношения.
450 Статичность метафоры пространства как вместилища(и такого рода объяснения базисных пространственныхметафор), насколько мне известно, не подвергаласькритике в контексте когнитивной лингвистики ипроблематизируется сегодня только в рамках масштабныхсоциальных теорий (см. об этом главы, посвященныеглобализации и мобильности).
450 Между тем с момента публикации классическойкниги Лакоффа и Джонсона («Метафоры, которыми мыживем», 1990), где развивается идея вместилища какодной из самых распространенных онтологических метафор,прошло двадцать лет, и в последующих работахисследователи развили более динамичный взгляд наключевые метафоры, учтя уже не только телесный, но исоциальный опыт человека как ставящего цели существа,что неразрывно связано с его разнообразнымпередвижением в пространстве.
451 Памятник границе между двумя мирами, разделявшейБерлин: Чек-Пойнт Чарли
452 Исследователи повторяют в своей последней книгепринципиальную для них «нейробиологическую» мысль, чтоу людей есть «воплощенное» (embodied), то естьпроистекающее из их телесного опыта, чувствопространственной ориентации (расположение по вертикали,горизонтали и промежуточное); их положения впространстве по отношению к другим людям и вещам(впереди, позади, рядом, выше, ниже); связи междуразличными частями их тел и между ними и другими(соединенный, разъединенный, поглощенный); воздействиямира на них и их воздействия на мир (сопротивление,сила, движение). Эти варианты чувства пространствавыражаются в таких образньис схемах, как вместилище,часть—целое, центр—периферия, цикл, соединение,повторение, контакт, соседство, вынужденное движение,поддержка, равновесие, прямой—извилистый, близко—далеко[Lakoff, Johnson, 1999]. Физические образы,привлекаемые для фиксации пространственною чувствачеловека, входят в его интерпретативный потенциал, нопредполагают специфическую логику использования,налагая ограничения на возможные варианты высказыванийи описаний. Так, вместилища можно наполнить,опустошить, разрезать, разломать. У этих ограниченийесть в свою очередь другие ограничения, связанные с
природой вещей в разогретом вместилище нарастаетдавление.
452 Лакофф и Джонсон говорят о «системеметафорического картографирования» [Ibid:. 179], частьюкоторой является такое «единое сложноекартографирование», которое они называют «метафораместа и события-структуры». Метафоры места и вместилища(в оригинале — location and container) и события-структуры именуются ими «фундаментальными». Разницамежду ними в том, что одна позволяет осмысливатьсобытия как места, а другая — как объекты, а вместе онисоставляют один из базисных механизмов осмыслениясобытий и их причин. «Метафора места и события-структуры» включает в себя ряд составляющих.
452 Приведем этот перечень (в оригинале все этиметафоры приведены с большой буквы): состояния — этоме-453-ста (внутренние пространства ограниченныхрегионов); изменения — это движения (в ограниченныерегионы или из них); причины — это силы; причинение —это вынужденное движение (из одного места в другое);действия — это самонаправляемые движения; цели — этонаправления движения; средства - это пути движения внужном направлении; трудности — это препятствиядвижению; свобода действия — это отсутствие препятствийдвижению; внешние события - это большие движущиесяобъекты (обладающие силой); долговременныецеленаправленные виды деятельности — это путешествия[Lakoff, Johnson, 1999].
453 Такого рода метафорическое картографированиепозволяет «концептуализировать» события и все ихаспекты — от действий и изменений до состояний и целей.Связь между собой этих метафор подобна связи междуцентром и радиусом, когда боковые ответвления сохраняюттолько некоторые свойства центральной метафоры.
Что люди делают с метафорами453 Эта картина метафорической активности человека
была бы еще более убедительной, если бы позволяла
ответить на такой вопрос: если метафора вместилища,естественно вытекая из телесного опыта человека, можетбыть распространена на сколь угодно большиепространства, то почему такие усилия требуются длятого, чтобы внедрить и поддерживать в сознании людейобраз нерушимой границы их государства с другимигосударствами? На это могут возразить, что метафо-рические выражения как риторический прием и понятийныеметафоры — разные вещи, О первых говорит критическаятеория дискурса, о вторых, как уже говорилось,когнитивная теория.
453 Доминирующие метафоры позволяют сконструироватьтакие дискурсивные поля, которые успешно исключатальтернативные способы выражения, принадлежащиепротивоборствующим группам [Fairlclougb, 1995: 71—72].
454 С другой стороны, мобилизация пространственныхметафор для социальной борьбы происходит повсеместно,но она, как кажется, тем эффективнее, чем точнеесоциальная риторика задействует понятийные метафоры.
454 С какими социальными и культурными препятствиямисталкивается порождение сложных метафор? Насколькосвободны в своем использовании метафор носителикультуры? Насколько эффективны навязываемые людямдискурсы и чем, то есть какими вариантамипринадлежности к какому территориальному образованию,люди на эти дискурсы отвечают? Если значимостьпроведения границ для нациестроительства описана ужемногократно, то еще ждет своих исследователей масштаб-ный и противоречивый процесс, так сказать, регионо-строительства, в котором соединяются, с одной стороны,чувство малой родины, а с другой — дискурсивногоконструирования региональных идентичностей амбициознымигубернаторами и работающими на них массмедиа.
454 Так, рефлексирующая девушка с Урала можетобидеться, если москвичи или зарубежные друзья назовутее сибирячкой, но попытки местных властей ееполитически мобилизовать на том основании, что Урал —ее малая родина, будут, скорее всего, обречены на по-
ражение. Однако проведение символических границ внутрикрая или региона может быть и весьма успешным, если оноопирается как раз на городские идентичности.
454 Открытие того, что на «нашей» улице дела делаютсятак, а на «их» — по-другому, может быть весьмаболезненным и неминуемо приведет к осознанию тогогрустного факта, что далеко не все границы проводятсяиндивидом самостоятельно и что пересечение некоторыхграниц — при всей их невидимости — может тебе дорогостоить.
454 Если когнитивные психологи способность людейпроводить искусственные границы с помощью воображаемыхлиний выводят в конечном счете из инстинктивногочувства пространства, а некоторые географы — изонтологической первичности необходимости «разграфления»земной поверхности на дискретные единицы, каждая изкоторых независима и равна с другами [см.: O'Tuathati,1996], то455 социальные теоретики — из политическойнеобходимости социального конструирования наций,регионов и других географических сущностей [Paasi,200Ъ, Андерсон, 2001].
455 Один из влиятельных политических географов такописывает последний процесс: «Границы пронизываютобщество через многочисленные практики и дискурсы, припомощи которых границы существуют иинституционализуются. Поэтому территория создаетсяполитическими, экономическими, правительственными,культурными и другими практиками и сопутствующими имзначениями, соответственно эти практикитерриториализуют повседневную жизнь. Эти элементыстановятся частью повседневности посредствомпространственной социализации — процесса, с помощьюкоторого люди социализуются как члены территориальнойгруппы» [Paasi, 1991: 240].
455 Как сочетаются, в частности, правительственныепрактики «территориализации» повседневной жизни спроцессами «стихийной» пространственной социализации
людей? Временами, как мы знаем, это происходит весьмадраматично, когда, к примеру, отсутствие прописки илирегистрации в столичном городе препятствует реализациижизненных планов, а иногда и ставит на грань выживания.В случае серьезной болезни, например, когда набесплатную помощь рассчитывать не приходится, а решитьпроблему с помощью денег тоже сложно: их надо вначале вдостаточном количестве заработать, а как это сделать,если в высокооплачиваемой работе отказывают по причинеотсутствия регистрации — все это похоже на вариантхеллеровской «ловушки-22».
455 Экономические практики создания территорийприводят к тому, что сегодня все больше молодыхобитателей столиц всерьез продумывают для себяперспективу пожизненной аренды жилья, а значит,обреченности на неоднократное обживание чужойтерритории и сжимание собственной территории до оченьскромных размеров.
455 Замечательное описание такого «территориально-экзистенциального» опыта находим у Лидии Масловой,которая говорит о «парадоксальном кайфе», что сулитквартиросъемщику «обживание территории, на которой ещене остыли следы враждебного, в общем-то, присутствия456 посторонних людей: еще вчера на этой бельевойверевке сохли заштопанные носки маляра-таджика, а этавытяжка над плитой еще хранит ароматы пирожков скотятами, которые жарила на машинном масле неопрятнаятолстуха в бигудях. И вот все эти следы прежнихобитателей, осквернивших место, которое ты теперьоблюбовал для себя, предстоит стереть и нанести вместоних свои — застолбить, пометить свой участок, вымести вдальний угол сознания, как оставленный прежнимижильцами мусор, мысль, что никакой этот участок насамом деле не твой и твоим никогда не будет» [Маслова,2007: 36].
456 Если Лидия Маслова говорит о естественнойвраждебности нового обитателя приватного пространствапо отношению к его прежним обитателям, то Оксана
Карпенко борется за политически корректное (иное,нежели «гости нашего города») именование новыхобитателей общего городского пространства (см. об этомподробнее в главе о культурном разнообразии) [Карпенко,2002]. Ее исследование хорошо иллюстрирует тот тезис,что метафоры выделяют и придают целостность тольконекоторым сторонам нашего опыта. Иными словами, ониспособны конструировать социальную реальность, спо-собствуя выбору людьми специфических действий, которыев свою очередь становятся подспорьем способностиметафор делать опыт целостным. Эта выборочностьметафорической репрезентации связана прежде всего свластными отношениями: «послания» доминирующейметафорической модели настолько убедительны, что людине видят смысла им противостоять.
Метафоры и риторические основания науки456 Когнитивные структуры, разделяемые членами тех
или иных групп, постоянно пересоздаются в ходекоммуникации, в том числе между академическим ипубличным дискурсами.
456 Это пересоздание опирается на интертекстуальныецепи, в457 которых те или другие репрезентации«реконтекстуализиру ются».
457 Социальные репрезентации задают общую рамку ком-муникации и имеют тенденцию «замерзать»,«натурализоваться», «реифицироваться», то естьмыслиться как само собой разумеющиеся вариантыпонимания происходящего.
457 Ментальные модели, структурирующие идеологии,воспроизводятся через дискурсивные практики. Их цель —обеспечивать сплоченность той или иной социальнойгруппы. В идеале дслжно существовать множество (покрайней мере, несколько) метафорических моделей,описывающих специфический опыт, но часто дело сводитсяк одной, «оправдавшей» себя исторически или особенноубедительной [Van Dijk, 1996: 85].
457 Выделение одних и затушевание другихсемантических характеристик реальности позволяетпроследить идеологическую природу выборов впроизводстве и использовании сложных метафор.«Интуитивная привлекательность научной теории связана стем, насколько хорошо ее метафоры отражают наш опыт», —пишут Лакофф и Джонсон [Лакофф, Джонсон, 1990:402].Это, конечно, так но верно и другое: использованныеавторами с разными риторическими целями, метафорыпопулярных социальных теорий становятся частью опыта,организуя его и выступая своеобразной линзой, сквозькоторую его носители смотрят на происходящее. От«базиса» и «надстройки» Маркса до «капиталов» Бурдье,от «механизма» «органической солидарности» и«структуры» до «Паноптикума» Фуко, от «публичной сферы»Хабермаса до «пузырей» Сло- тердайка — само это обилиевостребованных сегодня метафор свидетельствует омногом. О том, в частности, что старое к ним отношение,подчеркивающее их «служебностъ» (дескать, метафорынужны лишь на первых порах концептуальной работы, чтобызафиксировать важную интуицию, а впоследствии уступаютместо аналитически выверенным понятиям), непродуктивно.
457 Напротив, понимание их центральности не толькодля гуманитарных, но и для социологических текстовпозволит осознать характер их своеобразногодоминирования.
457 К приме-458-ру, рассматривая, как складываласьтематика креативности в социологии, немецкий социологХанс Ионас говорит о значении «характеристики важнейшихформ, в которых возникала и приобретала влияниеидея...» [Иоас, 2005: 81].
458 От креативности как выражения через креативностькак производство к креативности как революции — так онсуммирует несколько веков осмысления этого феноменаевропейской мыслью. Этим формам, настаивает он, нехватает ясности, «зачастую они остаются образными иописательными, иносказательными». Эти формы, понятно,метафоры, оперирование которыми предполагает опору на
специфические навыки, к числу которых Ионас относит«готовность считать феномены, описанные лишь в первомприближении, действительно доступными опытномупознанию» [Ibid].
458 Урбанисты прибегают к тропам в силу множествапричин. Одна из них в том, что другого способа создатьу читателя впечатление реалистичности, объективности,научности изложения европейская культура (а наука — ееключевая часть), по сути, не знает1. 1 Существует влиятельная традиция изучения риторических основанийнауки. В частности, X. Уайт посвятил этому много своих работ,показывая, среди прочего, как широко используются тропыисториками и социальными теоретиками. Один из его примеров —классическая работа историка Томсона, посвященная рабочемуклассу Англии, Томсон атакует социологов Смелзера и Дарендорфаза ошибочный объективизм, за уверенность в том, что можно найтизаконы, определяющие формирование социальных классов, инастаивает на конкретно-историческом изучении рабочего класса,определяя свою методологию как создание «биографии английскогорабочего класса от отрочества до ранней зрелости» [Thomson,1963: 1 lj. Уайт справедливо подчеркивает, что эта метафораничуть не менее культурно ограничена и условна, нежели понятиеобъективных законов, которыми оперируют теоретики-позитивисты \White, 1978: 1(5-—17].
458 Тропы — метафора и метонимия, синекдоха и ирония- способны порождать смысл, связывая незнакомый опыт сознакомым.
458 Удерживая в поле рефлексии риторические основысвоего научного предприятия, мы точнее понимаем,459 чем, собственно, занимаемся.
459 Мы не столько фиксируем существующую независимоот нас реальность, сколько продуцируем на ее основечто-то повое, пусть наша «продукция», скажем, новое(или сравнительно новое, что сегодня, увы, неизбежно)прочтение городского ритуала. Это может помочь тем,кому не по душе строгая социологическая наука,избавиться от комплексов, испытываемых в компанииэкспертов по репрезентативным выборкам. Как пишет X,Уайт, «Дискурс неустраним, поскольку он создает почву,на которой решают, что должно считаться фактом в
рассматриваемых вопросах, и определяет, какой способболее подходит для понимания таким образом созданныхфактов» (курсив автора) [White, 1978: 3].
459 Однако мало зафиксировать насыщенностьсоциологического письма метафорами. Важно проследитьзакономерности их рецепции, передачи и использования всоциальном мире за пределами теории. Составляясвоеобразный арсенал выражений, они напоминают онеразрывной связи истории ключевых идей той или другойдисциплины и социально-гуманитарного знания в целом, ихтекущей практики и общего набора культурныхрепертуаров. Они побуждают задуматься и о синтетичностимысли и опыта, мысли и «видения как», на которыеобращает внимание Людвиг Витгенштейн. Разбирая рисунки-обманки, в которых можно увидеть и кролика и утку(или иветви дерева и человеческую фигуру), и резонно замечая,что «голова, увиденная так, не имеет ведь ни малейшегосходства с головой, увиденной этак, — хотя они исовпадают», мыслитель толкует об «изменении аспекта»или «уяснении аспекта» (то есть новом восприятиикартины, которое надстраивается над старым), в которомсовмещаются визуальный опыт и мысль [Витгенштейн, 1994:278—286]. Мыслитель спрашивает: «Но как возможно, чточеловек видит вещь сообразно некоторой интерпретации? —В свете данного вопроса это предстает как весьмастранный факт, словно бы нечто насильственно втис-кивалось в форму, совершенно не соответствующую ему.
459 Одна-460-ко здесь не наблюдается никакогодавления или принуждения» [Витгенштейн, 1994s 286].
460 В то же время, как подчеркивалось выше, приближайшем рассмотрении работа метафор оказывается несвободна от момента хотя бы некоторой принудительности.По меньшей мере, эта принудительность проявляется всмене метафор, в их зависимости от интеллектуальной и,шире, культурной моды, либо, напротив, — в инерции, скакой они воспроизводятся, будучи упорно прилагаемыми кконтекстам, сильно отличающимся от тех, в которых онивозникли. Для демонстрации этого тезиса я обращусь к
четырем классическим метафорам города и рассмотрю, какменяется характер их использования в современныхроссийских профессиональном и массовом дискурсах.
Базар, джунгли, организм и машина: классические метафоры города в русскоязычной Сети
460 В классической социальной теории, в посвященнойгороду литературе сложилось как минимум четыре метафорыгородского «организованного разнообразия», а именногород как базар, город как джунгли, город как организми город как машина [Langer, 1984]. Типология ПитераЛангера возникает на пересечении двух характерных длясоциологического знания тенденций. Первая связана смасштабом анализа, который может быть«макроскопическим», то есть нацеленным на группы илиинституты, и «микроскопическим», то есть огра-ничивающимся представлениями и действиями индивидов.Вторая связана с нормативной оценкой города, которая всамом простом случае может представлять собой либопозитивное, либо негативное к нему отношение. В первомслучае это обернется разговорами о культуре,витальности, возможностях, разнообразии, выборе.
460 Во втором случае — о грязи и бо-461-лезнях,скученности и преступности. Тогда упомянутые четыреметафоры можно, в свою очередь, использовать как эмбле-мы преобладавших в прошлом социологических подходов кгороду, где среди «микроскопических» «позитивной» будетметафора города как базара, а «негативной» - какджунглей, а среди «макроскопических» «позитивным» будет«город как организм», а «негативным» — как «машина».
461 Лангер здесь, скорее, подытоживает итоги развитияклассического социологического знания, и его типологиявыглядит упрощенной, но поскольку систематическихпопыток проанализировать богатство городской метафорикиизвестно совсем немного, рассмотрим его идеи подробнее.
461 Метафора города как базара схватывает, поЛангеру, не столько экономическую подоплекусуществования города, сколько богатство предоставляемых
им возможностей и осуществляемой в нем активности. Дляиллюстрации этой идеи Лангер использует работы Г. Зиммеля, особо подчеркивая следующий ход мысли немецкоготеоретика. Модерный город задает широкий спектрвозможных видов занятий индивиду, отныне не связанномусо своей «первичной» группой (откуда он традиционно былобречен черпать ресурсы), но освобожденному социально-экономическим развитием для формирования своихсобственных ресурсов. Зиммель, правда, обходится всвоих текстах, посвященных множественной принадлежностисовременного индивида, без этой метафоры, и Лангер при-знает, что уж если какую метафору тот в своих текстах онакладывающихся друг на друга социальных кругахпредвосхитил, так это метафору сети.
461 Что касается города как джунглей, эта метафорафиксирует такие черты города, как опять-таки егоразнообразие, но также его плотную заселенность,таящуюся в нем опасность и экологическую хрупкость.Разные виды существ в джунглях города борются за местопод солнцем, за свою территорию. В кажущемся хаосе естьсвой невидимый глазу порядок — соревнование за ресурсы.
461 Использование экологической образ-462-ностипозволяет социологам осмыслить различные вариантыборьбы, ведущейся индивидами в городе.
462 Лангер иллюстрирует свои доводы с помощьюЗиммеля, а также Ирвина Гофмана: что такое, не безоснования считает последний, есть различные способы«презентации себя в повседневной жизни», если неприспособление к жизни в городских джунглях?
462 Появление метафоры «город как организм» связанос эволюционизмом Герберта Спенсера, который провеланалогию между специализированными социальнымиинститутами и частями человеческого тела. Нормальноефункционирование частей организма как предпосылка еговыживания и благополучия предполагает наличиеконтролирующих органов — «сердца» общества и его«мозга», которые, в свою очередь, зависят от тела вцелом и вместе с ним работают на общее благо. Время от
времени организм атакуют разного рода инфекции иболезни, но его здоровые силы помогают справиться сними. Организм, наконец, — целостность, обладающаякачествами, которые несводимы к тем, которыми обладаютсоставляющие его части. Это прежде всего общество-организм, и на город эта метафора распространяетсяавтоматически.
462 Наконец, город потому работает как машина, чтовсе его части функционируют без помех и в точности так,как их спроектировали создатели — группа людей, котораяпредназначила город для извлечения прибыли.
462 Типология Лангера, повторюсь, не охватывает всегобогатства городской метафорики и своим теоретическимпростодушием резко контрастирует с сегодняшнимиштудиями, в которых проблематизируются ипротивопоставление макро- и микросоциологии, инормативная подоплека описаний города. С другойстороны, само соединение в ходе его анализа, таксказать, векторов метафорической активности и ихнормативного наполнения («за» или «против» города)столь редко проводится в чисто социологическойлитературе, что было бы грустно, если бы его идеиостались лишь достоянием истории социологии иурбанистики.
462 Ведь зафиксированные им мета-463-форы продолжаютработать в определении задач муниципальной политики вархитектуре и градостроительстве, маркетинге ижурналистике как в России, так и за рубежом.
463 Эти дискурсивные поля никогда не бываютсовершенно свободны от нормативных «обертонов».Рассмотрим, как упомянутые метафоры эволюционируют внекоторых вариантах западного дискурса и с какимицелями используются у нас
Базар при метро463 Базар, по Лангеру, это позитивная метафора
городского многоцветья и разнообразия. С его точкизрения, «социологи базара» — это те, кто городское
разнообразие мыслит прежде всего как многочисленныеварианты столкновений множества людей-индивидов,широчайший спектр обмениваемых благ и дифференциациюпотребностей. Мне кажется, что это слово, избранное имдля наименования одного варианта метафорическогоосмысления города, наименее удачное. Как я уже сказала,Лангер усматривает истоки «базарной социологии» уЗиммеля, хотя тот нигде, кажется, о базаре в отмеченномсмысле не говорит.
463 Более того, непонятно, чем эта метафора (неговоря уж о реальном опыте посещения городского базара)может соответствовать главной характеристикестолкновений индивидов в городе — показному равнодушиюдруг к другу, о котором Зиммель говорит в «Духовнойжизни больших городов». С другой стороны, еслиперечесть эту классическую работу в недоуменных поискахименно «базара», то и выразительно описанная «теснаясутолока больших городов» [Зиммель, 2002: 30], изафиксированное «одновременное скопление людей и ихборьба за покупателя» [Там же-. 32] как-то объясняютход мысли Лангера. Ему было важно показать значимостьпродуцируемых культурой образов городов и их важность,сопоставимую с экономической составляющей городскойжизни.
463 Поэтому, вероятно, он проигнорировал отчеканенноеЗиммелем464 суждение: «Большой город настоящего времени живетпочти исключительно производством для рынка, т.е. длясовершенно неизвестных, самим производителем никогда невиденных покупателей» [Зиммель, 2002: 25].
464 С «базаром» и в России дело обстоит достаточносложно, если оценивать его метафорический потенциал. Содной стороны, это слою исторически нагруженонегативными коннотациями, что, в частности, выражаетсяв «сексистской» поговорке «Где баба, там рынок; гдедве, там базар». Возможно, как раз этой историческойтрадицией словоупотребления объясняются неудачи прежнихпопыток власти использовать его в позитивном смысле. К
примеру, известна попытка Н.С Хрущева популяризоватьразличение между теми, «кто едет на базар», то естьполноценными работниками, и теми, «кто едет с базара»,то есть теми, кому пора на покой \Яницкий, 2005].
464 Тем не менее о базаре как метафоре городскогоразнообразия речь у нас иногда идет, но чаще всего вкачестве реакции на западные тенденции. Так одинВсемирный конгресс Международного союза архитекторовносил название «Базар архитектур», и в своем отчете обучастии в нем российский архитектор сетует на то, чтоотечественный опыт на конгрессе был представлен слабо,хотя некоторые замыслы и проекты российскихархитекторов по своему разнообразию и охвату вполне«тянут» на то, чтобы тоже называться «базаромархитектур» [Младковская, 2005].
464 Пусть базар — синоним многоцветья иразнообразия, но в повседневной реальности западногогорода есть блошиные и фермерские рынки, а название«базар» закрепилось кое-где за рождественскимиярмарками на центральных площадях. В последнее времятак называют бутики и магазинчики, торгующие всякойвсячиной, в первом случае играя с экзотическимивосточными коннотациями, во втором — оправдывая пестрыйассортимент.
464 У нас же базар скорее ассоциируется с восточнойдикостью, приезжими торговцами и «неорганизованнойторговлей».
465 Проблематичное единодушие, с каким и простыежители, и интеллектуалы, и власти прибегают к такпонимаемой метафоре базара, выражается во множествесетований и суждений. Так, жители одного из пригородовСанкт-Петербурга жалуются журналистам на разгул уличнойторговли дешевым ширпотребом, которые ведут «выходцы изюжных республик, наверняка находясь на территорииРоссийской Федерации на незаконных основаниях».
465 Авторы жалобы, ничтоже сумняшеся, сваливают наприезжих участившиеся в пригороде кражи и даже именноих считают причиной «бытового экстремизма» местных
жителей. Они прибегают к такому цветистому противопо-ставлению: «Неоднократные просьбы к администрации Пуш-кинского района и милиции пресечь незаконную уличнуюторговлю, которая превращает "город муз" в город-базари городскую помойку, остались неуслышанными» [Сайт ГТРКСанкт-Петербург, 2007].
465 Связь базара и дикости, причем не только«привозной», как в первом примере, но и «родной»,связанной с периодом первоначального накоплениякапитала, а теперь, предполагается, победнопревзойденной, эксплуатируют и официальные лица в целяхобоснования политики «регулирования» уличной торговли:«Разномастные ларьки и палатки не украшают наши улицы идворы, и зачем нам превращать город в базар, мы прошлиэти дикие 90-е годы. Сегодня Москва — одна из самыхдинамично развивающихся и красивых столиц мира, и всемы, ее жители, должны делать все возможное для еедальнейшего процветания» [Саламова, 2007].
465 Противопоставление успешно преодоленного наследияпрошлого и замечательного настоящего — риторическийприем, сложившийся в советские времена, многократноопробованный и себя оправдавший. Так, в одной из книг осоциалистических городах, выпущенных в 1930-е, читаем:«Старая Москва — такая, как она есть — неминуемо иочень скоро станет серьезным тормозом в нашем движениивперед.
465 Социализм не втиснешь в старые, негодные,отжившие свой век оболочки» [Строгова, 1930]. Сегодня в отжившие оболочки уличныхларьков не вписывается уже государственный капитализм.
466 «Базар» в высказывании столичного чиновникаотсылает к периоду ельцинского президентства, откоторого сегодня принято отмежевываться.
466 Период относительной свободы малого бизнеса,часть которого только в «ларьках и палатках» и воз-можна, уступает сегодня место его нарастающемувытеснению, а степень государственного и муниципальногорегулирования торговли нарастает настолько, что
нуждается для своего оправдания в сильных риторическихходах. «Базарная дикость» подается как проблематичная иэстетически («не украшающая») и социально(препятствующая «динамике» и «процветанию»). Однакоесли в представлении одних она (по крайней мере, встолице) успешно преодолевается с помощью эффективногоменеджмента городского пространства, то, по мнениюдругих, она как раз повсеместно торжествует врезультате неправильных реформ: «Вестернизация Россииприводит к обратным результатам - если считать, чтоожидаемым результатом должно было стать превращениеhomo sovieticus в homo capita- listicus. Вместоцивилизованного западного "рынка" в России образовался"восточный базар"... Таким образом, в расплату заантипатриотическую вестернизацию мы получили истерни-зацию и архаизацию жизненных реалий» [Малинкин, 1999:70—72].
466 В последнем фрагменте игнорируется неизбежностьразрыва между замыслами реформаторов и полученнымирезультатами. Нежелательные тенденции морализаторе к иподаны как «расплата» за корыстно («антипатриотически»)задуманные и воплощенные реформы. Негативность итоговрепрезентируется темпорально — возврат к вроде бы ужепреодоленному далекому прошлому («архаизация») ипространственно — воцарение якобы неорганичных намсоциальных реалий («ис- тернизация»).
466 «Базар» как метафора изобилия возможностей ивлекущего многоцветья трансформируется в эмблему чужогои чуждого, которое подстерегает всех, кто не заботится«патриотически» о границах своей общности.
Организм города: хрупкость стабильности467 Уподобление функционирования городов жизни тел
сложилось гораздо раньше, нежели стали широкоциркулировать метафоры общества как организма.Функциональная аналогия между различными городскимипространствами и различными системами организма была
наглядной, а ее риторический потенциал казался простобезграничным.
467 Сравнение улиц с артериями (если остановиться насамой, пожалуй, важной конкретизации масштабнойметафоры города как организма) стало возможным в силубеспрецедентной популярности, какую получили идеиУильяма Гарвея — медика, открывшего системукровообращения. Возникнув в начале XVII века, онипроникли вначале в литературу, а к началу века XVIII-ro— в городское планирование. Так, Лондон времен Великойчумы 1665 года в «Дневнике чумного года» Даниеля Дефо —существо, страдающее от «лихорадки», «лик» которогоотмечен «странной переменой», а улицы подобны потокамзараженной крови [Акройд, 2005:238]. Питер Акройдзамечает по этому поводу, что «неясно, то ли Лондон какединый организм болеет оттого, что болеют егообитатели, то ли наоборот» [Там же], и на многихстраницах своей книги играет с этой двусмысленностью.То он ведет речь о том, как «смятение объединило...лондонцев в единый организм» [Там же-. 458], то сгордостью пишет «Нередко удивлялись тому, что город,при всем его многообразии и ошеломляющей сложности,способен действовать как единый и стабильный организм»[Гам же: 460]. Нестесненному движению индивидов посвободным от заторов улицам должно было способствоватьсоздание бульваров, проспектов и площадей, чем иозаботились планировщики Лондона и других европейскихгородов. Напротив скопление, «коагуляция» людей посредитесных кварталов мыслились как угрожающие Здоровьюгорода.
467 Если тело — это система вен и артерий,объединенных большим и малым кругами кровообращения, тогород — это468 система улиц, под которыми пролегают трубыканализации.
468 Если тело нуждается в постоянном притоке воды,чтобы смывать с него пот и удалять из него ненужное, тогород также нуждается в надежном водоснабжении:
скорость, с какой он продуцирует нечистоты, поистинеустрашающа. Как образование полостей, в которыхскапливается не получающая выхода жидкость, не сулиттелу ничего хорошего, так и город должен избавляться отрезервуаров со стоячей водой. Литература и публицистикаXIX столетия дают немало примеров выразительнойразработки этой метафоры: английские архитекторывоздавали дань уважения «бессмертному Гарвею»,британские изобретатели Чэдвик и Уорд и их коллеги,«создав канализацию, изобрели город в качестве места,постоянно нуждающегося в очистке» [Иллич, 2000], авыразители антипромышленных настроений о необходимостиочистки городского организма говорили метафорически,указывая на вредные привычки населения, моральнозаразные районы и события, а также источающих опасностьприезжих.
468 Урбанист Ричард Сеннет подробно рассматриваетскладывание базирующейся на метафоре тела образнойсистемы, каталогизируя городские легкие и сердца,клоаки и лица [Sennet, 1994]. Ее суть в том, чтовластвующая часть городского общества опасалась заразыили загрязнения, проистекающих из разного рода гетто.Скорее всего, медицинские истоки органи- цистской идеигорода довольно скоро соединились с экономическими,ведь представлениям о городе как месте беспроблемнойциркуляции товаров и благ отдавали дань и Адам Смит, иРиккардо, и многие другие экономисты, так что опасностьгородских беспорядков виделась прежде всего в томпрепятствии циркуляции труда и товаров, которое онимогли составить
468 Буквальное (необходимость санитарного контроля,сокращения вероятности эпидемий, проистекающих из-забесконтрольного распространения болезнетворныхорганизмов) и фигуральное (уподобление бедняков инищих, а позднее иммигрантов эпидемии или болезни,распространение которой469 надо ограничивать, пока не заражен еще здоровыйгородской организм) часто сплетались до неразличимости,
а «органическая» образность эффективно использоваласьдля реализации практик социальной селекции, сегрегации,исключения.
469 Неоспоримость необходимости санитарного контроляв отношении проблемных городских мест (к примеру,отвода под землю чрезмерно загрязненных рек) умелораспространялась и на расчистку трущоб, расположенныхпо берегам этих рек [Gand, 1999]. Холера и желтаялихорадка не знали классовых границ, но в коллективномвоображении именно трущобы были местом их зарождения.Одни группы горожан расширяли территорию обитания,колонизуя городское пространство под предлогом егоочищения. Другие до конца своих дней были обреченыносить стигму заразы.
469 В утопиях, порожденных индустриальнойурбанизацией, особые надежды возлагались на «легкие»города — сады и парки, которые мыслились как временныйприют для сотен тысяч горожан, ежедневно вдыхающихугольную пыль, обитающих в жилищах без воздуха и светаи подолгу работающих на заводах.
469 Во второй половине XIX века и далее в XX векепонимание города на основе образа тела как местациркуляции был оттеснено образом организма каксамовосстанавливающегося и растущего начала. Этатенденция была связана, с одной стороны, с нарастающимразочарованием пишущих о городах в последствияхпромышленной урбанизации, с другой стороны, спотребностью в метафорах, смягчающих существо процессовуправления городами. Апелляция к самопроизвольномуросту города открывала широкие возможности оправданиякак неудач муниципальных властей, так и претензий техгрупп, которые не обладали полнотой власти, но считалисебя вправе влиять на происходящее.
469 Но все-таки, как справедливо отмечает Фил Коэн,метафора организма чаще использовалась для реп-резентации противоположных росту процессов упадка ираспада, вызванных тем, что некоторые части городского
организма перестали функционировать нормально, заболелилибо470 стали паразитировать на тех, что еще держатся иугрожают благополучию целого [Cohen, 2003: 320].
470 Так, парадоксалист Ф.М. Достоевского, рисуя своюкраткую историю городов мира, подчеркиваетбеспрецедентность «страшных» городов позапрошлогостолетия, превосходящих все, что мог вообразить человек«Это города с хрустальными дворцами, с всемирнымивыставками, с всемирными отелями, с банками, бюджетами,с зараженными реками, с дебаркадерами, со всевозможнымиассоциациями, а кругом них фабриками и заводами»[Достоевский, 1981: 36].
470 Связь окружающих города фабрик и заводов и«зараженных рек» была очевидной, но антиурбанисгическинастроенный писатель толковал, как и его европейскиеединомышленники, и о другой заразе — о «фабричномразврате, которого не знал Содом».
470 Воображение людей в России на протяжении XX векадолжно было прочертить нешуточную параболу, чтобыфабрики и заводы мыслились образованными людьми уже некак источник заразы, но как сердце города:«Металлургический завод, он — сердце города родного»[Булыкин, 2007].
470 Грохочущий завод — сердце города, обеспечивающеевсе его существование, — часть изощреннойметафорической системы советской официальной идеологии,одушевлявшей неорганическое в многочисленных«цементах», «гидроцентралях» и «железных потоках», а«органическую» образность приберегая для воспеваниястраны и партии, вскрывавшей нарывы, вырезавшей про-гнившее, вдыхавшей жизнь и назначавшей героями города.
470 В тексте журнала «Огонек» за 1947 год идет речь осоветской Риге.
470 Пока она была «оторванной от великой Советскойстраны», она была в «агонии». Оживление города намертвосвязано в воображении автора текста с фабриками изаводами: пока они стояли, город умирал. Но все
изменилось: более «вы не увидите ни одного омертвевшегозавода или фабрики. Все ожило! Нет, не только ожило,все поднялось ввысь, раздалось вширь, все расцвело,наполнилось новыми жизненными соками» [Мещеряков,2007].
471 Послеперестроечные перемены «перекрыли кислород»многим заводам и фабрикам: государство приостановилоинвестиции в промышленность, начался переделсобственности, время требовало продукции иногокачества. Целесообразность существования многих заводови фабрик была поставлена под вопрос, но сколь бырезонным это ни было по экономическим меркам,существование городов на протяжении столетий илидесятилетий представляло собой симбиоз промышленного игородского. Государство, заимствуя неолиберальныетехнологии управления, сбросило с плеч и социальнуюполитику, и неприбыльные отрасли экономки, предоставиви городам и заводам самим справляться с разнообразнымисложностями. Это объясняет, почему еще однараспространенная «органическая» метафора перестроечныхлет — «выживание» — с готовностью относилась людьми нетолько к самим себе, но и к промышленным предприятиям ик городам: «В сложный период безвременья девяностых укого-то даже появилась мысль — город не выживет. Нопришел новый век, новые люди, и жизнь в Усинске опятьзакипела» [Усинск-Инфо, 2007]. «Борьба за выживание»завода нередко представляла собой всего лишь сдачузаводских площадей в аренду. Если «выживание города»Москвы еще в 1999 году депутатом Московской думыувязывалось со сбалансированностью городского бюджета[Сайт депутата Катаева, 2007], то теперь наблюдателювсе больше приходит на ум иной смысл слова — выживаниеиз Москвы тех, кто угрожает ее новому облику. Зато вмногочисленных Усинсках те, кому ехать особо некуда,продолжают думать о происходящем с их городами втерминах жизни и смерти: «...закрыв шахты Гремячинска,мы обрекли этот городок на медленную смерть, И когданашелся хоть кто-то, кто заговорил не о прошлом, а о
будущем Гремячинска, — нет ему поддержки. <„> А какимон будет, если выживет, город, рожденный в годы ВеликойОтечественной войны и начавший умирать уже через 50лет?» [Виноградов, 2004],
472 К метафоре города-организма прибегают, взывая ксправедливости, возмущаясь конфликтами мэров и1убернаторов, сетуя на разорение в прошлом процветавшихгородов и безнадежность их настоящего. К примеру, вматериале, красноречиво названном «Город состановленным сердцем», живописуется деиндустриализацияВоронежа, его «развал», разоренные заводы: однибесконечно перепродаются, другие перепрофилированы \Пенцев, 2005J. Резюме автора, нарисовавшего выра-зительную картину дележа городских ресурсов московскимибизнесменами и ее бесстыдного приукрашиванияполиттехно- логами, неутешительно: «В это время и городи область, весь потенциал которых когда-то составляли"оборонка" и растениеводство, сдыхают».
472 Для описания городских проблем используются всевариации «корпореальной» метафоры. Вот известныйурбанист изящно обозначает сложности развития городскойинфраструктуры: «...точки соприкосновения города идороги остаются невралгическими пунктамиградостроительства» [Глазычев, 1990]. А вот чтоговорится о городе в Карелии, зависимом от своегоцеллюлозного завода: «Завод всегда был главным кор-мильцем города, поставщиком тепла и воды. Полторытысячи горожан работают на предприят ии, а это значит,что благополучие их семей непосредственно зависит отсостояния дел на заводе. Образно говоря, I (3"Питкяранта" — это сердце города, его основной жизненноважный орган. Года три назад сердечко наше стало"пошаливать". В нынешнем году предприятие простояло 130дней, установив своеобразный "рекорд" по длительностипростоев» [Куртякова, 1998],
472 Индустриальная «заточенность» многих российскихгородов действительно мешает нам представить, каким еще
образом, в отсутствие заводов, они могут «органически»существовать.
472 Нужды больших заводов определяли и форму городов(чего стоит один Волгоград, растянувшийся почти на стокилометров, когда городская среда была вынужденазаполнять промежутки между примыкающими к рекезаводами), и их жи-473-474-лищный фонд.
473 «Выживание» как компонент органической метафоры легло воснову ряда арт-проектов, документировавших iювседневность 1990-х. Сергей Митурич, Савва Митурич, Александр Свердлов и ЬорисСпиридонов дли организованной в Германии в 2002—2008 годахмасштабной выставки «Убывающие города» (Shrinking Cities, 2006)подготовили «раскладушку», де монстр ирующуго конкретныепрактики выживания, в частности сдачу людьми внаем доставшегосяим в собственность жилья
474 Мэр южноуральского города Златоуста объединяет всвоей оптимистической тираде и «организм», и тради-ционные советские «засучив рукава» и «отбросивперекосы»: «И только сейчас, когда пройден самый
сложный этап, когда мы все вместе уже работаем надпрограммой социально-экономического развития города, кспециалистам и первым руководителям пришло осознаниетого, что город - это единый организм, что безпредприятий Златоуст не сможет жить. Как, впрочем, ипредприятия без города. Это как сообщающиеся сосуды.Все окончательно поняли, что надо работать, засучиврукава, отбросив все ненужные пересуды, перекосы, иуспех придет» [Челябинская пресса, 2007].
474 Однако двусмысленность сегодняшней ситуации,когда всем ясно, что далеко не все «градообразующие»заводы продолжат функционирование хотя бы в какой-тоформе, отражается в противоречивом использовании«органической» образности. Вот пример использования тойже самой метафоры для фиксации диаметральнопротивоположной картины происходящего: «Мы продолжаемжить в старой инфраструктуре: старые дороги, старыезаводы, старая система образования, университеты,которые как-то поддерживаются старыми преподавателями,— это то, что мы имеем. Не становление новой системы,но финальный этап разложения старого. Современнаяполитэкономия России — это политэкономия червей, ко-торые живут в трупе и пытаются из этого трупа что-тодля себя организовать, какой-то активный организм. Этоне муравьи, которые могут построить, а черви, они могутлишь продолжать потреблять эту разлагающуюся плоть»[Кагарлицтсий, 2007].
474 Другой пример амбивалентной мобилизации метафорыорганизма находим в высказываниях архитекторов. Одни изних не лишены лукавства, когда, к примеру,выздоровление города ассоциируется с возможностьюпренебречь историческим наследием во имя новойзастройки.
474 Слова липецкого архитектора переданы журналистомтак:
474 «По мнению градостроителей, все волнениянеравнодушных горожан о том, что
475 уничтожается исторический облик города, архитектура— необоснованны. Главный архитектор уверена, город —живой организм, и он должен постоянно обновляться,"подлечиваться", "создавать комфортные условиягорожанам"» [Город 48].
475 Самарский архитектор формулирует свою позициюкуда тоньше, настаивая, что «город, с одной стороны,рукотворный объект, построенный людьми с использованиемпланов и норм, а с другой стороны, это слишком большойи сложный организм, чтобы целиком зависеть от людей.Это система, которая сама себя выкладывает впространстве. Поэтому мы его считаем как бы живыморганизмом, развивающимся по своим законам и имеющимсвои интересы» [Сергушкин, 2007].
475 В данном и подобных многочисленнь[х сужденияхметафора организма используется для того, чтобы указатьна пределы городской политики — они формулируютсялюдьми, претендующими на понимание законовсуществования города, для чего и нужен образ организмакак саморазвивающегося и растущего начала
Радиоактивные джунгли и инспекторы-лемуры475 Распространенность «джунглей» как метафоры
капиталистического мегаполиса восходит к одноименномуроману Элтона Синклера, опубликованному в 1905 году.Роман был написан в итоге «творческой командировки»писателя в Чикаго — город, в начале XX века ставший«родиной» урбанистической теории. Если ее основателейинтересовали возможности объективного изучения иуправления стремительно прибавляющимся населением, тоСинклер историю семьи литовского эмигранта Юргисакладет в основу масштабного литературногоповествования. В нем он с марксистской страстьюзапечатлевает цену, которую простые люди платят засвершения индустриальной революции.
475 Город плавилен и скотобоен, Чикаго
476 притягивал к себе все новые и новые семьииммигрантов, обрекая их на бесконечную борьбу засуществование.
476 «Выживает сильнейший» — этот закон джунглей царитв Чикаго, и Синклер показывает механику «негативнойселекции» недавних приезжих, когда пи добродетель, ниприлежание, ни жажда справедливости не помогают Юргисуи его семье в борьбе с домогательствами надсмотрщиковна заводе, хозяев квартир, полицейских и судей.
476 В течение XX века дарвиновские обертоны метафорысохранились, но нередко она используется и просто дляфиксации скученности, переполненности городскогопространства людьми и вещами. У философаБ.Вальденфельса читаем, что, «когда речь заходит обольшом городе, перед нашим внутренним взором снова иснова всплывает образ необозримой и непроходимой чащиили джунглей» [Валъденфеяъс, 2002: 10— 11].
476 А другой философ, известный своей остройнеприязнью к Америке, весьма предсказуемо i Еазывает«джунглями даунтауна» одну из самых «неевропейских»черт ее городской среды — скопление небоскребов вделовом центре [Бодрийяр, 2000:184].
476 Доминирование «негативности» в коннотацияхметафоры «город как джунгли» можно проследить нанескольких недавних примерах. «Бензиновые джунгли» —название репортажа о плохом качестве бензина,продаваемого в Москве [О/мое, 2005]. «Маугли в джунгляхгорода» — под таким заголовком выходит в ав]усговской(за 2007 год) «Восточно-Сибирской правде» материал онеблагополучных семьях и заброшенных, голод! 1ых детях,пьющих воду из луж и отправляемых в детские дома. ГеройКиплинга помпится авторам заметки, скорее всего, поудачному советскому мультфильму.
476 Обреченность детей на полуживотный образ жизни всилу того, что их родители перестали жить по-людски, —вот что здесь выходит на первый план.
476 Этот пример перекликается с образом джунглей какпространства, в котором и не начиналась «работакультуры».
477 Арт-стрелка в Москве xtyib и не всегда выглядитстоль удручающе, но все же иллюстрирует тезис о том,что городская среда отстает от громких проектов,вызывая ассоциации с джунглями
476 В кураторском манифесте выставки «Арх-Москва—2007», посвя-477-478-щенной городскому пространству,редактор архитектурного журнала «Проект Россия» БартГолдхоорн с помощью этой метафоры фиксирует контрастмежду достойно выполненными отдельными архитектурнымиобъектами и общим состоянием города:
478 «Но насколько разнится эта картина, если пере-вести внимание с конкретных, пусть и хорошо построенныхзданий на пространство города, которое их окружает. Всамых дорогих районах Москвы улицы выглядят не лучше,чем в самых маргинальных: битый асфальт, дворы сконтейнерами, доверху заполненными мусором,беспорядочно запаркованные автомобили, чахлая зелень, струдом выживающая в каменных джунглях. Архитектураздесь касается только самих зданий и их ближайшегоокружения. Как правило, различные постройки никак несвязаны друг с другом. Несмотря на то что все ониявляются частью одного генплана, получается только ка-кофония на фоне вышеупомянутого городского "шума"»[Плпд- хоорн, 2007].
478 Пространство, которое миновала работа культуры,джунгли — это символический приют «ультраправых ирасистов», которым в приличном, то есть цивилизованномгородском обществе, места нет, — такой вариант этойметафоры развит популярным критиком {Агеев, 2002]. Напризыв коллеги к «территориальной любви», котораяможет, предполагается, объединит!) в одном пространствепредставителей всех идеологий, критик предупреждает,что «ультраправые» — «это те джунгли, которые тут жеготовы поглотить город, в котором прекратилась работакультуры».
478 Если в приведенных выше примерах «джунгли»олицетворяют нечеловеческое существование ибесчеловечные идеи, то следующий пример добавляет еще ипротивопоставление природы и города, обыгрываядвусмысленностъ зрелища буйной зелени посреди городскихулиц.
478 На сайте города Припять помещены фотографиипышной растительности под заголовком «ДжунглиЧернобыля» [Pripyat.com], а один из журнальныхрепортажей оттуда отсылает к образу зелени (джунглей)как фик-479-480-снрующему безнадежность «вторичногоодичания» городской жизни:
479 Снимок сделанв районе Золотой мили Москвы
480 «Теперь пустая Припять — самый зеленый городУкраины. Деревья растут здесь как хотят и как могут: изпола школьного спортзала на втором этаже — благо окнавыбиты, дождь поливает, из канализационного люка,сквозь щели лавочек и сетку футбольных ворот, переддверями подъездов и на балконах. Были бы у нас джунгли— город бы уже исчез, но березы да осины не справляютсяс этой задачей. Так что лозунг "Здоровье народа —богатство страны" над больничной крышей пока видениздалека. Но туристы, преимущественно иностранные, всеравно довольны: ну где еще куст папоротника растет вгнезде электропроводки?!» [Старожицкая, 2007].
480 Но стремление к «позитивности», преобладающее всегод- няшнем массовом дискурсе, сказывается и паиспользовании этой метафоры. Журналист «Независимойгазеты» кокетливо именует джунглями городскиепромышленные зоны, разбирая примеры повсеместнойконверсии заброшенных промышленных зданий в музеи икультурные центры [Семенова, 2007]. Еженедельник«Строительство и недвижимость» повествует о новыхпринципах эффектного вертикального озеленения подзаголовком «Каменные джунгли расцветают» (Алексеева,2007]. Коммерциализация экзотических мест каквозможности получить новый опыт проявляется в риторикепрограммирования жизненного стиля, мобилизуемойрекламными агентствами для продвижения па рьн неедорогих товаров и услуг.
480 «,Джунгли» в этом случае становятсядополнительным дискурсивным средством позиционированияпотенциальных покупателей как вливающихся в однудружную глобальную семью тех, кто предпочел данныйпродукт. В статье иитерьерного журнала воспеваетсяновая линейка керамической плитки, имитирующей шкурудиких животных: «Стены, одетые в "кожу" вепря, слонаили крокодила, необычны и вызывающи. Интерьер этойкухни — для настоящего мужчины, ищущего приключений вджунглях современного мегаполиса» [Овчинникова, 2007].
481 Фотография Г. Щукина «Турагентство "Тропический рай"*,представленная на конкурс «Городские джунгли» (URL:littp://foto.гаmbler.rti/topics/31757209/date/)
480 В рекламной кампании внедорожника Toyota RAV-4482 «джунгли» олицетворяют цепочку приключений,пускаясь в которые герой — владелец машины все женадежно защищен от досадных препятствий вродебестолковых пешеходов, инспекторов ГИБДД и открытыхлюков [Индустрия рекламы, 2005].
482 Наконец, еще один вариант использования образаджунглей состоит в том, что с их помощью сегодняшнийавтор говорит не столько о населяющих город людях иотношениях между ними, сколько поэтически описываетсамо городское пространство. Один пример — куплетпесни, в котором, хотя и фиксируется плотность,«напичканность» города людьми, событиями, вещами,главное - это меланхолическая точка зрения, в которойвидно сходство предметов и строений с обитателямиджунглей.Город — джунгли,Дворы — колодцы, из темноты жмурятся окна домов.Город - джунгли,Заводов с окраин трубы-хвосгы, привычный утренний смог.Город — джунгли,
И старой газеты летучая мышь носится по площадям,Город — джунгли,Здесь так много всего, но только сны остались мне оттебя.
482 Другой пример взят из архитектурного эссе,посвященного Новосибирску (с той оговоркой, что речь внем идет не о джунглях, а о лесе — эта подмена кажетсямне простительной): «Если бы город был лесом, то новыедома семенами отсеивались и сами вырастали, а старыесгнивали на корню, падали и, разрушаясь, уходили вземлю без всякой тебе мороки. Живешь в таком городе-лесе, и все тебе любо и дорого, и все сердце радует.
482 Пусть иногда и лесок неказистый, и почва малородит, и холодновато порой, но это природа, создание нерукотворное, критике не подлежит! Но город не лес.
482 По городу, по-483-строенному людьми, можносказать, что за люди здесь живут, какие здесь нравы икакое время на дворе» [Тайченачева, 2007].
483 «Неподсудность» плодов органической эволюцииздесь противопоставлена открытости для критики городакак результата чьих-то интенций и чьей-то деятельности.Законы природы не оспоришь, другое дело — житъ-переживать, понимая, что ты обречен на это в результатечьих-то амбиций или глупости.
Город как машина и город машин483 Из всех разбираемых здесь метафор ассоциация
города и машины получила, наверное, самое богатоевыражение в кинематографе — от «Метрополией» ФрицаЛанга до «Матрицы» братьев Вачовски. И в том и в другомкультовом фильме обыгран разрыв между теми, кто создаети планирует, и теми, кто встроен в результатыпланирования, нередко против собственной воли. И в томи в другом машины используют людей в своих целях:дьявольская кукла подбивает рабочих на бунт, разру-шивший хрупкое равновесие города, а машины, создавшиеМатрицу, получают энергию из людей и «зомбируют»обитателей корпоративного мира. Одна из самых
предсказуемых и банальных, эта связь сложилась еще вдопромышленные времена. Как пишет Анри Лефевр, поднапором капиталистической механизации город быполностью исчез, как исчезли его феодальные черты -крепостные стены, гильдии ремесленников, контролируемыетерритории, ограниченные рынки, не представляй он собойот века «огромную машину, автомат, захватывающийприродные энергии и продуктивно их потребляющий»[Lefebvre, 1991: 344-345].
483 Однако именно промышленный город середины XIXстолетия способствовал быстрому утверждениюмеханистических, машинных метафор.
483 От мотора как метафоры производительного труда кмашине как метафоре эффективного преобразо-484-ванияприродных веществ и энергии в полезные людям продукты —этот путь использования метафор был пройден социальнойтеорией XIX века за считанные десятилетия.
484 Полезность продуктов работы машин для всех — этотход мысли был настолько популяризован «прогрессистской»идеологией, что долгое время автоматически переносилсяна образ города-машины.
484 Последний, в частности, мыслился как «динамо-ма-шина», вращающаяся для блага всех горожан [Ganz,O'Brien, 1973]. Но не происходит ли так, что разговорывластей об общем благе используются для того, чтобы«динамить» горожан, если воспользоваться грубоватымпозднесоветским жаргоном, то есть уклоняться отвыполнения обещаний? Риторику роста, используемуюгородскими властями, разобрал в 1970-е Харви Молоч —американский городской социолог и автор метафоры «город— машина роста» (см, об этом подробнее в главе огородской политике). «Машина роста» — это не город кактаковой, а коалиция элит, нацеленная на извлечениеприбыли из городской земли и всего, что на нейвозведено.
484 Добавим, что разговоры о том, что город растет иразвивается, ведутся сегодня в каждом российскомгороде, и нередко они ведутся так, чтобы за
уподоблением города агенту — соревнующемуся с другими иопять же развивающемуся — скрыть тот факт, чтогородская жизнь принципиально фрагментарна и сложна,что нет развития без конфликта, что элита и ее интересы— это далеко не весь город. Немаловажно и то, что«машина роста», продвигающая экономический рост, объе-диняет в коалицию не только административную элиту имас- смедиа, но и местных интеллектуалов.
484 Не этим ли объясняется отсутствие у нас сколько-нибудь внятной рефлексии последствий стремительногороста дорогой жилой и торговой недвижимости вбольшинстве российских городов? Политические технологии эксперты в марксистской риторике, как правило, ненуждаются.
484 Превалирующий сегодня дискурс технократическогоэкономического менеджмента с его двумя главными«кричалками» — «оптими-485-зацией» и «эффективностью»,а теперь еще и «инновациями» — предопределяет весьмаизбирательное прочтение марксистского текста Молоча какисточника «правильной» риторики.
485 Ее без помех можно включать в процветающеесегодня дискурсивное обслуживание интеллектуалами нестолько городских элит, сколько федеральныхнациональных интересов; «Активная экономическаяполитика не только предотвратит сползание в рецессию,но и сделает Россию притягательной для стран-партнеров.
485 Превратив Россию в региональную "машину роста",мы сможем изменить ее восприятие в мире и усилить еемеждународное влияние» [Магометов, 2009].
485 В более поздних своих текстах Молоч и его соавторЛоган еще более определенно описывают махинациигородского истеблишмента, указывая, в частости, на«бесконечное лоббирование, манипулирование изадабривание» как на ключевые ресурсы, из которыхсделаны большие города [Logan, Molotcb, 1987: 293].
485 Сопоставимую со сквозящей здесь исследовательскуюсвободу, с какой вещи называются своими именами, в
наших экспертизе и аналитике не найти: они нередкомыслятся, увы, как полностью безоценочные.
485 Справедливости ради надо сказать, что, когда речьидет о национальной коалиции элит, в нашей литературеесть достаточно нелицеприятные описания того, какимиименно средствами они сплачиваются; «Механизмомконсолидации элит в России стало исключение несогласныхи устрашение колеблющихся, обеспеченное сериейпоказательных процессов над лидерами крупного бизнеса ипубличной сферы» [Щербак, Эткинд, 2005].
485 Большинство российских городов успешно превращеныза последние десятилетия в «машины роста», и покатрудно сказать, какое именно метафорическое выражениеэтот процесс получает.
485 Сейчас он проявляется в циркулированииметафорических выражений, далеких от «города какмашины» лексически, но связанных с дискурсивнымвыражением именно тех социальных и политическихтенденций, что эта метафора фиксирует.
486 Пешеходы остановились перед сияющим макетом Москва-Сити -гордости московской «машины роста*
487 Я имею в виду совокупность метафор, связанных скоммодификацией городов. ГЬрод — в лице городскихвластей — поэтому занимается «маркетингом» самого себя
как товара, на который стоит потратиться, вложив в негосредства.
487 Дискурсивный напор продвигающих свои товары нароссийском рынке субъектов сегодня столь силен, чтометафорическая природа позиционирования города кактовара далеко не очевидна. Брендинг городов осложняетсясохраняющимся индустриальным и советским обликомбольшинства из них, что подмечено в метафорероссийского города как машины времени. Вот студентынижегородской «Вышки® совершают образовательнуюэкскурсию, в ходе которой, весьма предсказуемо итипично для почти любого города, «старинные зданиясменялись постройками советской эпохи, а последние ужесовременными громоздкими торговыми центрами и домами.Наверное, поэтому маршрут захотелось бы назвать какСтарый Нижний — Город Горький — Нижний Новгород новогопоколения» \Apxu?ioea, 2008]. «Да, город динамичноизменяется, стремительно меняет свой облик», — хорошознакомыми нам заклинаниями завершает автор свойрепортаж, совпадающий по тону с тем, как мэры идевелоперы, отчитываясь о построенном, словно не видят,что их гордость — все новые и новые объекты — одиноковозвышаются над давно сложившейся городской средой,которую не изменишь, по крайней мере «стремительно». Авот на сайте российских командированных та же метафораприходит на ум побывавшему в печально известномсеверном городе:
487 «Воркута — это город машина времени.Да. Попадете Вы в середину 1980-х годов. Городнапичкан советской символикой по самое горло.Что смотрится забавно. Домишки хоть ираскрашены в разные цвета, по все же выглядитвсе нерадостно. Жил в гостинице "Воркута".Бронировал номер по телефону за день доприезда, за что пришлось заплатить 50 % отстоимости номера!!! Как мне сказали — северныерасценки у них, шутников. Номер нормальный
достался, 2500 р., но полчаса из крана будетстекать ржаво-угольная вода <..,>
488 В гостинице не знают что такоеИнтернет. Гулять в городе негде, поесть тожетуго» [Викинг, 2008].
488 Скудость, с какой «город как машина» представленв российской Сети, объясняется, вероятно, весомдесятков миллионов реальных машин, что подчинили себегородскую жизнь за последние десятилетия. Картина,нарисованная В. Высоцким в «Песне о двух красивыхавтомобилях»: «Без запретов и следов, об асфальт сжигаяшины, Из кошмара городов рвутся за город машины, — Игромоздкие, как танки, "Форды", "Линкольны", "Селены",Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "Ситроены"», сталареальностью. Вот и кишит наша Сеть рассказами о «Городемашин» (крупнейшем автомагазине под Москвой), советами,как утилизовать старый автохлам, поэтичными мар-кетинговыми зарисовками под заголовками «Прелестьмаленькой машины». Вот и отмечена она активнейшей ком-муникацией автовладельцев, которые и на городскихулицах периодически демонстрируют вызывающую сильноеуважение сплоченность, противостоя неиссякаемойизобретательности городских и федеральных элит.
Некоторые итоги488 Представленные читателю наблюдения и соображения
показывают проницаемость границ между социологическим ипопулярным дискурсами, свидетельствуя о широкойраспространенности классической урбанистическойметафорики.
488 Сложившиеся более века назад метафоры продолжаютуправлять пониманием и обрамлять восприятие городов.Если одни метафоры (джунгли прежде всего) употребляютсяв основном для выражения тех же смыслов и оценок, чтосложились во времена классической социологии, тосегодняшнее функционирование других метафор сильноотличается от описанного Лангером прежде всего в том
отношении, что они почти не употребляются позитивно —для выражения возможностей,489 разнообразия и целостности города.
489 Как это можно объяснить? Хотя классическаясоциология отдавала себе отчет в сложностяхрепрезентации социальной (городской) жизни посредствомтеоретического языка, только в последние десятилетиястала ясной его принципиальная непрозрачность,выражающаяся в том, что его понятия могут жить своейжизнью, все больше отдаляясь от усложняющейсясоциальной динамики. Возможно, поэтому позитивныесмыслы метафор базара и организма применительно кгороду больше не подкрепляются противоречивым опытомгородского существования, Сдругой стороны, метафорыреифицируются и конденсируются, особенно в официальноми сориентированных на него дискурсах, не столькорепрезентируя, сколько пряна реальные процессы. Сразговорами о том, что пора прекратить делать из городабазар, проще перераспределять собственность, апоэтичными ссылками на растущий город-организм удаетсяоправдывать деятельность альянсов девелоперов и отцовгорода.
489 «Своя» жизнь метафор проявляется и в том, что онисталкиваются и сливаются, а иногда и исчезают, и, по-моему, этим можно объяснить судьбу «машинной» метафорыв постсоветском дискурсе: сегодняшний город — это городавтомашин, которые, несмотря на сложности перемещения,дают свободу, исключавшуюся индустриальным «городом-машиной».
Агеев А. Голод 76. Практическая гастроэнтерология чтения // Рус-ский Журнал. 2002. 13-06. [Электрон, ресурс]. URL:http :// old . mss . ru / krug/20020613_ageev-pr.html
Акройд П. Лондон. Биография. М., Изд-во Ольги Морозовой, 2005.АлексееваЛ. Каменные джунгли расцветают [Электрон ресурс]. URL:http :// www . nestor . minsk . by / sn /2007/04/ sn 7040 1 .html
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс-LfcКучко- во поле, 2001.
Архипова И. На «машине времени* картины города сменяются врежиме диафильма. [Электрон, ресурс]. URJL http :// hse . nnov .ru/news/ 2008/October^202008/1910-html
Бодрийяр Ж, Америка, СПб., 2000.Булыкин А Стихотворение О заводе города Аши Челябинской об-
ласти, 2007. [Электрон, ресурс]. URL www . arnet . m / history . html Вальденфельс Б. Одновременность неоднородного. Современный
порядок в зеркале большого города // Логос 2002. № 3-Викинг. Пост на сайте «Командировка». 2008. [Электрон,
ресурс]. URL: http :// comandirovka . com / cities / detail _ otziv . php ? ELEMENT _ ID = 125420aID= 1239aSECTION= 15 3
Виноградов И. Второй шанс Гремячинскз // Капитал Weekly. 2004.№ 10. 31 марта. [Электрон, ресурс]. URL http://kapital.perm.ni/number/ details/596
Витгенштейн Jl. Философские исследования. Ч. П, 5 11 //Витгенштейн Л. Философские труды, М,: Гноэис, 1994.
ГлазычевВ. Мир архитектуры. 1990. [Электрон, ресурс]. URLhtip:// www.g] а zychev.ru /books /т i r_archi tectu ry /gla va_5/gla va_0 5—01. html
Галдхоорн Б. Манифест куратора. 2008. [Электрон, ресурс]. URLht ср;//www.archi.ru/events/extra/eve nt_cu rren t .htm I?eid=826а fl=2
Город 48. Информационный портал Липецка. [Электрон, ресурс].URL: http://gorod48.ru/sokolsky/aator— 175.html
Достоевский Ф. Полное собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981.ЖенеттЖ. Пространство и язык // Женетт, Ж Фигуры. Т. 1. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 77—80.
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3-4.
Иллич И. Н20 и воды забвения // Индекс, Досье на цензуру.2000. № 12. [Электрон, ресурс]. URL,-http :// www . index . org . ru / journal /12/ illichhtml
Индустрия рекламы. 2005. №5. [Электрон, ресурс]. URL http://www . adi ndusi ry.ru
ИоасХ. Креативность действия. СПб.: Алетейя, 2005. КагарлицкийБ. Встретились два вырождения // Художественный журнал. 2007. №64 [Электрон, ресурс]. URL http :// xz . gif . ru / numbers /64/ kagarlitskiy/.
Карпенко О. И гости нашего города // Отечественные записки.2002. № 6.
Куртякова Т. тучи рассеиваются // Карелия. 1998, № 48, 20ноября 1998 года. [Электрон, ресурс]. URL:http :// www . gov . karelia . ru / KareIia / 511/t/5H_4-html
Лакофф Дт Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теорияметафоры. М.: Прогресс, 1990.
Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: УРСС,2004.
ЛенцевИ. Город с остановленным сердцем // Завтра. 2005. № 588.[Электрон, ресурс]. URLhttp :// www . zavtra . rU / cgi // veil // data / zavtra /05/ 588/43.html
Магометов 3. Как завести машину роста // Эксперт, 2009- №15(654). 20 апреля 2009 [Электрон.ресурс]. URL: http://www.expert.ru/ printissues/expert/2009/15/ka k_zavesti_mashinu_rosta/
Малинкин АН. Социальные общности и идея патриотизма // Со-циологический журнал. 1999. 3/4, [Электрон.ресурс]. URLhttp://www. socjou rnal. ru/a rt icle/261
МасловаЛ. Снимите это немедленно. Арендуя чужое, понимаешьсебя // Русская жизнь, 2007. № 13. [Электрон, ресурс]. URL:http:// www . ruiife . ru / mode / article /334/
Мещеряков А Советский хронотоп: Покорение пространства и вре-мени. [Электрон, ресурс]. URL http :// wwwlu - okyo . ac . jp /3 Slav / postcom / 01 meshch_ru.html
Младкавекая AM. Город базар архитектур. Итоги XXII Всемирногоконгресса Международного Союза архитекторов // Архитектура истроительство Москвы. 2005- № 5- [Электрон, ресурс]. URL:http:// www . asm . rusk . ru /05/ asm 5/ asm 5_4. html
Овчинникова £. Гармония чистоты // Идеи вашего дома. 2007, №8. [Электрон, ресурс). URL* www . ivd . ru / document . xgi ? id =6439
Орлов П. Бензиновые джунгли // Версия. 2005- № 22 (345). СайтГТРК Санкт-Петербург. [Электрон, ресурс]. URL http:// rt г.spb.ru/Реор! e_line/gorod,asp?Page=6
Сайт депутата Катаева. 2007. [Электрон, ресурс]. URLhttp://kataev. mos.ru/na prav/ 2 5/st a t /byudjet.h tm
Саламова M. He превращать город в базар // Московская правда -Московское собрание. 2007, 2б сент. [Электрон, ресурс]. URLhttp:// www. mpress. ru/vlast i/smi.aspx?id=9935О
Семенова Е. Джунгли города. Колониальная жизнь художников //Независимая газета. 2007. 6 авг, [Электрон, ресурс], URL:http:// www, ng.ru /sa turday/2007—08—06/
Сергушкин А Интервью с профессором архитектуры Татьяной Ре-байн «Город подобен живому организму, подчиняющемуся собственнымзаконам». [Электрон, ресурс]. URL http :// www . samru . ru / riet / gost / 20645.html
Спшрожицкая М. Заселение Припяти // Огонек, 2007, № 22. [Элек-трон. ресурс]. URL http://www,ogoniok,com/4998/18/
Строгова В. Музей на вольном воздухе // Города социализма исоциалистическая реконструкция быта / Сост. Б. Лунин. М,:Работникпросвещения, 7-я типография Мосполиграфа «Искра революции»,1930.
ТаСЫеначева Т. Мыслить городом // Новости российской архитек-туры. 2007. 28 июля. [Электрон, ресурс], URLhttp//www,а3d.ru/archi tecture/stat21
Усинск-Инфо. [Электрон, ресурс]. URLhttp//ww.usinsk,mfo/index. php?module=subjectsafunc=printpageapageid=34ascope=all — 5k
ХокинсД, Блейксли С. Об интеллекте М.; СПб.; Киев: Вильяме,2007. Челябинская пресса, 2000. [Электрон, ресурс]. URLhttp :// www . chelpress.ru/newspapers/ZR/archive/07—07—2000/5/ZR05.DOC. shtml Щербак А, ЭткипдА. Призраки Майданабродят по России: превентивная контрреволюция в российскойполитике // Неприкосновенный запас. 2005- № 43. [Электрон,ресурс]. URL http :// magazines . russ . ru / nz/2005/43/sh6.html
Яницкий О. О бедности как социальном явлении // Индекс. Досьена цензуру 2005. № 21. [Электрон, ресурс]. URLhttp//www.index.org.ru/ journal/2 l/yanizki21. html
Cohen P. Dual Cities, Third Spaces, and the Urban Uncanny//ACompanion to the City / Ed Bridge G. and Watson S. Oxford UKBlackwell, 2003. P 316-330.
FaMclough N. Media Discourse. London: Arnold, 1995- GandM. TheParis Sewers and the Rationalization of Urban Space //Transactions of the Institute of British Geographers. 1999-Vol.24. P 23—44- GanzA, O'Brien T. The City: Sandbox, Reservation,or Dynamo // Public Policy. 1973. № 21. (Winter). P. 107—123.Цит. no: LangerP. Sociology — Four Images of Organized Diversity// Cities of the Mind: Images and Themes of the City in theSocial Sciences /Eds. Rodwin L, HollisterRM. N.Y.: Plenum Press,1984.
Gregory D. Geographical Imaginations. Oxford, UK Blackwell,1994. Lakoff G, Johnson M. Philosophy in the Flesh. The EmbodiedMind and Its Challenge to Western Thought. N.Y.: Basic Books,1999-
LangerP. Sociology — Four Images of Organized Diversity //Cities of the Mind: Images and Themes of the City in the SocialSciences / Eds. Rodwin L, Hollister RM. N.YJ Plenum Press, 1984.P. 97—118.
Lefebvre H. The Production of Space / Trans. Nicholson-SmithD. Oxford, UK: Blackwell, 1991.
Logan JR, Molotch HR Urban Fortunes: The Political Economy ofPlace. Berkeley University of California Press, 1987.
МаХогёС. L'espace humain: Lexpression de l'esp ace dans lavie, lapensee et l'art contemporains. Sciences et techniqueshumaines. P: La Colombe, V962.
Mithen S. The Prehistory of the Mind. London: Thames andHudson,1999-
O'TuatbailG. Critical Geopolitics. Minneapolis: Univ. ofMinnesota Press, 1996.
Pctasi, A. Deconstructing Regions: Notes on the Scale ofSpatial Life // Environment and Planning. 1991. A 23. P. 239-254.
PaasiA. Territory Ц A Companion to Political Geography / Eds.AgnewJ, OHiathail G. Oxford, UK: Blackwell, 2003. R 109-122,
Pile S. The Body and the City: Psychoanalysis, Subjectivityand Space, London: Routledge, 1996.
Pripyat.com. [Электрон ресурс). URLhttp://pripyat,com/ru/internet_ photo/zona/2/132 l.html
Sennet R. The Flesh and the Stone. The Body and the City inWestern Civilization. L: Faber, 1994.
Shrinking Cities / Ed. P. Oswalt et aL Vols.l—2,Berlin:
HatjeCantz Publishers, 2006.Thomson EP. The Making of English Working Class. L: Victor
Gollancz,1963.
Van Dijk ТА. Discourse, Power and Access // lexts andPractices: Readings in Critical Discourse Analysis / Eds,Caldas-Coulthard C.R., Coult- hard M. L: Routledge, 1996.
VidlerA The Architectural Uncanny: Essays in the ModernUnhomely. Cambridge, MA: МГГ Press, 1992.
White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism.Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978,
Агеев А. Голод 76. Практическая гастроэнтерология чтения // Рус¬ский Журнал. 2002. 13-06. [Электрон, ресурс]. URL: http://old.mss.ru/ krug/20020613_ageev-pr.htmlАкройд П. Лондон. Биография. М., Изд-во Ольги Морозовой, 2005. АлексееваЛ. Каменные джунгли расцветают [Электрон ресурс]. URL: http://www.nestor.minsk.by/sn/2007/04/sn70401 .html
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс-Lfc Кучко- во поле, 2001.Архипова И. На «машине времени* картины города сменяются в режиме диафильма. [Электрон, ресурс]. URJL http://hse.nnov. ru/news/ 2008/October^202008/1910-htmlБодрийяр Ж, Америка, СПб., 2000.Булыкин А Стихотворение О заводе города Аши Челябинской об¬ласти, 2007. [Электрон, ресурс]. URL www.arnet.m/history.htmlВальденфельс Б. Одновременность неоднородного. Современный порядок в зеркале большого города // Логос 2002. № 3-Викинг. Пост на сайте «Командировка». 2008. [Электрон, ресурс]. URL: http://comandirovka.com/cities/detail_otziv.php?ELEMENT_ID=125420aID= 1239aSECTION= 15 3Виноградов И. Второй шанс Гремячинскз // Капитал Weekly. 2004. №10. 31 марта. [Электрон, ресурс]. URL http://kapital.perm. ni/number/ details/596Витгенштейн Jl. Философские исследования. Ч. П, 5 11 // Витген¬штейн Л. Философские труды, М,: Гноэис, 1994.ГлазычевВ. Мир архитектуры. 1990. [Электрон, ресурс]. URL htip:// www.g] а zychev.ru /books /т i r_archi tectu ry /gla va_5/gla va_0 5—01. htmlГалдхоорн Б. Манифест куратора. 2008. [Электрон, ресурс]. URL htср;//www.archi.ru/events/extra/eve nt_cu rren t .htm I?eid=826а fl=2Город 48. Информационный портал Липецка. [Электрон, ресурс]. URL: http://gorod48.ru/sokolsky/aator— 175.htmlДостоевский Ф. Полное собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981. ЖенеттЖ. Пространство и язык // Женетт, Ж Фигуры. Т. 1. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 77—80.Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3-4.Иллич И. Н20 и воды забвения // Индекс, Досье на цензуру. 2000. № 12. [Электрон, ресурс]. URL,- http://www.index.org.ru/journal/12/ illichhtmlИндустрия рекламы. 2005. №5. [Электрон, ресурс]. URL http:// www.adi ndusi ry.ruИоасХ. Креативность действия. СПб.: Алетейя, 2005. Кагарлицкий Б. Встретились два вырождения // Художественный журнал. 2007. № 64 [Электрон, ресурс]. URL http://xz.gif.ru/numbers/64/ kagarlitskiy/.Карпенко О. И гости нашего города // Отечественные записки. 2002. № 6.Куртякова Т. тучи рассеиваются // Карелия. 1998, № 48, 20 ноября1998 года. [Электрон, ресурс]. URL: http://www.gov.karelia.ru/KareIia/ 511/t/5H_4-html
Лакофф Дт Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: УРСС, 2004.ЛенцевИ. Город с остановленным сердцем // Завтра. 2005. № 588. [Электрон, ресурс]. URL http://www.zavtra.rU/cgi//veil//data/zavtra/05/ 588/43.htmlМагометов 3. Как завести машину роста // Эксперт, 2009- №15 (654). 20 апреля 2009 [Электрон.ресурс]. URL: http://www. expert.ru/ printissues/expert/2009/15/ka k_zavesti_mashinu_rosta/Малинкин АН. Социальные общности и идея патриотизма // Со¬циологический журнал. 1999. 3/4, [Электрон.ресурс]. URL http://www. socjou rnal. ru/a rt icle/261МасловаЛ. Снимите это немедленно. Арендуя чужое, понимаешь себя // Русская жизнь, 2007. № 13. [Электрон, ресурс]. URL: http:// www.ruiife.ru/mode/article/334/Мещеряков А Советский хронотоп: Покорение пространства и вре¬мени. [Электрон, ресурс]. URL http://wwwlu-okyo.ac.jp/3Slav/postcom/ 01 meshch_ru.htmlМладкавекая AM. Город базар архитектур. Итоги XXII Всемирного конгресса Международного Союза архитекторов // Архитектура и строительство Москвы. 2005- № 5- [Электрон, ресурс]. URL: http:// www.asm.rusk.ru/05/asm5/asm5_4.htmlОвчинникова £. Гармония чистоты // Идеи вашего дома. 2007, № 8. [Электрон, ресурс). URL* www.ivd.ru/document.xgi?id=6439Орлов П. Бензиновые джунгли // Версия. 2005- № 22 (345). Сайт ГТРК Санкт-Петербург. [Электрон, ресурс]. URL http:// rt г. spb.ru/Реор! e_line/gorod,asp?Page=6Сайт депутата Катаева. 2007. [Электрон, ресурс]. URL http://kataev. mos.ru/na prav/ 2 5/st a t /byudjet.h tmСаламова M. He превращать город в базар // Московская правда - Московское собрание. 2007, 2б сент. [Электрон, ресурс]. URL http:// www. mpress. ru/vlast i/smi.aspx?id=9935ОСеменова Е. Джунгли города. Колониальная жизнь художников // Независимая газета. 2007. 6 авг, [Электрон, ресурс], URL: http:// www, ng.ru /sa turday/2007—08—06/Сергушкин А Интервью с профессором архитектуры Татьяной Ре- байн«Город подобен живому организму, подчиняющемуся собствен¬ным законам». [Электрон, ресурс]. URL http://www.samru.ru/riet/gost/20645.htmlСпшрожицкая М. Заселение Припяти // Огонек, 2007, № 22. [Элек¬трон. ресурс]. URL http://www,ogoniok,com/4998/18/
Строгова В. Музей на вольном воздухе // Города социализма и со¬циалистическая реконструкция быта / Сост. Б. Лунин. М,: Работникпросвещения, 7-я типография Мосполиграфа «Искра революции», 1930.ТаСЫеначева Т. Мыслить городом // Новости российской архитек¬туры. 2007. 28 июля. [Электрон, ресурс], URL http//www,а3d.ru/archi tecture/stat21Усинск-Инфо. [Электрон, ресурс]. URL http//ww.usinsk,mfo/index. php?module=subjectsa func=printpageapageid=34ascope=all — 5kХокинсД, Блейксли С. Об интеллекте М.; СПб.; Киев: Вильяме, 2007. Челябинская пресса, 2000. [Электрон, ресурс]. URL http://www. chelpress.ru/newspapers/ZR/archive/07—07—2000/5/ZR05.DOC. shtml Щербак А, ЭткипдА. Призраки Майдана бродят по России: превен¬тивная контрреволюция в российской политике // Неприкосновен¬ный запас. 2005- № 43. [Электрон, ресурс]. URL http://magazines.russ.ru/ nz/2005/43/sh6.htmlЯницкий О. О бедности как социальном явлении // Индекс. Досье нацензуру 2005. № 21. [Электрон, ресурс]. URL http//www.index.org.ru/ journal/2 l/yanizki21. htmlCohen P. Dual Cities, Third Spaces, and the Urban Uncanny//A Compa¬nion to the City / Ed Bridge G. and Watson S. Oxford UK Blackwell, 2003. P 316-330.FaMclough N. Media Discourse. London: Arnold, 1995- GandM. The Paris Sewers and the Rationalization of Urban Space // Transactions of the Institute of British Geographers. 1999-Vol. 24. P 23—44- GanzA, O'Brien T. The City: Sandbox, Reservation, or Dynamo // Public Policy. 1973. № 21. (Winter). P. 107—123. Цит. no: LangerP. Sociology — Four Images of Organized Diversity// Cities of the Mind: Images and Themes of the City in the Social Sciences /Eds. Rodwin L, HollisterRM. N.Y.: Plenum Press,1984.Gregory D. Geographical Imaginations. Oxford, UK Blackwell, 1994. Lakoff G, Johnson M. Philosophy in the Flesh. The EmbodiedMind and Its Challenge to Western Thought. N.Y.: Basic Books, 1999-LangerP. Sociology — Four Images of Organized Diversity // Cities of the Mind: Images and Themes of the City in the Social Sciences / Eds. Rodwin L, Hollister RM. N.YJ Plenum Press, 1984.P. 97—118.Lefebvre H. The Production of Space / Trans. Nicholson-Smith D. Oxford, UK: Blackwell, 1991.
Logan JR, Molotch HR Urban Fortunes: The Political Economy of Place. Berkeley University of California Press, 1987.МаХогёС. L'espace humain: Lexpression de l'esp ace dans la vie, lapensee et l'art contemporains. Sciences et techniques humaines. P: La Colombe, V962.Mithen S. The Prehistory of the Mind. London: Thames and Hudson,1999-O'TuatbailG. Critical Geopolitics. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996.Pctasi, A. Deconstructing Regions: Notes on the Scale of SpatialLife // Environment and Planning. 1991. A 23. P. 239-254.PaasiA. Territory Ц A Companion to Political Geography / Eds. AgnewJ, OHiathail G. Oxford, UK: Blackwell, 2003. R 109-122,Pile S. The Body and the City: Psychoanalysis, Subjectivity and Space, London: Routledge, 1996.Pripyat.com. [Электрон ресурс). URL http://pripyat,com/ru/internet_ photo/zona/2/132 l.htmlSennet R. The Flesh and the Stone. The Body and the City in Western Civilization. L: Faber, 1994.Shrinking Cities / Ed. P. Oswalt et aL Vols.l—2,Berlin: HatjeCantz Publishers, 2006.Thomson EP. The Making of English Working Class. L: Victor Gollancz,1963.Van Dijk ТА. Discourse, Power and Access // lexts and Practices:Rea¬dings in Critical Discourse Analysis / Eds, Caldas-CoulthardC.R., Coult- hard M. L: Routledge, 1996.VidlerA The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge, MA: МГГ Press, 1992.White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978,
494-502 Заключение =Будущее городовТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Будущее городов494 Реальность — в том числе и городская реальность —
часто открывается нам только как уже интерпрети-рованная. Париж в восприятии худо-бедно образованногочеловека неотделим от торговых пассажей, описанныхБеньямином, от размноженных в миллионах фотографийпарочек, целующихся на набережных Сены. Сказав«Монпарнас», ты слышишь в своей собственной голове от-клик — «богема®. Увидев смуглого человека в парижскомметро, перебираешь в голове эссе парижских философов огорящих в пригородах машинах.
494 При слове «Лувр» вспоминается пирамида Пея,преобразившая серо-желтый песчаник королевского двора,А можно не умничать, а вспомнить (снятые где-нибудь в
Таллине) стройные ряды мушкетеров в небесно-голубыхплащах, столь памятные по советскому фильму.
494 Но не только восприятие, но и опыт городскогосуществования пронизаны словами, образами и знаками.Физическое в нем — пустая улица ранним утром, глотокотносительно свежего воздуха, скованность движений —сплетено с символическим: за десять минут ожиданиямашины, что отвезет тебя в аэропорт, тебе могутвспомниться и одиночки на картинах Дэнниса Хоппера, итвое первое возвращение домой на рассвете, в соннойголове промелькнет что-то про добродетельностьвстающего рано человека и утопичность предвосхищения имцелого дня.
494 Язык, текст, дискурс повсеместны в том смысле,что495 мы не в состоянии избежать отбирающих, фильтрующихи преображающих реальность эффектов нашейинтеллектуальной оснастки, ограничивающего воздействиянаших интерпретативных рамок и сетей метафор.
495 Эти рамки и сети не столько ограничивают, сколькопронизывают наш опыт, и без них он был бы плоским ибесцветным. Era бы вообще без них не было. И уж темболее велика их власть, когда речь заходит о будущем:схемы и прожекты, предсказания и сценарии — как еще мыможем заглянуть в завтра?
495 Кого из нас не преследует опыт прогулки постарому центру европейского города с его уличными кафеи скверами, небольшими площадями и необычнымимагазинами, вкусно пахнущими рынками и духом истории,которым пропитаны здания, кварталы и, кажется, самиобитатели! Помню громкое восклицание девушки из Сан-Франциско, услышанное перед входом в ресторанчик наМонмартре: «Ах, если бы только я могла здесьпоселиться! Вся моя жизнь была бы совершенно иной!»Какая ирония! Я имею в виду то немалое число амери-канцев, что могли бы с энтузиазмом произнести эту фразукак раз о Сан-Франциско. И есть, конечно, немалое числорусских, украинцев и их собратьев, которые вообще не
столь разборчивы: для них удачно поселиться и вписатьсяпросто где-то «там» было бы неплохой жизненнойперспективой. Эта связь между жизнью и местом, междулучшей, возможной жизнью и городом, который даст ейвозможность состояться, связь между твоей жизнью итвоим будущим городом обостренно переживается каждым.Сидя в долгих пробках, претерпевая цгум улицы во времябессонницы, добывая справки в присутственных местах,сталкиваясь со жлобством, свои огорчения мы резонносвязываем с городом, в котором живем. Но будемобъективны: мегаполис, с его сумасшедшим ритмом,пестрыми обитателями, манящей новизной продуктов ипереживаний, ощущением включенности в происходящее,составляет родную для многих из нас среду. Среду,которая создается веками,
495 В одних случаях это происходит такимфантастически удачным образом, что496 город на века становится магнитом воображения.
496 В других, более нам знакомых, вроде бы удалосьсоздать приемлемую для жизни среду, однако и все новыевызовы подстерегают, и не заходимся мы от восторга привиде возводимого и восстанавливаемого.
496 Будущее нашего города вовлечено и в мечты, и вповседневные резоны: что будет с ценами на жилье,бензин и автомашины, «встанут» ли Москва и другиекрупные города, с какими детьми будут играть нашивнуки.
496 Мы вряд ли сможем эффективно повлиять на то, какповернется дело. Понимание это сильно отличает нашихсовременников: они часто лишены общей для энтузиастовпроекта модерности уверенности в возможностирационального планирования и регулирования совместнойжизни людей — в противопоставлении тому, как онаналаживается «стихийно». В XX веке практическиповсеместно были воплощены идеи модернистскогопланирования городов, и результаты этого вол- лощенияособенно выразительны на постсоветском пространстве,
где до сих пор царит бетонная монотонность спальныхрайонов.
496 Будущее городов давно составляет предметувлеченных спекуляций.
496 Начиная с описания Платоном в «Государстве»идеального города-государства прогрессивные реформаторыи визионеры Фредерик Стаут, Ричард Легейтс, ФредерикЛоОлмстед, Эбенезер Ховард, Патрик геддес, Ле Корбюзье,Николай Милютин и даже принц Чарльз пыталисьсформулировать теоретические основы рациональногогородского планирования. Потребовались десятилетияэкспериментов с социальным жильем, новой архитектурой итак далее, чтобы стал очевиден чрезмерный радикализммодернистской планировочной традиции. Корбюзье, которыйуличные кафе считал грибком, разъедающим тротуарыПарижа, теперь попал в немилость. Я хочу подчеркнуть,что именно связь между социальным реформаторством ипланированием сегодня сходит на нет. Период эффективнойсоциальной политики центральных и городскихправительств закончился.
496 Закончилось, по-видимому,497 и время, когда архитектура использовалась длястабилизации социальных отношений.
497 Бесчисленные школы, больницы и жилые кварталы,возведенные повсеместно в Европе и Америке в первыедесятилетия после Второй мировой войны, хоть иподверглись впоследствии критике, должны быть понятыкак выполнявшие очень важную социальную функцию — сооб-щать человеку чувство принадлежности к кругу равныхсебе. Человек мог жить в «спальном» районе вместе сдесятками тысяч себе подобных, тесниться на тридцатиметрах с родителями, и ближайшее будущее его не точтобы радовало, но у него, как и у многих, все же былоощущение включенности в происходящее.
497 Сегодня, когда кризис социальной политикиприводит к резкой поляризации городов (и в городах),проживание в некоторых районах и городках становитсястигмой. «Депрессивные» города у нас, этнические
пригороды европейских и американских столиц похожи втом, что их обитатели знают друг о друге много неделающего чести, стыдятся того, кто они сами и гдевынуждены жить, лишены достойных способов самоуваженияи уважения со стороны других и вместе свидетельствуют отом, что современные общества не знают, что делать сбольшими группами «невписавшихся» людей. Однако размахгородской бедности в Америке шире, чем в Европе, икомментаторы правы, объясняя это своеобразнымхарактером политической системы, которая, предоставивпроблемные зоны и целые города самим себе послеволнений 19б0-х годов, сориентирована на интересыбелого и состоятельного большинства. Ждет ли Россиюподобное будущее?
497 Станет ли мир в целом «планетой трущоб», какявствует из прогноза Майка Дэвиса, который именно такназвал свою последнюю книгу?
497 Сколько восторгов и надежд было высказано впредшествующие несколько десятилетий в связи с успехоминформационных технологий!
497 Экономическая и культурная жизнь виделасьосвобожденной от нужды в пространственной близости иконцентрации.
497 Горожане, предсказывал, к примеру, Алвин Тоф-498-флер в 1980-е годы, смогут переехать за город, в«электронный коттедж», связанный со всем миромсовершенными коммуникационными сетями.
498 Высококвалифицированный профессионал, будь этоархитектор или финансовый аналитик, переводчик илистраховой агент, продавец или программист, то естьобладатели тех профессий, работа которых связана,условно говоря, с обработкой информации, работая неснимая пижамы в пригородном доме, виделись энтузиастамэтого сценария избавленными от стрессов офисной работыи городской скученности. Контакты «лицом к лицу»понимались как уступающие по значимости членствуиндивида в социальных сетях и многочисленнымразновидностям виртуального опыта. «Глобальная деревня»
Маюпоэна тоже была выражением убеждения, чтотрадиционные города исчезнут.
498 Поль Вирильо заявил, что отношения по местужительства исчезнут в новом технологическомпространстве-времени, где и будет происходить все самоеглавное. Однако пристальный взгляд на развитиеглобальных городов, на экономические социальные сетиубеждает в обратном: информационные технологии особенноактивно используются для усиления центральногоположения лидирующих экономических «узлов». Работа вкоманде или поблизости друг от друга гарантируетдоверие (или его подобие), без которого невозможнопредставить современную экономическую социальность, такчто именно ради контактов «лицом к лицу» людипереезжают в столицы и едут в командировки. С другойстороны, реальность «информационного города»показывает, что соединение развития городов и инфор-мационной революции принесло очевидные выгоды преждевсего капиталу. «Кибербустеризм», под обаяние которогомы часто попадаем, скрывает крайнюю неравномерностьраспределения преимуществ информационной революции.
498 Городские власти на интернет-порталах, конечно,предлагают задавать вопросы и даже вносить предложения,но очевидность использования IT-благ в интересахгородских «машин роста» бесспорна.
499 Серьезные изменения, которые претерпевают сегоднягорода, только набирают скорость. Подытожим ключевыетенденции, которые эти изменения вызывают (и надкоторыми специалисты по городам продолжают размышлять).
499 1.Глобализация. 499 От города как достаточно автономного образования
через город как компонент национального государства ксети городов, существенно отличающихся по включенностив мировую экономику и по «свободе» от национально-государственных ограничений, — таков главный векторперемен. Он предполагает осмысление городов напересечении всемирного, национального и местного
масштабов и в контексте роста неравенства между«глобально успешными» городами и всеми остальными.
499 2. Деиндустриализация и постиндустриализация(постфордизм).
499 Город, который был организован вокруг нужд про-мышленности и восстановления рабочей силы фабрик изаводов, уступает место городу торговых центров,разнообразного сервиса, скоростных дорог, «сообществ заворотами» и других новых вариантов организации жилищ.Большой объем промышленного производства — всоответствии с идеологией «аутсорсинга» — перемещаетсяв страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, но ивозникающие там мегагорода далеки от описанныхтрадиционной теорией промышленных городов.
499 3. Динамика концентрации и рассредоточения 499 «Центральность» крупных городов делает их местами
повышенной экономической активности, привлекательнымидля проживания местами, зонами повышенной креативностии плотных социальных связей. Другие крупные города в тоже время развиваются по пути «полицентричности» ирассредоточения предприятий, сервиса, жилых районов.Потоки людей, каждый день устремляющихся на работу идомой, — главное следствие пространственногорассредоточения городов, их «расползания» все дальше идальше в пригороды.
499 Сотни миль, которые работники всего миранаматывают по транспортным коридорам500 между провинциями и штатами, делают современныегородские образования очень непохожими на описанныеранними урбанистами.
500 Экономические, технологические, экояогичес- кие,социальные, эмоциональные проблемы, связанные с ис-чезновением во многих регионах традиционной городскоймоноцентричности, только начали описыватьсяурбанистами.
500 4. Неалиберализация социальной политики.
500 Усиление соревнования между городами в рамкахглобальной экономики вызывает переориентацию политикигородских правительств.
500 Происходит переход от города, озабоченногосоциальным воспроизводством жителей, к городу-предпринимателю. Прежний объем вложений в социальнуюполитику не может себе позволить ни одно городскоеправительство. Результат — нарастание социальногонапряжения, фрагментации, поляризации.
500 5. Рост моралъпой двусмысленности.500 Умножение связей горожан с тем и теми, что и
кто выходит далеко за пределы их города, ставит подвопрос понимание города как места жизни коллектива.Вынужденный переход многих людей от долговременнойзанятости к кратковременной лишает их способностиразвивать чувство солидарности с ближними. Либеральныеидеи толерантности сосуществуют с враждебностью,страхом, недовольством, которые многие «хронически»испытывают в городах. В то же время «нормативное»измерение городского существования, то есть идеисправедливости, «хорошей жизни», солидарности, почтинекому представлять и исследовать.
500 6. Экологические проблемы.500 Загрязнение атмосферы и глобальное потепление
приковывают внимание к «экологическому отпечатку»крупных городов. Остановить негативные процессы можно,только если пересмотреть способы осуществлениягородской жизнедеятельности, прежде всего энерго-снабжения. С другой стороны, сегодня очевиднауязвимость городов перед лицом природных катаклизмов,так что необходимо комплексное обсуждение глобальногоизменения климата и процессов урбанизации.
501 Эд Соджа заявил в своей книге «Постметрополис»,что «наше время — и наилучшее и наихудшее для изучениягородов: хотя нашего ответа ждут столь много новых исложных тенденций, сегодня между нами гораздо меньше,чем в прошлом, согласия в том, как наилучшим образомтеоретически и практически осмыслить создаваемые новые
городские миры». Преодолеть это неблагоприятноестечение обстоятельств можно, если сбавить темп и,оглянувшись на лишь по видимости «сброшенные с кораблясовременности» теоретические контексты и традиции,попытаться найти в них перспективные стратегии. Одна изних — компаративная урбанистика: необходимо отыскиватьразличия и помещать непохожие города в общуютеоретическую картину, учитывая, что европейский город— только один из множества вариантов городов. Втораястратегия — материальность и пространственностьгородов, состоящие из мобильности вещей и людей,потоков, сетей и связей. Третья — «местные», «по местужительства» исследования городов и отдельных аспектових функционирования, при условии что опыт другихгородов и моменты взаимосвязи между городами, дажедалеко отстоящими, не будут забыты. Тогданесопоставимость результатов, обусловленная разрывами ирасколами современной урбанистики, уступит место инте-ресно описанному разнообразному опыту, в том числе«исключенных» людей и мест. Ведь не секрет, что пока вописаниях «незападного» городского опыта, в том числероссийского, преобладают всего два параметра:географический и экономический. Власть, неравенство,расизм, мутирующий капитализм — все это очень важныеизмерения городской жизни, но рано или поздно наступаеточередь сравнения именно городского опыта. И здесь насподстерегают свои иерархии, проявляющиеся в том, что и«космополитизм», и «витальность», и «креативность»зарезервированы, если судить по литературе, лишь засчитанными городами.
501 Даже «повседневность» изучена на примере техгородов, которые сегодня успешно стали глобальными, нои прежде манили к себе весом написанного502 и сказанного о них.
502 Универсален ли описанный в этих городах опыт? 502 Или, возможно, правы те авторы, кто, забыв о
провинциальной уязвленности, терпеливо описываютразличные группы горожан и их практики?
502 Интерес к тому, что делает различным городскойопыт для различных категорий обитателей, можетосновываться на идее «права на город». Одно из ее воз-можных пониманий состоит в том, что связь городскогоокружения и идентичности горожанина зависит от степенивовлеченности человека в городскую жизнь. Уют, гармонияи «витальность» столиц включают в себя и те очевидныемоменты, что здесь кто-то властвует, а кто-то не знает,куда себя деть, не имея работы уже несколько летподряд. Серьезной победой урбанистов последнегопоколения, кто с «запачканным лицом» сам проводитполевые исследования, является убеждение всохраняющейся возможности критического анализа городс-кого опыта. Хотя не секрет, что певцы урбанистическойкреативности вроде Ричарда Флориды имеют больше шансовпопуляризовать свои идеи и самих себя.
502 Интерпретациями мы живем, и интерпретации мыпроизводим. Они заведомо неполны и субъективны:городская реальность разнообразна и текуча. В этойкниге шла речь только о некоторых сторонах практикуправления, форм коммуникации, социальных отношений,институтов, которые, взаимодействуя, образуют город - втесной связи материальных процессов и дискурсов,метафор и повествований, с помощью которыхосмысливается современный городской опыт.
503-516 Список основных понятий и терминовТрубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления простран-ства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. - 519 с.
Список основных понятий и терминовАутсорсинг — политика, проводимая странами «первого
мира» по выносу производств в регионы относительно
недорогой рабочей силы для того, чтобы компенсироватьдефицит дешевого труда у себя дома.
Бесчувственное равнодушие, блазированность — термин,введенный Георгом Зиммелем для обозначения пси-хологических особенностей и даже типа личности горожан,сложившихся в начале XX века. Это особое культурноеприспособление, которым индивиды защищают себя,вытекает из постулируемой Зиммелем неспособностивзаимодействовать лицом к лицу с тем обилием людей, чтоони видят каждый день. Эмоциональная энергия слишкомлегко и напрасно бы исчерпалась, захоти городскиеобитатели близко к сердцу принимать многочисленныеконтакты, на которые их обрекает город. Гораздо болеепсихологически экономны игнорирование окружающих,избегание контакта с ними. Средство самозащиты -- типличности, каким субъект становится, усвоив социальнуюлогику, лежащую за этим хаосом: сосредоточенность насвоих интересах и равнодушие к социальным процессам.
Биотическая борьба — термин чикагского автора РобертаПарка, введенный для обозначения бессознательногосоревнования и приспособления групп людей, приводящегок тому, что различные социальные функции закреплялисьза самыми подходящими участками пространства,наблюдаемого им в родном Чикаго 1920-х годов. Те видыактивности, которые функционально более всего подходилидля данного места,постепенно в этом месте воцарялись, вытеснял другие ак-тивности, которым необходимо было искать для себядругие места.
«Бонавентура» — отель в Лос-Анджелесе, превращенныйФредериком Джеймисоном в эмблему постмодернистскойкультуры. Новые коммуникационные технологии усиливаютмобильность капитала, который словно теряет вес иопределенное местонахождение, а его усиливающиесяфрагментация и эфемерность отражаются в новыхкультурных предпочтениях. Отражаются в том числе ибуквально: в зеркальном стекле, которым облицованоздание. Отель «Вестин Бонавентура» останется в истории
как место, которое посетило рекордное число звезд-интеллектуалов (Анри Лефевр, Жан Бодрийяр, Майк Дэвис идругие), а также просто любопытствующих (автор этойкниги),
Брендинг городов — комплекс мер, предпринимаемыхгородскими властями для повышения конкурентоспособностигорода. Понятие, которое используется взаимозаменяемо смаркетингом городов, но с конца 1990-х годов начинаетупотребляться чаще. У города тогда есть шанс статьбрендом, когда, во-первых, хорошо поняты и известны его«продаваемые» отличия и, во-вторых, разработанасовокупность маркетинговых мер, которые эти отличияиспользуют.
Бустеризм (от англ. boost — расширять, проталкивать,рекламировать) — продвижение стратегии быстрогоразвития города любой ценой. В этой деятельностиобъединяются амбициозные мэры, предприниматели,владельцы недвижимости и узлов транспорта.
Гендерные отношения в городе — предмет исследованийфеминистских урбанистов. Их ранние представители искалив городе проявления патриархального структурированияпространства, а более поздние авторы стремятсяразработать менее прямолинейные подходы,сосредоточиваясь на связи материального, социального исимволического измерений городской жизни. Город игендер пересекаются, создавая непохожие сочетаниявозможностей и закрепощенности для разных групп мужчини женщин. Городские места, в которых воплощеныдоминирующие социальные отношения, либо позволяют, либопрепятствуют нам увидеть, где именно в социальномпространстве мы помещаемся. Их неотъемлемые ха-рактеристики — сексизм, расизм и эйджизм.
Гибридность культурная — термин, сложившийся впостколониальных и культурных исследованиях для обозна-чения результатов культурных обменов. Культурныегибрид- носш возникают во времена историческихтрансформаций и под контролем тех, кто властвует: онипоощряют только ту гибридность, которая их
удовлетворяет. С другой стороны, возможна такаягибридность, в которой культурные различиявзаимодействуют неиерархически.
Глобализация — система социальных отношений произ-водства и воспроизводства, основанных на неравномерномразвитии регионов. Мировая капиталистическая экономикаобеспечивает присвоение результатов прибавочного трудав такой системе эксплуатации, которая охватывает триступени: центр, полупериферия, периферийные страны.Глобализация — это процессы, в которых национальныегосударства и их интересы вплетаются в сетьтранснациональных акторов (корпораций, международныхорганизаций) и подчиняются их властным возможностям, ихориентации и идентичности. Глобализация —сконструированный дискурс, что открывает возможность ееразличных прочтений, различных реакций на нее. Взависимости от конкретной истории региона или места внем складывается специфическое «прочтение» глоба-лизации.
Глобальные города — города, в которых сконцентри-ровано управление мировой экономикой. Главные из них —Лондон, Нью-Йорк и Токио. Стремительный рост глобальныхгородов начиная с 1970-х годов обусловлен требованиямитранснационального капитала, циркулирующего вбанковском деле, аудите, рекламе, финансовомменеджменте и консалтинге, а также деловом праве.Глобальный контроль капитала возможен только на основеособых мест — городов с их «аггломе- ративнымиэкономиками», технологически-институциональ- нымисистемами, организацией производства и так далее.Глобальные города представляют собой одновременно: 1)базы для глобальных операций ТНК; 2) места производстваи рын-ки; 3) лидеров иерархии городов, занимающих в ней местав силу своих различающихся ролей в мировой экономике.
Город — тип поселения, обычно определяемый в соответ-ствии с размером населения или административнымстатусом. В наши дни город понимается не как статичная
категория, но как динамичное образование, связанное ссоциальными процессами, посредством которых и создаютсягородские пространства. географы и урбанисты стремятсямыслить города как часть неравномерных и неравноправныхсоциальных отношений, структурирующих общества. Поэтомув изучении материальных и символических ландшафтов,спорах по поводу идентичностей городов часто на первыйплан выходят проблемы власти и политики.
Город как экосистема — концепция английского физи-ческого географа Иэна Дугласа (1981). В ее основе —простой аргумент город, вбирая в себя одни вещества,выделяет другие. Поглощая энергию и воду, городпорождает щум, изменение климата, загрязнение воздуха,отходы жизнедеятельности людей и мусор. В то же время вгородах все природные, «встроенные® стабилизаторыэкосистем либо уничтожены, либо нарушены. Чтобыуменьшить непредсказуемость своего существования, людивозвели здания для защиты от стихии, трубы и очистныесооружения для регуляции потоков воды, улицы итранспорт для коммуникации, социальные институты длярегулирования «природных» человеческих страстей. Носегодня обнаруживается, что эти артефакты и организацииболее не способствуют стабильности, город какэкосистема сам оказывается источником беспорядка вокружающей среде.
Городская природа, социоприрода и социоэкология -понятия, введенные в 1990-е годы для обозначения го-родов как гибридов природы, технологии и архитектуры, атакже социальности природы, ее трансформации в соответ-ствии с представлениями властей предержащих.
Городская экология — так называется подход к изучениюгородов, сложившийся в рамках чикагской школы (непутать с экологией городов, которую тоже часто именуютгородской экологией). В нем биологизм сочетался сэволюционизмом, а социальность городской жизни виделасьукорененной в материальной среде. Устойчивые способы воспроизводствасоциальной жизни в городах понимались этими авторами с
отсылкой к естественным силам, действующим помимосознания людей. Социальная организация мыслилась какрезультат неосознанной эволюции.
Городское правительство (urban government), городскоеуправление (urban governance). Первый термин —городское правительство - подчеркивает, что традиционноуправление городом велось из единого центра, которыйсам был встроен в иерархию вышестоящих правительств ивоплощал вертикальный принцип управления. Второй терминкуда более сложен, им обозначают процесс управлениягородом, в который вовлечены разнообразные партнерства.Он относится к «сетям», вовлеченным в принятие решенийи достижение консенсуса. Если управление городскойжизнью, ведущееся городским правительством, исходит изодного центра, иерархично и предполагает директивныйстиль, то управление городской жизнью со стороныпаргнерств полицентрично и горизонтально. Другоеотличие, которое фиксируют эти термины, заключается втом, что городское правительство более или менееодинаково повсюду, тогда как в рамках городскогоуправления конкретное сочетание институтов, которыегородское правительство привлекает к принятию решений иот которых просто зависит, может меняться. В любомслучае тенденция, которую маркирует само этотерминологическое различие, заключается в расширениичисла инстанций, участвующих в управлении городом:бизнеса, некоммерческих организаций, массмедиа,наднациональных институтов (например, Европейскогосоюза) и так далее.
Городской режим — понятие, обозначающее неформальныеуправляющие коалиции, реально принимающие решения иопределяющие городскую политику, то есть «формальные инеформальные соглашения, на основе которых общественныеорганы и частные интересы действуют вместе для принятияи исполнения управляющих решений» (К Стоун).
Децентрализация городов — процесс, начавшийся в 1980-е годы и активно продолжающийся в настоящее время,выражаясь в росте пригородов, часто по площади сильно
превосходящих первоначальное «ядро», что сопровождаетсяпереносом за город компаний и торговых центров,тематических парков развлечений и заводов Ряд авторовсчитают, что именно этот процесс существеннопроблематизирует представление о городе какмоноцентричном образовании. Особенно активны здесьпредставители лос-анджелесской школы урбанистики,которые на примере «своего» города доказывают, чтопостмодерный город — это децентрированное и, по сути,слившееся с территорией части штата (Южной Калифорнией)образование.
Джентрификация — «производство» городского про-странства для состоятельных жильцов. Этот процесс, имеяклассовую подоплеку, неразрывно связан с несправедливо-стью. Для исследователя он представляет собой дилемму:описывать (и таких исследований большинство) вкусы ипристрастия новых обитателей этих кварталов и районов —среднего класса — или пытаться включить в обсуждениемнения пострадавших.
Термин джентрификация (gentriflcation) был введен в19б0-е годы британским социологом Рут Diac. Отсылка кдворянству — gentry — использована в нем, не безиронии, для обозначения переделки бедных и рабочихгородских кварталов для вкусов и нужд болеесостоятельных людей.
Естественный ареал — термин, введенный членами чи-кагской школы для обозначения социальных пространств,возникающих в ходе «естественного» экологическогоразвития города в противоположность запланированномуразвитию.
Имиджинирннг (imagineering) — термин, введенный аме-риканским географом Чарльзом Рутгейзером в книге о том,как городские власти Атланты «продавали» город в кануни во время Олимпийских игр 1996 года, и используемыйдля обозначения избирательной манипуляциисимволическими ресурсами со стороны городских властей.
Ком модификация пространства — процесс, определяющийсуществование капиталистического города и связанный
прежде всего с превращением городской земли в актив,который может бьггь продан или куплен.
Концентрических зон теория — теория чикагского автораЭрнеста Берджеса, запечатленная в схеме концентриче-список основных понятий и ТЕРМИНОВских зон роста города и его социальной организации.Берджес выделяет пять зон: 1) центральный деловойокруг, 2) переделываемая зона, или «зона транзита», вкоторой старые частные дома перестраиваются иприобретают иные функции, прежде всего коммерческие ижилые, 3) зона домов «независимых рабочих»; 4) зона«домов получше»; 5) зона ежедневных пассажиров.Поскольку эта схема призвана была проиллюстрироватьсоциальную и моральную организацию городского простран-ства, Берджес уделяет особое внимание «зоне транзита»,с ее кварталами богемы, районами «красных фонарей»,«миром меблированных комнат», чайнатаунами, как самойпроблемной. С его точки зрения, достаточная удаленностьзоны от центра города была эквивалентна гарантиисоциальной нормальности.
Культурные исследования — междисциплинарное полеисследований современной культуры, связанных с такимивопросами, как культурные идентичности и массмедиа,культурные тексты, деятельность культурной власти,потребление культурных продуктов, связь между массовой,национальной и глобальной культурами, циркулирование,воздействие и рецепция культуры в повседневной жизни.
Лос-анджелесская школа — группа калифорнийских ис-следователей, которая, опираясь на случай Лос-Анджелесаи Южной Калифорнии, изучает города «последнегопоколения», именуемые в литературе постиндустриальнымиили постмодернистскими.
Марксистская урбанистическая политическая экология —вариант осмысления экологических проблем в городе,развитый британским географом Эриком Суингеду. Ееглавный тезис в том, что материальные условия городскойприроды контролируются и манипулируются в интересахэлиты за счет маргинализованных слоев населения. Эти
условия, в свою очередь, зависят как от социальных,политических и экономических процессов, так и откультурных конструкций и репрезентаций, определяющих,что понимается под «городским» и «природным».
«Машина роста» — коалиция элит, нацеленная наизвлечение прибыли из городской земли и всего, что наней возведе-но, с использованием идеологии роста. Термин введенамериканским социальным теоретиком Харви Молочем, выде-лившим три компонента «машины роста»: 1) коалиция элит;2) лоббирование элитами роста как отвечающего ихдолговременным экономическим интересам; 3) диспропорциив выгодах от роста.
Ментальные карты города — результаты практического, апотому неизбежно субъективного картографирования горо-да, имеющиеся у каждого горожанина, В них отмеченысамые часто используемые маршруты, памятные для даннойличности места, места, в которые хотелось быперебраться, опасные и безопасные, места работы и местаудовольствия. Методологию ментальных карт активноиспользовал в I960— 1970-е годы бостонский урбанистКевин Линч, анализируя восприятие горожанами Бостона.Линч интересно пишет, что есть города, предоставляющиезамечательный материал для их познания обитателями (иБостон один из таких городов), а есть «скучные» в этомсмысле города.
Мобильность — ключевая характеристика городской жиз-ни, изучаемая транспортной географией и в рамках«парадигмы мобильностей», согласно которой городаорганизованы множественными формами движения, ритма искорости. Мобильность понимается, во-первых, какэмпирическая данность, которую можно проследить иизмерить, во-вторых, как центральная характеристикасовременного мира, близкая по смыслу в одних случаяхсвободе и креативности, в других — глобализации, в-третьих, как способ чувственного, практического,воплощенного обитания в мире.
Мультикультурный капитализм — капитализм, основанныйна производстве/воспроизводстве культурного разно-образия и на маркетинге экзотических общностей.
Неолиберализм — возникший в 19б0-е годы социально-экономический проект (и сопутствующая ему идеология),соединяющий либеральные идеи с акцентом наэкономическом росте, то есть выдвигающий экономическийлиберализм в качестве средства экономического развития.Основан на приоритете соревнования индивидов, городов ирегионов, децентрализации, дерегуляции и приватизациипромышленности,земли и системы социальной защиты. Продвигаетспецифический вариант субъективности, основанный наидее о личной, и только личной ответственности индивидаза собственное благополучие и выдвигающий на первыйплан такие варианты идентичности горожанина, какпотребитель и клиент.
Новый локализм — термин, фиксирующий реакцию го-родских правительств на процессы глобализации. Созданиеи увеличение городских активов мыслится как самыйнадежный путь включения города в международноеразделение труда. Растут альянсы мэров,муниципалитетов, владельцев недвижимости и иногодинамичного бизнеса, представляя собой коалиции роста.«Новый локализм» проявляется в том, что почти каждыйгород хочет занимать заметное место на карте глоба-лизации, то есть привлекать зарубежные инвестиции, апотому тратит большие средства на свой маркетинг(брендинг).
Поляризация — тенденция развития городов, состоящая всосуществовании в них групп людей, сильно отличающихсяпо уровню доходов, участию в разделении труда, расовыми гендерным признакам. В настоящее время это понятие, содной стороны, подвергается критике как не позволяющееотразить динамику складывания и взаимоналожениясоциальных и культурных различий, с другой стороны,активно привлекается для описания последствийнеолиберальной городской политики.
Постколониальные исследования — часто включают всебя: 1) обсуждение опыта рабства, миграции, угнетенияи сопротивления, различия, расы, гендера, места и ихматериальных последствий; 2) анализ реакции на дискурсыи идеологии имперской Европы (исторический дискурс,антропологический, философский, лингвистический). Онизанимаются как анализом условий жизни и культуры вбывших колониях, так и условиями жизни людей вдиаспорах.
Постмодерный город — понятие, которым оперироваликультурные географы и урбанисты в конце XX века. Однаиз немногих попыток дать его основные характеристикипринадлежит Эду Содже. Он считает, что такой город, во-первых, «региональный», во-вторых, постфордистскиЙ, в-третьих, «мировой», в-четвертых, «дуальный», то естьсостоящий из поляри-зованных сообществ, в-пятых, «дисциплинирующий», тоесть включающий в себя активно контролируемые места(«сообщества за воротами» и тюрьмы - два примера такихмест), и, в- шестых, «город-симулякр», в которомпроизводится гиперреальность и царит потребление.
Постфордизм — система промышленного производства,связанная с переходом к так называемой горизонтальнойорганизации (по контрасту с «вертикальной», характернойдля фордизма). Если фордизм предполагал производствокакого- то продукта силами одной компании, топостфордизм основывается на размещении заказов напроизводство компонентов продукта среди сети небольшихкомпаний. На постфордистс- ком предприятии не хранятсябольшие запасы частей или готового продукта, так какэффективно организована логистика. Близость рабочейсилы к месту производства уступает место другомуприоритету: снижению затрат на стоимость труда, вотпочему постфордистские компании активно занимаются«аутсорсингом», размещая трудоемкие производства вразвивающихся странах, где труд дешев.
Пространственная фиксация (spatial fix) — термин Дэ-вида Харви для обозначения той тенденции, что городское
пространство стало главным способом закреплениякапитала. Пространство — абсолютное условие всегопроизводства и всего потребления, и оно должно всеактивнее расширяться, чтобы соответствовать логикекапиталистического роста. Но пространство может стать ибарьером на пути получения прибыли и капиталовложений.Присущая капиталу тенденция ускорять время своегообращения и уничтожать пространственные препятствиясвоей циркуляции обусловливает создание относительностабильных и неподвижных пространственных образований.Каждая фаза капиталистического развития укоренена вособой форме территориальной организации — «второйприроде», состоящей из инфраструктуры (включающейтранспорт, иные коммуникации, институты управления итак далее), через которую капитал может циркулировать.Этот момент территориализации возможен за счетдолговременных инвестиций в землю и здания, которые входе каждого кризиса накопления переоцениваются.Пространственнаяфиксация — это попытки вернуть капиталу егоприбыльность, что выражается в новой конфигурациикапитала и городского пространства, возникающей послекаждого кризиса.
Седентаризим — точка зрения, отдающая предпочтениеоседлому и неподвижному образу жизни перед кочевым иподвижным и присущая «сидящему обществу» (Т. Ингольд),каким, возможно, остается современное общество вопрекиобилию «мобильных» его репрезентаций.
Символическая экономика — понятие, введенное аме-риканским урбанистом Шарон Зукин для обозначенияиспользования культурных символов предпринимательскимкапиталом. Для городов культура — бизнес, а культурнаяэкономика — значимый сектор экономики в целом.Культурные формы оказываются встроенными впроизводительную деятельность, а культура в целомподвергается различным вариантам коммерциализации икоммодификации. Зукин выделяет три разновидностисимволической экономики. Первая — манипулирование
символами привилегированности и исключенное™. Втораяиспользуется теми, кто «продвигает» конкретные места иполучает прибыль, привлекая символы их роста и подъема.Третья - строительство музеев, парков, архитектурных«икон» городской элитой с филантропическими ирекламными целями.
Социальный дарвинизм - термин, возникший в конце XIXвека для выражения идеи, что люди, подобно животным,борются за существование и что в основе социальнойэволюции — соревнование между индивидами, социальнымигруппами, нациями и идеями.
Социальный конструктивизм — теория, методология,парадигма, настаивающая на том, что научное знаниепроизводится учеными, а не определяется структурамивнешнего мира. Противопоставляет себя эссенциализму —установке на объяснение фактов с опорой науниверсальные неизменяемые сущности. Общую для этойпарадигмы логику хорошо описал Ян Хакинг. Пусть х —некое явление, тогда социальный конструктивист скажет,что х не следовало существовать или быть таким, каковооно сейчас. Он рассуждает так: 1) х, или х в егонастоящем виде, не обусловлено природой вещей, оно нене-избежно. Иначе говоря, х возникло или сформированособытиями, силами, историей, которые могли быповернуться совсем иначе; 2) х в его настоящем видеплохо; 3) было бы лучше, если бы х не было или, покрайней мере, оно было бы радикально изменено.
Транснациональное социальное пространство — термин,введенный немецким социальным теоретиком ЛюдвигомРисом: «...конфигурация социальных практик, артефактови символических систем, которые простираются междуразличными географическими пространствами по крайнеймере двух национальных государств без создания нового"детерритори- ализированного" национальногогосударства». В этих пространствах место эмиграции иместо иммиграции связываются во что-то третье(мексиканские иммигранты в Америке сохраняют
многочисленные связи на родине). Говорят также отранснациональных сетях, мигрантах, идентичностях.Понятие оспаривает традиционную привязку общностей кодному определенному месту и постулирует возможностьжить и действовать одновременно «здесь и там», «нетолько, но и».
Транснациональные корпорации (ТНК) - компании,действующие более чем в одной стране так, чторуководство ими осуществляется из одного региона, апроизводство размещено в другом.
Эпистемология урбанистическая — термин, используемыйрядом авторов для фиксации проблем и сложностей по-знания городской реальности, а также взаимодействияразнородных занимающихся городом систем знания.
Фланер - термин, популяризированный Вальтером Бень-ямином для описания гуляющего горожанина, заинтригован-ного драмами городской жизни, ценителя ее тайн иудовольствий.
Фордизм — система промышленного производства, на-званная по имени основателя автомобильной компанииГенри Форда, для которой характерно, во-первых,массовое производство определенного продукта силамиодной компании; во- вторых, проживание рабочихнеподалеку от завода; в-третьих, привязка определенныхтипов производства к конкретным городам.список основных понятий И ТЕРМИНОВ
Фрагментация города — понятие, активно используемоеисследователями городских сообществ для фиксациипроцесса ослабевания социальных связей, недостатка«социального капитала», то есть сплоченности, всообществах «проблемных» социальных групп, частообитающих на периферии города. Дезорганизация ирасщепленность населения по расовому, половому,этническому, профессиональному признакам усиливаетсяразнородностью мест, в которых оно проживает.
Франкфуртская школа — возникла на основе Институтасоциальных исследований, созданного по инициативе МаксаХоркхаймера во Франкфурте-на-Майне в 1923 году. Приход
нацистов к власти обусловил переезд ее членов в США.Членов школы объединяло стремление создать критическуютеорию на основе идей Маркса и других представителейнемецкой философии,
Чатал-Хююк (VII — первая половина VI тыс. до н. а,Турция) - крупный населенный пункт, раскопанный в 1960-е годы. Сегодня признано, что это первый значительныйгородской центр, сыгравший ключевую роль в раннемразвитии сельского хозяйства и многих другихтехнологических, социальных и художественных инноваций.Раскопал его английский археолог Джемс Мелларт, которыйв 1964 году опубликовал в журнале «Scientific American*статью «Неолитический город в Турции», где написал, чтонаселение Чатал-Хююка составляло 10 тыс. Эд Соджа вкниге «Постметрополис» делает Чатал-Хююк начальнойточкой «урбанистической революции», призываяпереосмыслить традиционную картину возникновениягородов после развития сельскохозяйственных культур.Город и городская жизнь возникли, считает он, раньшеземледельческого общества, созданные «эгалитарнымисобирателями», охотниками и торговцами. Относительнаяоткрытость городского плана, отсутствие монументальныхфортификаций (таких, как в Иерихоне), тот факт, чтосреди множества скелетов, раскопанных здесь, ни один неносил следов насильственной смерти, — все это указываетна мирную природу города и его продуктивноесуществование в течение почти тысячелетия, усиленныесоциальной властью женщин. На одной из стен старейшегосвятилища была найдена фрес-ка — первый в мире образец городской панорамы — 75зданий СО слабо извергающимся вулканом на заднем плане.Этот рисунок оставался единственным изображениемчеловеческого ландшафта в течение последующих 7 тыс.лет.
Чикагская школа — группа социологов, работавших в1920—1930-е годы в Чикагском университете иосуществлявших исследования города, объединяя теорию иполевую работу.
Экологический отпечаток города — площадь, обеспе-чивающая его жизнедеятельность, и мера «нагрузки» наприроду, которая возникает в результате удовлетворенияразнообразных потребностей городских обитателей. Так,экологический отпечаток Лондона в 293 раза превышаетего площадь. Сегодня считается, что социоэкологическийслед городов планеты стал глобальным.