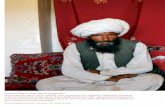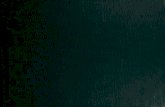Трипольская эпоха/ Trypillian Age
-
Upload
laborarchive -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Трипольская эпоха/ Trypillian Age
Бурдо Н. Б. Трипольская эпоха. – Киев, 2013. – 48 с.
Трипольская культура (Триполье) является частью культурного комплекса (общности) Триполье – Кукутень (Кукутень – Триполье), куда включены культуры Прекукутень, Кукутень, Триполье, некоторые посттрипольские культуры и группы раннего бронзо‐вого века, выделенные на территории государств Румыния (Mantu, 1997), Республика Молдова и Украина. Под этой обложкой собраны работы, посвященных Триполью, которые отражают круг научных интересов автора и библиография работ Натальи Борисовны Бурдо – старше‐го научного сотрудника, кандидата исторических наук.
... Воспоминаний много. Это и археологические раскопки и разведки на полях нескольких областей Украины, от Днестра до Днепра. Это десятки месяцев, проведенных в поле, сотни пройденных километров, десятки раскопанных объектов, сотни тысяч найденных трипольских артефактов – сосудов, статуэток, орудий и инструментов. Это встречи и обмен мыслями с коллегами на десятках научных конференций от Киева и Збаражи до Познани и Будапешта.
Это также общение со многими людьми, которые живут в разных уголках мира, но объеденены одним увлечением – Трипольем. Среди них не только археологи, но и журналисты, художники, керамисты, писатели, режиссеры, коллекционеры, политики.
Документальная основа знаний о Триполье – монографии и научные статьи, отчеты в архивах и, наконец, сами археологические находки – как «свидетели» и «вещественные доказательства» …
Из предисловия к книге «Трипільська культура. Спогади про Золотий Вік».
СОДЕРЖАНИЕ
ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В СЕВЕРО – ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ……………………………………………………………………… 5 ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В РАСПИСНОЙ СИМВОЛИКЕ ТРИПОЛЬЯ‐КУКУТЕНЬ …………………………………………………………………... 26 СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА, КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ БУРДО ……………………………………………………………………………. 35
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐5‐
ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
В СЕВЕРО – ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Трипольская культура (Триполье) является частью культурного комплекса (общности) Триполье – Кукутень (Кукутень – Триполье), куда включаются культуры Прекукутень, Кукутень, Триполье, некоторые посттрипольские культуры и группы РБВ, выделенные на территории государств Румыния (Mantu, 1997), Республика Молдова и Украина. Культурный комплекс Триполье – Кукутень относится периоду энеолита и раннего бронзового века (РБВ). Употребление того или иного названия, которые часто выступают как разнозначные, зависит от контекста конкретного исследования.
Памятники Триполье – Кукутень (преимущественно поселения) расположены главным образом в лесной или же лесостепной зоне от Прикарпатской Молдовы до левобережья Днепра. Лесостепная часть Северо – Западного Причерноморья составляет лишь весьма небольшую часть обширного региона распространения трипольской культуры.
Пакеты радиоуглеродных дат, в том числе и полученные за последние 15 лет в Киевской лаборатории, позволяют определять время существования культурного комплекса Триполье – Кукутень, включающего и посттрипольские группы, в диапазоне 5400 – 2750 гг. до н.э. (Відейко, 2003).
Многовековую историю древнеземледельческих племен, занимавших значитель‐ную территорию от Прикарпатской Молдовы до Левобережья Днепра можно рассмат‐ривать как процесс аграрной колонизации обширных пространств лесостепной зоны, одним из регионов которой была лесостепная часть Север – Западного Причерноморья, включающая левобережье Днестра, Днестро – Бугское междуречье и Побужье.
Трипольские поселения Северо – Западного Причерноморья относятся к разным периодам и локальным группировкам. Как правило, на территории региона не зафик‐сировано особых локальных подразделений, известные в настоящее время поселения входят в состав соответствующих локально – хронологических групп. Исключение сос‐тавляет самая многочисленная по количеству памятников чечельницкая группа, кото‐рая преимущественно локализуется именно в Северо – Западном Причерноморье.
Как справедливо отметил Л.С. Клейн, «развитие шло не в рамках определенной ме‐стности, а в рамках определенного человеческого общества – там, где это общество проживало» (Клейн, 2007, с. 8). Эту сентенцию подтверждает анализ памятников Три‐полья в Северо – Западном Причерноморье. Тут ни для одного из упомянутых микроре‐гионов невозможно выстроить цепочку из сменяющих друг друга трипольских поселе‐ний. Между памятниками определенных локально – хронологических групп зияют не‐малые хронологические лакуны. Очевидно, что такое состояние материалов свидете‐льствует о достаточно сложных культурно – исторических процессах 5 – 4 тыс. до н. э. в Юго – Восточной Европе. На всех этапах культурного комплекса Триполье – Кукутень население Карпато – Поднепровья находилось теснейших контактах с передовыми об‐ществами древних земледельцев Карпат, Балкан, Подунавья и Средиземноморья, буду‐чи, в сущности, восточным форпостом европейского земледельческого мира. Освоение трипольцами, культура которых вы кристаллизовалась в районе Прикарпатской Мол‐довы, огромной территории до Левобережья Днепра можно рассматривать как аграр‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐6‐
ную колонизацию древних земледельцев, по сути, первую в европейской истории. Если до появления трипольской культуры неолитическое население Украины практиковало земледелие как один из хозяйственных укладов, то с появлением трипольцев можно говорить об аграрной экономике, которая надолго обусловила соответствующий образ жизни, уровень культурного и социально – экономического развития.
ЭКОНОМИКА
населения трипольской культуры базировалась на производящем хозяйстве, главной отраслью которого было земледелие, а сопутствующей – животноводство. Хозяйство трипольцев носило комплексный характер, использовались буквально все имеющиеся в их распоряжении природные ресурсы. В системе жизнеобеспечения важную роль иг‐рала добыча всевозможных дикорастущих растений, в том числе и использовавшихся в пищу, моллюсков, рыболовство и охота.
Ассортимент культурных растений, которые выращивались трипольцами, состоял из злаков, среди которых пленчатые пшеницы: двузернянка, отпечатки которой встре‐чаются наиболее часто, однозернянка и спельта, голозерный многорядный ячмень и пленчатый ячмень. Зафиксированы бобовые: горох посевной и вика эрвилия, отпечат‐ки которой встречаются довольно часто (Янушевич, 1986; Пашкевич, 2004, 124 – 135). Набор этот оставался практически стабильным на протяжении всего времени сущест‐вования культуры. Длительное существование однородного состава выращиваемых растений является свидетельством хорошего их приспособления для конкретных при‐родных условий и уровню орудий трипольцев. Трипольские поселения занимают пре‐имущественно зону широколиственных лесов. Состав выращиваемых культур и неко‐торые другие косвенные данные позволяют предполагать существование у триполь‐цев полевого земледелия с использованием тягловой силы животных и переложной системы землепользования. Для сбора урожая и заготовки сена трипольцами могли использоваться серпы с кремневыми вкладышами, находки которых присутствуют среди всех крупных коллекций каменной индустрии трипольских поселений. На ран‐нем и в начале среднего этапа лезвия серпов состояли из нескольких кремневых вкла‐дышей, которые вставлялись в оправу под углом – зубчатые серпы. Известны также серпы с прямым лезвием из нескольких кремневых пластин (Пашкевич, Відейко, 2006).
Переложная система требовала четкой регламентации распределения земли между отдельными общинами, предполагала определенную культуру ведения хозяйства и ор‐ганизацию периодической смены мест поселений и переселения их жителей. Такая мо‐дель земледельческого хозяйства находится в соответствии со сложной идеологичес‐кой системой аграрноых календарных священных циклов. Обеспечение функциониро‐вание такой системы земледелия требовало достаточно структурированной и сложной социальной организации и значительных трудовых затрат.
Рост производства в земледельческой отрасли мог происходить за счет приспособ‐ления трипольских племен к местным условиям в ходе аграрной колонизации, опреде‐ленного прогресса в изготовлении земледельческих орудий труда, выбору земледель‐ческих культур, состава стада, сочетания отраслей, а также комплекса организацион‐ных мероприятий. Этим могло обеспечиваться и появление прибавочного продукта в аграрном производстве, и относительно высокий уровень развития трипольского зем‐леделия. Однако ориентация на эксплуатацию значительного запаса природных ресур‐сов без интенсификации аграрного производства ставила трипольское общество в за‐висимость от климатических условий и в целом свидетельствует об экстенсивном пути развития земледельческого хозяйства (Відейко, 2004, 144 – 145).
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐7‐
Животноводство
было неотъемлемой составляющей комплексного производящего хозяйства трипольс‐ких племен. Собственно земледельческий культурно – хозяйственный тип предполага‐ет наличие животноводства как сопутствующей отрасли земледелия. Трипольское жи‐вотноводство характеризуется как весьма развитое с хорошей кормовой базой. На раз‐ных поселениях зафиксированы разные породы скота и лошади. Установлено несколь‐ко типов животноводства, вероятно зависевших от конкретных ландшафтов (Журав‐лев, 2008, с. 69). В подавляющей части трипольских остеологических коллекций коли‐чественно преобладают или составляют приблизительно половину особи домашних животных.
Среди домашних животных чаще преобладает крупный рогатый скот как по коли‐честву особей, так и, тем более, в пересчете на мясо. Мелкий рогатый скот, свиньи и лошадь занимают разные места после быка, но везде не играют решающей роли в сос‐таве стада. Крупный рогатый скот составлял на многих трипольских памятниках поло‐вину или более 50 % особей домашних животных. По данным археозоологов трипольс‐кий скот отличался крупными размерами, выделяется несколько разных пород. Свинья часто занимает второе место по количеству особей, а иногда по этому показателю пре‐вышает количество крупного рогатого скота. Свиньи представлены породой, для кото‐рой характерны не больше размеры. Кости мелкого рогатого скота присутствуют, как правило, в небольшом количестве, более или менее заметный процент особи коз и овец составляют лишь в коллекциях с минимальным количеством костей вообще или ми‐нимальным количеством костей домашних животных. Лошадь представлена практиче‐ски во всех трипольских остеологических коллекциях отдельными особями.
Принадлежность Триполья к земледельческому культурно – хозяйственному типу, анализ природных ресурсов и возрастные показатели стада предполагают стойловое содержание скота. Причем кормовая база позволяла содержать зимой не только основ‐ное поголовье, но и подрастающий молодняк. Однако, судя по остеологическим мате‐риалам, поголовье скота в конкретных трипольских поселках было небольшими. Раз‐мер стада сдерживался возможностями кормовой базы зимой. В соответствии с этног‐рафическими данными для прокорма 7 телят до двухлетнего возраста необходимо столько же кормов, сколько для 3 особей крупного рогатого скота возрастом до 3,5 лет. Но в первом случае мяса получают на 40 % больше. В случае молочного направления животноводства, который фиксируется наличием костей взрослого скота и большим количеством коров, при том же самом объеме кормов можно получить в 4 – 5 раз боль‐ше белков, чем при мясном направлении (Шнирельман, 1988, 31 – 32).
Для мелкого рогатого скота типично преобладание костей взрослых особей, что может свидетельствовать о получении от коз и овец не только мяса, но и молока и ше‐рсти. Есть сведения о находке шерстяной пряжи при раскопках поселения Яблона (Ма‐ркевич, 1982, 143).
При любом составе стада трипольцы наибольшее количество мяса получали от крупного рогатого скота. Даже в тех случаях, когда свиньи составляли 70 % стада, в мя‐сном балансе они уравнивались с крупным рогатым скотом. Мелкий рогатый скот су‐щественного значения в мясном балансе не имел.
Значения животноводческой отрасли в хозяйстве определялось тем, что она обес‐печивала трипольцев не только мясными и молочными продуктами, но и шерстью, шкурами, мехом, тягловой силой. Стойловое содержание и регулярный выпас скота по‐сле жатвы обеспечивал удобрение полей. Это вполне вероятно, если учесть, что по эт‐нографическим данным земледельцы позволяли выпасать на своих участках стада, принадлежавшие иноэтничным соседям – скотоводам (Шнирельман, 1988, 29).
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐8‐
Появление молочного хозяйства, ткачества, использования шерсти, использование мускульной силы животных свидетельствует о появлении у трипольских племен но‐вых, более продуктивных пород скота, что демонстрирует новый уровень развития животноводства по сравнению с неолитическим и свидетельствует о дальнейшем раз‐витии комплексной аграрной экономики.
По этнографическим данным, забой скота в традиционных обществах земледель‐цев и скотоводов был обычно приурочен к священным действиям и разным важным праздникам, а мясо употреблялось исключительно в ритуальных целях как церемони‐альная или жертвенная пища, но не в повседневном рационе, и составляла в нем очень незначительную часть. Скот был престижным имуществом, которое определяло социа‐льный статус собственника, предметом обмена и служил денежным эквивалентом. В пищевом балансе населения земледельческих культурно – хозяйственных типов одно‐значно преобладает растительная пища. Животноводство было важной отраслью аг‐рарного комплекса производящей экономики трипольских племен, однако решающую роль в их жизнеобеспечении играло земледелие. Успех аграрных технологий в значи‐тельной степени зависел от экологической обстановки. Природная среда Северо – За‐падного Причерноморья благоприятствовала хозяйственной деятельности триполь‐цев, одна их земледелие в значительной степени зависело от колебаний климата.
Непищевое производство Функционирование таких важных составляющих системы жизнеобеспечения три‐
польского населения, как земледелие и скотоводство, было невозможно без целого ря‐да различных производств, получивших весьма высокий уровень развития. Важную роль играла добыча и обработка кремня и камня. С трипольской культурой связано ра‐спространение на территории Украины протогеологических познаний, умение разби‐раться в качестве глины и камня как сырья, находить их новые месторождения и раз‐рабатывать их (Петрунь, 2004, 200 – 217). В качестве полезных ископаемых разрабаты‐валось каменное и кремневые сырье в Поднестровье, магнетитовые кварциты и доло‐митовые офилкальциты в Побужье.
Кремень добывался трипольцами преимущественно открытым способом, выработ‐ки разных видов кремневого сырья сосредоточены на Волыни и в Поднестровье – ра‐йонах богатых высококачественными видами кремня. Выявлены и штольни по добыче кремня, исследованные на Среднем Днестре и функционириовавшие начиная со сред‐него Триполья (Бибиков, 1965).
С периода среднего этапа трипольской культуры добыча и обработка кремня хара‐ктер специализированного, высокотехнологического ремесла и могут в этом смысле быть сопоставлены с металлургией и металлообработкой (Вiдейко, 2004, 262 – 271). Уровень кремнеобработки Триполья был весьма высоким. Известны все технологии этой отрасли, распространенные в древней Европе. Наличие высококачественного сы‐рья способствовало развитию кремневой индустрии, а горное дело достигло весьма высокого уровня развития.
По мнению Н.Н.Скакун, усовершенствование техники обработки кремня, высокое качество полуфабрикатов и готовых изделий, наличие специализированных мастерс‐ких свидетельствует о высоком уровне специализации и профессионализации кремне‐обрабатывающего производства, которое постепенно выходит за рамки домашнего производства и превращается в ремесло. Установлено разделение труда и специализа‐цию в кремнеобрабатывающем производстве между отдельными районами трипольс‐кой культуры, что способствовало интенсификации межплеменного обмена изделиями
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐9‐
и сырьем, налаживанию довольно дальних путей транспортировки кремня (Вiдейко, 2004, 270 – 271).
Значительное место в экономике трипольских племен занимала обработка меди и, как установлено недавно, металлургия. Значительное место в экономике трипольских племен занимала обработка меди и металлургия.
Анализ медных изделий трипольской культуры позволяет предполагать сущест‐вование особого района, составлявшего Капрато – Днепровский регион металлообра‐ботки, который был частью сложной производственной системы – Балкано – Карпатс‐кой металлургической провинции (БКМП), выделенной Е.Н. Черныхом (Рындина, 1998).
К раннетрипольскому очагу металлообработки относятся периоды Триполье А и В І, Кукутень А. Его деятельность связана с І фазой БКМП. Всего для этого времени извес‐тно 623 изделия, 493 из которых происходят из трех кладов. Изделия отличаются мор‐фологическим единообразием, изменение форм изделий во времени намечается толь‐ко для крупных ударных орудий. Морфологические особенности трипольских находок показывают их близость к изделиям балкано – карпатских мастеров. По заключению Е.Н.Черныха, в ареале Триполья А – В І, Кукутень А имела хождение медь, полученная преимущественно из болгарских рудных источников, встречается также медь и из тра‐нсильванских месторождений (Черных, 1978,88 – 89, 264). Тем не менее, производство раннетрипольского очага сохраняло полную независимость и развивалось совершенно самостоятельно. Преобладало использование формовки металла посредством ковки и сварки. Зафиксированы все известные ныне виды кузнечных приемов. Частое приме‐нение сварки обусловлено использованием исходного сырья в виде полос меди. Имею‐щиеся примеры литья единичны (Рындина, 1998, 126 – 135).
Н.В.Рындина выделила для раннетрипольского очага существование двух видов организации металлообрабатывающего ремесла: кланово – производственный и инди‐видуально – семейный. Они выступали как тесно взаимосвязанные структуры, предоп‐ределенные сезонной делокализацией производственных объединений (кланов). Представители кланов поселялись в разных общинах, выполняя функции поселковых ремесленников. Н.В.Рындина считает, что уровень специализации клановых ремеслен‐ников был весьма высок (Рындина, 1998, 136).
На рубеже этапов Триполья В I – BI – BII зафиксирована переориентация связей, обеспечивающих металлургическое производство с балканского на тисско – трансиль‐ванский регион. Для среднетрипольского очага металлообработки, к которому относя‐тся этапы Триполья В I – BI – BII, BII и С I, Кукутень А – В и В характерны связи с куль‐турами Бодрогкерегстур и Лендель. Это обусловил появление новых форм изделий из металла, нового по геохимии медного сырья, формированию нового технического строя металлопроизводства. Коллекция металла среднетрипольского очага металлоо‐бработки состоит из 172 находок, среди них 45 происходят из клада. В этот период сре‐ди медных предметов из поселений доминирующее положение занимает оружие (ору‐дия) ударного действия. По сравнению с ранним периодом, число находок сокращается более чем в 3 раза, но преобладают крупные орудия и физический объем продукции имеет обратное соотношение, в 3 раза превышая уровень I фазы БКМП в Каропато – Днепровском регионе. Если учесть время функционирования очагов I и II фаз то окаже‐тся, что в среднетрипольский период металлургическая деятельность в 1,5 раза была выше.
Изделия II фазы отличаются разнообразием, среди них Н.В.Рындина выделяет две группы: предметы, морфологически восходящие к местной традиции I фазы, а также новые типы изделий. К ним относятся тесла – долота и топоры – тесла, а также кинжа‐лы разных типов. Теперь наблюдается три линии направленности трипольских метал‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐10‐
лургических связей: Карпатский бассейн, Центральная Европа и Кавказ. Решающую роль в металлообработке среднетрипольского очага играли контакты с тиско – тран‐сильванским регионом БКМП, включавшим центры Карпатского бассейна, который по‐ставлял сырьевую медь, импортные изделия и новые традиции, скорее всего связан‐ные с культурой Бодрогкерегстур. Связи с Центральной Европой, откуда редко посту‐пали привозные изделия, не имели решающего влияния на развитие трипольских ме‐таллургических знаний, ограничившиеся отдельными навыками формовки. Связи с Кавказом никакого серьезного влияния на трипольскую металлообработку не оказы‐вали, ограничиваясь перекрестным обменом готовой продукцией, в котором активной стороной выступало Триполье (Рындина, 1998, 144).
Н.В.Рындина установила, что среднетрипольская металлообработка отличается от раннетрипольской по характеру технологических схем, по видам литья и кузнечной обработки металла, а также направленности производства на изготовление орудий труда и оружия, рост утилитарного значения металла. На смену кузнечным технологи‐ям на рубеже этапов Триполья В I и BI – BII внезапно приходит литье. Отмечается тен‐денция к стандартизации и стереотипизации. Культура проведения кузнечных и ли‐тейных операций характеризуется совершенством. Н.В.Рындина полагает, что в сред‐нетрипольском очаге по – прежнему существовали индивидуально – семейные и кла‐ново – производственные объединения. Вероятно, в западной части региона культуры Кукутень – Триполье клановые сообщества мастеров селились в специализированных поселках. Их продукция – топоры – тесла, тесла – долота, шилья – отличалась стабиль‐ностью схем формовки. Специализация клановых ремесленников могла развиваться по линии разделения мастеров – литейщиков и кузнецов. Внедрению новых технологий в трипольскую металлообработку способствовали пришлые мастера, которые попадали, вероятно из региона культуры Бодрогкерегстур (Рындина, 1998, 149 – 150).
В последнее десятилетие появились данные о металлургии трипольской культуры. В.И. Клочко в 90 – е годы ХХ в. предположил, что трипольцы могли иметь свою метал‐лургию и разрабатывать месторождения медной руды в Прикарпатье и на Волыни (Клочко, 1994, 98). Установлено, что медные изделия из поселения этапа Триполье В – I Глыбочок, исследованного М.П. Сохацким, и Софиевского могильника в Поднепровье, относящегося к финалу Триполья (этап С II) по своим геохимическим показателям соо‐тветствуют волынской самородной меди. А некоторые изделия из Глыбочка и поселе‐ния того же этапа у с. Бильче Золотое, близкие между собой по геохимическим параме‐трам, сделаны из сырья рудного происхождения – песчаников Приднестровья, бли‐жайшие выходы которых известны в 20 – 25 км от этих памятников (Клочко, 2004, 220 – 222).
Одним из наиболее распространенных производств трипольской культуры было гончарство. Немногочисленные технико – технологические аналитические исследова‐ния трипольской керамики свидетельствуют о том, что при ее изготовлении использо‐валась местная глина. Трипольские гончары умели находить подходящее по качеству сырье для своих изделий, а также умели придать ему нужные свойства при отсутствии таковых у местной глины.
Глина, пригодная для керамического производства должна была пройти процесс отстаивания и очищения от механических примесей. Однако часть сырья получали уже в готовом, отстоянном виде, используя скопления отмытой глины по берегам рек и ру‐чьев, мул из водоемов. Пригодность глины для формовки достигалась путем приготов‐ления формовочной массы из глины разных сортов или с добавлением различных ми‐неральных или органических примесей. Они регулировали также процесс сушки и об‐жига. По функциональным и технологическим признакам выделяется несколько кате‐горий трипольской керамики, что свидетельствует о владении гончарами широким
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐11‐
спектром технико – технологических операций. Умелый выбор и использование весьма широкого ассортимента глин, умение приготовлять широкий спектр формовочных масс с использованием добавок для разных категорий керамики свидетельствуют о мастерстве и большой опытности трипольских гончаров в разработки технологии сы‐рья.
Формовка сосудов производилась разными способами и зависела в значительной степени от категории керамики. Большинство посуды, очевидно, формовано в технике ручной лепки. Есть данные про использование достаточно архаичной техники исполь‐зования болванок в виде мешочка с песком или шаблона на которые последовательно наносились слои глины. Мелкие сосуды лепили из одного куска глины, а сосуды сред‐них и больших размеров лепились в технике кольцевого налепа, ленточным способом. Крупные сосуды конструировались из нескольких частей. Внутренняя и внешняя пове‐рхности сосудов тщательно заглаживались, часто покрывалась ангобом, лощились. Крупные тарные сосуды изготовлялись в несколько этапов. Их конструирование прои‐сходило по частям – дно – тулово – горловина. Наращивание тулова осуществлялось также путем дополнительной подмазки стенок. Вероятно, со среднего этапа трипольс‐кой культуры использовалось для формовки керамики поворотное устройство, назы‐ваемое медленным (ручным) гончарным кругом (Цвек, 2004, 282 – 283). Вылепленный сосуд дополнительно подмазывали, его внутренняя и внешнюю поверхность облицо‐вывали тонким слоем глины, тщательно заглаживали, иногда окрашивали. Большая часть трипольской керамики богато орнаментирована рельефным или расписным узо‐ром. Точность и стандартность рисунков на трипольских сосудах позволяет предполо‐жить, что во – первых осуществлялась предварительная разметка поверхности перед нанесением рисунка, а во – вторых использовались кожаные трафареты.
Для орнаментации сосудов использовались белая, красная и черная краски, приго‐товленные из различных минералов на основе органических веществ, таких как белок и желток яиц, молоко, животный желатин, сок растений (Рижов, 2001, 17). Роспись на‐носилась кисточкой и тампоном. Наличие органических элементов в керамических пи‐гментах, засвидетельствованное аналитическими данными, может быть объяснено то‐лько тем, что роспись наносилась на обожженный в высокотемпературном режиме со‐суд и закреплялась повторным обжигом при низкой температуре.
Трипольские гончары владели техникой окислительного и восстановительного обжига, который производился, вероятно, при помощи костра в специальных ямах. В раннем Триполье применялся обжиг в устойчивом температурном интервале от 650º до 800º С, преимущественно в окислительном режиме. Красочный декор наносился по‐сле обжига изделий и не закреплялся повторным обжигом, что делало его нестойким. На среднем этапе трипольской культуры вырастают температуры обжига, достигая 900º, появляются специализированные гончарные обжигательные устройства. Они принципиально меняют технологические и экономические возможности гончарного производства, создают условия для специализации конкретных видов труда и профес‐сионализации производителей. Зафиксированы гончарные горны двух типов – одно‐камерные и двухкамерные и их организация в гончарных комплексах, а также керами‐ческие мастерские (Цвек, 2004, 293 – 295). Их наличие указывает на развитие техниче‐ской базы, рост внутреннего спроса, расширение ассортимента и увеличение объема продукции для обмена. Предполагается, что гончарное производства трипольской ку‐льтуры имело двойное направление – рассчитанное на внутренние потребности и на обмен (Видейко, 1988). Обмен керамикой между различными группами трипольского населения был повсеместным явлением. А высококачественная расписная посуда наи‐более часто встречается как импорт в материалах других культур.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐12‐
Развитие керамического производства стимулировало его переход на уровень об‐щинного ремесла. Исключительно высокое качество керамических изделий, стандар‐тизация керамики, гончарные горны, поворотные устройства для формовки керамики, специализированные мастерские, работа на экспорт свидетельствуют о том, что гонча‐рство трипольской культуры не ограничивалось семейным домашним промыслом, а производством занимались гончары с достаточно высоким уровнем профессионализма и специализации. Предполагается, что трипольские гончары обслуживали общину, а впоследствии племя и принадлежали к ремесленникам, узкоспециализированным в границах своей профессии, а община, со своей стороны, обеспечивали их всем необхо‐димым. Гончары имели в общинах и племенах высокий социальный статус, занимали особое положение и составляли отдельную прослойку населения, а керамическое про‐изводство выделилось в отдельную специализированную отрасль (Цвек, 1978).
Наряду с небольшими гончарными центрами, производство которых оставалось в пределах домашнего промысла, в трипольском гончарстве распространялся новый тип организации производства – ремесло, выступающее как новая форма деятельности, предусматривающая достаточно высокий уровень развития общества с элементами дифференциации.
АРХИТЕКТУРА демонстрирует высокий уровень, достигнутый в этой отрасли племенами триполь‐
ской культуры. Постройки на трипольских поселениях преимущественно располагают‐ся в соответствии с продуманной планыровкой. Для раннего периода характерна рядовая, уличная застройка небольших поселений. Достаточно распространен прин‐цип застройки поселка по кругу домами, которые ориентированы длинной осью к центру поселения. Уже на раннетрипольских памятниках можно увидеть начальную фазу формирования схемы застройки, когда жилища, ориентированные по длинной оси к центру, расположенные на расстоянии нескольких метров друг от друга, создают элиптические структуры почти сплошной застройки, образуя «жилые стены». Эта пла‐нировка прекрасно соответствует целям обороны большого поселка.
Для среднего периода Триполья характерны как небольшие, так и крупные посел‐ки, насчитывающие сотни построек, на этапе В I появляются поселения – гигинты (протогорода). В их планировке заметны улицы и квартальная застройка. Постепенно вырастают размеры и изменяются традиции планировки трипольских поселений. От‐мечены поселения с квартальной планировкой и центральной постройкой. Сложной планировкой отличаются поселения – гиганты в Побужье. В них сочетаются известные ранее системы – круговая, квартальная и усадебная. В Северо – Западном Причерномо‐рье преобладают небольшие и средние поселения, к поротогородам относится поселе‐ние Стена 4.
Укрепленные поселения трипольской культуры на территории Украины появ‐ляются на среднем этапе. Известны поселения в естественно труднодоступных местах, дополнительно усиленные искусственными оборонительными сооружения в виде рва, частокола, вала. Однако, наиболее распространенный принцип оборонных сооружений крупных поселков – кольцевая планировка с внешним кругом из двухэтажных жилищ в виде жилых стен, в которых оставлены въезды на поселение.
Трипольские поселения были застроены, главным образом, глинобитными прямо‐угольными в плане домами каркасно – столбовой конструкции. Керамические модели построек свидетельствуют о том, что вертикальные столбы разделяли стены на отде‐льные части, напоминая полуколонны, а стены окрашивались и расписывались. Кры‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐13‐
ши, вероятно, были двускатными, перекрывались камышом или соломой. Площади до‐мов колеблется от совсем небольшой – 30 м², до гигантской – более 500 м². Встречают‐ся квадратные и «Г» – образные постройки, но преобладают прямоугольные в плане. Их стандартная ширина обусловлена длиной деревянных конструкций для перекры‐тия и составляла 4 – 5 м. При ширине 9 – 10 м перекрытия должно было опираться на дополнительные конструкции.
Интерьер жилища, представленный глинобитными конструкциями, включал чаще всего подиум, который мог быть очагом, встречаются вмонтированные в глиня‐ные конструкции зернотерки, лавы вдоль стены, крестообразные глинобитные жерт‐венники. По мнению исследователей, трипольские постройки сочетали жилые и хозяй‐ственные функции и являлись жилищно – хозяйственными комплексами.
Трипольцы были основателями архитектурных традиций, которые на тысячелетия определили характер строительства в лесостепи. Специальные знания были необхо‐димы для привязки к местности и планировке сложной застройки трипольских посе‐лений – гигантов, сооружения домов значительных размеров и сложной конструкции, оборонительных сооружений. А масштабы строительства в Триполье свидетельствуют о зарождении монументальной архитектуры. Мастера, строившие трипольские жили‐ща, овладели разнообразными и эффективными приемами домостроительства, кото‐рые позволяли возводить просторные, надежные и удобные для жизни и хозяйствен‐ной деятельности жилищно – хозяйственные комплексы, рабочие помещения, ритуа‐льные и оборонительные сооружения, хорошо адаптированы к окружающей среде. Бы‐ли выработаны рациональные системы планировки поселков разных типов, а строите‐льство протогородов является огромным достижением населения древней Украины, уникальным для истории Европы явлением (Вiдейко, Терпіловський, Петрашенко, 2005).
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТРИПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
в ходе двух тысяч лет истории претерпела значительные изменения. Этап Трипо‐
лье А характеризуется кустообразным размещением небольших поселений, принадле‐жавших земледельческим общинам.
По данным этнографии, общины по системе расселения подразделялись на компа‐ктные поселки и хутора. Поселок, в отличие от хутора, мог претендовать на политичес‐кую автономию, именно поэтому хутора объединялись в более крупную социально – потестарную единицу – общину (ИПО, 1986, с.372 – 375). Данные о площади раннетри‐польских памятников позволяют предположить, что среди них были как хутора, на ко‐торых обнаружены единичные постройки, так и компактные поселения, например Александровака, состоящая из 13 домов. Размещение небольших по площади памятни‐ков группами позволяет предполагать, что общинные структуры могли функциониро‐вать в пределах групп, состоящих из хуторов. Преобладали все же компактные поселки.
Установлено, что хуторская система наиболее оптимальна для ведения земледель‐ческого хозяйства. Однако немногочисленные жители хуторов представляют собой на‐селение легко уязвимое при вражеских нападениях. Следовательно, система расселе‐ния раннетрипольских общин может свидетельствовать об относительно спокойной обстановке.
По наблюдениям этнографов, общины, в которые объединялись хутора, не имели четко выраженных границ, поскольку у каждого хутора были свои собственные социа‐льные связи. Так возникала основа для этнокультурной непрерывности и вырабаты‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐14‐
вались нормы, позволяющие регулировать интенсивность военной деятельности. Именно такой ситуации соответствует культурная однородность и единство материа‐льной культуры, характерные для периода Триполье А – Прекукутень.
Число жителей на раннетрипольских поселениях предположительно составляло в среднем около 100 человек и соответствовало роду (клану). Не более полутора десят‐ков поселений фазы Триполья А – Прекукутень II, известных в районе от Прикарпатс‐кой Молдовы до Среднего Днестра, могли принадлежать одному племени.
Рост населения считается основной причиной сегментации родовых структур. Не‐значительная степень различия между керамическими традициями в пределах кера‐мических комплексов групп – кустов поселений Триполья А – Прекукутень III, а также вероятное число жителей позволяют предположить, что они принадлежали кланам и/или субкланам (50 – 300 человек).
Одним из ра‐йонов, где проис‐ходила активная сегментация об‐щин Триполья А – Прекукутень III, был Средний Днестр. Переселе‐ние на восток
осуществлялось не поэтапно, из Поднестровья на Южный Буг и да‐лее в Буго – Днеп‐ровское междуре‐чье, а веерообраз‐но. Вероятно, из
определенного родового центра, представленного
несколькими по‐селениями на Днестре, пересе‐ленцы двигались в разных направле‐ниях: на север и на юг вдоль Днестра и на восток, рассе‐ляясь по притокам и балкам гидроло‐гической системы Днестра и Южного Буга и основывая там новые общи‐ны.
Аналогичная модель сегментации на последующих этапах Триполья, усложнялась несколькими факторами. С одной стороны, земель, не занятых земледельческими об‐щинами становилось все меньше. С другой стороны, в механизмы расселения, вызван‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐15‐
ного сегментацией земледельческих общин, вносили существенные коррективы кли‐матические колебания, отмеченные для всего периода существования Триполья. Их действие было опосредованным и как бы отложенным. Климатический оптимум спо‐собствовал росту населения и, соответственно, сегментации и расселению. Однако для этого процесса требовался определенный временной промежуток, поэтому археологи фиксируют последствия благоприятных климатических условий не с момента их на‐ступления, а через определенный интервал. Специфика лесостепной части Северо – За‐падного Причерноморья определялась ее пограничной со степью территорией, кото‐рая постоянно колебалась в меридианальном направлении.
Сегментация сначала привела к процессу освоения новых земель земледельчески‐ми общинами Прикарпатской Молдовы Пруто – Днестровского междуречья, протекав‐шего в относительно засушливою фазу. Наступившее впоследствие улучшение климата способствовало аграрной колонизации левобережья Днестра, междуречья Днестра и Южного Буга, Побужья и Буго – Днепровского междуречья. В Северо – Западном Приче‐рноморье в этот период фиксируется относительно большое число поселений, а для всей трипольско – прекукутенской территории характерна однородность материаль‐ной культуры. Можно предполагать существование в ранний период на территории от Днестра до Буго – Днепровского междуречья двух племенных образований. Карпато – Поднепровье периода культуры Триполье А – Прекукутень составляло единый этноку‐льтурный район. Достаточно быстрое продвижение подтверждает и кремневая индус‐трия самого восточного раннетрипольского поселения Гребенюков Яр, базировавшая‐ся, как установил В.Ф.Петрунь, на днестровском сырье.
Вероятно именно наступление засушливой фазы, совпавшее с увеличением чис‐ленности населения, вызвало активное движение земледельческих общин и появление новых поселений.
На этапе Триполье В I в результате сегментации численно увеличившихся общин двух племен Прекукутень – Триполье А и притока в Прикарпатскую Молдову с запада и северо – запада населения с иной материальной культурой происходит формирование новой археологической культуры – трипольско – кукутенской. Обширные территории лесостепи между Карпатами и Днепром с этого периода занимают две группировки эт‐нокультурной области, представленные двумя археологическими культурами, носите‐ли которых находились в постоянном тесном взаимодействии. Представители трипо‐льско – прекукутенской культуры преимущественно продолжают сохранять керамиче‐ские традиции Триполья А – Прекукутень. Племена трипольско – кукутенской культу‐ры наряду со старыми керамическими традициями практикуют изготовление нового типа посуды – расписной. В этнической области Триполье – Кукутень возникает неско‐лько новых этнокультурных районов.
В Северо – Западном Причерноморье на хронологическом отрезке, соответствую‐щем периоду Триполье В I отмечен лишь один такой район, соответствующий памят‐никам сабатиновского типа. Наступление сухой и холодной климатической фазы не способствовало проживанию трипольцев на южной границе лесостепи, которая в пе‐риоды аридизации становилась малопригодной для земледельческой экономики. Именно чередование благоприятных (влажных и теплых) и неблагоприятных (сухих и холодных) фаз привело к тому, что разные локально – хронологические группы Трипо‐лья в Северо – Западном Причерноморье разделяют хронологические лакуны, иногда в сотни лет, а между ними не прослеживается непосредственной генетической преемст‐венности. Традиции раннетрипольского этапа можно увидеть в материалах памятни‐ков, расположенных севернее в Среднем Побужье, где почти не известно поселений Триполья А. Показательно, что нельзя напрямую связать керамические традиции даже памятников Сабатиновка 2 и Греновка (этап А) и Сабатиновка 1 (этап В I ), располо‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐16‐
женных в одном и том же месте. Поселения и пункты, где найдены материалы Трипо‐лья В I, четко привязаны к берегам Южного Буга, вероятно земледелие в засушливую фазу было привязано к долинам и гидрологической сети больших рек. Примечательны некоторые общие черты разных категорий посуды сабатиновского керамического комплекса с материалами Новых Русешт, расположенных западнее на южной границе лесостепи и еще более отдаленном поселении Хебешешть, относящемся к трипольско – кукутенской культуре. Можно предположить, что поселения типа Новые Русешты и са‐батиновского типа появились в результате продвижения общин из Прикарпатской Молдовы с памятников типа Хебешешть.
Неоднород‐ность керамиче‐ских традиций между этноку‐льтурными ра‐йонами и внут‐ри локально – хронологичес‐
ких групп сви‐детельствует о том, что эти структуры объ‐единялись не только по гене‐
алогическому принципу. На‐чиная с этапа Триполья ВI племена были не только этни‐ческими струк‐турами, но и вы‐полняли социа‐льно – полити‐ческие функции (Генинг, Павле‐нко, 1984).
В целом же на этапе Трипо‐лье ВI – Куку‐тень А заметная культурно – эт‐ническая диф‐ференциация, в западной части ареала этноку‐
льтурной области, где вероятно, последствия сухой фазы не были столь губительны, рост числа поселений и увеличение плотности населения сопровождается еще рядом важных факторов, свидетельствующих о значительных социально – политических из‐менениях. В густо заселенных регионах возрастает площадь поселений. Наиболее рас‐пространенными становятся поселки площадью от 3 до 5 га, хуторская система рассе‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐17‐
ления теперь не практикуется. Повсюду фиксируются более крупные поселения. Веро‐ятно, стержнем социальной структуры их являлась соседская община, в домохозяйства, принадлежащие линиджам (патронимиям), входила группа построек.
Хронологически улучшение климата соответствует периоду Триполье ВI – ВII. Од‐нако до момента, когда в Северо – Западном Причерноморье увеличится количество трипольского населения пройдет еще немало десятилетий: кодымская группа памят‐ников, относящаяся к трипольско – кукутенской культуре, появится в бассейне Коды‐мы только на этапе Триполья В II. Особенности керамического комплекса поселений Немировское и Станиславка позволяют предполагать, что на них жили общины, гене‐тически связанные с населением из поселения Лабушное – Сад, а также населением па‐мятников типа Клищев в Среднем Побужье. В свою очередь общины кодымской груп‐пы принимали участие в формировании чечельницких памятников етапа С I. Их терри‐тория расширяется в бассейн р. Савранка. Чечельницкие племена, живущие в окруже‐нии населения трипольско – кукутенской культуры петренской, среднебужской и то‐машевской групп, оставили керамический комплекс, в котором наряду с оригинальны‐ми чертами прослеживаются традиции населения этих этнокультурных районов.
Чечельницкая племенная группировка, занимавшая регион Северо – Западного Причерноморья в период очередного климатического оптимума, фактически заверша‐ет историю трипольского земледельческого населения в Северо – Западном Причерно‐морье.
Расселение общин времени Триполя С II, припадающего на период аридизации, здесь ограничивается лишь единичными поселениями в днестровском бассейне, на‐пример в Стене 2. Единичные находки, связанные с пунктами в Среднем течении Юж‐ного Буга Степном Порбужье свидетельствуют о спорадическом проникновении небо‐льших групп, вероятно касперовского населения.
Локально – хронологическое разделение памятников, система группировки посел‐ков и пространственно обособленные группы построек в пределах поселков трипольс‐кой культуры отражают уровень социально – родовой организации сегментированно‐го общества.
Модель социальной структуры трипольского общества можно представить как ие‐рархически организованную (сегментарную) систему, в которой первому уровню соот‐ветствовала семья. Жилищно – хозяйственный комплекс, являвшийся самостоятель‐ной хозяйственной единицей, (домохозяйством) принадлежал малой семье (5 – 7 чело‐век). В дальнейшем, вероятно, происходила сегментация семьи и формирование се‐мейных структур, близких к патронимии – патролиниджу (ИПО, 1986, с.133 – 314).
Ко второму уровню относятся общины – малые поселения (до 5 га, до 200 человек) или группы жилищ (10 – 12) на больших поселениях, объединявшие коллектив родст‐венников численностью в 100 – 140 человек, соответствующий линиджу.
Третьему уровню – клану или субкалану – соответствуют микрогруппы малых по‐селений Триполья А и средних размеров поселки (5 – 40 га, 200 – 1500 человек), харак‐терные для последующих этапов Триполья. Часть крупного поселения с числом жите‐лей 400 – 600 человек, объединенных в соседскую (гетерогенную) общину, могла быть эквивалентна субклану.
Именно из таких поселений – общин, принадлежавших кланам одного племени, мо‐гли в процессе интеграции сложиться крупные поселения (40 – 100 га, 1500 – 5000 че‐ловек) – племенные центры, соответствующие четвертому уровню – племенному. Мо‐жно предполагать, что племенным образованиям соответствовали определенные ло‐кально – хронологические группы памятников, и/или микрогруппы поселений с иера‐рхической структурой.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐18‐
Пятому уровню – надплеменному – соответствуют два варианта социальной струк‐туры, наблюдаемые с периода Триполья ВI – BII. Первый вариант отмечен для Буго – Днепровского междуречья, где концентрируются поселения – гиганты (100 – 400 га) с числом жителей от 5000 до 10 000 – 14 000 человек. Такое количество жителей превос‐ходит параметры племенной организации и может свидетельствовать о дальнейшем усложнении социальной структуры, перешагнувшей порог собственно эгалитарного общества и представляющей формирующееся политическое образования протогород‐ского типа. Для второго варианта характерна иерархия поселений, при которой на‐блюдаются микрогруппы памятников, состоящие из поселений разных размеров, отно‐сящихся к определенной фазе развития локально – хронологической группы с населе‐нием от 5 000 до 19 000 человек. Это также может свидетельствовать о существовании определенных политических структур, выходящих за рамки родовых и может соответ‐ствовать соплеменности или вождеству (чифдом). В Северо – Западном Причерноморье примером такой структуры может быть чечельницкая группа.
Шестому уровню социальной структуры соответствует определенные локально – хронологические группы в целом, в которых наблюдается иерархия между микрогруп‐пами поселений (вождеств). Такие структуры выделены в Буго – Днепровском между‐речье для Триполья этапов С I и C II (Відейко, 1993а, с.9 – 11, 19).
По наблюдениям этнографов, различные неблагоприятные обстоятельства, приво‐дившие к уменьшению социальных организмов до такой степени, что они не могли существовать как автономные единицы, обуславливали процессы объединения и сли‐яния. Такие группы инкорпорировали в свой состав родственников или не родствен‐ников, приглашая их на пустующие на их территории участки. Иногда, напротив, они покидали родную территорию, и сами входили в состав какой – либо более сильной группы. В случае слияния вновь инкорпорировавшиеся в роды пришельцы получали соответствующие права и обязанности и начинали придерживаться принятых тради‐ций, а на их потомков даже распространялась концепция кровных родственников. Та‐ким образом, действовал механизм адопции, игравший важную роль при перераспре‐делении населения между родовыми группами и свидетельствующий о социальной роли родства в первобытных обществах, поскольку адоптированные в социальную группу чужаки, получившие статус родственников, могли составлять в ней до 20 – 50%, такое родство определяется этнографами как социальное или общинное (ИПО, 1986, с.361 – 365). Действия подобных механизмов в родовом обществе, установленное по этнографическим данным, можно проследить на археологическом материале, анали‐зируя формирование групп памятников с различной материальной культурой, оно проявляется в появлении новых этнокультурных группировок трипольского населе‐ния.
Процесс сегментации и институт адопции, характерные для родового общества, хо‐рошо согласуются с культурной дифференциацией, проявившейся в появлением двух культур трипольско – кукутенского культурного комплекса, объединяющих многочис‐ленные локально – хронологические группы памятников.
Приведенные данные свидетельствуют о заметном усложнение всех социальных параметров Триполья в целом. Можно полагать, что качественные изменения в социа‐льно – экономическом потенциале Трипольяе – Кукутень начались с переходом к этапу BI и привели на этапе BI – BII к возникновению на обширных территориях от Карпат до Днепра наиболее развитых в социальном отношении этнокультурных группировок, для которых зафиксировано наличие протогородов, института вождества, формирова‐ние протоцивилизации, начало процесса политогенеза (Станко и др., 1999, с. 206 – 226). Все эти явления свидетельствуют о том, что трипольское общество стало на путь тран‐сформации первобытного общества и относится эпохе классообразования (ИПО). Од‐
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐19‐
нако прогрессивное развитие земледельческих племен между Карпатами и Днепром было в очередной раз приостановлено неблагоприятными климатическими изменени‐ями.
Требуют осмысления и интерпретации находки разрозненных разновременных трипольских материалов. По локализации их можно разделить на две группы: в зоне трипольской культуры (Среднее Побужье) и вне ее (Мирное и Степное Побужье). Мате‐риалов немного, но можно предположить, что трипольские находки, связанные с по‐рожистой частью Южного Буга, использовались как сезонные стоянки в связи с охотой и рыболовством, а также в местах бродов. Возможно, такие пункты, как и трипольские находки в степной зоне, могут рассматриваться как следы экспедиций, связанных с об‐меном на дальние расстояния. Любопытно, что в Степи пункты с трипольскими мате‐риалами локализуются в крайне юго – западной точке – Мирное в Подунавье и крайней юго – восточной – Новорозановка на левобережье Южного Буга.
Находки в Мирном свидетельствуют о юго – западном направлении связей трипо‐льских общин этапа В I и об обмене сырьем. Тесла из Мирного изготовлены из пород, происходящих из Северной Добруджи (Бурдо, Станко, 1981, с.17 – 20). Они могли по‐пасть к жителям Мирного в результате их контактов с населением Болград – Алдени, расположенных рядом в низовье Дуная. Кремневые изделия изготовлены как из доб‐руджского, так и из прутского кремня, что указывает на разные направления контак‐тов жителей Мирного трипольского периода. Юго – западное направление контактов трипольцев Северо – Западного Причерноморья зафиксировано еще в раннетрипольс‐кий период в материалах александровской группы поселений находками фрагмента антропоморфной фигурки болградского типа, общими чертами в керамическом ком‐плексе и медных предметов (Патокова и др., 1989, с. 23 – 24, 28 – 29). Здесь выявлены каменные орудия, сделанные из карпатского сырья. Находка медного топора типа Вид‐ра на Березовской ГЭС и расписная керамика с поселений сабатиновской группы также указывают юго – западное направление контактов. Такие пункты с трипольскими на‐ходками, как Мирное, Кайнары, Новые Русешты как будто прокладывают пунктирную линию от сабатиновских поселений в Прикарпатскую Молдову и Нижнее Подунавье.
В Степном Побужье следы трипольского присутствия на этапе А наиболее многочи‐сленны. Затем следует временной перерыв, следующий период связан преимущест‐венно с локально – хронологическими группами Буго – Днепровского междуречья, для которых типичны поселения гиганты – небелевской и томашевской. Немногочислен‐ные артефакты этапа С II относятся преимущественно к касперовским материалам, а в Ташлыке III найдена керамика гординештского типа. Находки такой керамики извест‐ны еще восточнее – в Михайловке (нижний горизонт среднего слоя). А импортные рас‐писные сосуды небелевской и томашевской групп (Videiko, 1994, c. 15 – 18), как и зна‐чительно более редкую расписную посуду с прутских поселений, находят в грунтовых и курганных погребениях энеолита – РБВ в степной зоне Северного Причерноморья.
Высказывались различные мнения о пунктах с незначительными по количеству находками фрагментов трипольской керамики в Степном Побужье (Мовша, 1993, с. 41). Некоторые исследователи совершенно необоснованно называют их поселениями (Збе‐нович, 1976). Т.Г. Мовша такие трипольские материалы рассматриваются одновремен‐но и как свидетельства расселения трипольцев в степной зоне, и как следы транзитных путей (Мовша, 1993, с. 41 – 42).
Примечательно, что трипольские находки в Степном Побужье концентрируются преимущественно в местах, где в исторические времена зафиксированы переправы. Так, в районе гардовской переправы сходилось четыре торговых транзитных пути Се‐верного Причерноморья конца XVIII – первой половины XIX ст. (Яворницький, 1990, с. 67), в районе пунктов Ташлык II и III была переправа через р. Сухой Ташлык, а пункт
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐20‐
Миколина Брояка расположен возле с. Синюхин Брод, где переправлялись через р. Чер‐ный Ташлык. Находки трипольской керамики происходят с пунктов возле Мигийской и Песчаной переправ.
К сожалению, ни черепки, ни сосуды из погребений не могут рассказать о том, кем они были оставлены в «степных» памятниках. Принадлежность этих артефактов три‐польцам не вызывает сомнения, но все остальные признаки, позволившие бы считать их свидетельствами «территориальной экспансии» земледельцев в Степь, отсутствуют. Так или иначе, они маркируют наличие трипольского присутствия, а наиболее правдо‐подобной представляется интерпретация пунктов с трипольскими материалами в Сте‐пном Побужье как следов древних обменных путей. Не вызывает сомнения, что наход‐ки трипольских артефактов в зоне степных археологических культур энеолита и РБВ свидетельствуют о связях между разными этнокультурными областями. Эти контакты, следы которых теперь довольно многочисленны, существенным образом не повлияли на социально – экономическое развитие населения степного Побужья и Поднепровья.
Действительно поворотным моментом в древней истории Украины стало появле‐ние здесь земледельческих трипольских племен, заложивших на этой земле основы цивилизации и распространявших передовые достижения соседним племенам.
Финальный этап трипольской культуры, в том числе и в Северо–Западном Причер‐номорье, демонстрирует трансформацию земледельческого культурно – хозяйствен‐ного типа, вызванную надвигающейся аридизацией. Трипольцы приспосабливаются к новым экологическим условиям. На смену стремительному развитию приходит период выживания в неблагоприятных природных обстоятельствах, период дезинтеграции, упрощение социальной структуры, утраты основных этнокультурных параметров, определявших цивилизационный уровень земледельческой культуры.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВ – Археологічні відкриття. К. АО – Археологические открытия. М. АП УРСР – Археологічні памятки УРСР. К. АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., СПб. ЕТЦ – Енциклопедія трипільської цивілізації. К., 2004 ЗОАО – Записки Одесского археологического общества. Одесса. ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса. археологічного комітету. К. Кр. АМ – Кременецький краєзнавчий музей КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М. КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии АН УССР. К. КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.|| Л. КСОАМ – Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея. Одесса. ЛІМ – Львівський історичний музей МАСП – Материалы по археологии Северного Причерноморья. Одесса. МАЭ – Музей антропологии и этнографии РАН. Ленинград – С. Петербург. МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.–Л. СА – Советская археология. М. ТКУ – Трипільська культура на Україні. К.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐21‐
ЛИТЕРАТУРА
Артамонов М.И. Археологические исследования в Южной Подолии в 1952–53 гг. // КСИИМК. – М.|| Л., 1955. – Вып. 59. – С. 100–117. Артамонов М.И. Некоторые итоги пятилетних исследований Юго–Подольской экспеди‐ции // КСИА АН УССР. – К., 1955. – Вып. 4. – С. 82–87. Артамонов М.І. Південноподільська експедиція // АП УРСР. – К., 1949. – Т. 1. – С. 257–262. Бибиков С.Н. Древние кремневые выработки на горе Белой в районе Каменец–Подольска // Материалы сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1964 года в СССР: [Тез. докл.] / АН СССР. Отд–ние истории, АН АзССР. Отд–ние обществ. наук. – Баку: Изд–во АН АзССР, 1965. – С. 56–58|| То же // Тез. доп. [Першої] Поділь. історико–краєзнавчої конф., Хмельницький, жовт., 1965 р. / Кам'янець–Поділ. пед. ін–т. – Хмельницький: Б. в., 1965. – С. 62–64. Бурдо Н.Б. Александровская группа раннетрипольских поселений [Одес. обл.] // Актуальные проблемы историко–археологических исследовании: Тез. докл. VI Респ. конф. мол. археологов, Киев, окт. 1987 г. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 10–11. Бурдо Н.Б. Датировка раннетрипольского поселения Александровка и проблема хронологиче‐ского разделения Триполья // Материалы по археологии Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 5–16. Бурдо Н.Б. Зброя племен культури Трипілля–Кукутень // Військово–історичний альманах. – K., 2001. – № 2(3). – С. 64 – 69. Бурдо Н.Б. Исследование раннетрипольских поселений на севере Одесской области // АО 1981г. – М., 1983. – С. 248–249: ил. Бурдо Н.Б. Исследование раннетрипольского поселения Слободка Западная // Новые археоло‐гические исследования на Одесчине: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 24–33. Бурдо Н.Б., Видейко М.Ю. Исследования раннетрипольского поселения Слободка–Западная в 1980 г. // Новые исследования по археологии Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 5–16. Бурдо Н.Б. Новые данные для абсолютной датировки неолита и раннего энеолита на террито‐рии Украины // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С. 431–446. Бурдо Н.Б. Новые исследования раннетрипольского поселения Гребеников Яр // Ран‐неземледельческие поселения–гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 195–199. Бурдо Н.Б. Особенности керамического комплекса Прекукутень – Триполье А и проблема гене‐зиса трипольской культуры // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.141–163. Бурдо Н.Б. Раннетрипольское поселение Гребенюков Яр // Раннеземледельческие поселения–гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. 1–го полевого семинара ИА АН УССР. – Тальянки|| Веселый Кут|| Майданецкое, 1990. – С. 195–199. Бурдо Н.Б. Ранньотрипільське поселення Тимкове в Одеській області / Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 52. – С. 78–86. Бурдо Н.Б. Ранньотрипільські пам’ятки між селами Могильна та Жакчик // Археометрія та охо‐рона історико–культурної спадщини. – 1997. – № 1. – С. 67–71. Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Типы раннетрипольской керамики и ее орнаметации в междуречье Днестра и Южного Буга // Северное Причерноморье: (Материалы по археологии).– К.: Наук. думка, 1984. – С. 96–104. Бурдо Н.Б. Трипільська пам’ятка етапу ВІ біля с. Сокольці на Південному Бузі // Архео‐логічні відкриття в Україні в 1997–1998 рр. – К., 1998. – С. 8–10. Бурдо Н.Б., Станко В.Н. Энеолитические находки на стоянке Мирное // Древности Северо–Западного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 17–22.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐22‐
Відейко М.Ю. Нова хронологія Кукутені – Трипілля // Трипільська цивілізація у спадщині Укра‐їни. – К.: Вид.центр «Просвіта», 2003. – С.106–118. Відейко М.Ю. Пам'ятки середнього Трипілля на Південному Поділлі [Одес. обл.] // Тез. доп. VI Вінницької обл. історико–краєзнавчої конф. – Вінниця, 1988. – С. 2. Відейко М.Ю., Терпиловський Р.В., Петрашенко В.О. Давні поселення України. К., 2005. Виноградова Н.М. Племена Днестровско–Прутского междуречья в период расцвета триполь‐ской культуры: (Периодизация, хронология, локал. варианты) / АН МССР. Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 107 с Гамченко С. Спостереження над даними дослідів трипільської культури 1909–1913 рр. // ТКУ / ВУАН. Всеукр. археологічна комісія. – К.: ВУАН, 1926. – Вип. 1. – С. 31–42. Гаркуша Л.Г. Археологічні памя’тки в басейні р. Кодими // МАСП. – 1959. – Вип. 2. – С. 99–101. Гасюк Н.С. Разведки раннетрипольских поселений у с. Могильна // КСИИМК. – М.|| Л., 1954. – Вып. 54. – С. 173–175. Генинг В.Ф., Павленко Ю.В. Институт племени как орган зарождающейся политической надстройки // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ. – К., 1984. – С. 102–143. Гусєв С.О. Трипiльська культура Середнього Побужжя рубежу IV–III тис. до н.е. – Вінни‐ця :„Ант екс–УЛТД”, 1995. – 298 с. Гусєв С.О. Трипiльські поселення поблизу Немирова // Археологiя. – 1995. – № 3. – С. 73–81. Давня Історія України: В 3–х т. / Березанська С.С., Гладилін В.М., Гладких М.І., Котова Н.С., Круц В.О./ – К.: Наук. думка, 1997. – Т. 1: Первісне суспільство. – 558 с. Даниленко В.М. Дослідження на ІІ Сабатинівському ранньотрипільському поселенні в 1949 р. [Кіровогр. обл.] / Даниленко В.М., Макаревич М.Л. // АП УРСР. – 1956. – Т. 6. – С. 134–144. Даниленко В.Н. Неолит Побужья и вопрос о сложении трипольской культуры // КСИА АН УССР. – К., 1960. – Вып. 9. – С. 3–9. Даниленко В.Н. Энеолит Украины: Этноист. исслед. / АН УССР. ИА. – К. : Наук. думка, 1974. – 176 с. Дергачев В.А. Два этюда в защиту миграционной концепции // Stratum plus. – 2000. – № 2. – С. 188–236. Дергачев В.А. Кэрбунский клад. – Кишинев, 1998. Дергачев В.А. Памятники позднего Триполья : Опыт систематизации / АН МССР. Отд. этногра‐фии и искусствоведения. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 206 с. Дзиговський О.М., Самойлова Т.Л., Смольянинова С.П., Ванчугов В.П. Археологічні пам’ятки Ти‐лігуло–Дністровського межиріччя. – Одеса: Астропринт, 2003. –217с.– Добровольський А.В. Перше Сабатинівське поселення // АП УРСР. – 1952. – Т. 4. – С. 78–88. Есипенко А.Л. Памятники ранней поры Триполья у поселка Кирилловка Одесской области // КСИА АН УССР. – К., 1955. – Вып. 4. – С. 140–141. Есипенко А.Л. Раннетрипольское поселение Александровка [Одес. обл.]: (По материалам разве‐док и раскопок 1949–1951 гг.) // МАСП. – 1957. – Вып. 1. – С. 10–23. Єсипенко А.Л. Археологічні розвідки 1952 р. в районі Кодима – Котовськ – Рибниця // МАCП. – 1959. – Вип. 2. – С. 102–117. Єсипенко А.Л. Археологічні розвідки Одеського музею у 1950–51 рр. // АП УРСР. – К., 1956. – Т. 5. – С. 203–204. Журавльов О.П. Тваринництво та мисливство у трипільських племен на території України. – К., 2008. – 252 с. Заєць І.І. Трипільська культура на Поділлі. – Вінниця, 2001. – 184 с. Збенович В.Г. К проблеме связей Триполья с энеорлитическими культурами Северного При‐черноморья // Энеолит и бронзовый век Украины. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 57–69. Зиньковская Н.Б. Антропоморфная пластика раннетрипольского поселения Александровка // МАСП. – 1976. – Вып. 8. – С. 161–170. Зиньковская Н.Б. Глиняные черпаки, ковши и ложки из раннетрипольского поселения Алек‐сандровка [Одес. обл.] // Археологические исследования Северо–Западного Причерноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 205–219: ил.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐23‐
Зиньковская Н.Б. Кухонная керамика раннетрипольского поселения Алек сандровка // Памят‐ники древних культур Северо–Западного Причерноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 12–22. Зиньковский К.В., Зиньковская Н.Б. К вопросу о стратиграфии раннетрипольского поселения Алекеандровка // Северо–Западное Причерноморье в эпоху первобытно–общинного строя: Сб. науч. тр. / АН УССР. САМ, Одес. археол. о–во. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 27–41. Зиньковский К.В. К процедуре исследования проблемы домостроительства трипольских пле‐мен // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 16–22. Зиньковский К.В. Новые данные к реконструкции трипольских жилищ // СА. –1973. – № 1. – С. 137–149. Зиньковский К.В., Полищук Л.Ю. Новые данные о памятниках среднего и позднего триполья на Одесщине // Северо–Западное Причерноморье в эпоху первобытно–общинного строя.– К.: На‐ук. думка, 1980. – С. 63–70. Зиньковский К.В., Зиньковская Н.Б. Поселение Александровка // АО 1973 г. –1974. – С. 278–279. Зиньковский К.В., Зиньковская Н.Б. Раскопки раннетрипольского поселения Александровка // АО 1974 г. – 1975. – С. 281–282. Зіньковський К.В. До проблеми трипільського житлобудування // Археологія.– К., 1975. – Вип. 15. – С. 13–22. Зіньковський К.В. Некоторые итоги раскопок раннетрипольского поселения Александровка: (Новые данные об архитектуре трипол. памятников) // XV наук. конф. ІА, присвячена 50–річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Тез. пленар. 1 сек. доп. (результати польових археол. досліджень 1970–1971 рр. на території України) / АН УРСР. – О., 1972. – С. 92–95. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. – М.:Наука, 1986. История первобытного общества. Эпоха классообразования. – М.:Наука, 1988. Клейн Л.С. Древние миграции и прорисхождение индоевропейских нарордов. – СПб, 2007 Клочко В.І. Металургія трипільської культури // ЕТЦ. – К.: Уркполіграфмедіа, 2004. – Т.1. – С. 219–222. Колекції Науковиї фондів Інституту археології НАН України. Католог. – К.: Академпері‐одика, 2007. – 356 с. Коробкова Г.Ф. Палеоэкономические разработки в археологии и экспериментально–трассологические исследования // Первобытная археология. Поиски и находки. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 212–225. Косаківський В.О. Дослідження житла на трипільському поселенні Чечельник // Археологічні відкриття в Україні 1991 року. – Луцьк: Надстир’я, 1993. – С. 48–49. Косаківський В.О. Зображення тварин на кераміці з трипільського поселення Чечель‐ник // Археологія. – 1994. – № 1. – C. 148–149. Косаківський В.О. Пізньотрипільське поселення Чечельник на Побужжі // Подільська старовина. – Вінниця, 1993. – С. 97–108. Косаківський В.О. Чечельницька група // ЕТЦ. – К.: Уркполіграфмедіа, 2004. – Т.ІІ. – С. 608 – 609. Кравченко А.А. Археологічні пам’ятки в долинах річок Тростянець і Ягорлик [Одес. обл.] // Матеріали по археології Північного Причорномор’я. – 1960. – Вип. 3. – С. 167–174. Макаревич М.Л. Археологічні досліди в селі Білий Камінь (Розкопки 1928 р.) // Трипільська культура. – К.: Вид–во АН УРСР, 1940. – Т. 1. – С. 453–475. Макаревич М.Л. Исследования в районе с. Стена на Среднем Днестре // КСИА АН УССР. – К., 1960. – Вып. 10. – С. 23–32. Макаревич М.Л. Клад крем’яних сокир // Археологія. – К.: Вид–во АН УРСР, 1964. – Т. 16. – С. 208–212 . Макаревич М.Л. Об идеологических представлениях у трипольских племен // ЗОАО. – 1960. – Т. 1. – С. 290–301.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐24‐
Макаревич М.Л. Середньобузька експедиція по дослідженню пам’яток трипільської культури // АП УРСР. – 1952. – Т. 4. – С. 89–95. Макаревич М.Л. Статуэтки трипольского поселения Сабатиновка II // КСИА АН УССР. – К., 1954. – Вып. 3. – С. 90–94. Манзура И.В. Владеющие скипетрами // Stratum plus. – 2000. – № 2. – С. 237–295. Мисютинский В.В. Поселения трипольской культуры в среднем течении р. Южный Буг // Пер‐вая Правобережная краеведческая конференция. – Кировоград, 1988. – С.20 – 23. Мицик В.Ф. Ранньотрипільські поселення понад річкою Гірський Тікич // Раннеземледельче‐ские поселения–гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 214–218. Мовша Т.Г. Взаємовідносини степових і землеробськихз культур в епоху енеоліту – ранньобро‐нзового віку // Археологія. – № 3. – 1993. – С. 36–51. Новицкая М.А. Узорные ткани трипольской культуры: (По материалам раскопок у с. Стена) // КСИА АН УССР. – К., 1960. – Вып. 10. – С. 33–35. Новицкий Б.Ю., Полищук Л.Ю. Об одной группе изображении на сосудах трипольской культуры // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 136–141. Патокова Э.Ф., Петренко В.Г., Бурдо Н.Б., Полищук Л.Ю. Памятники трипольской куль‐туры в Северо–Западном Причерноморье – К. : Наук. думка, 1989. – 139 с. Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений (III–II тысячелетия до н. э. ) // МИА – № 10. – 1949. – 248 с. Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. – // МИА – № 84. – 1961. – 228 с. Пашкевич Г.О., Відейко М.Ю. Рільництво пленмен трипільської культури. – К., 2006, – 146 с. Петрунь В.Ф. Використання мынеральної сировини населенням трипілської культури // ЕТЦ. – К.: Уркполіграфмедіа, 2004. – Т.1. – С.199–218. Полищук Л.Ю., Смольянинова С.П. Новые исследования трипольских памятников в Ко‐дымском районе Одесской области // КС ОАО. – Одесса, 1999. – С.47–51. Полищук Л.Ю. Памятники развитого этапа Триполья в междуречье Южного Буга и Дне‐стра // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР: Тез. доп. XX Республ. конф., Одеса, жовт. 1989 р. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 181–182. Полищук Л.Ю. Пластика трипольского поселения Черкасов Сад II // Памятники древнего ис‐кусства Северо–Западного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 21–26. Полищук Л.Ю. Поселение Черкасов Сад II // АО 1984 г. – М., 1986. – С. 294. Полищук Л.Ю. Раскопки трипольского поселения // АО 1983 г. – М., 1985. – С. 344–345. Полищук Л.Ю. Одеська область. Археологічні пам’ятки трипільської культури на тери‐торії України // ЕТЦ. – К.: Укрополіграфмедіа, 2004. – Т. І. – С. 638–645. Рындина Н.В. Древнейшее металлообратывающее производство Юго–Восточной Европы. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 288 с. Сапожников И.В.,Полищук Л.Ю. Новые материалы трипольской культуры Буго–Днестровского междуречья // Охранные археологические исследования на юго–западе Украины. – Одесса–Запорожье – 1990. – С. 15–26 Симонович Е.О. Ранньотрипільське поселення в с. Данилова Балка на Кіровоградщині // Архео‐логія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1987. – Вип. 60. – С. 92–94: іл. – Рез. рос. – Бібліогр.: с. 94. Скакун Н.Н. Орудия труда раннетрипольского поселения Александровка (в свете эксперимен‐тально–трасологического исследования) // СА. – 1978. – № 1. – С. 15–23. Станко В.Н., Зиньковская Н.Б. Разведка памятников эпохи энеолита в северных районах Одес‐ской области // Археологические и археографические исследования на территории Южной Ук‐раины. – К.|| О.: Вища шк., 1976. – С. 130–150. Сымонович Э.А. Раннетрипольское поселение в с. Данилова Балка // КСИИМК. –1951. – Вып. 39. – С. 104–109. Товкайло М.Т. До питання про взаєминибуго–дністровської та ранньотрипільської культур у Степовому Побужжі // Раннеземледельческие поселения–гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. док. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 191–194.
Трипольская культура в Северо‐Западном Причерноморье: историческая интерпретация
‐25‐
Товкайло М.Т. Неоліт Ситепового Побужжя // Камяна доба в Україні. – К.: «Шлях», 2005. – 160 с. Фоменко В.Н. Раннетрипольское поселение у с. Красненькое на Южном Буге // 150 лет Одес‐скому археологическому музею АН УССР: Тез. докл. юбил. конф.– К.: Наук. думка, 1975. – С. 54–55. Цвек О.В. Гончарне виробництво племен трипільскої культури // ЕТЦ. – К.: Уркполіграфмедіа, 2004. – Т.1. – С.273–300. Цибесков В.П. Березівське поселения і синхронізація деяких комплексів Середнього Трипілля // XV наук. конф. ІА, присвячена 50–річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Тез. пленар. 1 сек. доп. (Результати польових археол. досліджень 1970–1971 рр. на території України) / АН УРСР. – Одеса, 1972. – С. 96–100. Цибесков В.П. Дослідження трипільського поселення біля Березівської ГЕС // Матеріали XIII конф. ІА АН УРСР, присвяченої 50–річчю АН УРСР (Київ, 1968 р.). – К.: Наук. думка. – 1972. – С. 160–168. Цибесков В.П. Обряд акротиния в культуре трипольских племен // МАСП. – 1976. – В. 8. 170– 176. Цибесков В.П. Обряд «поїння землі» та культ місяця в ідеологічних уявленнях трипільських племен // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1984. – Вип. 47. – С. 13–24. Цибесков В.П. Охоронні розкопки [Кировогр. обл ] // Пам’ятки України. – 1976. – № 4. – С. 25. Цибесков В.П. Розкопки трипільського поселения на Південному Бузі // Тез. доп. Іст. фак. до наук. ювіл. сес. присвяч. 100–річчю [Одес.] ун–ту, 29–30 листоп. 1965 р. – Одеса, 1965. – С. 92–94. Цыбесков В.П. Древнейшая расписная керамика на Южном Буге // Археологические исследо‐вания Северо–Западного Причерноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 220–231. Цыбесков В.П. К вопросу об исторических связях Южного Побужья IV тис. до н. є. // Археологи‐ческие и археографические исследования на территории Южной Украины: Сб. науч. тр. / Одес. ун–т. – К.|| О.: Вища шк., 1976. – С. 151–157. Цыбесков В.П. Находка расписной керамики типа Криш на Южном Буге // КСОАМ 1963 г. – 1965. – С. 42–44. Цыбесков В.П. Некоторые итоги исследования Березовского поселения // МАСП. – 1971. – Вып. 7. – С. 187–192. Цыбесков В.П. Некоторые наблюдения и выводы в связи с углубленными и наземными жили‐щами трипольской культуры // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР: Тез. докл. юбил. конф. [Одесса, апр. 1975 г.] / АН УССР. ИА и др. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 44–46. Цыбесков В.П. Трипольское поселение возле Березовской ГЭС // КСОАМ 1962 г. – 1964. – С. 30–32. Цыбесков В.П. Фрагмент сосуда тордошского облика из трипольского поселения возле Бере‐зовской ГЭС // ЗОАО. – 1967. – Т. 2. – С. 249. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства. М.:Наука, 1980. Шнирельман В.А. Производственные предпосылки разложения первобытного общества // Ис‐тория первобытного общества. Эпоха классообразования. – М.:Наука, 1988. Яворницький Д.І. Історія запорізьких казаків у трьох томах. – Т. І. – К.:Наукова думка, 1990. –592 с. Videiko M.Y. Tripolye – “pastoral” contacts. Facts and character of interactions // Baltic–Pontic Studies. – 1994. – Vol. 2. – P. 5–28. Mantu C.M. Cultura Cucuteni. Evolutie, cronologie, legaturi. – Рiatra–Neamt, 1998.
ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В РАСПИСНОЙ
СИМВОЛИКЕ ТРИПОЛЬЯКУКУТЕНЬ Зооморфные мотивы типичны для росписи керамики различных локально
хронологических групп ТрипольяКукутень. Териоморфные и орнитоморфные фигуры появляются в финале этапа ВII и существуют до середины этапа СII.В знаковой системе большинства поселений их число составляет от 12% до 514% в отдельных случаях.
Среди териоморфных фигур мы можем выделить изображения «хищников», наиболее часты изображения «собак». Орнитоморфные изображения представлены как реалистическими, так и схематичными типами. Предложена классификация, а также выделение сакральных образов, связанных с зооморфными рисунками на трипольскокукутенской керамике.
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ Впервые внимание на отдельные знаки в росписи керамики трипольской культуры, кото‐
рые в последствии были интерпретированы как зооморфные (Якубенко, 2006, с. 51‐58), обра‐тили внимание В.В. Хвойко и И.А. Линниченко (Линниченко, Хвойко, 1901).
Первые находки расписной керамики с зооморфными сюжетами были сделаны в Петренах Э.Р. Штерном, который предложил анализ выявленных ним изображений. Исследователь пола‐гал, что среди обнаруженных им зооморфных рисунков в были изображение «спокойно стоя‐щих животных», «животных в движении», изображения лошади (а не осла, как может пока‐заться на первый взгляд, так как осел не был известен неолитической Европе), козы, собак, «растянутых в быстром беге», «шагающих быков» с когтями, которые распознаются по «круп‐ному глазу, массивному корпусу и рогам». Предельную схематизацию некоторых рисунков со‐бак Э.Р. Штерн объяснял неумелостью древних художников в рисовании с натуры. Исследова‐тель был уверен, что зооморфные изображения связаны с «метафизическими представления‐ми» древних, которые затем получили свое развитие в культуре последующих периодов (Штерн, 1906, 29‐30).
Л. Чикаленко в своих исследованиях рассматривал стилистику зооморфных изображений расписной орнаментации на керамике из Бильча‐Золотого( Вертеба) и Шипинцев и пришел к выводу, что в целом эволюция орнаментальных мотивов шла путем превращения абстрактной валюты в форму конкретного животного. Он полагал, что зооморфные фигуры случайно обра‐зовались из треугольных остатков спиральной орнаментации керамики Петрен и Бильча Зо‐лотого (Чикаленко, 1926). Л. Чикаленко применил при изучении росписи формально‐типологический метод и полагал, что «животный орнамент продолжает жить своей собствен‐ной жизнью».
С такой гипотезой категорически не соглашался Б.Л. Богаевский. Он полагал, что стили‐стические изменения в изображении животных свидетельствуют об изменении производст‐венных отношений (Богаевский 1937, с. 262).
В исследованиях Б.Л. Богаевского зооморфные изображения в расписном декоре Трипо‐лья‐Кукутень впервые стали темой особого внимания. Б.Л. Богаевскому принадлежит первая сводка известных к 30‐м гг. ХХ в. изображений животных в трипольской росписи, а также клас‐сификация рисунков, определение видов, которые они отображают, выяснение контекста зоо‐морфных фигур в системе орнаментации. Исследователь рассматривал распределение зоо‐морфных сюжетов по разным ареалам Триполья. Среди трипольских зооморфных изображений исследователь выделил собак, волка, лошадь («собако‐лошадь»), обращая особое внимание на различное оформление хвостов собак. Исследователь предполагал, что растительная симво‐лика на хвостах животных объясняется представлениями о единстве животного и раститель‐ного мира (Богаевский 1937, с. 224‐225).
Б.Л. Богаевский полагал, что собаки привлекли внимание трипольцев, так как играли в их хозяйстве важную роль, охраняя посевы от стад и диких животных. Об охранных функциях со‐бак свидетельствует также их угрожающие позы. Изображения собак в Шипинцах демонстри‐руют апотропоические и магические функции образа собак. Б.Л. Богаевский предполагал
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐27‐
также, что более поздняя традиция религиозно‐магического значения собак и фантастических «ленточных» животных как существ, охраняющих и отгоняющих зло, связана с трипольскими образами (Богаевский 1937, с. 186, 203, 205).
Б.Л. Богаевский предложил стилистическую классификацию зооморфных рисунков, при‐влекая широкий круг изобразительных материалов от Древнего Египта и Крита до культуры Яншао. Исследователь подчеркивал динамизм в изображении собак, показанных в бегущей или летящей позах. Он выделил «ленточных зверей», характерных для Петрен и «зверей «шипи‐нецкого типа» и считал, что зооморфные изображения «киевских зверей» (имеются в виду па‐мятники томашевской и каневской групп) довольно разнообразны, «но в общем все эти изо‐бражения могут быть охарактеризованы как искажения бегущей «собаки», причем в некото‐рых случаях стилизация достигала такой степени, что в рисунке фантастического животного прототип трудно узнаваемый. Б.Л. Богаевский предположил, что такие «изображения пред‐ставляли собой своеобразные пиктограммы» (Богаевский, 1937, с. 278).
Среди изображений животных в Петренах Б.Л. Богаевский выделил схематические рисунки «ленточных» зверей и более реалистичные, у которых проработаны отдельные детали, пола‐гая, что это отражение изменений в силу которых людей, входивших в петренские общины «перестали удовлетворять те изображения, которые раньше отвечали их примитивной идео‐логии». Исследователь выделил «крупные периоды существования» зооморфных «изображе‐ний, вызванных к жизни различными интересами людей в отношениях друг к другу в произ‐водстве»: «реалистические» (петренского типа), «ослабленные реалистические» («шипинец‐кие»), «пиктографический тип» (Богаевкий, 1937, с. 281). Соответственно предполагалось, что «реалистические» звери принадлежат к боле ранней эпохи в жизни поселения, чем «условные».
Попытка датировать поселения на основании развития стиля зооморфных изображений от «реалистических» к «условным», предпринятая Б.Л. Богаевским, привела к неверным резуль‐татам. Исследователь полагал, что «появление ленточных зверей‐собак в Шипенцах, сопрово‐ждающееся распадом смыслового значения спирали… произошло несколько позднее, чем в Петренах», «реалистические изображения в Петренах одного, примерно, времени, что изобра‐жения на ранних сосудах из Бильче‐Золотого и несколько позднее ранних полихромных стату‐эток из Кошиловцев», а «реалистические ленточные изображения в росписи появляются в Петренах несколько позже, чем в Кошиловцах» (с.262‐263). В действительности, в соответст‐вии с современными представлениями о хронологии памятников Триполья‐Кукутень, Шипин‐цы и Петрены относятся к началу этапа С I, Бильче‐Золотое Вертеба I – к концу этапа С I, а Ко‐шиловцы – к этапу С II (Ткачук, Мельник, 2005, с. 31).
Зооморфные изображения изучались Б.Л. Богаевским с целью реконструкции хозяйствен‐ной деятельности трипольского населения. На основании анализа изображений животных он устанавливал состав стада трипольцев, выделяя таких домашних животных, как крупный ро‐гатый скот «двух пород», мелкий рогатый скот, свинья, собака и лошадь (Богаевский, 1937, с. 279). По мнению Б.Л. Богаевского, появление изображений собак в росписи на сосудах свиде‐тельствует о смене хозяйственной деятельности, а именно о занятии общин поздних периодов не только «огородным» земледелием, но и разведением мелкого рогатого скота, требовавшего охраны стад (Богаевский, 1937, с. 204‐206).
Такая прямая интерполяция содержания расписных сюжетов на реальную хозяйственную деятельность не просто «надумана», как справедливо заметил С.М. Бибиков (Бібіков, 1989, с. 7), но и никак не согласуется с другими данными по экономике Триполья тех периодов, для кото‐рых характерны расписные зооморфные сюжеты. Во первых, изображения собак распростра‐нены на керамике поселений‐гигантов, основой экономики которых было пашенное земледе‐лие. Во вторых, по остеологическим данным на всех трипольских поселениях, в частности и тех, где сосредоточены находки изображений собак, разведение мелкого рогатого скота не иг‐рало сколько‐нибудь существенной роли.
Выводы исследования Б.Л. Богаевского, касающиеся хозяйства трипольских племен, теперь представляют только историографический интерес, однако, собранный им материал по зоо‐морфным изображениям, а также анализ этих данных остаются актуальными и сегодня.
О. Кандыба, исследуя керамический материал из Шипинцев, отмечал, что попытки выяс‐нить истоки трипольского звериного стиля не привели к какому либо результату. По его мне‐
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐28‐
нию, с уверенностью можно говорить лишь о том, что «звериные мотивы» появляются в ис‐ключительных случаях, не нарушают стиль (Кандыба, 2007, с. 78).
Т.С. Пассек рассматривала зооморфные изображения вместе с анализом остеологических материалов. Однако исследовательница подчеркивает условность и фантастичность некото‐рых зооморфных рисунков, например «быков с когтями» из Петрен. По мнению Т.С. Пассек, бык играл большую роль в хозяйстве трипольцев, а его изображения свидетельствуют о существо‐вании «культа быка» (Пассек, 1940, с. 48).
Б.А. Рыбаков особое внимание уделил изображению в трипольской росписи собак – «пред‐ков Сэнмурва». Исследователь видит в трипольских рисунках «небесных собак в подчеркнуто грозном виде» и развивает идею Б.Л. Богаевского о собаках – охранниках посевов, полагая что эта их важная функция объясняет вхождение образа собаки «в культ плодородия зерна и зем‐ли». В тоже время, по мнению Б.А. Рыбакова, охранная функция собак превращала их в «гениев добра, противостоящих всякому злу». Исследователь высказал также предположение о том, что связь образов небесных собак и Великой Матери, прослеженная на сосуде из Петрен, может быть ведет к истокам мифа о Гекате, а культ собаки, охраняющей Добро и Жизнь, восходит к глубокой древности земледельческого энеолита. Зооморфную фигуру на сосуде из Бильче Зо‐лотого Вертеба Б.О. Рыбаков интерпретировал как «круторогого солнечного быка» (Рыбаков, 1965, с. 24‐28).
В.И. Маркевич связывал появление зооморфных мотивов в росписи с переходом от Трипо‐лья В II к Триполью С I. Он полагал, что собаки, выполнявшие охранные функции, играли опре‐деленную магическую роль в мировоззрении трипольцев, связанном с культовыми отправле‐ниями плодородия, а также определенная роль собаки связана и с магическими заклинаниями об удачной охоте. В.И. Маркевич отмечает наличие изображений фантастических животных, то есть «полубыка ‐ полухищника». Такое изображение по его мнению передает «синкретический образ лунного божества» (Маркевич, 1981, с. 159‐160).
Е.К. Черныш полагала, что «расцвет искусства росписи», видимо, связан с периодом актив‐ного мифотворчества. Среди зооморфных сюжетов исследовательница особое внимание об‐ращает на образ быка и полагает, что в трипольских материалах прослеживается устойчивое сочетание изображений быка и солярной символики (Черныш, 1982, с. 250).
Всесторонний анализ зооморфных (териоморфных) изображений содержится в работе С.Н. Бибикова (Бібіков, 1989). Исследователь выделяет среди них различные типы рисунков, пред‐полагая, что собаки в воинственных позах могут отражать мифические образы или образы ми‐фических хищников, возможно кошачьих. По мнению С.Н. Бибикова, изображения хищников могли иметь не только декоративную функцию, но и отражать апотропическое содержание. С.Н. Бибиков выдил две большие группы зооморфных изображений по степени их схематизма, однако полагал, что нет четкой границы между этими группами, отличающимися степенью стилизации, но восходящими к одному реалистическому образу. С.Н. Бибиков отнес к зооморф‐ным изображениям символы лунного серпа (Бібіков, 1989, рис. 1, 12‐16; 2), полагая, что они изображают животных в стремительном беге и высказывает предположение об особом три‐польском «зверином стиле», который имел местное происхождение из какого‐то еще не опре‐деленного центра.
Исследователь подчеркивал, что зооморфные изображения в условно реалистическом и схематическом стилях характерны для всего ареала распространения Триполья‐Кукутень, что отображает единство культурных традиций. Кроме того, изображения обеих стилей встреча‐ются в одних и тех же керамических комплексах. По мнению С.Н. Бибикова, условно реалисти‐ческие изображения собак всегда связаны с охранной функцией, а зооморфный стиль как ху‐дожественное явление обусловлен культовыми ритуальными истоками, но хотя в дальнейшем трансформируется в орнаментику или становится «модой». Особое внимание С.Н. Бибиков уде‐лил сравнению зооморфных рисунков в разных локально‐хронологических группах, полагая, что «керамика с териоморфными изображениями во многом уточняет картину взаимодейст‐вия между отдельными трипольскими общностями, проживавщими в разных районах и имев‐ших свои этнографические черты (Бібіков, 1989, с. 8‐10).
В.Г. Збенович, развивая мысль С.Н. Бибикова о локальных особенностях трипольских зоо‐морфных изображений, анализировал их по разным районам распространения Триполья‐
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐29‐
Кукутень. Выделяя характерные особенности для орнаментации с зооморфными сюжетами, которые наблюдаются в каждом регионе, исследователь подчеркивал, кроме «региональной специфики», существование общей изобразительной, вероятно культовой, традиции для Три‐полья‐Кукутень в целом. По мнению В.Г. Збеновича, при изображении животных на триполь‐ской керамике оставалось «место для творческой индивидуальности художника» (Збенович, 1998, с. 74).
В исследовании В.Г. Збеновича внимание акцентируется на образе собаки в расписной ор‐наментации. К высказанным ранее интерпретациям изображений собак, исследователь доба‐вил замечание о том, что собака связана с астральной символикой, часто изображается в со‐провождении солярных, лунарных знаков. В.Г. Збенович предполагал, что собака могла высту‐пать персонажем древнеземледельческих космогонических мифов (Збенович, 1998, с. 74‐75).
Т.М. Ткачук особое внимание уделил зооморфным изображениям, как составляющим зна‐ковой системы расписной орнаментации Триполья‐Кукутень (Ткачук, 2005). Исследователь отмечал редкость зооморфных изображений в росписях, где они составляют не более 5 % от общего количества всех знаков. Относительно велико число зооморфных знаков по данным Т.М. Ткачука в росписи керамики с поселений Петрены – 5,6 %, Чечельник – 8,1 %, Шипинцы – 14,2 % . Т.М. Ткачук проследил размещение зооморфных знаков в контексте орнаментальной композиции и сочетание их с другими знаками. Он отмечает присутствие изображений самцов и самок среди рисунков собак, особое оформление хвостов зверей, заканчивающихся черным кругом или растительным символом, наличие хвоста в виде «колоска» или «ветки» только у самок, бинарность некоторых сюжетов с собаками, изображение собак преимущественно в движении слева направо. Исследователь пришел к выводу о том, что в орнаментальных компо‐зициях с разных поселений зооморфные знаки могут сопровождаться различными семантиче‐скими маркерами. В Петренах это вертикальные черточки, вертикальные ленты и медальоны, в Бернашевке — медальоны с черными полуовалами, вертикальными лентами и знаками по‐лумесяца, в Шипинцах —с линзовидными овалами, двумя группами вертикальных линий, ме‐дальонами, черными кругами, растительными знаками, в Черкасовом Саду 2 — медальоны с овалами, черные круги, в Чечельнике — вертикальные ленты и вертикальные полуовалы, ме‐дальоны с полуовалами, вертикальные черточки, горизонтальные S‐видные фигуры, в Липча‐нах — лунными маркерами, в Крутобородинцах 2 и Варваровк 8 — вертикальными лентами с вертикальными полуовалами, медальоны с полуовалами, вертикальные линзовидные полу‐овалы, лунные серпы, в Вертебе I — знаки змеи‐воды и луны (Ткачук, Мельник, 2005, с. 86‐91).
М. Гимбутас рассматривала изображения собак из Шипинцев и Петрен, как «летящих гон‐чих», охраняющих новую жизнь, которую символизируют священные деревья. Фантастических мифических собак, летящих в пространстве, исследовательница причисляла к лунным живот‐ным, которые были ответственны за лунные циклы и способствовали пробуждению жизнен‐ных сил и растительной вегетации (Gimbutas, 1989, p. 197, 234).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООМОРФНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Наиболее ранние зооморфные изображения зафиксированы на поселениях Кукутень В I
Гелэешть, Велень, Фрумушика (Cucoş, 1999, p. 260) и финала этапа Триполья В II Коновка (Шмаглій, Рижов, Дудкін, 1985). Широкое распространение зооморфные сюжеты получают в расписной орнаментации Триполья С I – Кукутень В. Наибольшие серии расписной керамики с зооморфными сюжетами происходят с поселений Шпинцы (Кандыба, 2004), Петрены (Штерн, 1906), Чечельник (Косаківський, 1994), Ваврваровка VIII (Маркевич, 1982), пещеры Вертеба (Kadrow, Sokhckiy, Tkachuk, Trela, 2003).
Зооморфная символика зафиксирована на керамике разных форм: биконических и груше‐видных сосудах, кубках, мисках, а в одном случае — на биноклевидном сосуде. Композиции, в которые включены животные, достаточно разнообразны, а материалы каждой из локально‐хронологических групп отличаются специфическими стилистическими особенностями при сходных сюжетах. Представляется важным выделить общие особенности, характерные для «звериного стиля» культурного комплекса Триполья‐Кукутень.
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐30‐
Общей чертой всех зооморфных рисунков является профильное изображение животных черной (темно‐коричневой), а иногда, особенно в период Кукутень В, красной краской. За ред‐ким исключением, животные показаны с двумя лапами. Силуэты животных единичные, пар‐ные или групповые, состоящие из одинаковых или разных животных. В одной орнаменталь‐ной композиции, как правило, присутствует не менее двух животных. Все изображения живот‐ных схематичны, а некоторые стилизованы до такой степени, что трудноопределимы.
Зооморфные изображения условно можно разделить на два класса: териоморфные и орни‐томорфные, а среди расписных териоморфных персонажей можно выделить две группы изо‐бражений: «хищники», среди которых «кошачьи» (рис. 1, 7), «собака» (рис. 3‐6), может быть волк (рис. 1, 1), фантастические существа (рис. 2, 11), и «копытные», к которым относятся бо‐виды (рис. 1, 8‐11), олень (рис. 1, 13‐15), коза (рис. 1, 13). В многофигурных композициях могут присутствовать изображения из разных классов и групп (рис. 3, 4‐7), а в сюжетах росписи за‐фиксированы дикие, домашние, фантастические животные, птицы (рис. 1, 16‐24).
Рис. 1. Классификация зооморфных изображений. 1, 12, 14 – Крутоборрдинцы; 2 – Бернашевка 2; 3, 11 – Шуры 1; 4 – Черкасов Сад 2; 5 – Цариград 1; 6 – Петрены; 7, 13, 15 – Варваровка 8; 8 – Ханкауцы 1; 9 – Вертеба 1; 10 – Варваровка 15; 16 – Липчаны, 17, 18 Брынзены 3; 19 – Брынзены 8;
20, 2224 – из частной коллекции; 21 – Жванец. Среди териоморфных рисунков чаще всего встречаются животные из группы «хищники»,
а среди них – собаки, может быть волк (рис. 1, 1) или фантастические животные. Изображений «хищников» известно около двух сотен, они распространены в орнамента‐
ции петренской, шипинецкой, чечельницкой, томашевской, бадражской группах, памятниках Кукутень В, единичные рисунки «собак» также присутствуют в росписи более поздней брын‐зенской группы. Для керамики каневской группы (Поднепровье) характерны стилизованные рисунки собак.
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐31‐
Предполагается, что рисунки показывают собак разных пород. «Хищники» показаны, как правило, в динамичных позах, направлены слева на право, иногда в противоположном направ‐лении, которое характерно для групповых (рис. 1, 3) или парных изображений (рис. 1, 6). Жи‐вотные изображены в профиль в виде темного (рис. 1, 2, 3, 5) или красного (рис. 1, 5) силуэта, отдельные рисунки контурные (рис. 1, 4). Тела их переданы с разной степенью стилизации, некоторые довольно натуралистично воспроизводят животного в движении, другие позволя‐ют говорить об особом «ленточном стиле» трипольских териоморфных рисунков. Уши живот‐ных торчащие (рис. 1, 1, 3, 7), иногда их считают «рогами», или прижатые к голове (рис. 1, 5, 6). Лапы собак на разных рисунках показаны удлиненными или укороченными, обычно нарисова‐но две лапы, но встречаются изображения с четырьмя (рис. 1, 2), всегда обозначены преуве‐личено большие когти, чаще их оказано три (рис. 1, 1, 5), а иногда – пять (рис. 1, 3). Причем разное количество когтей отмечается на разных лапах одного и того же животного (рис. 1, 2, 6). Часто обозначен пол животного, самцы и самки могут присутствовать в одной композиции в разных позициях (рис. 1, 5, 6).
Рис. 2. Изображения «хищников» и бовидов в росписи ТрипольеКукутень. 13, 1314 – Вертеба 1; 4 – Стена 4; 5 – Шипинцы; 67 – Валя Лупулуй; 8, 10, 11 – Майданецкое; 9 – Гелэешть; 12 Брынзены
3; 15 – Старые Бадражи; 16 – Ханкауцы 1; 17 – Варваровка 15.
Особого внимания заслуживает оформление поднятого или опущенного хвоста «хищни‐ков». Он может быть показан достаточно реалистично (рис. 2, 2), или в виде листовидного ова‐ла (рис. 2, 1), закручен в спираль (рис. 1, 7), иметь вид растительного символа в виде «ветки» или «колоска» (рис. 1, 1, 5‐7), или заканчиваться своеобразной кисточкой, повторяющей оформление лап (рис. 1, 2, 3).
«Хищники»‐собаки изображены в верхней или средней части орнаментальной композиции. Они, как правило, составляют многофигурные композиции (рис. 1, 4‐5(( 2, 8), изображены па‐рами (рис. 1, 6(( 2, 6), изредка встречаются одиночные фигуры (рис. 1, 4(( 2, 4), в том числе в
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐32‐
составе пиктограмм (рис. 2, 3), принимают участие в процессиях разнообразных животных (рис. 3, 4‐6) или состоящих только из собак (рис. 3, 2, 7). Собаки изображены рядом с расти‐тельным знаком (рис. 2, 5), со змеями ( рис. 2, 7), стилизованными под «S»‐видный знак (Laza‐rovici, Lazarovici, Țurcanu, 2009, № 354(( Маркевич, 1981, рис. 40, 2), с лунными символами (рис. 2, 1‐3, 6), фантастическим антропоморфным существом (Lazarovici, Lazarovici, Țurcanu, 2009, № 398) и знаками Луны (рис. 2, 3), возле «первичного холма» ( рис. 2, 9), совместно с птицей‐месяцем (Cucoş, 1999, fig. 33, 3(( 34, 1), в метопах между «лестницами» (Cucoş, 1999, fig. 34, 2), принимают участие в сценах восхождения (рис. 2, 1, 10). Черные круги на хвостах собак позво‐ляют причислять эту группу изображений к лунным животным.
Изображения группы «копытных» по количеству значительно уступают «хищникам». Среди «копытных» несколько больше рисунков принадлежит бовидам, единичные их изобра‐жения зафиксированы в росписи петренской, шипинецкой (рис. 2, 1, 2, 5, 13, 14), бадражской (рис. 2, 17, 3, 6) и жванецкой групп (рис. 2, 12). Наиболее ранние изображения бовидов проис‐ходят из Бернашевки. Один бык изображен с рогами в виде полумесяца развернут в направле‐нии слева на право, другой, с лировидными рогами — с права налево (Ткачук, Мельник, 2005, с. 87). Всего известно не более десяти случаев изображения бовидов. Силуэты бовидов контур‐ные (рис. 2, 14, 17) или темные (рис. 1, 8). Только в одном случае в орнаментации Бернашевки рога быка изображены в форме полумесяца (Ткачук, Мельник, 2005, с. 87), все остальные бови‐ды нарисованы с лировидными рогами (рис. 1, 8‐11), а в одном случае на сосуде из Старых Бадражей у животного, которое считается быком (Маркевич, 1981, с. 156(( Ткачук, Мельник, 2005, с. 92), рога отсутствуют (рис. 2, 15). Изображения быков отмечены половым признаком, бовидов с крупными лировидными рогами на сосуде из Ханкауц (рис. 2, 16) Т.М. Ткачук счита‐ет рисунками коров, так как половой признак не отмечен. Быки изображены с бородой и кис‐точкой на конце хвоста (рис. 1, 9‐11), что позволяет предполагать определенную смысловую нагрузку этих рисунков.
Бовиды размещаются в верхней (рис. 2, 16, 17) или центральной (рис. 2, 14) части орна‐ментальной композиции. Единичные фигуры их включены в овалы. На сосуде из Варваровки XV изображена вписанная в ромбическую фигуру процессия из четырех быков, двигающихся справа налево (рис. 2, 17). На миски из поселения Шуры I в процессии животных, двигающихся справа налево, принимает участие две собаки и два быка (рис. 3, 6).
С поселения Брынзены 3 (Маркевич, 1981, рис. 72, 3) происходит уникальный фрагмент с жанровой сценой, на которой изображена корова (ее хвост заканчивается кисточкой) с телен‐ком рядом с антропоморфной фигурой (рис. 2, 12).
Уникальный прямоугольный сосуд – «ковчежец» происходит из частной коллекции. Внут‐ри сосуда на стенках изображены силуэты крупного рогатого скота и грифа (?). На одной из коротких стенках «ковчежца» изображен гриф, а на противоположной – силуэт коровы (?). На противоположных длинных стенках изображены пары бовидов с мощными рогами, трое из них имеют хвост с кисточкой на конце, у одного подчеркнут половой признак. Таким образом, ве‐реница фигур из двух рогатых бовидов, коровы и еще пары бовидов движется против часовой стрелки от левого крыла «грифа» к правому (рис. 3, 1). У всех бовидов передние конечности как будто укорочены, что может свидетельствовать о сцене жертвоприношения.
Олень присутствует в росписи еще реже, чем бовиды, известно всего три сосуда с шествием животных, в котором принимают участие олени. На сосуде из Варваровки 8 (Маркевич, 1982, рис. 26(( 27, 1) изображено шествие хищников и оленя у которого показаны ветвистые рога (рис. 1, 13(( 3, 4). На другом сосуде из Варваровки 8 (Маркевич, 1982, рис. 27, 2) в шествии при‐нимает участие три пятнистых оленя (рис. 3, 5). У двух из них (рис. 1, 15), как и у оленя, нарисо‐ванного на сосуде из Крутобородинцев (рис. 1, 14), рога выполнены в виде растительного сим‐вола. Трипольский сюжет процессии животных напоминает «круг животных» ‐ зодиак, и, воз‐можно, является его далеким прообразом.
Изображения козла и козы (рис. 1, 12) представлены в росписи только в одном случае – в шествии животных на сосуде из Крутобородинцев.
Некоторые териоморфные рисунки явно изображают фантастические существа, объеди‐няющие зооморфную и лунную, а иногда и растительную, символику (рис. 2, 11). Изображение может быть стилизовано таким образом, что сочетает черты разных существ и отражает образ
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐33‐
синкретических персонажей. Среди фантастических животных «грифоны», «когтистые быки», летящие псы или собаки обоих полов с необычным изгибом спины, которые всегда размеща‐ются в верхнем ярусе композиции.
На сосуде из Бернашевки изображено беременное животное с хохолком (рис. 1, 2). На сосу‐де из Стены силуэт собаки стилизован под лунный серп (рис. 2, 4).
Рис. 3. Сюжетные сцены и процессии животных в росписи ТрипольеКукутень. 1 из частной коллекции; 2 – Рашков 11; 3 – София 8; 45, 7 – Варваровка 8; 6 – Шуры 1; 8 – Фрумушика
Орнитоморфные изображения условно можно разделить на относительно «реалистиче‐
ские» и фантастические, стилизованные под месячный серп (рис. 1, 16‐18, 21) с большей или меньшей степенью стилизации. «Реалистические» рисунки единичны, птицы на них иденти‐фицируются как изображения гуся на фрагменте керамики из Липчан (Збенович, Шумова, 1989, рис. 41, 3), предположительно дрофы на сосуде из Жванца (Мовша, 1975) и из семейства куриных на фрагментах сосудов из Брынзен 3 (Маркевич, 1981, рис. 57, 10).
Стилизованные под месяц рисунки птиц распространены значительно шире. Чаще они встречаются в качестве самостоятельных символов, а иногда как участники зооморфных сцен вместе с собакой (рис. 3, 8), как на кубке из поселения Фрумушика (Lazarovici, Lazarovici, Țurcanu, 2009, № 362). Самые ранние изображения птицы‐месяца отмечены в розписи Трипо‐лья В II на поселениях Брынзены 8 (Маркевич, 1985, № 76) и Песчана (Ткачук, 2005, с. 31). Си‐луэт птицы‐месяца изображен темной краской (рис. 1, 19‐24), а для росписи Кукутень В харак‐терны красные рисунки (рис. 3, 8).
К зооморфным символам под условным названием «гусеница» иногда относят серповид‐ные фигуры с «ресничками» (рис. 2, 6), которые, вероятно, относятся к символике Луны в раз‐ных фазах.
Образы животных в расписной символике ТрипольяКукутень
‐34‐
Использование в зооморфных изображениях наряду с натуралистично‐схематичными ри‐сунками символических зооморфных знаков затрудняет, а иногда делает невозможной иден‐тификацию их с биологическими видами. Очевидно, что зооморфные сюжеты Триполья‐Кукутень не имеют отношения к анимализму, а являются определенными символическими знаками зооморфного кода. Можно предполагать, что расписные сюжеты с участием разных зооморфных персонажей соответствуют фрагментам определенных мифов.
ЛИТЕРАТУРА
Бібіков С.М. Теріоморфні зображення в Трипіллі: (Трипіл. «звірин. стиль») // Археологія. – 1989. – № 2. – С. 6–11 Богаевский Б.Л. Изображение лошади в поздне‐"родовом" обществе Днестро‐Днепровского района // СГАИМК. – 1931. – № 1. – С. 20–25: ил. Богаевский Б.Л. Орудия производства и домашние животные Триполья / ГАИМК. – Л.: Соцэкгиз, 1937. – 312 с. Богаевский Б.Л. Раковины в расписной керамике Китая, Крита и Триполья// Изв. ГАИМК ‐ Т. 6. ‐ Вып. 8/9 – Л., 1931. – 101 с. Збенович В.Г. Зображення тварин на керамці трипільської культури // Тез. доп. VIII‐ї Вінницької обл. історико‐краезнавчої конф. – Вінниця, 1989. – С. 12–13. Бурдо Н. Б. 2004 Сакральний світ трипільської цивілізації//ЕТЦ. – Т. 1. – К., 2004. Збенович В.Г. Зооморфные мотивы в росписи керамики культуры Триполье‐Кукутень // Ар‐хеология. ‐ 1998. – 4. – С.64‐78. Кандиба О. Шипинці. Мистецтво та знаряддя неолітичного селища.‐ Чернівці, 2004. ‐ 208 с. Кандиба О. Галицька мальована неолітична кераміка // Археологія. К.: Видавництво ім.. О. Телигі, 2007. ‐ С. 20‐109. Косаківський В.О. Зображення тварин на кераміці з трипільського поселення Чечельник // Археологія. – 1994. – № 1. – C. 148–149. Линниченко И.А., Хвойка В.В. Сосуды со знаками – из находок на площадках трипольской куль‐туры// ЗООИД. – Одесса, 1901. – Т. XXIII. – С. 199–202. Маркевич В.И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. Кишинев, 1981.‐ 194 с. Маркевич В.И. Далекое – близкое. Кишинев, 1985. Мовша Т.Г. Зображення птахів на розписному посуді трипільської культури // Археологія. – К.: Вид‐во АН УРСР, 1965. – Т. 19. – С. 100–105. Ткачук Т.М. Знакові системи трипільсько‐куктенської культурно‐історичної спільності (мальо‐ваний посуд). –Вінниця: “Нова книга”, 2005. – 418 с. Ткачук Т.М., Мельник Я.Г. Семіотичний аналіз трипільсько‐куктенських знакових систем (мальований посуд). – Вінниця: “Нова книга”, 2005. – 208 с. Черныш Е.К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии // Энеолит СССР. – М., 1982. – С. 166–347. Шмаглій М.М., Рижов С.М., Дудкін В.П. Трипільське поселення Коновка в Середньому Подністров’ї // Археологія. – К., 1985. – Вип. 52. – С. 42–52. Cucoş Ş. Faza Cucuteni B in Subcarpatică a Moldovei. – Piatra‐Neamț, 1999. – 304 p. Щербаківський Д.М. Знахідки біля Могилева‐Подільського // Короткі звідомлення ВУАК за 1926 р. – К., 1927. – С. 167–172. ‐ Табл. 1. Якубенко О.О. Колекції із розкопок В.В. Хвойки на трипільських поселеннях у Національному музеї історії України // Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині Вікентія Хвойки. ‐ Т. ІІ.‐ К., 2006 ‐ С. 45‐70. Kadrow S., Sokhacky M., Tkachuk T., Trela E. Sprawozdanie ze studiow i analiz materialow zabytko‐wych z Bilcza Zlotego znajdujacych sie w zbirach Muzeum Archeologicznego w Krakowie // Materialy archeologiczne. – 2003. – T.34. – S.53–143. Lazarovici C.‐M., Lazarovici G.‐C., Țurcanu S. Cucuteni a great civilizatoin of the prehistoric world. Iaşi, 2009.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА, КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ БУРДО
1974
1. Поселение Александровка//Археологические открытия в СССР 1973 г. – М. 1974. – С. 279 (соавт. Зиньковский К. В. ).
1975 2. Раннетрипольское поселение Александровка //150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 48–50 (соавт. Зиньковский К. В. ).
1976 3. Разведки памятников эпохи энеолита в северных районах Одесской области //Археологические и археографические исследования на территории Южной Украины. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 130–150 (соавт. Станко В. Н. ). 4. Антропоморфная пластика поселения Александровка//Материалы по археологии Северного Причерноморья. – К. : Наукова думка, 1976. – Выпуск 8. – С. 161–170.
1978 5. Глиняные черпаки, ковши и ложки из раннетрипольского поселения Александровка // Археологические исследования Северо–Западного Причерноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 205–219.
1980
6. К вопросу о стратиграфии раннетрипольского поселения Александровка//Северо–Западное Причерноморье в эпоху первобытно–общинного строя. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 27–41 (соавт. Зиньковский К. В. ).
1981
7. Кухонная керамика раннетрипольского поселения Александровка //Памятники дре‐вних культур Северного Причерноморья, К. : Наукова думка, 1981. – С. 12–22. 1 8. Энеолитические находки на стоянке Мирное//Древности Северо–Западного Причер‐номорья. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 17–21 (соавт. Станко В. Н. ).
1982 9. Раннетрипольское поселение Тимково//Археологические открытия в СССР 1981г. – М. 1982
1983 10. Датировка раннетрипольского поселения Александровка и проблема хронологиче‐ского разделения Триполья [Одес. обл. ] // Материалы по археологии Северного При‐
1 Позиции 1–7 списка – вышли под фамилией Зиньковская.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 36 ‐
черноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 5–16. 11. Исследование раннетрипольских поселений на севере Одесской области // Архео‐логические открытия в СССР 1981г. – М., 1983. – С. 248–249.
1984 12. Исследование раннетрипольского поселения Слободка Западная // Новые археоло‐гические исследования на Одесчине: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 24–33. 13. Типы раннетрипольской керамики и ее орнаметации в междуречье Днестра и Юж‐ного Буга / Бурдо Н. Б., Видейко М. Ю. // Северное Причерноморье: (Материалы по ар‐хеологии): Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 96–104.
1985 14. Ранньотрипільське поселення Тимкове в Одеській області / Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю. // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 52. – С. 78–86.
1987
15. Александровская группа раннетрипольских поселений // Актуальные проблемы историко–археологических исследовании: Тез. докл. VI Респ. конф. мол. археологов, Ки‐ев, окт. 1987 г. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 10–11. 16. Исследования раннетрипольского поселения Слободка–Западная в 1980 г. // Новые исследования по археологии Северного Причерноморья: Сб. науч. тр. / АН УССР. Одес. археол. музей. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 5–16. (соавт. Видейко М. Ю.)
1989 17. Жилищно–хозяйственные комплексы раннетрипольских поселений // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР: Тез. доп. XX Респ. конф., Одеса, жовт. 1989 р. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 35–36. 18. Памятники трипольской культуры в Северо–Западном Причерноморье – К. : Науко‐ва думка, 1989. – 139 с. (соавт. Патокова Э. Ф., Петренко В. Г., Полищук Л. Ю. ).
1990
19. Раннетрипольское поселение Гребенюков Яр // Раннеземледельческие поселения–гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. 1–го полевого семинара ИА АН УССР. – Тальянки; Веселый Кут; Майданецкое, 1990. – С. 195–199.
1991 20. Каталог научных фондов ИА АН УССР. Палеолит–энеолит. Эпоха бронзы. – Киев, препринт 1991 (Ляшко С. Н., Сон Н. А., Константинеску Л. Ф). 21.К вопросу о локальных вариантах триполья А и путях расселения раннетрипольских племен// Древние общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. – К. : Наукова думка, 1991.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 37 ‐
1993 21. Населення раннього етапу трипільської культури в межиріччі Південного Бугу та Дніпра: Автореферат дисертації … кандидата історичних наук. – К., 1993. – 20 с.– 22. Ранній етап формування трипільської культури// Археологія, №3, 1993. – С. 19‐29. 23. «Трипільський Світ»// Слово і Час, № 9, 1993.
1994
24. Трипільська культура– відкриття і дослідження// Український Світ, №3–4 1994. – С. 12–13. 25. The trypillian Culture – Discovering and Research//Ukrainian World, №3–4 1994. – P.12‐13.
1996
26. Внесок С. М. Бібікова у трипільську археологію// Археологія, №3, 1996. – С. 14–20.
1997 27. Землеробство ранньотрипільських громад східного регіону// Археологічні дослі‐дження в Україні 1993 року. – К. 1997. – С. 20–23. 28 . Ранньотрипільські поселення між селами Могильна та Жакчик на Кіровоградщині // Археометрія та охорона історико–культурної спадщини, Випуск 1. –К., 1997. – С. 67–71. 29. Розкопки трипільського поселення Ігнатенкова Гора біля с. Григорівка на Дніпрі// Археологічні дослідження в Україні 1993 року, К. 1997. – С. 23–26.
1998 30. Нові дані про датування Трипілля А// Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 років, Киів, 1998. – С. 60–62 (співавт. М. Ковалюх). 31. Основи хронології Трипілля–Кукутені // Археологія. – 1998. – № 2. – С. 3–14 (співавт. М. Відейко). 32. Пластика з поселень трипільської культури біля с. Григорівка// Переяславська зем‐ля і світ людини. – Київ – Переяслав–Хмельницький, 1998. – С. 10–12. 33. Трипільська пам’ятка етапу В І біля с. Сокольці на Південному Бузі// Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 років. – Київ, 1998. – С. 8–10.
1999 34. Датування трипільського поселення в с. Плисків та борисівський тип пам'яток // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи. – Матеріали міжнародної нау‐ково–практичної конференції. – Київ, 1999. – С. 49–50. 35. Змія в ранньотрипілських орнаментах та міфах// Краткие сообщения Одесского ар‐хеологического общества. – Одесса, 1999. 36. Нові дані про абсолютне датування Трипілля В І// Археологічні відкриття в Україні 1998–99рр. – К. 1999. – С. 25–26 (співавт. М. М. Ковалюх). 37. Хронологія та періодизація Трипілля А// Археологія, 1999, №1. – С. 78–88.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 38 ‐
2000 38. Становление хозяйственно–культурных типов с производящим хозяйством к вос‐току от Карпат// Международны сімпозыум: Ад неолитызации до пачатку эпохи брон‐зы. – тезисы докладов. – Брэст, 2000. – С. 39. Cultural aspects of region of Carpathian pool in materials of Tripill’a culture on Middle Dnister// European Association of Archaeologists, 6th Annual Meeting. – Lisbon, 2000.
2001 40. Жіноча фігурка з Володимирівки//Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. – К., 2001. – С. 10–13 41. Зброя племен культури Трипілля–Кукутень // Військово–історичний альманах. – K., 2001. – № 2(3). – С. 64 – 69. 42. Нові дані до проблеми генези трипільської культури //Тези доповідей Міжнародної науково–практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м. Збараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж. :Вид. –во ДІАЗ в м. Збаражі, 2001. – С. 4–6. 43. Теракота трипільської культури//Давня кераміка України. Частина перша. – Київ, 2001. – С. 61–145. 44. The influence of Western and Central European region cultures in the materials of the final phase of Tripolie A in the Middle Dniester territory//Acta Archaeologica Carpatica, tom XXXVI, 2001. – 5–38 .
2002 45. Культурно–исторические контакты раннетрипольских племен// Е. В. Яровой (ред.) Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. – V век н. э). Материалы III Международной конференции. Тирасполь, 508 нояб‐ря 2002 г. – Тирасполь, 2002. – С. 49–51. 46. Мультимедійні додатки до монографічних досліджень// Електронні зображення та візуальні мистецтва. Збірник праць першої української конференції серії EVA. – К., 2002. – С. 221–222. 47. Ранньотрипільське поселення Лука–Врублівецька і проблеми синхронізації Преку‐кутені – Кукутені–Трипілля. //Наукові записки НТШ. –Львів, 2002. – Т. CСХLVI. – С. 66–88.
2003 48. Історіографія проблеми походження Трипілля–Кукутені в світлі нових да‐них//Археологія, 2003. – №4. – С. 5–18. 49. Керамічні моделі саней трипільської культури// Український керамологічний жур‐нал, №1, 2003, c. 25–30. 50. Методика исследований протогородов трипольской культуры// О. Г. Корвін–Піотровський (ред): Трипільські поселення–гіганти. Матеріали міжнародної конференції. – К.: Корвин–пресс, 2003. – С. 14– 17. 51. От придомного животноводства к пасторализму. Эволюция хозяйства Триполья–Кукутени в период 5400 – 2750 гг. до н. э//Nomadyzm a pastoralizm w miezdyrzeczu Wis‐ly i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brazu). – Miedzynarodowa konferencija, Obrzysko, 2003. – C. 3–7 ( в співавт. з М. Ю. Видейко).
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 39 ‐
52. Сакральный аспект архитектуры трипольских протогородов. В: О.Г. Корвін – Піотровський (ред.): Трипільські поселення–гіганти. Матеріали міжнародної конференції. – К.: Корвин–пресс, 2003. – С. 18–21.
2004 53. Гумельниця [Електронний ресурс]// Енциклопедія історії України: Т. 2. – К., Наукова думка, 2004. – 688с. /www. historyorg. ua/?termin=Gymelnycya 54. Енциклопедія трипільської цивілізації// Перший всесвітній конгрес Трипільська Цивілізація. Тези доповідей. Київ, 7 – 11 жовтня 2004 року. – С. 46–47 (співавт. Ляшко С. М., Відейко М. Ю) 55. Магічні символи та сакральні образи в артефактах трипільської культури// Древні землероби Європи: нові відкриття та гіпотези. – Тези доп. Міжнародної наукової конф., м. Збараж, 16–19 серпня 2004 року. – Збараж, 2004. – С. 24–27–29. 56. Моделі будівель трипільської культури // Перший всесвітній конгрес Трипільська Цивілізація. Тези доповідей. Київ, 7 – 11 жовтня 2004 року. – С. 19–22. 57. Новые данные для абсолютной датировки неолита и раннего энеолита на террито‐рии Украины // Stratum plus. – № 2, – 2001–2002. – Кишинев. – С. 431–447. 58. Особенности керамического комплекса Прекукутень–Триполье А и проблема гене‐зиса трипольской культуры // Stratum plus. – № 2, – 2001–2002. – Кишинев. – С. 141–163. 59. Походження трипільської культури//ЕТЦ1. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 1., кн. 1. – С. 98–111. – 0. 5 д. а 60. Сакральний світ трипільської цивілізації // ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 1. – С. 344–420. 61. Тваринництво трипільської культури//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 1., кн. 1. – С. 183–198. – 2. 0 д. а 62. Автохтонна культура //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 10. 63. Амулет //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 13. 64. Амфора //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 14. 65. Ангоб //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 14–15. 66. Андрогін//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 15. 67. Антропоморфізм//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 17. 68. Антропоморфна кераміка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 17–19. 69. Антропоморфна пластика//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 19. 70. Антропоморфні зображення//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 19–20. 71. Археологічний музей Інституту археології Національної Академії Наук України (Ар‐хеологічний Музей ІА НАНУ) //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 28–29. 72. Бабин//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 32. 73. Бабшин//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 33. 74. Барботин//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 36–37. 75. Бернашівка 5822//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 40–42. 76. Бернашівка 2//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 42. 77. Бернове–Малинки//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 44. 78. Бєлановська Тетяна Дмитрівна//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 44–45. 79. Бібіков Сергій Миколайович//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 45–46. 80. Біхромний розпис//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 55–56. 81. Блищанка ІІ //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 56–57. 1 ЕТЦ – Енциклопедія трипільської цивілізації. Статьи ко второму тому ЕТЦ – позиции 62‐309.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 40 ‐
82. Бляха//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 57. 83. Бовин//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 57–58. 84. Болград–Алдень ІІ//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 59–69. 85. Борисівський тип//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 64–65. 86. Боян//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 67–68 87. Брязкальця//ЕТЦ. – К: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 71–72. 88. Булава//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 74–75. 89. Бучач//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 75–76. 90. Ваза//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 77. 91. Василівка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 79–80. 92. Васіна Зинаїда//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 80–81. 93. Веретено//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 83. 94. Верхньобузька експедиція інституту археології //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 85. 95. Вимостка //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 87. 96. Виноградова Наталія Матвіївна//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 88. 97. Виставка ”Збірка з розкопок в Більчі–Золотому ім. Леона і Тереси Сапєг “//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 89. 98. Виставка “Трипільська культура на території Української РСР”///ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 89–90. 99. Витилівка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 90. 100. Вівтар//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 92. 101. Вівтарі–столики//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 93. 102. Вівтар керамічний//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 92. 103. Відмулена глина//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 96. 104. Відтворювальне господарство//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 96. 105. Відтяжка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 97. 106. Вінницького краєзнавчого музею та Вінницького державного педінституту експе‐диція //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 101–102. 107. Вовчий зуб//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 103 108. Вогнище//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 103. 109. Войцехівка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 1–3–104. 110. Волюта//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 107–108. 111. Вороновиця//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 108–109. 112. В’язання//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 111. 113. Гайворон//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 112–113. 114. Глек//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 118. 115. Глечик//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 118. 116. Глинобитний//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 120. 117. Голосков//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 120. 118. Гончарний круг//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 120. 119. Городниця–городище//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 125–126. 120. Господарсько–культурний тип//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 130. 121. Градешниця//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 130–131. 122. Гребенюків Яр//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 133–135. 123. Гребінцевий орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 135–136. 124. Гренівка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 136–137. 125. Гринчук//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 137–138. 126. Гумельниця//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 139–140. 127. «Гусеничка»//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 141.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 41 ‐
128. Данилова Балка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 142–143. 129. Дністрянська експедиція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 151–152. 130. Дротик//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 156. 131. Дудешть//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 156–157. 132. Духовна культура//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 157. 133. Експериментальне моделювання трипільского житла //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 158–159. 134. Ермітаж//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 160. 135. Єсипенко Анатолій Львович//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 162. 136. Житло//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 168. 137. Жури//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 171–172. 138. Заглиблений орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 173–174. 139. Заглиблення//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 174. 140. Заліщики//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 275–276 141. Заліщицький варіант//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 177. 142. Західно–українська експедиція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 179–180. 143. Збиральництво//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 180–181. 144. Землянка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 182. 145. Зерновик//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 182. 146. Зернотерка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 185. 147. Зооморфні зображення//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 191–194. 148. Ідол//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 197. 149. Імпорт //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 200–201. 150. Канелюри //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 200–211. 151. Кенотаф //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 215. 152. Кераміка типу Kукутень C //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 215–216. 153. Ковші //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 226. 154. Коджадермен–Kаранове VI //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 226. 155. Кодимо–дністровська експедиція //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 226–227. 156. Коновка //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 243–245. 157. Кормань //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 247–249. 158. Корчага //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 251. 159. Котова Надія Сергіївна //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 255. 160. Кочівництво //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 256. 161. Кратер //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 262–263. 162. Кремінь //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 264–265. (співавт. Д. Л. Гас‐кевич) 163. Кремнеобробна майстерня з цвіклівців //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 265–266. 164. Криш //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 266–267. 165. Кромлех //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 267. 166. Крушельницька Лариса Іванівна //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 271. 167. Кубки //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 272–273. 168. Культ //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 274–275. 169. Культова споруда //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 275. 170. Культура //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 276. 171. Культура лінійно–стрічкової кераміки (клск) //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 280–281.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 42 ‐
172. Культурний шар //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 281. 173. Кунисівці //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 282. 174. Курильниця //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 288. 175. Кухонний посуд 3751 //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 289–290. 176. Лабрис//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 291. 177. Ленківці //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 293–296. 178. Липчани//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 296–297. 179. Лицьовий мотив//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 299. 180. Лощіння//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 301. 181. Лука–Врублевецька //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 301–303. 182. Лунниці//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 306–307. 183. Магія//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 311. 184. Майстерні кременеобробні//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 316–317. 185. Мальованої кераміки культура //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 323–324ю 186. Матеріальна культура//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 327. 187. Матріархат//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 327–328. 188. Меандр//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 330. 189. Метопа//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 330. 190. Міграція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 333. 191. Могильна //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 339–340. 192. Моделі саней //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 345–346. 193. Моделі сокир//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 346. 194. Моделі стільців–тронів//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 346–347. 195. Моноклі (моноклеподібні посудини) //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 353–354. 196. Монохромний розпис//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 354. 197. Мотика//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 356. 198. Музей антропології та етнографії ім. Петра Великого//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 357. 199. Напівземлянка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 361. 200. Наукові фонди інституту археології нану//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 360–361. 201. Національний музей–заповідник українського гончарства в Опішному//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 365. 203. Незвисько 11781//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 367–371. 204. Обмазка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 377. 205. Овид//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 379. 206. Овчинников Едуард Вікторович//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 379. 207. Ожеве//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 381. 208. Окопи //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 383–386. 209. Олександрівка //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 386–389. 210. Оранта//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 391. 211. Орнаментир//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 392–393. 212. Орнітоморфна пластика//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 393. 213. Орнітоморфні зображення //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 393–395. 214. Патріархат//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 402. 215. Перликани//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 406. 216. Петрешть//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 410. 217. Печера//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 412–413.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 43 ‐
218. Південноподільська експедиція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 414. 219. Піктограма//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 416–417. 220. Пінтадери//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 417–418. 221. Піфос//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 418. 222. Пластика//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 418. 223. Плетіння//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 421–422. 224. Площадка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 423. 225. Погожева Айна Петрівна//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 424. 226. Полімастний//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 427. 227. Поліхромний посуд//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 427–428 228. Поліхромний розпис//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 428–429. 229. Поселення//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 431–432. 230. Поховальна урна//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 433. 231. Прекукутень//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 434–435. 232. Привласнювальне господарство//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 435. 233. Прокреслений орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 435–436. 234. Прядіння//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 436–437. 235. Прясельце//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 438. 236. Рало//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 441–442. 237. Реконструкція //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 445–446. 238. Релігія//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 446. 239. Реалістична пластика //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 442–443. 240. Ритуал//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 450. 241. Різьблений орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 451. 242. Рогатка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 451–452. 243. Розписний орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 452. 244. Романівка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 454. 245. Розтирач//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 454. 246. Руст//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 456. 247. Сабатинівка I //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 457–458. 248. Сабатинівка II //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 458–461. 249. Сакральне//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 461–462. 250. Сандраки 4099//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 462–464. 251. Сандрацький скарб // ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 464–465. 252. Cемантика//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 468. 253. Середньобузька експедиція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 470–471. 254. Середньодністровська ескпедиція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 472. 255. Середньодністровська експедиція інституту археології ан урср//ЕТЦ. – К.: Укрполі‐графмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 472. 256. Cимвол//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 476. 257. Cирець I //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 476–477. 258. Скакун Наталія Миколаївна //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 478–479. 259. Скарб//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 479. 260. Скульптура//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 482. 261. Слобідка Західна //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 482–483. 262. Совиний лик//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 485–486. 263. Сокольці–Поліг//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 487. 264. Солончени II //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 487–489. 265. Солонченський варіант //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 489–490
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 44 ‐
266. Статуетки//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 496. 267. Столовий посуд//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 502–503. 268. Сухостав//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 504. 269. Тангентний орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 513. 270. Тарний посуд//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 514. 271. Текстиль//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 515. 272. Текстильне виробництво//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 516. 273. Тель//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 517–518. 274. Теракота//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 518. 275. Тимкове //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 519–521. 276. Тимковська модель сакральної будівлі//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 522. 277. Тимковський комплекс сакральних речей//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 522–523. 278. Тиса //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 530. 279. Ткацтво//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 532. 280. Трасологічний метод//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 536–537. 281. Трипільська (Дністровська) експедиція (Дністровська трипільська експедиція) //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 538–539. 282. Трипільська експедиція Національного музею історії України//ЕТЦ. – К.: Укрполіг‐рафмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 541–542. 283. Трупоспалення//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 555. 284. Фігуративні посудини//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 564–565. 285. Фруктовниця//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 568. 286. Хлібці керамічні//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 574–575. 287. Ходаки//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 575–576. 288. Храм//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 579–580. 289. Цвіклівецьке поховання//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 585–586. 290. Цвіклівці//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 586–587. 291. Цвіклівецький скарб//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 587–588. 292. Цивилізація //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 588–589. 293. Цідилка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 591. 294. Чапаївка 2460//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 593–594. 295. Чапаївський могильник 1665//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 594. 296. Черкаський обласний краєзнавчий музей//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 599–600. 297. Черниш Катерина Костянтинівна //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 602–603. 298. Чернівецький обласний краєзнавчий музей//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 603–604. 299. Чернівецького музею археологічна експедиція//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 604. 300. Черняков Іван Тихонович //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 604–605. 301. Чернятка//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 605. 302. Черпак//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 605–606. 303. Шамот//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 613. 304. Шлак//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 623. 305. Шнуровий орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 625. 306. Шоломоподібні покришки//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 626. 307. Штампований орнамент//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 627.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 45 ‐
308. Ялтушків І //ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 633–634. 309. Яма//ЕТЦ. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – С. 634. 310. Tripolye A: Problems of periodization and absolute Chronology // Cucuteni. 120 de cer‐cetari. Timpul bilantului. – Museul de Istorie si Archeologie Piatra–Neamt, 21–24 Octombrie, 2004. – Piatra–Neamt: Constantin Matasa, 2004. – P. 56–57.
2005 311. Балкано–карпатські та дунайські елементи в керамічних комплексах раннього Трипілля// На пошану С. С. Березанської. – Збірка наукових праць. –Луганськ: Шлях, 2005. – С. 38–51. 312. Животноводство трипольской культуры в период 5400 – 2750 гг. до н. э// Arheolo‐gia Bimaris, 2005. – Vol. 3. – С. 67–94 (співавт. М. Відейко). 313. Керамические модели построек трипольской культуры// Матеріали та досліджен‐ня з археології Східної України. – Вип. 4. – Луганськ, 2005. – С. 92–113. 314. Трипільська культура. 110 років досліджень// Археологія, 2005. – №4. – С. 10–25. 315. Трипільске населення і оточуючі племена. Моделі взаємодії//Кам’яна доба Украї‐ни. – К., 2005 – С. 177–185. 316. Trypillya a and Рrecucuteni: problems of periodization and the absolute chronology //Cucuteni. 120 years of Research. Time to sum up. – Piatra–Neamt, 2005. – Р. 56–57.
2006 317. Архітектура трипільських племен Середньої Наддніпрянщини// Охорона культур‐ної спадщини Київської області. – К. : Академперіодика, 2006. – С. 43–62. 318. В. В. Хвойко і дослідження трипільської цивілізації// Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. – К. : Академперіодика, 2006. – Частина ІІ. – С. 7–27. 319. Коментарі до праці «Розкопки 1901 року в області трипільської культу‐ри»//Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. – К.: Академперіодика, 2006. – Частина І. – С. 105–107. 320. Коментарі до рецензії М. Ф. Біляшівського на працю В. Хвойки «Розкопки 1901 ро‐ку в області трипільської культури»// Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. – К.: Академперіодика, 2006. – Частина І. – С. 109. 321. Коментарі до праці «З області трипільської (давньоарійської) культури» // Дослі‐дження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. – К.: Академперіодика, 2006. – Частина І. – С. 113–114. 322. Коментарі до праці «Розкоп так званих площадок»// Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. – К.: Академперіодика, 2006. – Частина І. – С. 138. 323. К проблеме выделения культур в общности Триполье–Кукутень//Тези доповідей міжнародної науково–практичної конференції “Технології і проблеми культурної Адап‐тації населення південно–східної Європи в епоху енеоліту”. – Збараж, 2006. – С. 43–45. 324. Сакральний світ та магічний простір трипільської цивілізації //Археологія у Киє‐во–Могилянській академії. – К., 2006. – С. 75–87. 325. Этнокультурная модель Триполья–Кукутень // Тези доповідей міжнародної нау‐ково–практичної конференції «Технології і проблеми культурної Адаптації населення південно–східної Європи в епоху енеоліту». – Збараж, 2006. – С. 46–48. – (співавт. М. Ю. Відейко).
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 46 ‐
2007 326. Досвід зберігання, обліку та систематизації археологічних матеріалів у наукових фондах ІА НАНУ// Международная научно–практическая конференція «Древности в коллекциях музеев», Харків 20. 11. 2007. – MUSEUM: http://www. formuseum. info/2007/09/15/vdejjko_mju. html 327. Колекції первісної доби// Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Каталог. – К., 2007. – С. 31–106. 328. Реконструкція будівель трипільської культури. Методика та концепції // Трипіль‐ська культура. Пошуки, відкриття, світовий контекст. До 100–річчя із дня народження О. Ольжича. – К. : “ВІПОЛ”, 2007. – С. 29–48. 329. Розкопки біля м. Ржищева 2005 року//Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. – К., 2007. – С. 17–20 . (співавт. М. Відейко). 330. Рятувальні дослідження в ур. Коломійців Яр між с. Копачів та Перше Травня Обу‐хівського району Київської області//Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. – К., 2007. – С. 110–114 (співавт. М. Відейко). 331. Сакральный мир ведийской эпохи // Происхождение языка и культуры: древняя история человечества. – № 5, 2007. – С. 38–58, № 6. – С. 22–50. 332. Спільні керамічні традиції культур Карпатсько–Дунайського регіону доби ранньо‐го енеоліту // Wspolnota dziedzictwa arheologiczntgo ziem Ukrainy i Pоlski. – Warszawa, 2007. – С. 270–288. 333. Трипільська культура в Україні. Пам’ятки трипільської культури// Україна: хроно‐логія розвитку. – Т. 1. – К., 2007. – С. 126–155. 334. Трипілля у контексті цивілізаційного процесу // Записки НТШ. – Т. ССLІІІ – Львів, 2007. – С. 67–89. 335. Трипілля як феномен цивілізаційного процесу в історії давньої Європи// Матеріа‐ли та дослідження з археології східної України. Від неоліту до кіммерійців. – Вип. 7. – Луганськ, 2007. – С. 32–38. 336. Феномен Трипілля у цивілізаційній історії України//Трипільська культура. Пошу‐ки, відкриття, світовий контекст. До 100–річчя із дня народження О. Ольжича. – К.: “ВІ‐ПОЛ”, 2007. – С. 15–28. (співавт. М. Відейко) 337. The Sacral World and Sacred Images of Trypillia civilization// Memoria Antiquitatis. – 2007. – Vol. XXIV. – С. 239–250.
2008 338. Кременева індустрія трипільських пам’яток на Середньому Дністрі // Археологія. – № 4. – 2008. – С. 3–8. 339. Сакральний світ трипільської цивілізації. – К., Наш час. – 296 с. – 340. Трипільська культура і Україна//Новітні міфи про походження українців. – К., 2008. – С. 75–85. 341. Трипільська культура. Спогади про золотий вік. – Харків, «Фоліо», 2008. – 415 с. – (співавт. М. Відейко). 342. Magic and symbolism the Ancient Trypilians// Misteries of ancient Ukrainе. The remark‐able Trypilian culture. 5400–2700 BC. – Royal Ontario museum, 2008. – Р. 88–93.
2009 343. Актуальні проблеми дослідження сакрального світу трипільськой культури// С. Н. Бибиков и первобытная археология. – СПб. : ИИМК РАН, 2009 . – С. 345–349.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 47 ‐
344. Дослідження на поселенні трипільської культури біля с. Небелівка в 2009 р. //Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – Київ–Луцьк 2010С. 458–460 (Співавт. Чепмен Дж., Гейдарська Б. Вілліс Р. Сванн Н., Відейко М., Котова Н. Біленко М. ). 345. Дослідження сакрального світу Трипілля (методичний аспект)// Ранньоземлероб‐ські культури Буго–Дніпровського межиріччя: проблеми дослідження. – Умань, 2009. – С. 96–102. 346. Лука–Врублівецька[електронний ресурс]// Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла–Мі/Ред В. А. Смолій (голова). – К.: Наукова думка, 2009. – 790с. – //http://www.history/org/ua|?termin=Luka_vrublevetska
2010
347. Антропоморфные сюжеты в орнаментации трипольской культуры// Человек и древности: памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). – Москва, 2010. – С. 317–335. 348. Дослідження духовного світу трипільців у працях Вікентія Хвойки// Науково–дослідницька та просвітницька діяльність Вікентія Хвойки. До 160–річчя з дня наро‐дження. Матеріали науково–практичної конференції. – Трипілля, 2010. – С. 27–42. 349. Енеоліт. // (Розділ. 1. Декоративне мистецтво доісторичної доби) Історія декора‐тивного мистецтва України : У 5 т. – Т. 1 /(гол. Ред. Г. Скрипника) НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – (680 с. ) – С. 47–88. 350. «Культури А та В» В. Хвойки і сучасний стан проблеми виділення культур спільно‐ти Трипілля–Кукутень// Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України. – К., 2010. – С. 44–58. 351. Реалистическая пластика трипольского поселения Майданецкое // Археологія і давня історія України. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 27–33. – 0, 8 д. а 352. Реалистическая пластика Триполья–Кукутень: систематизация, типология, интер‐претация // Stratum plus. – № 2. – Кишинев, 2010. – С. 123–168. 358. «Cord» ornamented pottery of the Trypillia Culture: a macro analysis//Baltic–Pontic Studies. – Poznan, 2010. – Vol. 15. – P. 110–121 (with M. Videiko). 353. Technological study of “cord” impressions on Middle and Late Eneolothic pottery in Ukraine// Baltic–Pontic Studies. – Poznan, 2010. – Vol. 15. – P. 122–134 (with N. Kotova and M. Videiko).
2011 354. Антропоморфна пластика трипільського поселення Майданецьке // Археологія. – № 2. – 2011. – С. 3–16. 355. Антропоморфні образи в традиції Трипілля–Кукутень// Наукові записки НІЕЗ «Пе‐реяслав». – Випуск 5(7), 2011. – С. 128–143. 356. Відкриття духовного світу трипільців в працях Вікентія Хвойки// Trypillia Civiliza‐tion Journal, 2011/ – Archaeology: http://www. trypillia. com / 357. Зооморфная символика в расписной орнаментации Триполья–Кукутень// Прада‐вні землероби Південно–Східної Європи. Тези доповідей міжнародної наукової конфе‐ренції. – Київ – Тальянки, 2011. 358. Порівняльний аналіз антропоморфної пластики Трипілля– Кукутень та культур доби неоліту і енеоліту Центральної та Південно–Східної Європи// Praehistorica. XXIX. – Prague, 2011. – С. 27–36.
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Б. БУРДО
‐ 48 ‐
359. Реконструкция жилищ и поселений трипольской культуры: от рисунков В. Хвойки до Хвойки до 3D моделирования// Археологія і давня історія України. Випуск 5. – К., 2011. – С. 38–52. 360. Символіка антропоморфних посудин Олександрівської групи Трипілля А// Мате‐риалы по археологиии Северного Причерноморья. – Одесса, 2011. – Выпуск 12. – С. 8–30. 361. Antropomorphic Figurines from the Trypillian Settlement of Maydanetske// Ukrainian Archaeology, 2011. – P. 26–37. 362. Lаte Neolitics cultural elements from the Danube and Carpathian regions of Precucuteni – Trypillia A culture // Documenta Praehistorica. – XXXVIII. – Ljubljana, 2011. – P. 357–382.
2012 363. Антропоморфні статуетки ранньотрипільського поселення Бернашівка // Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – Архео‐логія і давня історія України. Випуск 8. – К., 2012. – С. 23–29. 364. Етнокультурна модель Трипілля–Кукутень//Земледельцы и скотоводы Древней Европы (Проблемы, нове открытия, гипотезы. Дополненное издание). – К. – СПб, 2012. – С. 14–19. 365. Концепция формирования цивилизации в исследованиях В. Н. Станко// Человек в истории и культуре. – Одесса, 2012. – С. 617–627. (соавт. М. Ю. Видейко). 366. К проблеме выделения культур в общности Триполье–Кукутень// Земледельцы и скотоводы Древней Европы (Проблемы, нове открытия, гипотезы. Дополненное изда‐ние). – К. – СПб, 2012. – С. 9–13. 367. Личностный фактор в исследовании проблем трипольского домостроительст‐ва//Історія археології: дослідники та наукові центри. – Археологія і давня історія Укра‐їни. Випуск 9. – К., 2012. – С. 68–77. 368. Нова трипільська історія: книга–музей//К. Буренко Трипілля в течії віків. – Київ, 2012. – С. 4–5. 369. Уточнення меж і планування пам’яток заповідника «Трипільська культура»// Ар‐хеологічні дослідження в Україні 2011. – Київ, 2012. – С. 471–473. (Співавт. В. Чабанюк, К. Рассманн, Н. Бурдо, Р. Гаусс, Д. Петерс) 370. Широкомасштабная геомагнитная съемка в Майданецком: современные техничес‐кие рещения в изучении трипольских мега– поселений// Stratum Plus. 2. – Кишинев, 2012. – С . 265– 286. (соавт. Видейко М. Ю., Чабанюк В. В., Рассман К., Гаусс Р., Петерс Д., Лютц Ф. ). 371. Houses in the Archaeology of Tripillia–Cucuteni Groups//Tracking the Neolithic house in Europe. Sedentism, Architecure and Practice. – N. Y. – Heidelberg – London, Springer, 2012. – P. 95–116 (with M. Videiko, J. Champan, B. Gaydarska).
2013 372. Реалистическая пластика культурного комплекса Триполье–Кукутень. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. – 356 с. – 373. Сакральные образы антропоморфной пластики Триполья–Кукутень // Древнее Причерноморье. Выпуск Х. – Одесса: ФЛП «А. С. Фридман», 2013. – С. 105–112.