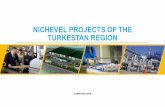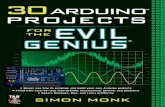The segmented approach to the study of society: the models and the projects
Transcript of The segmented approach to the study of society: the models and the projects
The segmented approach to the study of society: the
models and the projects
(детали исследования общества: модель и проект)
1. Россия в XXI веке – проект «информационное
общество».
В России мы не успели привыкнуть к тому, что наше
общество из социалистического стало капиталистическим,
как неумолимое движение времени снова ставит нас перед
новой перестройкой. На этот раз не зависимо от нашего
желания мы переходим в информационное общество. Мы
снова перед выбором хотя и чувствуем, что он уже где-
то, кем-то, когда-то сделан, а нам придётся снова лишь
адаптировать свою повседневную жизнь под требования
нового времени.
Так что же такое информационное общество? Есть
самые различные точки зрения, на новую стадию
цивилизационного развития человечества.
Наше Правительство называет информационным
общество, в котором развиты информационно-
коммуникационные технологии и возможности доступа к ним
широким слоям населения. В вечной заботе о нас с вами
Правительство тратит (надеюсь по целевому назначению)
миллиарды рублей на создание «электронного
1
правительства» и «открытого общества» (для гражданского
контроля над этим правительством), в надежде, что
виртуальные чиновники перестанут требовать, а открытые
граждане – платить взятки. Высший класс считает таковым
общество, где наличие информационного ресурса является
неотъемлемым признаком собственности высших классов и
основным видом социального регулятора, дающим
возможность контроля над мыслями и делами каждого
гражданина. Весьма уважаемые российские ученые, вслед
за не менее уважаемыми коллегами с Запада в ожидании
прихода информационной эры подсчитывают соотношение
трудовых ресурсов занятых в сфере услуг, или, в более
широком смысле, в нематериальном производстве. И при
этом с рвением неофитов антимарксизма считают, что
переход на новую стадию оставит романтически
воспринимаемые либеральные ценности: парламенты,
свободы, честное частное предпринимательство, и
неизменную структуру социального пространства с его
мудрыми элитами, зажиточным и дремлющим средним классом
и тихими маргиналами внизу пирамиды, голосующими за
лицо из телевизора.
Мы считаем, что информационно-коммуникационные
технологии необходимый, но не достаточный признак новой
стадии цивилизационного развития нашего общества, а
2
признание информации в роли ведущего общественного
ресурса (что происходит уже сейчас) приведет к
появлению новых социальных групп вынужденных как-то
строить новые отношения, адаптироваться к новым
условиям. Кроме того, смена иерархических
взаимоотношений более эффективными в динамически
меняющемся обществе сетевыми взаимоотношениями откроет
новые возможности для одних и создаст новые риски для
других социальных групп.
2. Айфоннное племя и общинное общество. Какое это
информационное общество и какова его социальная
структура? Примерно пятьсот лет назад начался распад
традиционной общины и строение общества. А вот полвека
назад, в середине ХХ века начались процессы создания
глобального суперобщества стирающего национальные,
традиционные, временные и пространственные границы и
одновременно новый трайбализм, о котором писал Г. М.
Маклюен. Трайбализм, как теперь становится очевидным
был процессом создания сетевых сообществ. Отграниченные
близостью ценностей, мировоззрения и идеалов, говорящие
на одном языке, который Соссюр назвал коммуникационным
кодом, люди стремились друг к другу. Сетевые сообщества
множились, слагаясь в социальные сети пока не появился
Интернет и процесс не получил техническую платформу для
3
ускорения коммуникаций практически до пределов
осознания человеком.
В сетевых сообществах свои нормы и правила, своя,
регулируемая индивидом по своему желанию сетевая
публичность и своя особая сетевая солидарность. И при
этом почти для каждого из участников сетевого
сообщества пребывание в нем – лишь одна из ролей, а
количество сообществ, в которые входит человек, может
измеряться десятками, как тех, что можно рассматривать
лишь как место для виртуального времяпровождения, так и
те без которых невозможна сама жизнь человека. Тем
более, что для россиянина сетевое взаимодействие не
является чем-то новым. Годы развитого социализма
приучили к тому, что всё решают «связи» или «блат»,
бывшие не чем иным как социальной сетью множества
сообществ. В обществе, где продукты, одежду, мебель (за
исключением самой простой и дешевой) нельзя было купить
в «открытом доступе» всё доставалось через цепи
знакомых. Не случайно в 90-х годах ХХ века наиболее
успешными предпринимателями в России стали работники
управленческих аппаратов правящей коммунистической
партии, встроенные в самую большую социальную сеть
того времени. Внедрение Интернет - коммуникаций в
начале XXI века только ускорило существовавшие процессы
4
сетевого взаимодействия и ускорило образование новых
социальных групп.
3. Новые социальные группы информационного общества.
Информационное общество во многом отлично от
прежних стадий цивилизационного развития, но такое же
стратифицированное, как и раньше. Компьютеры, роботы и
всемирная паутина не стерли отличия между богатыми и
бедными, напротив, к имущественному расслоению общества
добавились стратификационные различия в отношении
ведущего ресурса новой эры – информационному продукту.
Высший, низший и средний классы Энтони Гидденса
заполняются новыми акторами. В высшем классе –
владельцы информационного продукта и информационно -
коммуникационных сетей. Обладание информационным
продуктом позволяет им управлять как нематериальными,
так и материальными ресурсами, создавать
производственные структуры, продвижения и
распространения товаров и услуг. Владельцы
информационного продукта и информационно-
коммуникационных сетей входят в так называемую «элиту»
общества, что позволяет им оказывать большое влияние на
институты власти и управления. При этом для общества
оказывается важным сохранение границ между
«информационной» и «властной» (бюрократической) элитой,
5
так как последняя всё-таки вынуждена сохранять
стабильность общественной жизни и поддерживать status
quo общества. Представители высшего класса, даже
формально не входя в институты власти, оказывают
значительное влияние на общественное сознание,
навязывая низшим классам систему потребительских
ценностей. Можно кивать на эксцентричное поведение
Барда и Зондерквиста (ещё недавно солисты «Армии
любовников»), но их ощущения прихода к власти
нетократии кажутся весьма верными.
Подобно тому, как аристократия внушала крестьянам
средневековой Европы ценность богоизбранности сеньора и
святости его имущества, владельцы информационных
продуктов внушают обществу святость интеллектуальной
собственности, праведность безграничного потребления и
важность тотального контроля над низшим классом.
Ценности самого высшего класса лежат скорее в над-
материальной области. Получивший великолепное
образование, а также финансовые и материальные ресурсы
от своих предшественников высший класс не особо
задумывается над хлебом насущным, но его крайне волнуют
вопросы сохранения собственного положения в обществе,
власти, самовыражения и самореализации. На другом конце
пирамиды - низший класс общества – потребители
6
информационного продукта. Они не имеют ресурсов для
владения собственностью, а также не обладают знаниями и
умениями для создания информационного продукта. В тоже
время эту социальную группу нельзя отнести к
угнетаемым, маргинальным классам, высший класс
заинтересован в росте их благосостояния и увеличении их
потребительских возможностей. Управляя формированием и
распространением потребительских ценностей через
информационно - коммуникационные сети, высший класс
имеет возможность регулировать жизнь представителей
низших классов, в том числе и посредством постоянного
контроля над их деятельностью. Правда любимого
потребителя спасают последним. Будь это финансовый
кризис, тайфун Катрин или пожары в центральной части
России. Это не существенно, ведь как только утихнет
природная или финансовая буря высший класс начинает
инвестировать колоссальные суммы в восстановление
потребительских хозяйств. Потребители в информационном
обществе парии и короли одновременно. Им недоступно, в
силу недостатка образования либо желания получить это
образование новые IT-технологии, но без их денег некому
будет потребить массу нужных и не нужных товаров. Так
же как не будет технологий без их создателей. Создатели
информационного продукта — когнитариат. Первично термин
7
когнитариат предложил Фернардо Берарди из слов kognitio
в его гносеологическом смысле и proletariat в том
смысле, в котором он понимался К.Марксом. Мы
употребляем этот термин вслед за А.Тоффлером для
обозначения представителей производящего класса
информационного общества. Хотя наше определение и более
распространенный термин Р. Флорида «креативный класс»
определения сходны между ними есть принципиальное
различие. «Креативный класс» включает в себя как
производителей, создателей, так и владельцев
информационного продукта. Выделяя один признак – работу
с информационным продуктом Р.Флорида случайно или
умышленно соединяет в одну социальную группу и
эксплуататоров и эксплуатируемых. Так в 18 веке в
индустриальный класс соединяли рабочих и буржуазию.
Вот он основной производительный класс, занимающий
средний слой информационного общества. Именно средний,
а не высший, к нашему сожалению. Ибо сами создатели
информационного продукта отдают большую часть прибыли
владельцам в обмен на возможность продолжать свою
творческую работу. Но в отличие от предшественников –
интеллигенции когнитариат может самостоятельно
разрабатывать информационный продукт, и самостоятельно
распространять его потребителям. Не обязательно
8
продавать себя корпорации, когда предмет труда и орудие
труда – ноутбук помещается в сумке, а возможность
коммуникаций с потребителями обеспечивает Интернет.
Между средним и высшим классом нет социального лифта в
классическом понимании Макса Вебера. Однако, используя
сетевые возможности, когнитарий может занять место
среди высшего класса, как Марк Цукерберг или Стив
Джонс. Но эти истории слишком известны, что говорит об
их исключительности.
Новые социальные группы только формируются. Их уже
можно выделить среди социального пространства, где пока
преобладают представители социальных групп предыдущих
стадий цивилизационного развития. Прогресс идет так
быстро, что любой временной прогноз будет ошибочным.
4. Российская ризома – хрен или редька?
А что в России – стране, которую уже два десятка
лет не причисляют к странам – лидерам социального
развития. Пока Правительство внедряет модель вертикали
власти, либерально настроенные представители высшего
класса ратуют за гражданское общество, само общество
преобразуется в информационное, а следовательно
преимущество получает сетевая модель коммуникации. У
нас есть уже свои истории становления владельцев
информационного продукта – Б. Мильнер, А.Усманов,
9
П.Дуров, И. Носик и свой формирующийся когнитариат и
интенсивно развивающиеся потребительские сообщества.
Власть только начинает понимать суть сетевой формы
информационного общества, а значит, скоро снова будем
догонять тех, кто ушел вперед. Модернизация, какое бы
прилагательное не стояла перед этим словом (западная,
восточная, догоняющая, инновационная) на самом деле
требует не вагоны денег для покупки особо умных
технологий и консультантов из просвещенной Венгрии или
Польши, но требует смены парадигмы сознания. Всего лишь
принятие сетевой формы коммуникации как более
эффективной, нежели директивно-массовая. Это позволит
привести страну в дивный, дивный мир будущего с его
разнонаправленными коммуникациями, множеством сообществ
и мягким стенками узкого коридора тотального контроля.
Почему мы обращаемся именно к государственным
институтам? Да потому что на пике общества
индустриального государство развилось и сформировалось
в самый совершенный венец творения человеческого
разума. Общество настолько творчески преобразило сами
властные институты, что возникает иллюзия
аутопоэтичности политических процессов. Вот так само по
себе, ну или в крайней случае по воле и «свободному
выбору народа» всё и происходит. Давно уже нет ни
10
диктаторов, ни директорий. А что есть? Есть сменяемые
друг друга приятного вида и хорошего образования люди
выражающее интересы тех или иных групп. При внешней
независимости эти группы – представители одного –
высшего слоя социального пространства со схожими
интересами. Российская специфика в том, государство
является и основным инвестором, и генератором идей.
Позволим себе предположить, что развитие может пойти
двумя путями – путем создания вертикально
ориентированного и горизонтально – ориентированного
сетевого сообщества.
Поскольку метафора Жиля Делёза и Феликса Гваттари
«ризома» приобретает смысл только при написании по-
французски, позволю себе предложить истинно русскую
метафору «редьки» - как вертикально –ориентированного
сообщества и «хрена» - как сообщества ориентированного
в горизонтальной плоскости. Редька – крупный корнеплод
с множеством мелких ответвлений, но все ответвления –
вторичны и малозначительны для потребительских свойств
продукта. Отростки могут забирать необходимые соки из
земли, искать влагу, без них сам корнеплод не сможет
расти, но всё самое важное – в центре. Именно сам
корнеплод имеет ценность, а все ростки безжалостно
срезают на кухне. Хрен же – просто корень и корень,
11
который разрастается, ветвится и проникает всюду. Хрен
не нуждается в специальным уходе. Если пригодная почва
и достаточно влаги корень проникнет сам. При этом
каждый отросток пригоден для изготовления соуса.
Редька — вертикально ориентированное сообщество —
имеет преимущество для высшего класса. Редька –
привлекательна для инвестиций. Она нуждается в
постоянном уходе, следовательно, её можно
контролировать. Редька вырастает за один сезон и уже к
концу лета можно ждать урожая. Типичный пример редьки –
российский проект «Сколково». Большой участок земли под
Москвой, в непосредственной близости от международного
аэропорта, миллиарды рублей, комплекс современных
зданий. Идея собрать всех ученых в один поселок и
создать им комфортные условия для отдыха и работы,
настолько замечательна, насколько и малоэффективна.
Результат научного труда не предсказуем. Невозможно
предугадать какой именно из разрабатываемых
информационных продуктов станет материальным товаром.
Если эксперимент будет признан неудачным, редьку проще
выкопать и посадить нечто иное. Вместо инновационных
фирм в том же «Сколково» можно сделать склады и
торгово-развлекательные центры.
12
Хрен выкопать полностью достаточно трудно. Сетевое
взаимодействие сообществ когнитариата позволяет вести
плодотворную деятельность без изначальных внешних
источников. Средние классы сами могут добраться до
«воды», до материальных и финансовых ресурсов,
необходимых для ведения бизнеса. Правда хрен растёт
долго, выкапывать части корешков рекомендуют только на
третий-четвертый сезон. Но зато потом он радует
садовника многие годы. Какой же путь выберет
государство? Длительное выращивание хрена или ежегодные
посевы редьки? Трудно сказать, особенно если учесть что
за каждой из схем стоят не просто команды лобби, а
социальные группы. Можно лишь отметить, что на хорошем
огороде растут разнообразные овощи.
Salade Olivier en russe. Салат Оливье по-русски
В новогодний вечер 31 декабря на всей территории
огромной страны, почти в каждом семействе, почти на
каждом столе рядом с бутылками водки и шампанского
стоит салат «Оливье». Придуманный когда-то поваром-
французом для стола Императора Российской империи салат
потерял наиболее дорогие части вроде шеек речных раков
осетровой икры и перепелов, стал абсолютно
демократичным и недорогим. Много разных варенных и
консервированных овощей, мясо, птица, колбаска – всё
13
это мелко крошится, обильно поливается майонезом и
очень активно перемешивается. После чего каждый кусочек
становится похожим на другие и нужно некоторое усилие,
чтобы понять, что подцепила вилка на этот раз.
К чему эта празднично – кулинарная интермедия? Ну,
с одной стороны, почему бы не вспомнить о приятном, а
во вторых салат оливье – модель сегодняшнего
российского общества. Внешне, жители России, со сходным
уровнем дохода мало отличаются. Будь это мегаполис –
Москва или маленький городок в степи - Орск, заполярный
Мурманск или жаркий Краснодар – дома, автомобили,
жилище и отдых примерно одинаковы. Но цели, а тем более
ценности крайне различны. Если высший класс и
когнитариат в целом разделяют ценности информационного
общества, то низший класс составляет мозаику из
социальных групп характерных для всех стадий
цивилизационного развития.
Архаичное общество: Когда мы говорим об архаичных,
традиционных общинах, то представляем себе «малые
народы» Крайнего Севера: эскимосов, эвенков и ненцев и
других, занимающихся кочевым скотоводством и живущих в
хижинах из палок и оленьих шкур. Да, у них всё, как и
тысячи лет назад – родовое владение оленьими стадами,
шаманы и чумы. При этом экзотичное, примитивное
14
существования и родоплеменные отношения как
оказывается, прекрасно сочетаются со спутниковой
связью, современным образованием и медицинским
обслуживанием. Жизненный уклад регулируется сводом
обычаев в стратегии и особым мнением старейшин рода при
оперативном решении вопросов. Старейшины – связь с
внешним миром на протяжении веков. С ногайским ханом,
белым царем, секретарем райкома или главой региональной
администрации. Суть не меняется. Все попытки властей
внести некие изменения в тысячелетний уклад были
безуспешны, ведь сообщества «малых народов крайнего
Севера» отграничены не только архаичным мировоззрением,
непонятным на «материке», но и суровым климатом. На юге
России, в горах северного Кавказа, где климат гораздо
более комфортный, по каким-то причинам сохраняется
архаичный уклад. Что можно было бы объяснить
разобщенностью общин, разделенных горными перевалами.
Но сейчас большинство населения Северного Кавказа (в
первую очередь молодежи) живёт во вполне
благоустроенных городах и поселках, учится в
университетах центральной части страны. При этом
общинные обычаи и ритуалы не распадаются, как это
следовало бы из логики цивилизационного развития.
Происходит укрепление национальных «кавказских» общин.
15
Как следствие – рост напряженности в отношениях между
привыкшими к архаичному образу жизни жителями Северного
Кавказа и, например находящимися на следующей стадии
развития казаками, создавшими типично аграрное
общество.
Аграрное общество: В России крайне высокий, для
развитой страны процент деревенских жителей. Некогда не
очень эффективная, но действующая система колхозов-
совхозов была ликвидирована, как наследие советского
строя. Предполагалось, что получив в собственность
землю колхозники враз превратятся в фермеров как их
показывают в голливудских фильмах предназначенных для
семейного просмотра. Правда вместо множества зажиточных
фермеров с их культурой земледелия и тучными стадами
пришли не всегда честные и трудолюбивые. В некоторых
сельских районах бывшие колхозы превратились в
полуфеодальные образования, где бывшие руководители
коллективных хозяйств – сеньоров подвластные только
административной власти – руководству района. Главы
районных администраций имеют практически неограниченную
власть над землей, законом и всеми жителями. На селе
«начальство» всегда пользовалось авторитетом, но сейчас
у высшего класса имеются экономические, политические,
культурные рычаги прямого давления, ограниченного
16
только вышестоящей властью (региональной). Власть
сельских администраторов можно сравнить с властью
руководства градообразующего предприятия моногорода.
Но это уже индустриальное общество. Моногорода –
города, выросшие в советское время вокруг новых крупных
заводов. Некогда государственные предприятия сейчас –
акционерные общества. Но бесполезно искать в числе
акционеров работников предприятий. После многочисленных
перезахватов акций в 90-е годы прошлого века
сегодняшние акционеры – узкие группы зажиточных
граждан, так называемые олигархи и избранные топ-
менеджеры. Большинство подобных акционеров (исключение:
государственно-капиталистические корпорации Газпром,
Роснано и им подобные) опасаются, что их сомнительные
истории в любой момент могут всплыть в суде, поэтому
главная задача не развитие производства, но как можно
больше ускорить процесс получения прибыли при
минимальных издержках. Доброе желание сократить
издержки производства приводит к тому что доходы
работников сокращаются до прожиточного минимума. В
большом городе, где много различных возможностей для
приложения своих сил работники просто перешли бы на
другие предприятия или объявили забастовку. В
моногороде приходится либо работать на единственном
17
заводе, либо уезжать, либо бунтовать. Но последнее не
конструктивно и после бунта его участникам придется
снова выбирать между работой на единственном заводе и
отъездом.
В привольной и благословенной Башкирии, где я имел
счастье родиться и прожить практически всю свою жизнь
как в капле отражается вся Россия. У нас гордятся нашим
срединным положением. Между самой большой рекой
европейской части России – Волгой и срединными горами
Урала, между лесами севера и степями юга. В жителях
Башкирии есть все приведенные выше социальные группы.
Архаичные отношения в маленьких деревнях, есть
аграрные, есть индустриальные районы. Количественно
Башкирия уверенно шла к информационному обществу: число
пользователей мобильной связи в полтора раза превышает
общее количество жителей, более половины городских
жителей – активные пользователи интернет и так далее. В
политическом плане бывшая автономия в составе
Российской федерации стала национальной Республикой в
составе России (что давало некоторые дополнительные
льготы и неограниченную власть внутри региона) под
руководством Президента.
Двадцатилетнее правление Президента Башкортостана
характеризовалось стабильностью и покоем, насколько
18
покой возможен в эпоху перемен. Спокойная жизнь
скрывала все эксцессы восточной сатрапии в её
историческом понимании. Безраздельная власть первого
лица, полная регламентация любой активной деятельности
и не слишком скрываемый национализм. Гражданские
свободы, в их классическом понимании были возможны в
пределах, определённых очередным фаворитом Первого
лица, а вольности, связанные с околозаконной
деятельностью достаточно жестко пресекались.
Политическая жизнь состояла в противоборстве трех-пяти
кланов, точнее небольших групп хорошо знакомых между
собой людей и если внимательный наблюдатель мог
предполагать географическую или родовую сегментацию
элиты, то наблюдатель, знающий и склонный к анализу не
обнаружил бы сколь-нибудь существенных противоречий
между группами элиты. Тихая жизнь кончилась летом 2010
года. Вначале – несколько эпизодов проявления немного
более радикального, чем обычно национализма, потом –
смена Президента. Новый Глава Региона начал резко
изменять политическое и социальное пространство. Он
основательно перемешал ту часть российского салата
оливье, которая была в его подчинении. Конечно, он не
мог заменить основные инградиенты, но зато основательно
поработал над соусом и изменил пропорцию разных
19
продуктов. Об этом чуть позже. А пока разобрав
социальную структуру России, пора немного рассказать о
том, как это всё функционирует и существуют ли
институты, гарантирующие свободу в классическом
понимании Локка
Россия: Власть и народ. Издревле в России, как
впрочем, и в других странах Европы начальники отличались
от подчинённых не только количеством ресурсов, которыми
они располагали, но и генетически. Пришедшие на Русь (по
одной из версий) править скандидавы не особо смешивались
со славянскими племенами. Князья искали в браках
политический резон и потому великие князья, что Ярослав
Мудрый, что Всеволод Большое Гнездо стремились сочетать
своих деток с другими владетелями от скандидавов,
поляков, немцев германских и французских, а также чуть
позже с высшей аристократией Орды. Ничего удивительного
ведь и у правящей династии Франции встречаются итальянцы,
австрийцы и прочая, прочая, прочая.
В 1917 году Ленин и его последователи попытались
изменить традицию ведя политику «укоренения власти», то
есть, всячески способствуя назначению на руководящие
посты представителей «коренной национальности». Это
касалось только «национальных регионов», то есть тех
частей страны, которые включали в себя районы компактного
20
проживания представителей нерусской национальности и
несущие в названиях слово «автономный». Разумная политика
равного доступа к власти всех этносов не принесла своих
плодов. Каждый этнос, в свою очередь делится на субэтносы
и так до кланов и родов. Назначенный по национальному
признаку руководитель не для всех жителей даже
«коренной» национальности является «единокровным братом».
Тем более, что «коренные» жители, например в Башкирии,
составляли не более трети всех жителей региона. Коренной
назначенец в свою очередь не имел никаких перспектив для
карьеры. Маловероятное назначение в центральные органы
власти в Столице или дипломатом в одну из далеких стран
Африки после пятнадцати – двадцати лет службы. Не
случайно в 90 –е региональные назначенцы в одночасье
превратились в национальных (на уровне региона) лидеров и
отделились от федерального центра на расстояние обратно
пропорциональное своему интеллекту. Лидер правил до
полного истощения собственных сил, попутно становясь
крупнейшим акционером всех активов своего региона. На
этом фоне отмена выборов региональных руководителей –
вынужденная, но необходимая мера, как бы ни возмущалась
либеральная интеллигенция. Конечно, назначение
руководителей несколько ограничивает гражданские свободы
21
руководителей, но зато в той же мере открывает
возможность для развития свобод остальных граждан.
Власть или начальство. Итак, власть в России на
региональном уровне представлена назначенными топ-
менеджерами и скорее может быть определена как
начальство, что не определяет отсутствие группирующихся
вокруг этого начальства политических, экономических,
культурных и информационных элит. Что характерно для
России, то эти элиты формально объединены в партию власти
с красивым названием «Единая Россия». Для англо-саксов
достаточно оригинально наличие одной единственной партии,
но для стран Востока вполне приемлемо. Тем более, что
власть партии чисто номинальна. В отличие от
конституционно закрепленной в СССР власти КПСС, власть
«Единой России» существует только до тех пор, пока к ней
благосклонны самые главные Начальники. Партия власти
осталась социальной агрегацией, несмотря на полностью
сформированные структуры в каждом из региональных
центров. Группы функционеров состоящие в большинстве
своем из высокообразованных интеллектуалов стараются по
мере сил добросовестно выполнять разнообразные поручения,
достигают некоторых успехов в своей деятельности, но из-
за отсутствия базисной идеологии, опирающейся на внятно
обозначенную социальную группу общая деятельность не
22
имеет своей цели. Власть привлекает высшие классы. Ибо
традиционно они имеют ресурсы необходимые для самой
власти. Проблема в том, что непосредственное
представительство во власти затрудненно вследствие
создавшегося негативного образа самих высших классов.
Само понятие «олигарх» стало синонимом крупного
бизнесмена, а пребывать в этом качестве в России крайне
неуютно. Несмотря на то, что Правительство всячески
декларирует поддержку малому и среднему
предпринимательству основная деятельность сосредоточена,
как впрочем и во всем мире, в крупных корпорациях и ими
контролируется достаточно жёстко. Образ начала XXI века –
эффективный менеджер. То есть человек, который может
выжать из полученных акционерами активов максимум
прибыли, обеспечить рост капитализации и снижении
издержек. Время от времени это приводит к конфликтам
между смежными производствами как в городе Пикалево
Ленинградской области или в городе Стерлитамак Республики
Башкортостан (в 2010). Незначительное повышение цен на
продукцию одного из предприятий цепи становится
непреодолимым препятствием для деятельности всех
последующих производств. В результате чего производство
просто останавливаются единицы акционеров лишаются части
выручки, а тысячи сотрудников остаются без работы и без
23
средств к существованию. Конфликт такого рода уже не
остановить без вмешательства Власти. Наиболее эффективен
личный визит Премьер-министра или Президента и подписание
мирового соглашения в его присутствии. Информационный
эффект от «публичной порки» олигарха минимален.
«Эффективные менеджеры» остаются на прежней, либо
переходят на аналогичную должность в ином структурном
подразделении корпорации.
Кроме производственных конфликтов в России
периодически возникают конфликты коррупционные.
Большинство управляющих во властных структурах те же
«эффективные менеджеры», с преимуществом развития
общеуправленческих компетенций в ущерб
узкопрофессиональным. Осенью 2012 одновременно в персе
активно обсуждались скандалы среди высших гражданских
служащих Министерства Обороны и служащих коммунального
хозяйства города Санкт-Петербурга. Суммы похищенных
средств в обоих случаях измерялись миллиардами рублей
(сотнями миллионов долларов). Такие скандалы остались бы
темой для желтой прессы, если бы за несколько недель до
этого не была бы публично изложена история с воровством
средств выделенных на строительство крупных объектов во
Владивостоке, а перед тем… И так далее, так далее, так
далее.
24
Для стороннего наблюдателя/читателя ситуация в России
– непрерывная череда катастроф и коррупционных скандалов.
С юридической точки зрения большое число возбужденных
уголовных дел свидетельствует о пристальном внимание
власти к укреплению законности. Но в сознании граждан
создаётся крайне удручающая картина. Концепция «вертикали
власти» подразумевает, что все её представители жестко
завязаны друг на друге, поэтому чтобы кто не сдела
хорошего или дурного в сознании остаётся лишь негативное
отношение к «тем, кто наверху». Жизненно важная
индивидуализация решений и ответственности не
применяется. А зря! Ведь любое действие власти не может
удовлетворить все общество. Всегда будут недовольные тем
или иным последствием решения и при отсутствии других
«мишеней» вся критика будет направлена против одного.
Независимо принимал ли он решение лично или это решение
одного из нижестоящих чиновников. Кого мы видим и слышим
в выпусках новостей кроме первого – второго лица
государства? Главный санврач Онищенко и детский омбудсмен
Астахов. Ещё два-три пресс-секретаря. Но последние не в
счет – они информируют так чтобы показать свои ведомства
с самой лучшей точки зрения и это все понимают. А вся
политическая элита спрятана в двух лицах на всю
необъятную Россию –матушку. Ну иногда возникают из
25
неоткуда иные лица, правда в связи коррупционными или
иными скандалами. Явно не позитивная картина.
Иногда появляются и лица позитивные, как в конце 2012
года появилось лицо всероссийского спасателя С.К. Шойгу.
И сразу его личность была приписана к возможным
кандидатам в Президенты на будущих выборах. Либо наверху
– либо неизвестен. Для информационного общества с его
сетевым принципом распространения информации это явно
недостаточно. Множественность идей, как и множественность
путей развития – реальность для сетевого общества. Нет
одного пути и нет единого коридора (лифта) для
прохождения в социальном пространстве. Осознать и принять
такое мировоззрение – перейти на новый этап
цивилизационного развития. Но пока общество к этому не
готово.
Что мы о себе думаем? Мы вообще много думаем. Мы –
общество интеллигентов, а propos каждый россиянин имеет
свое мнение по всем вопросам мирового бытия. Порой мы
одиноко проповедуем свои взгляды, но изредка объединяемся
против общего врага (евреев, американцев, геев,
либералов, коммунистов, иноземных врагов и прочих), чтобы
победить его морально и физически снова предаться
любимому делу: спорам о судьбах мира.
26
По привычке российской интеллигенции различные
интеллектуальные течения разделяют общество на
«западников» и «славянофилов». На «либералов» и
«государственников», «националистов», «имперцев»,
«традиционалистов», «обновленцев», «столичников»,
«регионалов» и etc. Всё это не шевроны боевых отрядов,
хотя некоторые любят декларировать своё согласие с
очередным духовным гуру на час. Это — символические
ярлыки понятные, знающим культурные коды. Общество ищет
себя в историческом прошлом, примеряет на себя образы
существующих стран Запада и Востока, пытается создать
некий свой путь для всего мира и для себя. Множество
мнений, множество мозаичных осколков какая картина из них
складывается? И может ли вообще сложиться нечто единое
пусть и с высоты полета нашего двуглавого орла. По мнению
власти можно и должно руководствоваться одним мнением:
Мнением Первого Лица. По мнению сторонников классической
демократии – мнением «большинства», которое оно выразило
в голосовании за Кандидата и Партию с той или иной
программой. Ну и так далее. Кто прав? Правы все. Ведь
каждое суждение – отражение ценностей, мировоззрения,
идей и идеалов самого индивида, а также формируется под
воздействием сетевого сообщества и социальной группы, в
которую индивид входит.
27