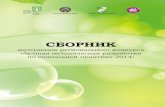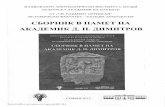Сборник 2014
Transcript of Сборник 2014
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования«Забайкальский государственный университет»
Кафедра востоковеденияЧитинский филиал Института Дальнего Востока РАН
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КНР В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
VI Международная научно-практическая конференция
(12–14 марта 2014 г.)
ЧитаЗабГУ2014
УДК 323 (510)ББК 66.2 (5 Кит)ББК Ф 2 (5 Кит) А 437
Ответственный за выпускА. Ю. Лавров, декан факультета экономики и управления ЗабГУ.
Научная редакция:Н. А. Абрамова, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой востоковедения ЗабГУ;В. С. Морозова, кандидат философских наук, доцент, руководитель
Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН.Оргкомитет конференции:
Сопредседатели Оргкомитета:Б. Г. Галсанов, министр международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и
туризма Забайкальского края; Н. А. Абрамова, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой востоковедения ЗабГУ; В. С. Морозова, кандидат философских наук, доцент,
руководитель Читинского филиала Института Дальнего Востока РАНЧлены Оргкомитета:
В. А. Абрамов, кандидат философских наук, профессор кафедры востоковедения ЗабГУ; Л. Е. Бляхер, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и
культурологии Тихоокеанского государственного университета; А. Г. Волчек, председатель студенческого научного общества регионоведческих исследований «Синолог» ЗабГУ;
Т. А. Ерёмкина, канд. филос. наук, доцент кафедры востоковедения ЗабГУ; Т. В. Колпакова, кандидат философских наук, доцент кафедры востоковедения ЗабГУ, руководитель НОЦ
«Восточный центр»; Т. В. Котельникова, канд. филос. наук, доцент кафедры востоковедения ЗабГУ; А. А. Котельников, канд. полит. наук, представитель Министерства иностранных дел
России в г. Чите; Т. Н. Кучинская, канд. полит. наук, доцент кафедры востоковедения ЗабГУ; Ли Пин, кандидат философских наук, доцент Хулуньбуирского Инсти тута русского языка;
И. Ю. Мальчикова, начальник научно-исследовательского управления ЗабГУ; П. В. Сапожников, начальник управления международных отношений ЗабГУ
Перевод оригинальных текстов: Ван Сяоцзяо, Н. А. Абрамовой, В. С. Морозовой.
А 437 Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации: материалы VI Международной научно-практической конференции. − Чита: ЗабГУ, 2014. − 234 с.
ISBN 978-5-9293-0938-0В сборнике публикуются доклады участников VI Международной на-
учно-практической конференции «Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации»
УДК 323 (510)ББК 66.2 (5 Кит)ББК Ф 2 (5 Кит)
ISBN 978-5-9293-0938-0 © Забайкальский государственный университет, 2014© Кафедра востоковедения, 2014
© Читинский филиал Учреждения Российской Академии Наук Института Дальнего Востока РАН, 2014
3
СОдЕРжАНИЕВступительное слово ............................................................................................5
ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИАбрамов В. А. Ценности «гармоничного мира» и глобальное управление в Китайском научном дискурсе ..................................7Абрамова Н. А. Региональное измерение социокультурного пространства современного Китая (автономный район Внутренняя Монголия) ...................13Базарова А. А. Пути сохранения этнокультурного самосознания в условиях глобализации (на примере образовательной политики в Китае) ..20Бляхер Л. Е. Желтороссия, или старые и новые перспективы России на восточ-ной окраине ...........................................................................................................23Борисенко О. А. Политика «мягкой силы» Китая в условиях глобализирующегося современного общества* ..................................................28Бянкина А. М. Историко-правовой аспект формирования перевозок грузов автомобильным транспортом в приграничных территориях (на примере Забайкальского края Рссийской Федерации) .................................32Гайдай П. В. Инновационные процессы в современном музыкальном образовании Китая (на примере колледжа искусств Сычуаньской консерватории) .......................................................................................................39Глазырина И. П., Яковлева К. А., Жадина Н. В. Проблемы социально- экономической эффективности лесопользования в Байкальском регионе в контексте трансграничных отношений .............................................................45Дашеева В. В. Межъязыковая передача китайских антропонимов ..................55Жуков А. В., Жукова А. А. Факторы конструирования и воспроизводства образов Китая на территории Забайкалья ...........................................................61Забелина И. А., Клевакина И. А. Сравнительный анализ динамики эко- интенсивности хозяйственной деятельности в отдельных приграничных регионах РФ и КНР ................................................................................................67Колпакова Т. В. Конструктивные и деструктивные факторы интеграцион-ного взаимодействия приграничных регионов России и Китая (на примере Байкальского региона РФ и Северо-Восточного региона КНР) ........................73Котельников А. А. Развитие Забайкалья в контексте Российско-Китайских отношений ............................................................................................................80Котельникова Т. В. Проблемы ассимиляции сельских мигрантов в городах в условиях урбанизации в КНР ............................................................................85Кучинская Т. Н. Воспроизводство культуры «гармонии» и строительство «гармоничной культуры» в КНР на пути к «китайской мечте» .........................89Морозова В. С. Региональная культура приграничных территорий РФ-КНР как предмет философского осмысления ..............................................................97Сазонов С. Л. КНР завоевывает мировые рынки транспортной продукции ..102Сазонов С. Л., Морозова В. С. Формирование национальной транспортной инфраструктуры в КНР и ее роль в развитии сферы культурного туризма .... 110Симоненко О. А. Идеологический фактор в современной политической системе КНР .......................................................................................................... 116
4
Тимофеев О. А., Грибова О. К. Проблема Китайско-Индийской государственной границы....................................................................................122Трощинский П. В. Влияние глобализации на правовую систему КНР...........126Федюк Р. С. Динамика строительства жилья в КНР .........................................134Черниговский М. В. Развитие дистанционного образования в КНР ...............139
ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА Ван Синьцзюй К вопросу о культурных обменах в приграничных регионах России и Китая ......................................................................................................145Длугопольский А. В. Особенности социокультурного развития КНР .............147Ли Пин Анализ двусторонней торговли между Китаем и Россией за последние два года ...............................................................................................151Лу Яньцинь, Ван Сяочжэн Направление и выбор приоритетов научной концепции развития КНР ....................................................................................154Цинь Дань Анализ проблем определения жизненной позиции женщин в условиях приграничного города (на примере г. Маньчжурия) .........................156У Цзы, Сазонов С. Л. Транспортный комплекс КНР выходит в мировые лидеры ....................................................................................................................161Цзи Цзяньцюань «Мягкая сила культуры» в контексте развития международных отношений РФ-КНР ................................................................168Чжан Фань Истоки православной веры в провинции Хэйлунцзян КНР ......171Чжоу Юй, Абрамова Н. А. Исторический фактор формирования современного социокультурного пространства Маньчжурии ..........................175Янь Шуфан, Абрамова Н. А. Развитие социокультурного пространства приграничья КНР: сравнительные характеристики ..........................................178
МОЛОДАЯ НАУКАБакланов З. Г. Социально-экономическое положение автономного района Внутренняя Монголия .........................................................................................183Косенко К. В., Арсентьева И. И. Европейский вектор внешнеполитической стратегии Китая .....................................................................................................188Кудрявцев Е. С. Решение проблем городской инфраструктуры в мегаполисах КНР .........................................................................................................................193Луцак О. А., Абрамова Н. А. Человек как основа социокультурного потенциала современного Китая .........................................................................198Мирзаханова С. Т. Трансграничное сотрудничество Дальневосточного региона РФ и Северо-Восточного региона КНР в стратегиях соразвития ......204Пивоваров А. Д. Развитие северо-восточного региона КНР: вызовы и возможности для России ......................................................................................210Петрунько К. А. Планы руководства КНР по созданию нового поколения автомобилей, использующих альтернативные источники энергии ..................216Соболева Е. В. Культура Китая в системе базовых ценностей (на примере киноискусства) ......................................................................................................222Соломеина Ю. Н. Взаимодействие культур в условиях приграничья Забайкальского края и Северо-Востока Китая ...................................................227
5
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВОУважаемые участники конференции!
Тематика VI международной научно-практической конферен-ции «Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регио-нализации и глобализации» отражает результаты исследований процессов внутренней и внешней регионализации современного Китая. Одновременно решается практическая задача – поиск эффективных механизмов взаимодействия России и Китая как в приграничном пространстве, так и в общем поле межгосудар-ственных и межцивилизационных взаимоотношений.
Китай – основной потенциальный партнер для большин-ства приграничных с ним субъектов федерации, включая и Забайкальский край, поэтому межрегиональное сотрудничество с КНР является условием дальнейшего поступательного развития сибирских и дальневосточных регионов. Решение задачи, которую образно называют «поймать китайский ветер в свои паруса», не-возможно без обладания информацией о своем соседе, выполнения комплексных исследований и обсуждения существующих проблем в экспертном сообществе. В этом смысле проведение заявленной конференции может оказать существенную практическую по-мощь в процессе совершенствования приграничного сотрудниче-ства с КНР.
Расширение географии участников (представляющих синоло-гическую науку от Москвы до Владивостока, а также мнения за-рубежных коллег) позволяет говорить о творческой атмосфере, которая создана благодаря организаторам столь значимого ме-роприятия. Конференция ежегодно аккумулирует в себе научный потенциал не только высококвалифицированных российских и за-рубежных специалистов, но и интеллектуальный ресурс молодых ученых, предлагающих свою точку зрения на различные проблемы российско-китайского взаимодействия.
Научно-исследовательский и творческий потенциал орга-низаторов конференции – кафедры востоковедения ЗабГУ и Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН очеви-ден. Сегодня много внимания уделяется созданию ведущих базо-
6
вых кафедр в структуре вузов. Кафедра востоковедения ЗабГУ, сотрудники которой по праву считаются творческим коллекти-вом Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН, яв-ляет собой пример эффективной реализации инновационного типа интеграции академической и вузовской науки, который осущест-вляется через совместное участие представителей структур РАН и вуза в научно-исследовательских разработках. Результаты научно-практической деятельности, отраженные в материа-лах сборника, дают основание утверждать, что созданный на базе Забайкальского государственного университета Читинский Филиал Института Дальнего Востока РАН представляет собой такой тип взаимодействия академической науки и высшего об-разования, который дает возможность эффективного развития научно-исследовательской сферы, создания предпосылок для укре-пления и развития гуманитарного сотрудничества, что в свою очередь можно рассматривать как определенный процесс модер-низации высшего профессионального образования.
С уверенностью можно сказать, что рекомендации, приня-тые по результатам конференции, будут способствовать инте-грации научного потенциала представителей российской и зару-бежной науки, интенсификации их научных связей. Многие науч-ные проекты, представленные в данном сборнике, уже с успехом реализуются на практике. Желаем участникам дальнейшей пло-дотворной работы, установления новых контактов и успехов в реализации научных идей!
А. А. Котельников, кандидат политических наук,
Представитель Министерства иностранных дел России в г. Чите,
Н. А. Абрамова, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой востоковедения
Забайкальского государственного университета, В. С. Морозова,
кандидат философских наук, доцент,Руководитель Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН
7
ВЗГЛЯд ИЗ РОССИИ
В. А. Абрамов, канд. филос. наук, профессор
Забайкальского государственного университета, г. Чита
Ценности «гармоничного мира» и глобальное управление в китайском научном дискурсе
Китайская ценностная система внешнеполитических отно-шений, сформированная традицией, в известной мере копирует иерархическую вертикаль социокультурных взаимодействий про-шлого. В современных условиях, начиная с периода «реформ и открытости», она трансформируется, обеспечивая Китаю выпол-нение его «миссии» («шимин») или «новой роли» в построении нового мирового порядка – «гармоничного мира». Теория «гармо-ничного мира стала упорядоченной теорией и международных от-ношений, в системе которых расширяется содержание политиче-ской культуры и трансляция ее ценностей вовне [1]. Политическая культура Китая, являясь инструментом управления [2], через «мяг-кую силу» передает внутри страны и другим народам новые пра-вила и установки международных отношений, сформулированных Ху Цзиньтао в ценностной теории построения гармоничного мира. Исходной точкой «гармоничного мира» известный китайский по-литолог Фань Гуаншунь считает «упорное отстаивание основных интересов китайского народа…» и воплощения «в международных отношениях характерных национальных особенностей страны» [3. С. 164–165].
Преимущества ценностей «гармоничного мира» китайские аналитики Чэн Сюйдун, Юй Синьтянь, Юй Ли и другие связывают с тремя стратегическими и практическими сторонами жизнедея-тельности государств в условиях новых угроз XXI века. Во-первых, стратегия «гармоничного мира» помогает понять сложности со-временного мира, возможности его постепенного переустройства. Это не только взгляд на мир, но и методология инновационного
8
VI Международная научно-практическая конференция
совместного его преобразования. Во-вторых, стратегия «гармо-ничного мира» связывает перспективную цель и реальный путь мирного соразвития. В-третьих, «гармоничный мир» содержит не-обходимые каждому обществу элементы самозащиты и замкнуто-сти в себе.
Инновации в построении «гармоничного мира» – это нова-торство в постоянно развивающейся дипломатической практике и широкие возможности управленческого воздействия ценно-стей китайской «мягкой силы» на глобализирующийся мир [4]. Построение гармоничного мира - новая концепция международ-ной стратегии Китая, заключающейся в «глобальном управлении», главная ценностная цель которой - достижение прочного мира и всеобщего процветания [5].
Термин «глобальное управление» («global governance») (Дж. Розенау, М. Зачер, Т. Вискер, Р. Кокс, Дж. Томсон, Л. Корнет и др.) оказался в центре китайских научных дискуссий благодаря деятельности В. Брандта и его последователей из комиссии ООН по глобальному управлению, созданной с целью поиска решения глобальных проблем человечества: загрязнения окружающей сре-ды, бедности, распространения инфекционных заболеваний и т. д. Еще в 1995 г. комиссия подготовила доклад «Наше глобальное соседство» («Our global neighborhood»), где в качестве обоснова-ния необходимости глобального управления указала на то, что его развитие в такой форме является частью эволюции человеческих управленческих усилий в деле разумной организации жизни на планете. Необходимость построения глобального управления со-циальным миром основана на убеждении многочисленных его сто-ронников в том, что человечеству после эпохи глобальных войн и глобального противостояния предоставляется уникальный шанс принять «глобальную гражданскую этику». Она должна базиро-ваться на совокупности основополагающих ценностей, способных объединить людей всех культурных, политических, религиозных и философских воззрений. Исходя из этой этики, глобальное управ-ление должно быть основано на демократических принципах, осу-ществляться в соответствии с установленными правовыми норма-ми, обязательными для всех без исключения.
9
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
После того, как концепция «глобального управления» получи-ла широкое распространение на Западе, эту новацию международ-ной политики начали использовать в Китае в целях осуществления открытости. Многие китайские ученые приложили усилия для рас-пространения идей глобального управления. Один из них – извест-ный политолог Юй Кэпин, который ввел это понятие в оборот в китайской научной литературе. Он считает, что глобальное управ-ление относится прежде всего к глобальному конфликту, который можно разрешить только путем обязательного международного ре-гулирования в целях поддержания политического и экономическо-го порядка. Такие конфликты могут быть в сфере экологии, прав человека, иммиграции, контрабанды наркотиков, инфекционных заболеваний и других сферах жизнедеятельности. Агентами такого глобального управления выступают правительства, международ-ные организации, неправительственные объединения, транснаци-ональные корпорации, религиозные сообщества и даже отдельные лица, располагающие необходимыми для этого ресурсами.
Юй Кэпин призывает научное сообщество осознать, что в эпо-ху глобализации необходимо эффективно защищать суверенитет государства, наращивая совокупную государственную мощь, куда входит экономический и военный потенциал, политический, куль-турный ресурсы, нормы морали и справедливости. Он связывает глобальное управление с успехами китайского развития и вводит ценностные стандарты надлежащего управления, которые могут быть глобально распространены. Главные из них – верховенство закона, прозрачность, подотчетность, ответственность, эффектив-ность, порядок, стабильность. Поэтому строительство «гармонич-ного общества», нацеленного на решение внутренних социально-экономических, политических и культурных проблем, наполняет своим содержанием внешнеполитический дискурс – концепцию построения «гармоничного мира», которая имеет много общего с теорией «глобального управления» [6].
Китайские исследователи Лу Сяохун, Ван Юнгуй, Ли Пхэйву и др. считают, что теория «гармоничного мира» является на са-мом деле китайской версией теории «глобального управления». Китайское представление глобального управления, а также кон-
10
VI Международная научно-практическая конференция
цепция «гармоничного мира» отражает суть глобализации, ее тен-денции развития, имеет большое стратегическое значение для ки-тайского контроля и коррекции дисбаланса глобализации.
Сравнивая концепции «глобального управления» и постро-ения «гармоничного мира» профессор Е Цзян, исполнительный директор Шанхайского института международных исследований, автор ряда известных работ, считает, что, несмотря на их противо-положные оценки, сложилось следующее устойчивое представле-ние. Эти концепции имеют не только много общего. Их главной задачей является противостояние вызовам глобализации и нега-тивным процессам глобализации. В китайском научном сообще-стве считается, что концепция построения «гармоничного мира» – это китайский взгляд на новую мировую реальность и изменение мировых тенденций, поэтому концепцию построения «гармонич-ного мира» можно рассматривать как официальную китайскую версию «глобального управления». Дипломатические принципы концепции построения «гармоничного мира» и принципы концеп-ции «глобального управления» стали эталоном развития Китая [7].
Подтверждением особого внимания к международной стра-тегии Китая и ее новой концепции построения «гармоничного мира» служит первый визит руководителя КПК и государства Си Цзиньпина в Россию, посещение африканской Танзании, ЮАР, Конго, его участие в Саммите лидеров стран БРИКС в Дурбане. По существу, дипломатическая деятельность нового руководите-ля КНР осуществляется в рамках традиционных императивных ценностей, отражающих основные принципы отношения Китая с близкими и дальними соседями – проявление уважения к культур-ному многообразию, стремление к совместному соразвитию, по-строение «гармоничного мира» и «гармоничной периферии» [8]. Содержание представлений о «гармоничном мире», «гармоничной периферии» и ценностях, обеспечивающих их строительство, на-полняются региональными практиками.
Современный мир сегодня превращается в мир регионов – но-вую форму внутренней и внешней структурной организации жизне-деятельности глобализирующихся социумов. Регионализация мира – один из ведущих современных процессов, который просматривается в интеграционных проектах многостороннего сотрудничества – ЕС,
11
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
АСЕАН, АСЕАН плюс один (КНР), АСЕАН плюс три (КНР – РК – Япония), Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Часть западных экспертов не исключает распад ряда глобальных институтов типа ВТО, МВФ на отдельные региональные «куски» – евразийский, ев-ропейский, панамериканский, восточноазиатский [9].
Регионализация осуществляется на разных уровнях и в раз-ных формах: внутренняя (внутригосударственная) и внешняя (го-сударственная и надгосударственная); путем выделения админи-стративных внутренних регионов внутри страны (регионализация сверху), появлением нового государства-региона внутри существу-ющей международной системы (регионализация снизу), формиро-вания трансграничных геоэкономических, геополитических, т. е. межгосударственных регионов (горизонтальная регионализация) и т. д.
В науке формируется региональный подход, способствующий выявлению общих тенденций этих социокультурных явлений, и объяснению их как новых рациональных форм организации жиз-недеятельности человека и социума в условиях глобализации. Этот новый парадигмальный подход отражает усложнение окру-жающего мира и означает возможность познания феномена реги-онализации, а также принципиально новых черт любого региона, определяющих его в саморазвивающийся, самодостаточный субъ-ект социоприродной и социокультурной организации.
Соотнести познавательную логику с пониманием КНР как раз-ноуровневой региональной социокультурной системы и активного субъекта региональной политики позволяет системный подход. Поэтому рассмотрение международных аспектов такого явления как регионализм предполагает более широкую трактовку внешней политики китайского государства, включая его двусторонние от-ношения с определенными странами.
На основе территориально – географических и других призна-ков в азиатской части мира уже сложилась определенная система регионов и субрегионов, куда входит Китай и его «гармоничная периферия» [10]. А внешняя политика китайского государства в отношении сопредельного или расположенного в данном/сосед-нем регионе прямо или косвенно отражает ведущие тенденции его
12
VI Международная научно-практическая конференция
национального развития и безопасности [11]. Другими словами, во внешней политике китайское государство реализует новые ее качества, проявляющихся на уровне как глобальных, так и реги-ональных тенденций, направленных на расширение китайского социокультурного пространства и формирование нового миропо-рядка – построения «гармоничного мира».
Список литературы1. Фан Гуаншунь. Макэсы чжуи хэсе шицзе цзяньшэ
лунь=Марксистская теория построения гармоничного мира. Бэйцзин: Жэньминь чубаньшэ, 2011. С. 7–37, 145–147.
2. Абрамова Н. А. Политическая культура Китая. Традиции и современность. М.: Муравей, 2001. 320 с.
3. Фан Гуаншунь. Макэсы чжуи хэсе шицзе цзяньшэ лунь=Марксистская теория построения гармоничного мира. Бэйцзин: Жэньминь чубаньшэ, 2011. С. 7–37, 145–147.
4. Синь Чжунго вайцзяо люши нянь (1949–2009)=60 лет китайской дипломатии (1949–2009) / под ред. Чжао Цзиньцзюнь. Бэйцзин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2010. 342 с.
5. Ли Цзинчжи. Чжунго хэпин фачжань юй гоуцзянь хэсе шицзе яньцзю=Исследование мирного развития Китая и концепция построения гармоничного мира. Бэйцзин: Чжунго жэньминь дасюэ чубаньшэ, 2011. 383 с.
6. Юй Кэпин. Цюаньциухуа юй чжэнчжи фачжань=Глобализация и политическое развитие. Бэйцзин: Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ, 2005. 325 с.
7. Е Цзян. Чуанчю чжили юй Чжунго дэ даго чжаньлюэ чжуансин=Глобальное управление и стратегия Большого Китая. Бэйцзин: Шиши чубаньше, 2010. С. 214–245.
8. Вай Мэйчэнь. Си Цзиньпин вайфан чуаньди вайц-зяо чжаньлюэ гоуцзянь хэсе шицзе=Си Цзиньпин заявил о дипломатической стратегии построения гармоничного мира во время иностранного визита. URL: http://news.sina.com.cn/c/2013–03–29/113426679796.shtml (дата обращения: 10.01.2014).
9. Beesson M. Regionalism and Globalisation in East Asia. London, 2007; Hettne B. Globalisatiom and the New Regionalism: the Second Great Transformation. Globalism and the New Regionalism. London, 1999.
13
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
10. Белокреницкий В. Я. Восток в системе междуна-родных отношений и мировой политике. М.: Восточный университет, 2009. 292 с.; Воскресенский А. Д. Теоретико – прикладные аспекты регионального измерения междуна-родных отношений // Современные международные отно-шения и мировая политика / отв. ред. А. В. Торкунов. М.: Просвещение. 500 с.; Лузянин С. Китай и «ближайшее окру-жение»: региональные и двусторонние аспекты отношений // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 3. С. 3–19.
11. Воскресенский А. Д. Восток – Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. М: Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. 528 с.
Н. А. Абрамова, д-р филос. наук, профессор,
заведующая кафедрой востоковедения Забайкальского государственного университета, г. Чита
Региональное измерение социокультурного пространства современного Китая
(автономный район Внутренняя Монголия)
Научная практика уже располагает исследованиями, посвя-щенными социокультурному пространству современного Китая. Широкий контекст глобальной и региональной реструктуризации социального мира, представленный в недавних работах по этому направлению, позволяет ученым интерпретировать китайское со-циокультурное пространство через стратегии безопасного разви-тия КНР с определением роли «мягкой силы» в социокультурных практиках китайского государства и общества [1]. Появились ис-следования, рассматривающие трансформацию социокультурно-го пространства трансграничья с разработкой методологической базы, видением китайской модели трансграничного регионализма, определением специфики такого пространства как ресурса сораз-вития России и Китая [2]. Подвергается анализу социокультурное пространство приграничного ареала с выявлением его специфи-ческой структуры и логики развития, детерминированного реги-ональной культурой [3]. Комплексное исследование социокуль-
14
VI Международная научно-практическая конференция
турного пространства Китая подводит к разработке его модели, которая уже выполнена в контексте философии культуры [4]. В культуроцентричной парадигме архитектоника китайского соци-окультурного пространства представлена как система в единстве его онтологических подсистем, процессуально-динамических эле-ментов. Фундамент модели – инновационная китайская культура, воплощающая сплав культурных традиций и инноваций культур-ного строительства КНР.
К разработке общей модели китайского социокультурного пространства, где помимо консолидирующего культурного факто-ра будут учтены и другие составляющие, может быть адаптирова-на универсальная типовая методика составления социокультурных портретов регионов России (Н. Лапин). Авторы методики на осно-ве факторного анализа с их дифференциацией на элементарные, комплексные, композитные определяют параметры регионов для выполнения более важной задачи – их типологизации. При таком подходе модифицированная картина факторов представляется кла-стерами: человек как актор и объект воздействия в регионе; куль-тура, субкультуры населения; социально-экономические условия жизни людей; власть и региональное сообщество [5]. Исходя из из-ложенных методологических предпосылок, социокультурное про-странство Китая в региональном измерении теоретически пред-ставляется нами в синтетической парадигме, сочетающей куль-туроцентристское моделирование с совокупностью параметров региона, выведенных на основе анализа комплекса однородных и разнородных факторов, объединенных в кластеры.
Для характеристики социокультурного пространства АРВМ КНР в данном случае выбран культурный компонент, развитие ко-торого определено документами 6-го Пленума ЦК КПК семнадца-того созыва (октябрь 2011 г.) и Планом развития КНР на 12-ю пя-тилетку, в которых сформулирована задача довести объем культур-ных индустрий в каждом регионе до размера не менее 5 % от ВВП (в настоящее время этот показатель в АРВМ составляет 1,31 %).
Реализации сложных задач способствует принятая в КНР спец-ифическая управленческая практика. В данном случае ею является разработка проектов, требующих особого структурирования соци-
15
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
окультурного пространства – интеграции нескольких провинций с сильным центром притяжения менее развитых регионов и переход от тактики выделения «точек ростра» к «поясам роста». Так, при-нятое в 2011 г. рамочное соглашение «О стратегическом сотрудни-честве в области развития культуры провинций и городов северо-китайского региона Китая» постулирует идею укрепления регио-нального сотрудничества в сфере культурных инноваций провин-ций Хэбэй, Шаньси, автономного района Внутренняя Монголия и г. Тяньцзинь, которые, по представлениям авторов соглашения, формируют «культурный пояс вокруг Пекина», что позволяет че-рез совершенствование механизмов управления, привлечение фи-нансовых и творческих ресурсов столицы усилить региональную кооперацию, способствующую постепенному устранению дисба-лансов в развитии культуры страны. Очевидна тенденция опреде-ления «поясов» развития вокруг базисных городов, которыми яв-ляются административные столицы провинций и «подтягивание» к сильным центрам наименее развитых районов, что можно рас-сматривать как инновационную управленческую практику китай-ского государства.
Для более эффективного встраивания социокультурного про-странства АРВМ в интегрированную структуру северо-китайского региона здесь в течение последних лет проведена объемная работа по переписи культурных ресурсов и определению конкретных объ-ектов (около 140 тыс.), выделению ведущих отраслей культурных индустрий, которыми названы культурно-туристическая и поста-новочная деятельность [6]. Полученные в результате обследова-ния данные послужили основанием для разработки региональных культурных брендов, обладающих национальным колоритом.
Практика ежегодного проведения в АРВМ фестивалей народ-ного творчества способствовала формированию уже известного бренда праздничной степной культуры, которым является фоль-клорный фестиваль «Китай – Сала Усу» (中国拉乌苏), входящий в десятку крупных национальных праздников культуры и искусств Китая. На основе народного праздника «Наадам» создается меж-дународный бренд спортивного фестиваля, который в течение трех последних лет проводится в г. Эрдос (Ордос). Большим по-
16
VI Международная научно-практическая конференция
тенциалом развития туристической отрасли обладает находящая-ся здесь же туристическая зона «Мавзолей Чингисхана», площадь ландшафтной территории которой составляет 5,5 гектаров. На ее сооружение было израсходовано инвестиций общим объемом око-ло 400 млн юаней. Объект признан образцовой базой культурной индустрии общенационального уровня и охраняется государством.
Инновационным направлением развития культуры становит-ся создание районов культурных кластеров (文化集聚区). В 2012 г. объемные капиталовложения (500 млн юаней) из средств г. Хух-Хото выделены на создание здесь парка креативных культурных индустрий, где будут функционировать в едином комплексе Центр постановочной деятельности национальных коллективов, Центр развлечений, выставочные павильоны.
В г. Эрдос (Ордос) осуществляется масштабная работа, нача-тая в 2010 г., по ключевому Проекту комплексного архитектурного моделирования под названием «Один город – пять парков – четыре улицы – восемь крупных культурных объектов», одним из которых является возведенное в пустыне по проекту одной из пекинских арт-студий величественное куполообразное здание музея Эрдоса (Ordos museum). Внутри представлены выставочные экспонаты, связанные с культурным наследием региона и его современными достижениями, которые воплощены в ультрасовременной архи-тектуре здания, гармонирующей с природными формами. Только в 2012 г. в целом по проекту освоено 3 млрд юаней. Китайскими властями район Эрдоса признается достаточно перспективным для развития креативных индустрий, поэтому в 2012 г. здесь приступи-ли к реализации совместного с одним из подразделений китайской Академии наук музыкально-визуального Проекта «Столица музы-ки», рассчитанного на пять лет, в который первоначально инвести-ровано 2,3 млрд юаней.
Общенациональное значение приобретает район культурного кластера г. Чифэн, расположенный в юго-восточной части АРВМ. Исторически данный район был ареалом распространения куль-тур, основанных киданями и другими северными кочевниками. На основе результатов археологических раскопок, проводившихся на территории нынешнего города начиная с конца 80-х гг. прошлого
17
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
столетия, ряд ученых пришел к заключению, что этот район явля-ется одной из колыбелей китайской культуры (культура Хуншань). Отличительной характеристикой культуры является высокое ма-стерство ее основателей в изготовлении гончарных и нефритовых изделий. На территории Чифэна было обнаружено примерно 100 изделий, включая первые из найденных талисманов в форме дра-кона. Это культурное наследие стало основой для создания кла-стера культурной индустрии Юй Лун (Нефритовый дракон) в виде парка, располагающегося на территории в 30 тысяч квадратных метров, где устраиваются выставки нефритовых артефактов и со-вместно с центральными каналами телевидения КНР снимается программа CCTV «Поиск сокровищ». В городе выбран культур-ный символ под названием «первый китайский дракон».
Большим потенциалом для развития туристической индустрии обладает археологический памятник, находящийся на юго-востоке Внутренней Монголии в 275 км к северу от Пекина – руины од-ной из 4-х древних столиц монгольской династии Юань – Шанду (上都). Город был основан в 1260 году и просуществовал около 100 лет. В 2012 г. он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению Комитета Всемирного наследия, бывшая степная столица превратилась в руины под воздействием смеше-ния и взаимного поглощения двух великих цивилизаций Северной Азии – кочевой и земледельческой. Памятник хорошо сохранился и активно посещается туристами. В целом, доход от туристической отрасли на начало 2012 г. составил в АРВМ 88,955 млрд юаней (в 2002 г. – 8,82 млрд юаней) [7].
Эффективные проекты, позволяющие осваивать социокуль-турное пространство северного и северо-восточного Китая за счет воспроизводства собственного культурно-исторического наследия и привлечения ресурсов центра, создаются с учетом анализа по-тенциала региональных культур, который предоставляет китай-ская наука [8].
Региональная культура и эффективность ее мягкой силы как многомерное и сложно структурированное явление оценивается в китайской науке по нескольким критериям, которые выделены чи-сто в теоретическом аспекте. К основным относится, прежде все-
18
VI Международная научно-практическая конференция
го, культурная база как совокупность материального и духовного наследия культуры региона, включающая естественный ландшафт, охраняемые культурные объекты, библиотеки, музеи, культурные сооружения для проведения различного рода культурной деятель-ности. Второй критерий – обеспеченность устойчивого и продол-жительного развития культуры и ее мягкой силы экономическим фактором и человеческим капиталом. Здесь учитывается объем капиталовложений регионального правительства в сферу культу-ры, ее обеспеченность кадрами. Далее – производительная сила культуры, выраженная количеством произведенной продукции и предоставленных услуг. Другими критериями являются популя-ризация культуры, ее инновационность, конкурентоспособность, притягательность, уровень потребления культурных продуктов, культурный потенциал, под которым подразумевается человече-ский потенциал. На основе этих показателей в китайских источ-никах представлена динамика развития региональных культур за 30-летний период (1980–2010 гг.) и определено место каждой. По степени развития культуры АРВМ занимает 16-ое место среди 31 субъекта. Для сравнения: на северо-востоке наиболее репре-зентативна культура провинции Ляонин (8-ое место). Провинции Цзилинь и Хэйлунцзян занимают соответственно 14ую и 18-ю по-зиции [9. С. 140].
Подобная методика исследования позволяет осуществлять детальный swot-анализ для выявления сильных и слабых сторон, определения возможностей дальнейшего развития. Так, в АРВМ наиболее серьезным является недостаток пропаганды культурных ресурсов и уже имеющихся культурных индустрий. К сильным сторонам относится высокий уровень потребления населением культурных продуктов и услуг [10].
Таким образом, региональное измерение социокультурного пространства АРВМ воплощается в основных тенденциях его ос-воения, которыми являются кооптация его в «культурный пояс» Пекина, концентрация культурных объектов и создание на этой основе культурных кластеров, воспроизводство историко-культур-ного наследия и создание национальных культурных брендов, что в целом приводит к наращиванию мягкой силы региональной куль-туры и постепенному устранению дисбаланса в общем развитии социокультурного пространства КНР.
19
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Список литературы1. Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани со-
циокультурного измерения. М.: Восточная книга, 2010. 240 с.2. Кучинская Т. Н. Социокультурное пространство
трансграничья как ресурс соразвития России и Китая (ре-гиональные практики Забайкальского края РФ и Северо-Восточного региона КНР). М.: Восточная книга, 2012. 232 с.
3. Морозова В. С. Феномен региональной культуры в социокультурном пространстве приграничного взаимодей-ствия РФ-КНР. М.: ИД «Форум», 2011. 224 с.
4. Кучинская Т. Н. Архитектоника социокультурного пространства Китая в условиях транснационального меж-культурного взаимодействия РФ и КНР: дис. … д-ра. филос. наук: 09.00.13. Чита, 2013. 413 с.
5. Лапин Н. И. Подход к социокультурной типоло-гии регионов // Социокультурные портреты регионов России: Опыт комплексной реализации: материалы IV Всероссийской науч.-пр. конф. Чебоксары: Изд-во ЧГИГН, 2008. С.6–12.
6. Нэй мэнгу дацзао цаоюань вэньхуа минпянь вэньхуа фачжань цзай инсинь цзиюй=Визитная карточка степной культуры Внутренней Монголии, развитие культурной ин-дустрии как новый шанс. URL: http://www.chinanews.com (дата обращения: 10.12.2013).
7. Нэй мэнгу пэйюй сяндан дан люйю пинпай=Формирование соответствующего культурного бренда Внутренней Монголии. URL: http://szb.northnews.cn (дата обращения: 10.01.2014).
8. Чжунго вэньхуа чанье няньду фачжань баогао (2013)=Доклад о развитии культурных индустрий (2013) / под ред. Е Лан. Бэйцзин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2013. 465с.
9. Чжунго вэньхуа жуань шили фачжань баогао 2012=Доклад о развитии мягкой силы китайской культуры 2012 / под ред. Чжан Го. Бэцзин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2013. 345с.
10. Чжунго тунцзи няньцзянь 2011, Чжунго люйю тунцзи няньцзянь 2011, Чжунго вэньву тунцзи няньцзянь 2011=Годовая статистика Китая 2011, годовая статистика
20
VI Международная научно-практическая конференция
китайского туризма 2011, годовая статистика культурных памятников Китая. Бэйцзин: Бэйцзин тунцзи чубаньшэ, 2012.
А. А. Базарова, канд. пед. наук, доцент кафедры восточных языков
Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ
Пути сохранения этнокультурного самосознания в условиях глобализации
(на примере образовательной политики в Китае)
Современная глобализация представляет собой всеобщую ин-теграцию человечества в единое целое. Под глобализацией пони-мается «все более усиливающееся влияние и воздействие общече-ловеческих, мировых “глобальных” процессов на судьбы отдель-ных стран и народов, а также всего человечества в целом» [1. C. 212]. Эпоха глобализации воздействует на общественные, культур-ные, экономические и политические сферы во всех странах мира. Процессы глобализации, происходящие в современном мире, в той или иной мере охватывают многие социальные институты, органи-зации, процессы. С начала третьего тысячелетия ведущие страны мира начали преобразование национальных, образовательных си-стем, ориентированное на всеобщую стандартизацию.
В Китае с провозглашением политики «открытых дверей» (1978 г.) Дэн Сяопин обозначил направление развития образова-ния лозунгом: «Образование должно повернуться к модернизации, к миру, к будущему». Такая концепция уже тогда означала готов-ность Китая вступить в мировое сообщество, готовность принять участие в конкурентной борьбе с другими станами.
Как отмечают некоторые исследователи, одним из принци-пов создания китайской социалистической системы образования является именно политика реформ и открытости в образовании. Китайское правительство считает необходимым открыто ассими-лировать достижения других культур, «смело проводить новые ис-пытания и эксперименты в целях улучшения национальной социа-листической системы образования» [2. C. 207].
21
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Одновременно с этим китайские исследователи выделяют про-блему сохранения культурной идентичности в условиях глобаль-ной экономики, так как создание рынка международных образова-тельных услуг предполагает большей открытости. Соглашаясь на заимствование передового западного опыта, правительство КНР считает очень важным сохранить суверенитет в сфере образования. Ян Дунпин считает, что правительство Китая будет намереваться предотвратить культурную агрессию и вторжение «буржуазного» сознания в умы молодежи. Китай намерен сохранить культурную самобытность, поэтому создание совместных с зарубежными стра-нами вузов на территории своей страны КНР предполагает огра-ничить строгими правилами [3. C. 301]. Еще в 1995 г. Госсоветом КНР были утверждены «Временные правила о совместных об-разовательных структурах с зарубеж ными образовательными уч-реждениями», запрещающие любую образова тельную деятель-ность иностранных вузов без кооперации с китайскими вузами [4. С. 136]. Кроме того, такая деятельность вузов контролируется госу-дарством на всех уровнях: требуется признание не только местных органов управления образованием, но и Министерства просвеще-ния. С 1993 г. число совместных образовательных учреждений в Китае выросло в 10 раз, к концу 2003 года существовало почти 800 официально утвержденных совместных образовательных учреж-дений и программ [5. С. 159].
Безусловно, Китай в условиях всеобщего процесса глобали-зации сумел успешно перейти от плановой к социалистической рыночной экономике, от общества закрытого к открытому; новые вызовы подвигли руководство страны сохранить этнокультурный потенциал в области образования.
Итак, в Китае традиционная культура, главной составляющей которой является конфуцианство, сформировала сравнительно ста-бильную систему гуманитарных ценностей. В целях сохранения традиционных культурных ценностей Китай, конечно, не может вернуться к классическому конфуцианскому образованию, но, по мнению китайских исследователей, для того чтобы развивать на-следуемую культуру, и тем самым ускорять развитие образования,
22
VI Международная научно-практическая конференция
чрезвычайно необходимо в полной мере ознакомиться и правильно применять «историческую инертность», которая формируется под воздействием традиционной системы ценностей [6. С. 24].
Культурная идентичность, безусловно, занимает важное ме-сто в образовании в современном обществе. Проблема сохранения духовных оснований национальной культуры в образовании ста-новится особенно злободневной в условиях современной глобали-зации. Уже более десяти лет назад на одном из между народных се-минаров, проведенном в рамках ЮНЕСКО и посвященном итогам экономического развития стран «третьего мира», отмечалось, что одной из основных причин угасания творческого потенциала наро-да яв ляется ослабление интеллектуальных и духовных традиций в результате разрушения национальной системы образования и под-готовки слоя ин теллигенции, чуждой своему народу, его истории, традициям, культуре.
Китайские исследователи отмечают намерение правительства КНР «всемерно продвигать вперед воспитание качественных ха-рактеристик личности» [7. С. 104]. В рамках развития духовных ценностей в системе образования страны в школы ввели програм-мы нравственного воспитания. Министерство образования КНР одобрило свыше 30 учебников. Например, «Моральное воспита-ние и жизнь», «Моральное воспитание и общество», «Идейно-нравственное воспитание», «Идеология и политика» и т. д. В шко-лах сформированы отделы нравственного воспитания и система управления нравственным образованием, широко пропагандиру-ется патриотизм как важная часть духовного и нравственного вос-питания. Во многих вузах студенты, вступившие в партию, сдают экзамены на знание марксизма, истории КПК, идеи Мао Цзэдуна и т. п. Известный педагог, профессор Чжу Сяомань считает, что «руководящая идеология нравственного воспитания в Китае со-вершенно очевидна. Это, прежде всего, марксистские позиции, коммунистическое мировоззрение и ценностные ориентации» [8. С. 368–379].
Таким образом, руководство Китая в полной мере осознает важность развития национально и культурно ориентированного образования. Сохранение культурных и духовных ценностей – это главная предпосылка активизации творческих сил и спо собностей нации.
23
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Список литературы1. Иванов В. Н. Социологическая энциклопедия: в 2 т.
М.: Мысль, 2003. Т. 1. 863 с.2. Рябов Л. П. Сопоставительные исследования систем
высшего образования. М.: Наука, 2002. 271 с.3. Ян Дунпин. Отчет по развитию образования Китая
в 2005 г. Пекин: Академия социальных наук Китая, 2006. 567 с.
4. Смолькова Е., Урода А. Китайский прагматизм и рус-ский «авось» в транснациональном образовании // Высшее образование в России. 2008. №7. С. 157–163.
5. Смолькова Е. Реформа образовательного рынка КНР после вступления в ВТО: былое Китая и думы о России // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 5. С. 150–156.
6. Тан Югуан. Сегодня еще нужно читать каноны. Пекин, 2007. 156 с.
7. Чжан Ли, Ян Иньфу. Выбор стратегии развития об-разования КНР // Педагогика. 2007. № 7. С. 91–107.
8. Чжу Сяомань, Лю Цылинь. Нравственное воспи-тание в Китае на поворотном этапе // Россия Китай: об-разовательные реформы на рубеже XX–XXI вв. М.: РАО Центральная академия педагогических исследований КНР, 2007. 592 с.
Л. Е. Бляхер, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой
философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск
Желтороссия, или старые и новые перспективы России на восточной окраине
В одной из работ Ф. Броделя высказывается парадоксальная, на первый взгляд, мысль [1. С. 169] о том, что сам факт постоян-ных конфликтов между северным (европейским) и южным (афри-канским) берегами Гибралтарского пролива является показателем того, что здесь прервались какие-то очень важные и естественные связи. В самом деле, общность культуры, хозяйственные связи, общность судьбы еще много столетий ощущалась здесь и после
24
VI Международная научно-практическая конференция
падения мусульманских королевств. Но различия в тот момент оказались сильнее. Берега «разошлись» по разным континентам и разным культурным ареалам.
Нечто подобное можно отметить и в истории Дальнего Востока. По существу, к началу XX столетия южная, наиболее раз-витая и заселенная часть Приамурской окраины, и северные про-винции Китая составляли единый территориально-хозяйственный комплекс [2. С. 88]. Это не только строительство КВЖД, уско-рившее путь до Владивостока. Это целый комплекс железных до-рог, в рамках которого Транссиб был только одним из элементов. Предполагалось постепенное сращивание железнодорожной сети Китая и России, создание мощного транзитного комплекса, как для российских товаров на востоке, так и для транспортировки китай-ских товаров на запад. Предполагалось, что эта сеть в перспективе включит в себя Корею и Монголию. Собственно, начало железно-дорожной сети Кореи тоже было положено с помощью российских инвестиций [3. С. 87–104]. Не случайно, первый железнодорож-ный вокзал в Корее был построен русскими архитекторами.
Но КВЖД была не единственной формой российского проник-новения в регион. Развитие сельского хозяйства в северном Китае стало важной формой межкультурной коммуникации. Российские мукомольные и винокуренные заведения создавали для него устой-чивый спрос. Дополнительный толчок для сельскохозяйственного развития региона создавал спрос со стороны строителей КВЖД и городов Харбина и Порт-Артура. Инвестиции в горнорудный комплекс, в торговлю, в строительство и многое другое. Русский культурный слой становится значимым и видимым в пространстве северного Китая. Русский язык в качестве своеобразного «языка межнационального общения», русский рубль в качестве основ-ной валюты [4. С. 129]. Не случайно, в начале столетия возникает термин «Желтороссия», наряду с Великороссией, Малороссией, Белоруссией.
Еще более сильным стало присутствие русского компонента после трагических событий начала 20-х годов. Вслед за исчез-нувшими «белыми» правительствами и пестрым правительством ДВР из региона хлынуло население. Довольно много написано о бегстве культурной, в том числе, столичной элиты [5], о художе-
25
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ственной жизни восточного осколка Российской империи в Китае. Несколько меньше работ, посвященных системе образования, соз-данной в Манчжурии эмигрантами, об активном освоении ново-го пространства архитекторами [6]. Намного меньше работ, по-священных активной экономической жизни русской эмиграции. Крупнейшие предприятия и торговые дома Востока России пере-несли свою деятельность в Китай. Именно их усилиями формиро-валась торговля и промышленность региона. Наследники Леонтия Скидельского и продолжатели Кунста и Альберса, наследники бра-тьев Пьянковых и многие другие предприниматели способствова-ли расцвету новой территории.
Но, пожалуй, наименее популярными были исследования о десятках тысяч крестьян [7], пересекших границу. А это был, по-жалуй, самый значительный и устойчивый элемент русской куль-туры, сложившейся по другую сторону Амура. Причем, как пока-зал И. Пешков, слой, который до настоящего времени, сохраняет элементы русской идентичности.
Но связь прерывается. На долгие годы граница оказывается на замке, а пограничник Карацупа едва ли не главным положитель-ным героем региона. Даже короткий период дружбы СССР – КНР этого положения не изменил. Ведь «дружили» Москва и Пекин, а не приграничье или, точнее, трансграничье. Экономики начинают расходиться в разные стороны. Рвутся хозяйственные связи, пере-стают соотноситься транспортные системы. При этом страдают обе части приграничья. Северный Китай все более отстает от юж-ных регионов КНР, а транзитные возможности Дальнего Востока России полностью отступают перед «оборонным кулаком», в кото-рый превращался Восток.
Пожалуй, только в 90-е годы приграничье, несмотря на мифо-логию «китайской угрозы» [8] и тщательно навязываемое пред-ставление о скрытой экспансии, восстанавливается. Открытие Китая, совершенное «челноками» [9. С. 117–132], быстро начинает дополняться более сложными видами взаимодействия. Возникает сложная система торгового взаимодействия, обмена студентами и преподавателями, приглашения российских архитекторов и худож-ников.
26
VI Международная научно-практическая конференция
В то же время, даже такое, крайне активное трансграничное взаимодействие, которое с конца 90-х годов дополняется китай-скими инвестициями в региональное сельское хозяйство, горнодо-бывающий комплекс и т. д. еще не вело к объединению, срастанию самого пространства. Скорее, речь шла о преодолении взаимных фобий, накопившихся за почти столетие раздельного развития. Даже в период, когда государство, стремясь к «повороту на вос-ток», инвестировало в регион гигантские средства, взаимные стра-хи мешали сотрудничеству, а взаимная подозрительность не дава-ла возможности для совместного планирования. Даже формирова-ние международных организаций типа Шанхайской организации сотрудничества вызывало и в России, и в Китае неоднозначную реакцию [10]. Однако там, где возникает взаимная заинтересован-ность, фобии, политические страхи вполне могут отойти на второй план. Именно это и происходит сегодня.
Об утрате внутренних ресурсов для развития страны говорит сегодня все большее число экспертов в России. Замедление темпов роста отмечается и в Китае, тем более в его менее развитой и на-селенной северной части. Вместе с тем, именно в совместном пла-нировании развития заключается сегодня возможность обретения сопредельными экономиками «второго дыхания».
Все более понятно, что потоки из федерального бюджета по-степенно превращаются в ручейки и исчезают в складках мест-ности. Вместе с тем, инвестиции в горнодобывающий комплекс и сельское хозяйство, транспорт и лесопереработку, и многое дру-гое, жизненно важны для восточных территорий России. Без это-го новую экономику, экономику торговую, транзитную, сложную построить невозможно. А значит, неизбежна и деградация. В то же время, у наших соседей проблемы иного толка. Основной ре-сурс – дешевая рабочая сила подходит к исчерпанию. Инвестиции в экономику уже не дают той отдачи, которую они приносили еще совсем недавно. Падают индексы экономической активности. Здесь остро необходимы новые объекты для инвестирования, но-вые транспортные коридоры между центром производства (АТР) и центром потребления (ЕС).
27
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Отсюда и заинтересованность в развитии региональной экономики и транспортной сети в восточных регионах России. Взаимный же интерес – вещь настолько сильная, что предубежде-ниям, по всей вероятности, придется потесниться.
Список литературы1. Бродель Ф. Средиземноморье и средиземномор-
ский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянских куль-тур, 2002. 426 с.
2. Романова Г. Н. Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке XIX – начало XX в. М.: Наука, 1987. 164 с.
3. Пак Б. Д. Россия и Корея. М.: Институт востокове-дения РАН, 2004. 520 с.
4. Гачечиладзе A. Общий обзор внешней торговли Дальнего Востока // Экономика Дальнего Востока / под ред. Н. Н. Колосовского [и др.]. Ленинград: Госплан, 1926. 360 с.
5. Иванов В. П. Российское зарубежье на Дальнем Востоке в 1920–1940-е гг. М.: МГОУ, 2003. 160 с.
6. Крадин Н. П. Харбин – русская Атлантида. Хабаровск: Издатель Хворов А. Ю. , 2001. 347 с.
7. Peshkov I. Politization of Quasi-Indigenousness on the Russo-Chinese Frontier // Frontier Encounters: Knowledge and Practices at the Russian, Chinese and Mongolian Border / Franck Bille, Gregory Delaplace and Caroline Humphrey (ed.) Cambridge: Open Book Publisher, 2012.
8. Бляхер Л. Е. Политические мифы Дальнего Востока России // Полис. 2004. № 5. С. 28–39.
9. Бляхер Л. Е. Региональная самоидентификация и трансграничные практики на Дальнем Востоке России // Пространственная экономика. 2005. № 1. С. 117–132.
10. Лузянин С. Г. Пятеро против одного // Независимая газета. 2009. 22 апр.
28
VI Международная научно-практическая конференция
О. А. Борисенко, канд. филос. наук, доцент Забайкальского государственного университета, г. Чита
Политика «мягкой силы» Китая в условиях глобализирующегося современного общества1
В условиях глобализации диалог культур принимает на себя миссию парламентера, которая не только должна способствовать урегулированию, но и формированию новых отношений – в част-ности – международных. Это обусловлено тем, что только диалог культур, построенный на взаимопонимании разных культур, спо-собен формировать уважение к ценностям других народов.
Культура является основным фактором человеческой деятель-ности. В основе любого взгляда, на ситуации или проблемы, на-ходится культура. Современная картина культуры Китая доста-точно богата и обширно представлена в мире, при этом ярко на-блюдается диалог и консенсус двух культур – Востока и Запада. Произведения искусства молодых художников из Поднебесной выступают в пост-модернистском стиле наравне с традиционной живописью и каллиграфией. Равнозначные примеры, можно на-блюдать и в архитектуре, где небоскребы лаконично вписываются в ландшафт с жилыми районами хутунов в Пекине. В современном мире все увлечены китайской едой, а китайцев привлекают чипсы, гамбургеры и кока-кола. Молодого человека в Китае можно вряд ли как-то отличить от западного – те же вытянутые джинсы, не заправленная футболка, цветные волосы, да и слушает он ту же музыку. В доступности есть все известные голливудские фильмы, глянцевые журналы, которые проходят в Китае строгий контроль цензуры. Но более зрелое поколение, а так же население в отдален-ных городках, которое составляет основную массу, по-прежнему живут, соблюдая ценности общения, в основе которого мораль, а не расчет, как на Западе. Растет интерес к развитию Китая – пекин-ская олимпиада 2008 г. и Универсиада 2011 г. в Шэньчжэне, миро-вой успех Шанхайской выставки 2010 г. При этом наблюдается и «китаизация» мирового пространства, которая выступает наравне
1 Статья подготовлена в рамках научного исследования, поддержанного Со-ветом по грантам Президента РФ МК-3689.2013.6
29
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
с глобализацией. Раньше казалось, что только Америка и Европа способны на осуществление политики «мягкой силы» в обществе, но сегодня Китай перехватывает их позиции.
В XXI веке ни одна страна не привлекала к себе такого при-стального внимания как Китай. В исторически короткие сроки он прошел путь экономического развития, на который большинству современных передовых стран потребовались столетия. С каждым годом увеличивается его влияние на мировую экономику и поли-тику. Если ранее это влияние проистекало из растущей доли КНР в мировой торговле и ВВП, то во втором десятилетии XXI века, эффективно используя процессы глобализации для своего эконо-мического подъема, Пекин начал проводить политику перестройки мировых реалий в соответствии с китайскими интересами [1].
«Мягкая сила» включает в себя не только политические ин-ституты, но и культурные ценности, а также потребительские предпочтения, а это означает предельную конкретизацию ценност-ных образов. Иными словами, образ страны, который и является проекцией «мягкой силы» – должен быть видимым [2]. Стоит от-метить, что в первую очередь, отличительным моментом является отсутствие принуждения. Никто не заставляет принимать культуру другой страны, это не навязывается вам. Еще Джозеф Най, отме-тил что, «обольщение почти всегда эффективнее, чем принужде-ние» [3].
Китайскую интерпретацию «мягкой силы» впервые отража-ет политический доклад на XVII съезде правящей партии. В нем были выдвинуты конкретные задачи строительства «мягкой силы» государства в рамках строительства социализма с китайской спец-ификой по четырем направлениям:
− «создавать систему стержневых социалистических ценно-стей, увеличивать притягательные и цементирующие силы социа-листической идеологии»;
− «формировать гармоничную культуру, воспитывать цивили-зованные нравы»;
− «широко распространять национальную культуру, строить общий духовный очаг китайской нации»;
− «продвигать новаторство в культуре, усиливать жизненную силу развития культуры» [4].
30
VI Международная научно-практическая конференция
Сегодня Китай стал мировой фабрикой, он за короткие сро-ки увеличил капитал, благодаря которому устойчиво пережил финансовый криз 1997–1998 гг. Возрос интерес к образу жизни – повсеместное увлечение йогой и восточными единоборствами. Миллионы китайцев учатся по всему миру. Если нет достаточных знаний китайского языка, то можно поступить в аспирантуру и ма-гистратуру в вузы Китая и слушать лекции на английском языке, который изучают сами жители с 3 лет, а его знание является обя-зательным при занятии государственных должностей. Благодаря возможности получения образования на Западе, представите-лей Востока стали лучше там понимать. По данным министер-ства образования Китая, за 2010 год число китайских студентов за рубежом, которые обучаются в США, Австралии и Северном Королевстве, достигло 280 000 [5]. При этом и в сам Китай каждый год едут студенты со всего мира для изучения не только китайского языка, но и экономики, права и культуры этой страны.
Проблема этнокультурных ценностей в условиях глобализи-рующегося современного общества зависит от многих факторов: прежде всего от способности этноса найти свое место в мире, умения совмещать традиции и инновации, принимая вызов откры-тости и экономического соревнования, и сохраняя при этом свои ментальные основы [6]. Китай не только страна древнейшей ци-вилизации, но и страна, устремленная в будущее, и оно связано с модернизацией китайского общества, с реформой и совершенство-ванием всех общественных отношений, культуры, политических и экономических структур и т. д. Реформа, естественно, осуществля-ется в условиях глобализации. В Китае понимают, что надо идти в ногу со временем и поэтому необходимо трансформировать обще-ственную жизнь таким образом, чтобы она соответствовала новым реалиям, и вместе с тем сохранились китайские традиции, китай-ская культура и китайский менталитет. Иначе говоря, китайцы в глобализирующемся мире хотят сохранить свою национальную идентичность, и у них это получается.
Для распространения «мягкой силы» по всему миру откры-ваются филиалы Институтов Конфуция, идет популяризация ки-тайского языка и китайской культуры, и в частности переводятся фильмы, книги и газеты на иностранные языки, ежегодно проходят
31
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
международные научные конференции. «В последний день 2012 года в Китае состоялось важное мероприятие: учредительное за-седание Китайской ассоциации публичной дипломатии» [7] .
«Мягкая сила» – это не политическая риторика, а средство по-вышения глобальной конкурентоспособности. Потому что эконо-мическая, интеллектуальная и коммуникационная конкуренция, а не война (которая является уделом неразвитых стран и обществ) стала главным средством достижения побед в XXI веке [8]. Диалог культур это сложный процесс, так как не все элементы другой культуры могут быть постижимы. Так, например, чтобы принять те или иные национальные особенности другой культуры, необ-ходимо проникновение в ее ценности, традиции и мировоззрение. Хотя культура взаимопонимания, сформировавшаяся в веках, и по-зволила человеку обеспечить «сложное единство всего человече-ства», всех человеческих культур, нет единой мировой культуры, но есть «сложное единство всего человечества» [9], в чем и про-является гуманистическое начало.
Современные условия дают возможность развития и расши-рения контактов, но доминирующим остается одно – открытость миру. «Диалог культур приводит к углублению культурного само-развития, к взаимообогащению за счет иного культурного опыта, как в рамках определенных культур, так и в масштабах мировой культуры» [10]. В условиях глобализации диалог культур при-нимает на себя миссию парламентера, которая должна не только способствовать урегулированию, но и формированию новых отно-шений – в частности – международных. Это обусловлено тем, что только диалог культур, построенный на взаимопонимании разных культур, способен формировать уважение к ценностям других на-родов.
Список литературы1. Бойчаров А. Китаизация: последствия роста мощи
Китая для мира в ХХI веке. М.: Международные отноше-ния, 2013. 192 с.
2. Родькин П. «Мягкая сила» – готова ли Россия к мировой битве «витрин»? URL: http://mn.ru/oped/20130129/336429595.html (дата обращения: 29.01.2014).
32
VI Международная научно-практическая конференция
3. Joseph S. Nye. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 192 p.
4. Лукин А. Китай: мягкая сила и псевдообще-ственная дипломатия // Голос России. URL: http://rus.ruvr.ru/2013_01_19/101645798/ (дата обращения: 19.01.2014).
5. Nye J. The Paradox of American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/57639/g-john-ikenberry/the-paradox-of-american-power-why-the-worlds-only-superpower-can (дата обращения: 29.01.2014).
6. Первухина А. С. , Еремкина Т. А. Этнокультура Китая в локализирующемся мире: ценностный аспект // Материалы междунар. студ. электрон. науч. конф. «Студенческий научный форум». URL: http://www.scienceforum.ru/2013/25/5506 (дата обращения: 28.01.2014).
7. Глобализационные тенденции образования: Запад идет на Восток // Интернет ресурс КомпасГид. URL:
8. вой битве «витрин»? URL: http://mn.ru/oped/20130129/336429595.html (дата обращения: 29.01.2014). http://kompasgid.ru/p=13830 (дата обращения: 30.01.2014).
9. Родькин П. «Мягкая сила» – готова ли Россия к миро10. Кокшаров Н. В. Взаимодействие культур: диалог
культур // Теоретический журнал «Credo new». 2003. № 3. С. 14.
11. Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития. URL: http://www.politstudies.ru/fulltext/2009/4/11.pdf (дата обращения: 29.01.2014).
А. М. Бянкина, старший преподаватель юридического факультета
Забайкальского государственного университета, г. Чита
Историко-правовой аспект формирования перевозок грузов автомобильным транспортом в приграничных территориях
(на примере Забайкальского края Рссийской Федерации)
Исследователями отмечается, что для Российской Федерации характерны три типа трансграничного сотрудничества, которые выделяют как «европейский», «постсоветсткий» и «азиатский»
33
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
[1, 2]. Как отмечает К. В. Верхоланцева, европейский тип харак-терен для регионов России, граничащих со странами – членами Европейского Союза или странами – кандидатами на вступление в Союз; постсоветский тип характерен для российских пригранич-ных территорий со странами СНГ (Н. Н. Фролова, например, также выделяет постсоветский тип сотрудничества России со странами, нацеленными на сотрудничество с США и Евросоюзом) [3]; азиат-ский тип характерен для регионов России, пограничных с Китаем и Монголией (Н. Н. Фролова добавляет к ним также Турцию) [4. С. 21–22]. О. Ю. Дубинина, опираясь на критерии территориаль-но-географического и культурно-исторического различия, выде-ляет лишь «европейскую» и «азиатскую модель» [5]. Азиатский тип характерен для сотрудничества с Китаем и Монголией, хотя нередко отмечают, что это локальные приграничные контакты, представляющие собой простое взаимодействие. Это не совсем верно, так как уровень развития взаимодействия регионов в рам-ках приграничного сотрудничества ежегодно расширяется (можно отметить такие факторы влияния на развитие связей как экономи-ческие, природно-климатические, социально-политические, воен-но-политические и иные), и в нем появляются новые направления.
В настоящей работе рассматривается «азиатский тип», под которым понимается сотрудничество российской стороны непо-средственно с Китаем. Внимание акцентировано на региональ-ном сотрудничестве в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом между странами на Забайкальском участке границы. Исторически Россия активно торговала с Китаем и Монголией. Первым этапом таких отношений была торговля через Нерчинск, по договору 1689 года, а затем – торговля через Кяхту, договор о которой был подписан в 1727 году. Исследователи отмечают тот факт, что Забайкальский участок российско-китайской границы, в частности в XIX – начале XX вв., очень редко становился пред-метом исследований, так как граница была установлена прочно и зона отмечалась своей «неконфликтностью» [6. С. 52–54].
Приграничная торговля очень сильно влияла на взаимоотно-шения между государствами. Довольно часто официальные тор-говые точки закрывались на различные сроки в силу ухудшения
34
VI Международная научно-практическая конференция
взаимоотношений между странами. Однако, несмотря на офици-альные запреты, торговля велась тайно, так как это приносило заметную пользу не только приграничным жителям, для которых это было жизненной необходимостью, но и экономическому по-ложению государств. Как отмечает И. Ван, «существует тесная за-висимость увеличения товарооборота между Россией и Китаем и экономического развития граничащих с Китаем субъектов РФ» [7. С. 12]. Основой торговли всегда был транспорт. Перевозка грузов изначально производилась гужевым транспортом (использовались лошади, мулы, верблюды). В дальнейшем гужевой транспорт был заменен иными видами транспорта, в том числе и автомобильным, бурное развитие которого пришлось на середину XX века.
Автомобильный транспорт активно развивался с начала XX века, вместе с ним расширялся процесс транспортировки гру-зов и пассажиров. С начала 1990-х годов начинается новый этап в развитии всего транспортного процесса, в том числе и пере-возок в приграничных территориях, в частности, на территории Забайкальского края. Именно в это время официально открывают-ся пограничные автомобильные пункты пропуска. Приграничные перевозки постепенно переросли в официальный международный вид сообщения. Однако, в связи с усиливающейся нагрузкой имен-но на приграничную территорию, возникает необходимость уре-гулировать процесс транспортировки грузов непосредственно на приграничных зонах, так как приграничная зона выступает своего рода «плацдармом» для внутреннего, транзитного и международ-ного сообщения.
В настоящее время перевозки грузов автотранспортом активно используются в приграничных территориях, обеспечивая грузоо-борот между соседними государствами. Перевозки грузов и пас-сажиров начинались именно как приграничные, с начала 1990-х годов, вначале в Приморском крае, затем в Амурской, Еврейской автономной областях. Юридической базой этих отношений явля-лись соглашения между краями и областями России и провинцией Хэйлунцзян КНР. Межправительственное соглашение от 18 де-кабря 1992 г. позволило эти перевозки перевести в ранг между-народных. Соглашение (к нему также прилагаются Протокол о
35
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
применении и более позднее Приложение о пунктах пропуска от 27 января 1994 г.) между Правительством РФ и Правительством КНР о международном автомобильном сообщении было подписа-но в Пекине и вступило в силу 14 июня 1993 года [8].
Забайкальский край является приграничным регионом и гра-ничит с Китаем и Монголией. Общая протяженность государствен-ной границы в Забайкальском крае составляет 1920,1 км (россий-ско-китайский участок – 1088,68 км). На российско-китайской гра-нице на территории региона находятся четыре автомобильных по-граничных перехода – один международный («Забайкальск»), три двусторонних («Староцурухайтуйский», «Покровка», «Олочи»).
В Забайкальском крае наибольшая доля грузоперевозок ав-тотранспортом с КНР проходит через пограничный переход «Забайкальск – Манчьжурия» (к примеру, в Хабаровском крае такое же назначение имеет автомобильный пограничный пункт «Покровка – Жаохэ»). В отношении Забайкальска следует отме-тить, что он был основан в 1904 г. как железнодорожный разъезд Китайско-Восточной железной дороги. С 1929 г. станция стала носить наименование Отпора, а в 1958 г. была переименована в Забайкальск [9, С. 189–190]. Контрольно-пропускной пункт в этом направлении был открыт для грузового и пассажирского движения решением СМ СССР № 699-рс от 21 апреля 1989 г., а решением Правительства РФ № 361 от 1 июня 1992 г. ему был придан статус международного перехода.
Следует также отметить, что, несмотря на последние улучше-ния работы данного перехода, по-прежнему существует необходи-мость в принятии соответствующих мер по совершенствованию транспортной инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению населения в эти районы, снижению социальных рисков в приграничной зоне, созданию благоприятных факторов для всестороннего сотрудни-чества и выгодных рыночных условий.
Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Староцурухай-туйский – Хэйшаньтоу» (автономный район Внутренняя Монголия) учрежден 27 января 1994 года. Он является двусторонним автомо-бильным пунктом пропуска с грузопассажирским характером меж-
36
VI Международная научно-практическая конференция
дународного сообщения. Во исполнение межправительственного соглашения КНР и РФ от 16 мая 2006 года о мостовом переходе через реку Аргунь в районе населенных пунктов Староцурухайтуй (РФ) и Хэйшаньтоу (КНР), подписанного в г. Пекине, китайская подрядная организация совместно с ГУ «Автомобильные доро-ги Читинской области» выполнила строительные работы в слож-ных климатических условиях в очень короткие сроки. 29 ноя-бря 2006 года железобетонный мост был сдан в эксплуатацию. Автомобильный пункт пропуска Староцурухайтуйский на протя-жении длительного времени нуждается в реконструкции. В рам-ках реконструкции необходимо предусмотреть разделение потоков грузового и пассажирского направлений. Необходимо оснащение автомобильного пункта пропуска современным инспекционно-до-смотровым оборудованием, а также проведение преобразований в организации пограничного и транспортного контроля [10].
Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Олочи – Шивэй» образован 27 января 1994 года. Он является двусторон-ним автомобильным пунктом пропуска с грузовым характером международного сообщения. В 1994–2001 гг. оформление грузов осуществлялось только в зимний период по ледовой дороге. С вво-дом в эксплуатацию железобетонного автомобильного моста через реку Аргунь в районе пунктов пропуска «Олочи – Шивэй» про-пуск грузов осуществляется круглогодично. Однако недостаточная обустроенность данного пункта пропуска и его грузовой статус не позволяют обеспечить прогнозируемую активизацию внешнеэко-номической деятельности и туризма в этом районе Забайкальского края. Следует отметить, что на сопредельном пункте пропуска Шивэй (автономный район Внутренняя Монголия, КНР) вы-полнен полный объем работ по реконструкции. В результате ки-тайскому пункту пропуска присвоена первая категория и статус грузопассажирского. Аналогичная ситуация наблюдается на всех китайских пограничных переходах, сопредельных с пунктами про-пуска в Забайкальском крае. В ближайшие годы планируется ре-конструкция пограничного пункта пропуска и придание ему ста-туса грузопассажирского [11]. Открытие двустороннего автомо-бильного, сезонного пункта пропуска Покровка регламентировано
37
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Постановлением Правительства РФ от 27 марта 1998 года № 357 «Об открытии сезонного пункта пропуска «Покровка – Логухэ» на российско-китайской государственной границе».
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что пригранич-ные перевозки на забайкальском участке границы имеют много-летнюю историю, начиная с тех времен, когда еще использовался гужевой транспорт. Поэтому в настоящее время необходимо со-вершенствовать нормативную правовую базу в сфере перевозок грузов автомобильным транспортом с учетом реальных потребно-стей экономики как страны в целом, так и приграничных субъектов России. Кроме того, обустройство пунктов пропуска, их оснащение современной инспекционно-досмотровой техникой становится од-ним из условий обеспечения национальной безопасности России. Целесообразная транспортная политика – это залог национальной безопасности государства. Поэтому в настоящее время необходи-мо уделять больше внимания сфере правового регулирования на федеральном, региональном и местном уровнях, а также развивать и поддерживать сферу государственно-частного партнерства для улучшения транспортной инфраструктуры, что особенно важно для приграничных регионов, где может сложиться благоприятный инвестиционный климат.
Список литературы1. Верхоланцева К. В. Развитие современного транс-
граничного сотрудничества России и стран Европы: сравни-тельный анализ: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2009. 45 с.
2. Миндагалиева А. Ш. Цели, формы и методы при-граничного сотрудничества российских регионов со стра-нами СНГ (на примере Казахстана): автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2006. 13 с.
3. Фролова Н. Н. Механизм адаптации управления развитием приграничного региона к условиям интеграции: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.14. Санкт-Петербург, 2008. 19 с.
38
VI Международная научно-практическая конференция
4. Верхоланцева К. В. Развитие современного транс-граничного сотрудничества России и стран Европы: сравни-тельный анализ: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2009. 45 с.
5. Дубинина О. Ю. Влияние регионализации на меж-дународные связи регионов Российской Федерации (1991–2007): автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04. М., 2007. 24 с.
6. Захарова А. В. Забайкальский участок российско-китайской границы в описании В. И. Венюкова (XIX в.) // Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современ-ность – IV: материалы междунар. науч.-пр. конф. студентов и аспирантов (19–22 мая 2010 г.). Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2010. 217 с.
7. Ван И. Приграничное экономическое сотрудниче-ство между Россией и Китаем: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2009. 26 с.
8. Данилов В. И. Международные автомобиль-ные перевозки между Россией и Китаем / под ред. А. В. Палковского [и др.]. Владивосток, 2000. 88 с.
9. Козыкина Н. В. , Романюк Д. В. Феномен городов-близнецов в контексте трансграничных миграционных про-цессов // Международное сотрудничество стран Северо-Восточной Азии: проблемы и перспективы: сборник докла-дов науч.-практ. конф. (20–22 октября, 2010 г.). Чита: ЧитГУ, 2010. 137 с.
10. Котельников С. А. Состояние и перспективы раз-вития приграничной инфраструктуры // Международное сотрудничество стран Северо-Восточной Азии: проблемы и перспективы: доклад на Международной научно-практи-ческой конференции (20–22 октября 2010 г.). Чита: ЧитГУ, 2010.
11. Там же.
39
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
П. В. Гайдай, канд. пед. наук, доцент Забайкальского
государственного университета, г.Чита
Инновационные процессы в современном музыкальном образовании Китая
(на примере колледжа искусств Сычуаньской консерватории)
Современный этап развития цивилизации обусловливает не-обходимость изменения различных сфер жизнедеятельности человека, в том числе, и в области музыкального образования. Культурно-образовательная политика Китая соединяет в себе два направления: с одной стороны, сохранения духовно-культурных традиций и национальной самобытности, и творческого обнов-ления достижений прошлого – с другой. Последняя тенденция во многом связана с потребностью современного Китая интегриро-ваться в глобальное культурное сообщество, взять все лучшее и достойное. Практически решив за последние десятилетия пробле-му культурной замкнутости страны, музыкальное искусство и об-разование Китая осуществляют сегодня, по сути, стратегические задачи преодоления отчуждения между китайской и западной культурами, обмена и трансляции культурных ценностей.
В истории развития китайского музыкального образования можно выделить три крупных периода: с 1920-х гг. (с момента возникновения профессиональных учебных заведений) по 1949 г.; 1949–1978 гг.; с 1978 г. (начала периода реформ и открытости) по настоящее время.
Последний этап характеризуется пристальным вниманием руководства страны к системе музыкального образования и его государственной поддержке. Среди подобных мер можно на-звать принятие законов по вопросам организации образователь-ных учреждений искусств (7-я пятилетка, 1987–1990 гг.); проект «Образовательная практика в школах искусств» (9-я пятилетка, 1996–2000 гг.); проект «Изучение национального культурного на-следия в образовательных учреждениях искусств» (10-я пятилетка, 2001–2005 гг.) [1, С. 11]. Были созданы Исследовательский совет (1987 г.) и Ассоциация музыкантов по вопросам музыкального об-разования (1990 г.), которые ежегодно организуют симпозиумы,
40
VI Международная научно-практическая конференция
семинары и конференции в ведущих музыкальных вузах страны. С 2003 г. осуществляется проект Министерства образования КНР «Международное сравнительное исследование учителей музыки» [2. С. 8–9].
По данным на 2010 год 158 вузов КНР дают возможность по-лучения высшего музыкального образования. Из них 16 являют-ся профильными художественными вузами – консерваториями и академиями искусств. В настоящий момент в Китае действуют де-вять консерваторий: две в Пекине («Central Conservatory of Music», 1950 г. и «China Conservatory of Music», 1964 г.); в Ухане («Wuhan conservatory of Music», 1920 г.); в Шанхае («Shanghai Conservatory of Music», 1927 г.); в Гуанчжоу («Xinghai conservatory of music», 1932 г., с 1985 г. – Консерватория имени С. Синхая); в Шеньяне («Shenyang Conservatory of Music», 1938 г.); в Чэнду («Sichuan Conservatory оf Music», 1939 г.); в Сиане («Xian conservatory of mu-sic», 1949 г.); в Тяньцзине («Tianjin Conservatory оf Music», 1958 г.).
Помимо консерваторий, музыкальное образование осу-ществляется в КНР в семи академиях искусств (Arts University) – в Пекине, Нанкине, Наньнине, Куньмине, Цзинане, Урумчи, Чанчуне, а также на многочисленных музыкальных факультетах многопрофильных и педагогических университетов (63 и 79 вузов соответственно).
Государственная политика Китая в области профессионально-го музыкального образования направлена, в том числе, на укре-пление и развитие провинциальных вузов, некоторые особенности функционирования которых рассмотрим на примере колледжа ис-кусств Сычуаньской консерватории.
Сычуань (Sìchuān 四川) является одной из крупнейших про-винций на юго-западе Китая. В восемнадцати городских и трех ав-тономных округах провинции проживает более 80 миллионов че-ловек. Сычуань – «центральная ось стратегии развития западных районов Китая» [3. С. 3] – один из регионов страны, находящих-ся на стадии активного экономического и культурного подъема. Высокая численность населения, природные ресурсы, научный и экономический рост провинции определили активное формирова-ние ее образовательной сферы в период 1990–2000-х годов: так,
41
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
система высшего образования представлена сегодня в провинции Сычуань более чем 40 вузами, в которых обучается около 300 ты-сяч студентов.
Художественное образование, в том числе, музыкальное, ре-ализуется в Сычуань в учебных заведениях как специальной на-правленности, так и общего профиля (университеты и педагогиче-ские вузы). Ведущим центром музыкального образования в реги-оне является Сычуаньская консерватория (Sìchuān yīnyuè xuéyuàn 四川音乐学院), расположенная в столице провинции – городе Чэнду (Chéngdū 成都). Консерватория относится к одним из старейших музыкальных учебных заведений Китая – она была основана в 1939 году. В 2013 году на двадцати пяти специализациях в Сычуаньской консерватории обучалось более 14 тысяч студентов. В учебном за-ведении реализуются все ступени высшего образования – специ-алитет, бакалавриат, магистратура и докторантура (Ph. D.).
Инновационные тенденции китайской системы образования последних десятилетий, а также растущая востребованность в про-винции кадров сферы культуры и искусства, обусловили расшире-ние направлений деятельности Сычуаньской консерватории, появ-ление ряда ее подразделений. В их числе Международный колледж кино и телевидения, Общественный колледж изобразительных ис-кусств, Академия популярной музыки (Pop Music Academy), кол-ледж искусств в Мяньяне.
Колледж искусств Сычуаньской консерватории (Sìchuān yīnyuè xuéyuàn Miányáng yìshù xuéyuàn 四川音乐学院绵阳艺术学院) находится во втором по величине городе провинции Сычуань – Мяньяне (Miányáng 绵阳). Колледж был образован сравнительно недавно – в 2001 году. В 2006 г. он получил статус «независимо-го колледжа общенационального уровня», в 2008 г. вошел в число десяти лучших художественных колледжей Китая, а в 2010 г. – в десятку лучших независимых институтов страны [4].
Необходимо сказать несколько слов о статусе колледжа. В Китае отсутствует привычная для России трехступенчатая систе-ма профессионального музыкального образования. Начальная сту-пень китайского музыкального обучения представлена большим количеством частных школ и студий. Среди них есть заведения очень высокого уровня – достаточно назвать широко известную
42
VI Международная научно-практическая конференция
сеть музыкальных школ знаменитого пианиста и педагога Лю Шикуня. Среднее же звено музыкального образования в Китае практически отсутствует – в стране не развита система музыкаль-ных училищ и колледжей, подобная российской.
Высшее музыкальное образование в Китае предполагает че-тыре ступени обучения: специалитет (2–3 года обучения), бака-лавриат (4–5 лет), магистратура (2–3 года) и докторантура. Таким образом, рассматриваемый колледж искусств Мяньяна обладает статусом высшего учебного заведения, располагающим правом подготовки на уровнях специалитета и бакалавриата. Отметим, что сами преподаватели и студенты колледжа называют его «универ-ситетом».
В настоящий момент в колледже обучается свыше 9 тысяч студентов. Учебное заведение включает четыре факультета: музы-ки и танца; изобразительного искусства и дизайна; радио, кино и телевидения; факультет государственного (общественного) управ-ления. В аспекте заявленной темы более подробно рассмотрим фа-культет музыки и танца, познакомиться с деятельностью которого имела возможность автор настоящих материалов.
На факультете осуществляется подготовка по четырем направ-лениям: танцевальное исполнительство (эстрадная хореография); теория танца (сюда входят подготовка педагогов-хореографов и руководителей танцевальных коллективов, а также народный та-нец); теория музыки (музыкально-педагогическое, композитор-ское и дирижерское образование); музыкальное исполнительство (классический, эстрадный и народный вокал; народное музыкаль-ное творчество; музыкально-драматическое образование; инстру-ментальное исполнительство; исполнительство на народных удар-ных инструментах).
Преподаватели факультета объединены в шесть кафедр: тео-рии музыки, вокального исполнительства, хореографии, эстрадной музыки, кафедру музыкальных инструментов и отдельно кафедру фортепиано.
Европейские инструменты представлены на факультете скрип-кой, фортепиано, кларнетом, саксофоном, трубой и инструмента-ми ударной группы. Студенты колледжа имеют возможность полу-чить опыт игры в городском симфоническом оркестре Мяньяна.
43
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
В Китае популярно и широко распространено обучение игре на национальных духовых, струнных и ударных инструментах. В колледже Мяньяна имеются классы исполнительства на струн-но-смычковой эрху (Erhú 二胡); струнно-щипковых инструментах гучжене (Gǔzhēng 古筝) – разновидности цитры и на китайских цимбалах – янцинь (Yángqín 洋琴); поперечной бамбуковой флейте чжуди (Zhúdí 竹笛) и продольной флейте сяо (Xiāo 箫). На ударных народных инструментах – разнообразных колоколах, тарелках, бубне шоугу (Shǒugǔ 手鼓), барабанах тагу (Dàgǔ 大鼓) и тхунгу (Tónggǔ 铜鼓), гонгах юньло (Yúnluó 云锣) и др. В вузе организован оркестр китайских национальных инструментов.
На факультете имеется также три хоровых коллектива: муж-ской, женский и смешанный хоры. Для того, чтобы участвовать в них, студенты всех специальностей проходят специальный отбор и в последующем гордятся возможностью пения в хоровом коллек-тиве колледжа.
Педагогический состав факультета представлен 136 препо-давателями. Ввиду того, что колледж был образован довольно не-давно, большую часть из них – девяносто четыре – составляют педагоги в возрасте до 35 лет. Из 136 преподавателей факультета 40 человек имеют магистерскую степень. Большая часть педаго-гов-музыкантов обучались в магистратуре Сычуаньской консерва-тории, некоторые из них получили магистерскую степень в вузах России, Белоруссии, Украины и США. Только один преподаватель обучается в научной аспирантуре в России.
Возрастные и образовательные характеристики во многом определяют должностной статус преподавателей факультета: 65 из них являются ассистентами, 34 – старшими преподавателями, 22 – доцентами и 15 человек – профессорами. В китайской аттеста-ционной системе, также как и в российской, существуют ученые звания доцента и профессора, называемые «государственными», и ряд преподавателей факультета имеют соответствующие звания. Укажем, что, например, для получения диплома «государственно-го доцента», педагогу-музыканту необходимо проработать в вузе не менее пяти лет, издать две научных статьи, подготовить студен-тов-лауреатов музыкальных конкурсов, а также представить свой сольный концерт или концерт студентов своего класса.
44
VI Международная научно-практическая конференция
Невозможно не отметить прекрасную материальную базу фа-культета, который располагается в новом десятиэтажном здании с большим количеством специально оборудованных аудиторий и небольших классов для самоподготовки. На каждом этаже здания имеется по два камерных зала. На территории университета дей-ствуют два отдельных концертных зала с соответствующим звуко-техническим оборудованием и концертными роялями.
Подводя итог, хотелось бы высказать следующие соображе-ния. Музыкальное образование в Китае, безусловно, не обладает такими длительными и глубокими традициями воспитания музы-кантов, как европейская и российская школы. Сама система китай-ского музыкального образования и ее содержательное наполнение в ряде позиций отличаются от привычного нам образа классиче-ской музыкальной подготовки, в том числе, в структуре обучения, в методических подходах, в смысловой интерпретации музыкаль-ного искусства. Однако наиболее существенным, на наш взгляд, является сам статус музыкального образования в китайском обще-стве, государственный подход к его организации, результаты ко-торого воплощаются не только на международных музыкальных состязаниях, но и весьма очевидны в регионах страны – на уровне провинциальных вузов. Реальное воплощение культурно-образо-вательной политики КНР убедительно свидетельствует о том, что музыкальное и в целом художественно-эстетическое образование рассматриваются в Китае как одна из важнейших составляющих успешного будущего государства.
Список литературы1. Лю Цин. Высшее музыкально-педагогическое об-
разование в Китае: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. СПб., 2009. 22 с.
2. Го Мэн. Развитие высшего музыкального образова-ния в Китае (вторая половина ХХ-начало XXI вв.) // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. 2012. № 3. С. 5–11.
3. Сибирякова О. С. Экономическое развитие провин-ции Сычуань. М.: Экономика, 2013. 207 с.
4. Колледж искусств Сычуаньской консерватории. URL: http://www.cymy.edu.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
5. Сычуаньская консерватория. URL: www.sccm.cn (дата обращения: 31.01.2014).
45
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
И. П. Глазырина, д-р экон. наук, профессор, Институт природных
ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Забайкальский государственный университет, г. Чита
К. А. Яковлева, аспирант Забайкальского государственного
университета, г. ЧитаН. В. Жадина,
кафедра прикладной информатики и математики Забайкальского государственного университета, г. Чита
Проблемы социально-экономической эффективности лесопользования в Байкальском регионе в контексте трансграничных отношений1
Лесопромышленный комплекс Забайкальского края является экспортно-ориентированным с 1998 года, когда в результате де-вальвации российского рубля резко возросла рентабельность экс-порта в КНР. В 2007 г. он превысил 4 млн куб/м – это был истори-ческий максимум. С 1998 г. по 2007 г. доля необработанной дре-весины в общем объеме экспорта превышала 90 %. Приграничное положение региона, относительно низкие расходы на транспорти-ровку, которые могли бы стать конкурентным преимуществом, на самом деле оказались барьерами для создания современного ле-сопромышленного комплекса – более выгодным оказался экспорт круглого леса, чем обработанной древесины. Важным фактором стало и то, что вывоз необработанной древесины не был связан с высокими коммерческими и инвестиционными рисками, которые в российских условиях сопровождают большинство видов бизнеса в обрабатывающем секторе, а также обеспечивал значительно бо-лее быстрый оборот средств.
Сложившаяся модель регионального лесопользования, кото-рая принесла позитивные определенные результаты в краткосроч-ном и среднесрочном плане, оказалась практически тупиковой в
1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследо-ваний Президиума РАН № 31 «Роль пространства в модернизации России: при-родный и социально-экономический потенциал», а также при частичной под-держке РГНФ (Проект № 13–02–00093)
46
VI Международная научно-практическая конференция
плане долгосрочном: после кризиса 2008–2007 гг. свои позиции на внешних рынках смогли сохранить лишь регионы, которые со-хранили и расширили обрабатывающие производства в ЛПК. В этом контексте интересно сравнение показателей субъектов РФ Байкальского региона в табл. 1.
География экспортных поставок древесины и изделий из нее из Иркутской области говорит о том, что значительная часть этих потоков – продукты достаточно высокого качества и глубо-кой переработки. Существенное падение лесного экспорта из Забайкальского края и Бурятии после 2008 г. часто объясняют рез-ким повышением таможенных пошлин и снижением спроса вслед-ствие экономического кризиса. Однако пример Иркутской области, экспортирующей в Германию больше древесных продуктов, чем Забайкальский край поставляет в КНР, говорит о том, что причины гораздо глубже.
Таблица 1Экспорт из субъектов РФ Байкальского региона, 2012 г.
(источник: материалы Сибирского таможенного управления, расчеты авторов)
Субъекты РФ
Экспорт древесины и изделий из нее, тыс. долларов США, (%)
Всего
КНР
Зап. Европа
Страны
АТР
Средняя Азия
и Аф
ганист
ан
Ближ
ний
Восток и
Сев. А
фрика
Забайкальский край
45 3
82,3
4473
8,7
(98,
6 %
)
511,
2 (1
,1 %
)
-
112,
9(0
,25
%)
-
Республика Бурятия
76 2
87,9
0
7193
4,5
(94,
3 %
)
1229
(1,6
%)
1352
,2(1
,8 %
)
-
1108
(1,5
%)
Иркутская область
1 68
1 25
6,8
955
148
(57
%)
109
164
(6,5
%)
246
544
(14,
7 %
)
261
174
(15,
5 %
)
87 2
64(5
,1 %
)
47
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Попытки государственного регулирования – увеличение тамо-женных пошлин на необработанную древесину для сокращения доли сырьевого экспорта кардинально не решили проблему вывоза больших объемов лесного сырья [1]. После вступления России во Всемирную торговую организацию были введены квоты, в рамках которых взимается пониженная вывозная пошлина: на необрабо-танные лесоматериалы хвойных пород в пределах тарифной квоты установлена ставка вывозной таможенной пошлины 13 % на ель и 15 % на сосну. Доля экспорта круглого леса снизилась, а его место заняли пиломатериалы первичной переработки [2]. Но в пригра-ничных регионах не произошло серьезной диверсификации лес-ного сектора, развития глубокой и безотходной переработки, ши-рокого внедрения новых технологий [1–3]. Оказалось, что совсем не обязательно проводить широкомасштабную модернизацию лесопромышленного комплекса, чтобы «обойти» новые таможен-ные барьеры. Табл. 2 показывает, что почти все регионы, имею-щие удобные инфраструктурные условия для поставок древесины в КНР, определенно отстают по удельному показателю обработки древесины в расчете на 1 куб/м лесозаготовок.
Таблица 2Удельные показатели: обработка древесины и производство изделий из дерева (тыс руб) за 2011 год в расчете на 1 куб/м
заготовленной древесины (источник данных: www.fedstat.ru)
Субъект РФ
Обработка древесины и производство изделий из де-рева (тыс. р.)
Объем за-готовленной древесины (тыс. куб/м)
Обработка древесины и про-изводство изделий из дерева в расчете
на 1 куб/м, р.Амурская область 578 200,7 1 838,6 314,5Забайкальский край 208 732,8 2 487,4 83,9Иркутская область 20 027 655,4 26 075,7 768,1Красноярский край 13 631 029,8 13 865,8 983,1Новосибирская область 2 317 999,4 1 251,0 1 852,9
Хабаровский край 4 244 625,4 7 245,0 585,9Респ. Бурятия 444 625,1 2603,38 170,86Алтайский край 5 625 778 3345,5 1682Томская область 5 168 748 4334 1192,6
48
VI Международная научно-практическая конференция
Особенно выделяется Забайкальский край, где негативную роль играют сразу три (на первый взгляд, позитивных) фактора: приграничное положение, большие запасы лесных ресурсов и наличие крупнейшего на российско-китайской границе автомо-бильного и железнодорожного перехода Забайкальск-Манчжурия. Таким образом, развитая транспортная инфраструктура – в рос-сийских условиях – служит дополнительным преимуществом для экспорта сырья и снижения привлекательности обрабатывающих производств. В результате в регионе сложилась специфическая мо-дель лесопользования, в которой не было стимулов для развития современного ЛПК, приоритетом считались высокие стоимостные показатели экспорта.
Даже мощный ЛПК Иркутской области более половины своей экспортной продукции поставляет в виде необработанной древе-сины и пиломатериалов первичной обработки в КНР. До сих пор не создано реальных стимулов, которые в условиях Байкальского региона – то есть приграничного положения и удобной транс-портной инфраструктуры –сделали бы глубокую лесопереработку более привлекательной, чем банальные поставки «слегка обрабо-танной» древесины. В этом контексте важно оценить эффектив-ность использования ресурсов леса, которые, вопреки разговорам о недоиспользовании расчетной лесосеки, не являются неограни-ченными (истощение доступных лесных ресурсов в Сибири и на дальнем Востоке отмечают многие исследователи, см., напр., [3]). Эту эффективность можно оценивать по двум показателям: посту-плениям в региональный бюджет и заработной плате работников в расчете на единицу использованного ресурса, то есть в данном случае, на 1 кубометр заготовленной древесины. И здесь уместно провести сравнение с другими лесными регионами. Поступления в региональные бюджеты лесопользования можно считать ключе-вым показателем.
Рис. 1 показывает высокую степень дифференциации налого-вых поступлений в региональные бюджеты по федеральным окру-гам в расчете на 1 куб/м заготовленной древесины. Самые низкие показатели – в Сибирском федеральном округе, который является крупнейшим экспортером древесины и изделий из нее. Самые вы-
49
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
сокие показатели – в ЦФО с очень небольшими объемами экспор-та. ЦФО лидирует и по удельным поступлениям в региональные бюджеты от лесопереработки.
В табл. 3 представлены удельные показатели (в расчете на 1 куб/м заготовленной древесины) налоговых поступлений за 2012 год в региональные бюджеты сибирских и некоторых дальне-восточных регионов от лесопользования, в которых годовой объем рубок превышает 1 млн куб/м (без производства бумаги и целлю-лозы).
Лидерами по бюджетной эффективности лесопользования являются Новосибирская область, Алтайский край и Томская об-ласть. Новосибирская область экспортирует продукты деревоо-бработки преимущественно в Западную Европу и Японию (около 20 % в 2012 г.), Среднюю Азию (40 % в 2012 г.) и на Ближний Восток (ок. 37 % в 2012 г.), и совсем не экспортирует их в КНР. Экспортные потоки древесины и изделий из Алтайского края на-правлены преимущественно в Среднюю Азию (53,5 % в 2012 г.) и Афганистан (35,4 % в 2012 г.). В КНР из Алтайского края вы-возится около лишь 10 % экспортной древесины. Томская область вывозит в Среднюю Азию 52 % экспортной древесины (2012 г), в КНР (35,5 % в 2012 г.) и в Афганистан (12,5 % в 2012 г.).
Рис. 1. Средние удельные налоговые поступления от лесопользования по федеральным округам за период 2010–2012 гг.
Средние величины годовых налоговых поступлений в консолидированные региональные бюджеты РФ от лесопользования за 2010-2012 гг (руб/1куб.м)
0,0
50,0
100,0150,0
200,0
250,0
Рос
сийс
кая
Фед
ерац
ия
Цен
трал
ьны
йф
едер
альн
ый
окру
г
Сев
еро-
Зап
адны
йф
едер
альн
ый
окру
г
Дал
ьнев
осто
чны
йф
едер
альн
ый
окру
г
Сиб
ирск
ийф
едер
альн
ый
окру
г
Ура
льск
ийф
едер
альн
ый
окру
г
При
волж
ский
фед
ерал
ьны
йок
руг
"Обработка древесиныи производствоизделий из дерева"
"Лесное хозяйство"
Итого поступлений
50
VI Международная научно-практическая конференция
Таблица 3 Налоговые поступления в региональные бюджеты
Сибирских Дальневосточных регионов от лесопользования в расчете на 1 куб/м заготовленной древесины, 2012 год
(источник данных – www.nalog.ru, расчеты авторов)
Объем заготовлен.
древесины (тыс. куб/м)
«Обработка древесины и произ-водство изделий из дерева»
«Лесное хозяйство»
Итого п
оступл. р./1куб./м
Налог. поступл.
(тыс. р.)
Налог поступл.
(р./куб.м)
Налог. поступл.
(тыс. р.)
Налог. поступл.
(р./куб.м)
Дальневосточный фе-деральный округ 15
033,7
533 0
37,0
35,5
1 491
923,0
99,2
134,7
Республика Саха (Якутия)
1 571
,0
51 82
0,0
33,0
97 61
5,0
62,1
95,1
Приморский край
3 774
,9
315 1
88,0
83,5
313 8
58,0
83,1
166,6
Хабаровский край
6 939
,6
112 7
71,0
16,3
644 4
09,0
92,9
109,1
Амурская область
1 804
,1
16 09
6,0
8,9
181 0
81,0
100,4
109,3
Магаданская область 87,7
4 031
,0
46,0
15 35
2,0
175,1
221,0
51
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Сибирский феде-ральный округ 56
474,3
1 890
232
33,5
2 137
834
37,9
71,3
Республика Бурятия
2 293
,8
23 16
9,0
10,1
130
992,0
57,1
67,2
Алтайский край
2 982
,0
199 0
56,0
66,8
227 9
59,0
76,4
143,2
Забайкальский край2 3
69,5
13 57
7,0
5,7
85 97
4,0
36,3
42,0
Красноярский край
13 70
0,9
521 5
45,0
38,1
537 5
26,0
39,2
77,3
Иркутская область
25 13
4,0
564 5
68,0
22,5
792 4
33,0
31,5
54,0
Кемеровская область
1 075
,5
56 44
2,0
52,5
41 30
3,0
38,4
90,9
Новосибирская область
1 195
,8
99 55
1,0
83,3
98 45
9,0
82,3
165,6
Омская область
1 965
,4
46 29
3,0
23,6
52 06
2,0
26,5
50,0
Томская область
4 530
,7
340 0
47,0
75,1
104 4
89,0
23,1
98,1
Забайкальский край и здесь имеет самые низкие показатели, как по совокупным поступлениям в региональный бюджет от лесо-пользования, так и по ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева». Низкие показатели поступлений от деревоо-бработки мы видим также у республики Бурятия и Амурской обла-
52
VI Международная научно-практическая конференция
сти – т. е. у регионов, обладающих хорошими инфраструктурными условиями для экспорта в КНР. В Иркутской области, на долю ко-торой приходится почти половина экспорта пиломатериалов СФО, показатели бюджетной эффективности и по лесопользованию в целом, и по деревообработке, в полтора раза ниже средних по округу. Обращает на себя внимание тот факт, что для большинства регионов ЦФО, ПФО бюджетная эффективность ВЭД «Обработка и производство изделий из дерева» существенно выше, чем ВЭД «Лесное хозяйство», дает больший удельный бюджетный эффект, чем лесозаготовки. В то же время для всех регионов СФО и ДВФО – то есть там, где лучшие транспортные условия для экспорта древе-сины в КНР – картина в точности обратная. Это можно объяснить тем, что в последнем случае относительная рентабельность про-изводства круглого леса, как правило, выше, чем рентабельность производства пиломатериалов (из-за высоких тарифов на электро-энергию и трансакционных издержек), а именно они составляют львиную долю продукции лесопереработки в восточных регионах страны.
Пока не ясна роль проектов развития ЛПК, инициированных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения ле-сов» (http://docs.cntd.ru/document/902051628). Практически везде в СФО и ДВФО наблюдается существенное отставание от плана инвестиций. Распространенной практикой стало затягивание вво-да обещанных мощностей глубокой переработки леса, а вместо этого инвесторы, воспользовавшись льготными условиями предо-ставления лесных участков, наращивают объемы рубок и экспорт в КНР круглого леса и пиломатериалов ([4]; http://greenpressa.ru/viewtopic.php?p=9129; http://government.ru/news/2497)
Одним из основных факторов кризисного состояния отрасли большинство исследователей называют низкую заработную плату ее работников, и даже при этом отмечают, что состояние производ-ства находится на грани рентабельности. Об уровне оплаты труда работников можно судить по величине уплаченного подоходного налога, и на этой основе провести межрегиональные сравнения со-циально-экономической эффективности. В Табл. 4 приведены дан-
53
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ные о поступлениях НДФЛ в Сибирских и тех Дальневосточных регионах, которые можно отнести к «лесным». Бросается в глаза разница «на порядок» между лидерами и аутсайдерами по пока-зателю удельных поступлений НДФЛ по ВЭД «Обработка дре-весины и производство изделий из дерева». Например, между Новосибирской областью и Забайкальским краем – почти в 4 раза, ее нельзя объяснить разницей в качестве лесных ресурсов и разни-цей первичных цен. Таким образом, лесопромышленный комплекс Новосибирской области, где общий объем рубок почти вдвое мень-ше, чем в Забайкальском крае, обеспечивает почти вдвое больший фонд заработной платы.
Таблица 4Поступления НДФЛ от лесопромышленного комплекса в расчете на 1 куб/м заготовленной древесины, 2012 год.
(источник данных: www.nalog.ru, расчеты авторов)
Субъекты РФ
Объем заго-товленной древесины (тыс. куб/м)
«Обработка дре-весины и произ-водство изделий из дерева» НДФЛ
(р./ 1 куб.м)
Итого по-ступлений НДФЛ
(р./1куб.м)
Новосибирская область 1 195,8 35,5 94,4
Приморский край 3 774,9 38,4 83,3
Алтайский край 2 982,0 31,6 69,9
Республика Тыва 159,8 8,4 68,5
Хабаровский край 6 939,6 7,9 63,3
Амурская область 1 804,1 3,1 62,1
Красноярский край 13 700,9 21,0 45,3
Кемеровская область 1 075,5 25,3 45,2
Республика Алтай 628,9 7,5 36,7
Республика Бурятия 2 293,8 3,9 35,9
Томская область 4 530,7 22,5 34,5
Республика Хакасия 438,1 6,7 32,9
Иркутская область 25 134,0 13,1 30,0
Омская область 1 965,4 10,9 29,8
Забайкальский край 2 369,5 2,3 24,0
54
VI Международная научно-практическая конференция
Таким образом, можно сделать следующие выводы: − потенциал трансграничного сотрудничества с Китаем, об-
ладающим технологиями комплексного использования лесных ре-сурсов и их глубокой переработки, в Байкальском регионе до сих пор остался неиспользованным. Для модернизации лесопромыш-ленных комплексов здесь необходимо создавать дополнительные стимулы, которые могли бы генерировать соответствующие биз-нес – инициативы и новые формы сотрудничества. С учетом всех сформировавшихся к настоящему времени факторов, одним из наиболее перспективных направлений глубокой переработки дре-весины для Забайкальского края представляется развитие произ-водства топливно-энергетических продуктов на основе древесного сырья в сочетании с высококачественными пиломатериалами и продукции для деревянного домостроения;
− сложившаяся за последние 15 лет модель лесопользования в Байкальском регионе характеризуется низкой бюджетной и со-циальной эффективностью. Она неспособна стать серьезным фак-тором роста региональной экономики. Ее необходимо кардиналь-но изменить, и для этого необходимы изменения государственной лесной политики на региональном уровне. Это в первую очередь относится к формированию новой системы приоритетов – они должны прежде всего отражать задачи повышения благосостояния граждан, а не рост экспорта и доходов лесопромышленных компа-ний. Это не значит, что надо отказываться от задач роста экспорта совсем – но условием любой государственной поддержки и пре-ференций, в том числе в рамках частно-государственного партнер-ства, должны быть высокие показатели бюджетной и социальной эффективности проектов.
Список литературы1. Колесникова А. В. Основные вызовы и проблемы
в развитии отечественного лесного комплекса // ЭКО. 2013. № 11. С. 45–52.
2. Антонова Н. Е. , Юн С. Е. Эффекты от реализации инвестиционных проектов: региональные и корпоративные ожидания (на примере ЛПК Хабаровского края) // Вестник ТОГУ. 2013. № 3. С. 173–182.
55
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
3. Заусаев В. К. Лесная индустрия Дальнего Востока: остался ли за деревьями лес // ЭКО. 2013. № 11. С. 45–52.
4. Антонова Н. Е. , Юн С. Е. Эффекты от реализации инвестиционных проектов: региональные и корпоративные ожидания (на примере ЛПК Хабаровского края) // Вестник ТОГУ. 2013. № 3. С. 173–182.
В. В. Дашеева, канд. филол. наук, доцент Бурятского
государственного университета, г. Улан-Удэ
Межъязыковая передача китайских антропонимов
При рассмотрении вопросов межъязыковой передачи китай-ских имен и фамилий, необходимо обратить внимание на два ос-новных аспекта:
− передача антропонимов с китайского на русский язык;− передача антропонимов с русского на китайский язык.Кроме того, здесь необходимо коснуться также возможности
использования китайских имен иностранными гражданами, в пер-вую очередь теми, кто изучает китайский язык – в качестве про-звищ и псевдонимов.
Китайские имена в русском тексте. При передаче китайских имен собственных на русский язык необходимо учитывать ряд аспектов, как лингвистического, так и культурологического плана. Остановимся вкратце на основных моментах.
Когда-то имена известных китайских деятелей писались в рус-ском тексте несколько иначе, чем это принято в настоящее время, возможно, поэтому до сих пор можно встретить ошибочное на-писание имени Мао Цзэдуна, например: Мао Цзэ Дун или Мао Цзэ-дун [1. C. 397]. Другой распространенной ошибкой является написание буквосочетания Zh в виде дж, так что товарищ Чжан превращается в товарища Джана и т. п.
Итак, перечислим основные правила.При написании китайских имен и фамилий по-русски необхо-
димо использовать современную систему китайско-русской транс-крипции. Она была разработана известным китаеведом Иакинфом (Бичуриным) в 1839 году. Позднее она была несколько видоиз-
56
VI Международная научно-практическая конференция
менена Палладием (Кафаровым) и получила название системы Палладия. Эта транскрипционная система сохранила свои основ-ные позиции и используется в наши дни лишь с незначительны-ми изменениями. Данная транскрипционная система (в некоторых источниках она названа «палладиевской») отражает стандартную произносительную норму – путунхуа. Она является общепринятой и, в данное время, фактически единственной системой записи ки-тайских имен собственных в русском тексте; используется во всех сферах социокультурного пространства Китая [2. C. 96].
Данная система транскрипции учитывает такие фонетические особенности китайского языка, как различие между переднеязыч-ным n и заднеязычным ng, в ней даны руководства по записи не-свойственных русскому языку звуков и звукосочетаний: z, j, zh, yue и т. п. Например: Ren – Жэнь, Zhang – Чжан, Ju – Цзюй, Zao – Цзао, Yue – Юэ, Xiao – Сяо и т. п. [3. C. 47].
Эта система предполагает единообразие – каждый слог фикси-руется именно данным способом, и никак иначе. При этом у каж-дого есть свое особое написание, не совпадающее с написанием других слогов.
Китайские фамилии, как односложные, так и более редкие – двусложные – пишутся с заглавной буквы, причем двусложные пи-шутся слитно: Liu – Лю, Sima – Сыма и т. п.
Фамилии в китайском тексте редко стоят изолированно, они обычно сопровождаются именем, нарицательной номенклатурой, обращением и т. п. : односложная фамилия + односложное имя (Чжан Лэй); двусложная фамилия + односложное имя (Оуян Сю); односложная фамилия + двусложное имя (Ли Сяолун); двусложная фамилия + двусложное имя (Чжугэ Кунмин); фамилия + нарица-тельная номенклатура (различные типы обращений: название по степени родства, положению в обществе, титул, звание) [4. C. 8].
В том случае, если переводчик решает сохранить их наиме-нование по-китайски, такие наименования пишутся со строчной буквы отдельно от фамилии – если они двусложные, и через тире, если они односложные (Ли тунчжи – товарищ Ли, Шэн боши – доктор Шэн, Чжу-цзы – мудрец Чжуан).
Передача антропонимов с русского на китайский язык. Здесь необходимо учитывать основные правила русско-китайской транс-крипции [5. C. 48–49].
57
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Для того, чтобы записать русское имя по-китайски, необходи-мо использовать так называемые «фамильные иероглифы», кото-рые зафиксированы в специальных словарях. Например, напри-мер, формант женских фамилий -ва – это 娃, слог -ше – 社, -тин –京 (например, Путин普京), -кин – 金 (например, Пушкин普希金) и т. д.
Студентам, изучающим китайский язык, интересно не толь-ко научиться записывать свое имя и фамилию по-китайски, им важно знать, каково значение иероглифов, которые входят в со-став их имени. Здесь необходимо объяснить, что хотя значение иероглифов, составляющих имя, нивелируется, имя подвергается реэтимологизации, при этом китайцы выбирают для записи ино-странных имен иероглифы с положительным, этически и эсте-тически высоким значением – 金 «золото», 达 «достижение» и т. п. То же правило характерно и для записи названий стран: 法国 Fǎguó (кит.) ‘Франция’, где 法 fǎ (кит.) ‘закон’, 德国 Déguó (кит.) – ‘Германия’, где 德 dé (кит.) ‘добродетель, душевная чистота, вы-сокая нравственность, гуманность, честность’, 美国 Měiguó (кит.) Америка, где 美 měi (кит.) ‘прекрасный, красивый, изящный’, 英国 Yīngguó (кит.) ‘Англия’, где 英yīng (кит.) ‘цветок, цветущий, лепесток’. Данные примеры наглядно демонстрируют, что при за-имствовании иноязычных имен собственных, китайцы не только опираются на их оригинальное звучание, но и учитывают значение подбираемых для транскрипции иероглифов.
Китайские имена в качестве прозвищ и псевдонимов. Некоторые преподаватели на занятиях по китайскому языку в иноязычной среде предпочитают давать учащимся оригинальные китайские имена и именно этими именами пользуются в учебном процессе. Конечно, в этом есть некий элемент игры, но здесь мож-но обнаружить и глубинный смысл – причем, как минимум, трех-плановый: филологический, культурологический и психологиче-ский [6. C. 99].
С точки зрения филологии: использование китайского имени способствует ознакомлению со структурой китайских антропони-мов, помогает узнать, какие иероглифы используются для мужских и женских имен. Так, студенты самостоятельно определяют, что по формальным признакам отличить мужское имя от женского очень
58
VI Международная научно-практическая конференция
сложно. Только в некоторых случаях в женских именах присут-ствуют форманты 女,艹 и т. п. Можно сопоставить это явление с отсутствием формальных признаков грамматического рода в ки-тайском языке.
Кроме того, изучение популярных китайских имен позволя-ет провести сопоставительный анализ фоносемантических зако-нов китайского и русского языков. Почему, например, российские студентки предпочитают имена типа 玉兰 Юйлань ‘Нефритовая Орхидея’, 夕阳 Сиян ‘Вечерняя Заря’, и реже отдают предпочте-ние именам с не менее красивым значением 青春 Цинчунь ‘Юная Весна’, 日光 Жигуан ‘Солнечный Свет’? Дело в том, что звуки «ц», «ч», «ж», «г» для русского слуха звучат несколько резковато, создают нежелательные ассоциации и не считаются подходящими для женских имен.
Вот, например, от каких имен российские студентки отказа-лись, хотя и признали красоту их смыслового содержания: 春燕Чуньянь ‘Весенняя Ласточка’, 春生Чуньшэн ‘Рожденная весной’, 春兰Chūnlán ‘Весенняя орхидея’ – эти имена не понравились из-за отрицательных ассоциаций с сочетанием «чунь». Возможно, что здесь нашел свое отражение скрытый ассоциативный ряд с рус-ским словом «чунька» в значении «грязнуля, неряха, поросенок». Интересно, что у тех, кто давно изучает китайский язык, долго жи-вет в Китае, эта ассоциация нивелируется, и «чунь» в сознании становится именно «весной». Значение имени 玛瑙 Манао ‘Агат’ очень понравилось девушке по имени Агата, но его звучание, напо-минающее русский жаргонизм «манать» – то есть «игнорировать, пренебрегать, надоедать» заставило ее от имени отказаться. Имя 月光 Юэгуан ‘Лунный Свет’ первоначально привлекло студентку по имени Светлана – из-за сходства с ее собственным именем. Но затем, «примерив» его на слух, она решила, что звук «г» звучит резковато, и она выбрала другое имя: 明月Минъюэ ‘Светлая, ясная луна’.
С точки зрения культурологии: конечно же, китайское имя, которое носитель отныне соотносит с самим собой, побуждает его больше узнавать о феноменах китайской культуры. Например, почему 月光 Юэгуан ‘Лунный Свет’ – это женское имя, а 东光
59
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Дунгуан ‘Свет с Востока’ – сугубо мужское? С чем у китайцев ас-социируются луна и восток? Девушка, получившая в качестве ки-тайского имени 咏梅 Юнмэй ‘Поющая Слива’ узнает, что咏梅 – это известная китайская актриса и старается больше узнать о ней, ее фильмографии. И с большим интересом смотрит китайские филь-мы с ее участием. Кстати, студентка, которая выбрала для себя это имя, тоже хорошо поет, и с удовольствием участвует в междуна-родных конкурсах, помещая в заявку наряду со своим именем – и этот китайский «псевдоним».
Кроме того, русская Юнмэй, как и носитель имени 雪梅Сюэмэй ‘Снежная Слива’, читает учебный текст о цветке 梅花 – символе стойкости духа китайской нации с глубоким личностным интересом, а значит и информация, содержащаяся в этом тексте, станет для нее интересней, ближе и понятней.
И, наконец, самый скрытый – третий пласт присвоения ки-тайских имен иностранным студентам. С точки зрения психо-логического развития личности, имя является одним из средств идентификации и самовыражения человека [7. C. 233]. Иногда вы-бор имени для того или иного учащегося лежит на поверхности: Саяна – это горы, горы заснеженные – значит, ей подойдет имя 雪山 Сюэшань ‘Снежные Горы’. Или по созвучию – той же Саяне мо-жет понравиться имя 夕阳Сиян ‘Вечерняя Заря’. Эржэна (это бу-рятское имя переводится как «перламутр») выбрала для себя имя珍珠 Чжэньчжу ‘Драгоценный Жемчуг’.
Но в российской традиции имена даются на начальном эта-пе существования человека. При этом родители руководствуются мотивами благозвучности, эстетичности имени, часто имя дают в качестве пожелания: Роза – «хотим, чтобы девочка выросла пре-красной, как роза». Порой имя дается в честь кого-то – родствен-ника или знаменитого деятеля науки, культуры и т. п. Проблема состоит в том, что в первые дни существования человека еще не проявился его характер, предпочтения, он еще не сформировался, как личность. Поэтому и появляются в дальнейшем дополнитель-ные имена: не официальные, но порой удачно заменяющие, а в не-которых коммуникативных ситуациях полностью вытесняющие официальное имя. Это такие социолингвистические феномены как прозвища, псевдонимы.
60
VI Международная научно-практическая конференция
Именно потому, что человек может осознавать себя не совсем таким, каким он обозначен для окружающих в его имени, имя ки-тайское он выбирает себя очень далеким от оригинала. Например, девушка, по имени Роза отказывается от его китайского соответ-ствия 玫瑰Мэйгуи ‘Роза’, а выбирает, например, имя 白雪 Байсюэ ‘Белый Снег’, которое кажется ей ближе ее собственному психоти-пу. В этом смысле китайское имя сродни «аватарке» в социальных сетях: человек выражает себя таким, каким он сам себя видит или хочет, чтобы его видели окружающие [8, C. 43]. Так, у Агаты, вы-бравшей себе в качестве китайского псевдонима имя 流星 Люсин ‘Метеор’, в социальной сети ВКонтакте на «аватарке» изображена падающая звезда…
Таким образом, хотя и высок процент тех, кто выбирает себе китайское имя, похожим на свое оригинальное имя, – по звуча-нию или по значению, но порой те, кто учатся, живут и работают в Китае, носят китайское имя, которое дается исходя больше из черт характера, а не из фонетических или смысловых соответствий.
Список литературы1. Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и прак-
тика межъязыковой передачи. М.: Р.Валиент, 2005. 416 с.2. Концевич Л. Р. Китайские имена собственные и тер-
мины в русском тексте. М.: Муравей, 2002. 263 с.3. Концевич Л. Р. Китайские имена собственные и тер-
мины в русском тексте. М.: Муравей, 2002. 263 с.4. 起名八十八法=88 способов имянаречения. Гуанси,
2003. 522 с.5. Концевич Л. Р. Китайские имена собственные и тер-
мины в русском тексте. М.: Муравей, 2002. 263 с.6. Дашеева В. В. Роль антропонимии в обучении ки-
тайскому языку // Современные проблемы и перспективы развития китаеведного образования в Байкальском регионе: материалы науч.-пр. семинар. с междунар. уч. Чита : ЗабГУ, 2013. С. 98–103.
7. 巨天中 姓名与人生=Цзюй Тяньчжун. Антропонимы и жизнь человека. Пекин, 2009. 250 с.
8. Дашеева В. В. Воспитательная функция китай-ских фамилий // Вестник Бурятского государственного уни-верситета. 2013. № 8. С. 40–44.
61
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
А. В. Жуков, д-р филос. наук, профессор Забайкальского
государственного университета, г. ЧитаА. А. Жукова,
канд. филос. наук, старший научный сотрудник научно-образовательного музейного центра Забайкальского
государственного университета, г. Чита
Факторы конструирования и воспроизводства образов Китая на территории Забайкалья
Интерес к Китаю актуален в Забайкалье, так как эти террито-рии находятся в непосредственном контакте, и здесь особенно ощу-щается присутствие мощной цивилизации с ее пятитысячелетней историей и богатейшей культурной традицией. Огромное внима-ние к текущим событиям, происходящим в соседней державе, не-изменно сопровождается интересом к идео логии и культуре древ-него и средневекового Китая, к прошло му великого китайского на-рода [1. С. 3]. Россияне, проживающие на территории Забайкалья, являются наследниками, как русской, так и восточной культуры, поэтому влияние на них образности, связанной с Китаем, имеет глубокие корни и связь, проявляющуюся через региональные ар-хетипы и традиции мировосприятия. Предметом нашего анализа являются ментальные конструкции, распространенные среди них и содержащие информацию о Китае и китайцах, понимаемые как мифологические образы.
На процессы проникновения мифологических образов Китая в сознание населения Забайкалья исторически влияло несколько факторов, наиболее значимым из которых является геополити-ческое положение этого региона. Он занимает одну из наиболее стратегически значимых зон Евразии, сформированную на грани-це взаимодействия крупнейших природно-ландшафтных районов субконтинентов Центральной внетропической и Северной Азии [2. С. 4]. Крупнейшую из сопредельных восточных цивилизаций для Забайкалья представляет Китай. Его северные рубежи явля-ются контактными зонами религиозного, межцивилизационного общения с культурами народов региона. Несмотря на цивилиза-ционную специфику китайцев, которые с древности выделяются
62
VI Международная научно-практическая конференция
своим менталитетом, религией, жизненными идеалами, культур-ными ценностями, традициями, языком, и т. д. исторически суще-ствует область этнокультурного взаимодействия между Китаем и окружающими народами. Это область сопряжена с понятием межгосударственной и культурной границы. Применительно к пограничной реальности с Китаем, теоретические положения В. М. Найдыша, позволяют нам сказать, что рациональное разре-шение противоречия «тайны о Китае», который находится за гра-ницей, и «проблемы, которую представляет Китай», которая нахо-дится по эту сторону границы, являют собой источник для мифот-ворчества о Китае [3. С. 533].
Вторым важным фактором, обуславливающим возникновение мифотворчества о Китае на территории Забайкалья, является факт использования языка, в котором, люди смешивают в единое целое сознательные и бессознательные слои своего сознания. В контек-сте проблематики межкультурного взаимодействия, проходяще-го в зоне китайского приграничья важно понять, что у народов Забайкалья длительное время происходило тесное взаимодействие с китайской цивилизацией. Однако, несмотря на довольно дли-тельное и плотное соприкосновение этих культур, китайских слов в языки забайкальских этносов проникло довольно мало. Особенно мало их в русском языке. Это объясняется тем, что в большинстве случаев межэтнического общения китайцы сами учили обычаи и языки народов, с которыми им приходилось налаживать контакт. Они практично извлекали все выгоды из своей цивилизованности, оставляя непросвещенным соседям возможность объясняться и думать о себе на родном языке [4. С. 25]. В частности, русские Забайкалья всегда старались общаться с китайцами на русском, не стараясь учить китайский, что влекло за собой проблемы интер-претации, т. е. перевода и являлось предпосылкой для этнического мифотворчества [5. С. 41]. Сегодня повествования, отражающие представления о том, каким народом являются китайцы, распро-страненные на уровне обыденного, массового сознания, необходи-мо определять как миф, хотя бы той причине, что представления и словесные выражения китайцев о самих себе отличаются от них.
Третьим фактором проникновения образов Китая в Забайкалье является то, что начиная с бронзового века, территории региона
63
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
включились в процесс развития центральноазиатской цивилиза-ции, представляя собой отдельную историко-культурную область. Со своей стороны пространства, прилегающие к озеру Байкал, на протяжении длительного времени являются одними из значимых и интересных для Китая, который неизменно претендуют на уси-ление своего влияния в Центральной Азии. Интересы китайцев на территории Забайкалья в этот период сталкивались с племе-нами массы тюрко-, монголо- и тунгусо- язычных кочевников [6. С. 5]. Несмотря на то, что эти племена с древности отличались во-инственностью и неуправляемостью, между ними и Китаем неиз-менно проходили процессы взаимодействия и обмена различными мифологическими идеями. С того времени как центрально-азиат-ские страны, их культуры и религии исторически оказывают воз-действие на сознание народов Забайкалья, образность, берущая истоки в китайской культуре, начинает проявлять себя в наиболее значимых мировоззренческих символах [7. С. 7]. Исследования показывают, что на образность народов Забайкалья, так же как народов Центральной Азии, существенное влияние оказали две идеи, берущие начало в культуре Китая. Наиболее заметное ме-сто принадлежит идее поклонения Небу в лице императора, вы-ступающего в образе сына Неба. У народов региона она высту-пила в качестве культа Вечно Синего Неба и героя, рождаемого девственницей. Вторая идея, пришедшая из Китая, была связана с распространяемым ламаистскими священниками поклонением локальным духам и духам предков и культом тибетского буддизма, который на территории Забайкалья был поддержан маньчжурским правительством [8. С. 18].
Четвертым фактором, определившим особенности процес-сов проникновения и усвоения китайских образов населением Забайкалья, стало присоединение этих территорий к России в XVII в. и их дальнейшее совместное существование. Россия является од-ним из крупных многонациональных государств, сохраняющих специфические особенности народных и религиозных культур. Крупнейшим народом России являются русские [9. С. 306], кото-рые по разным причинам прибывая на территорию Забайкалья, сталкивались здесь со сложившимся мировоззренческим комплек-
64
VI Международная научно-практическая конференция
сом, элементом которого в течение долгого времени были обра-зы и символы, связанные с Китаем. Важно, что интеграционные процессы в условиях региона приводили к тому, что в условиях совместного выживания, представители различных этносов и ре-лигий формировали определенное ментальное единство, включа-ющее вероятность смешанного сосуществования различных ми-ровоззренческих конструкций. Сегодня на территории Забайкалья проживают россияне, среди которых выделяется два основных субъекта межэтнического общения – русские и буряты. Два народа давно знают друг друга, история их тесного общения насчитыва-ет более трехсот лет. Поэтому, несмотря на то, что среди них и отмечается наличие сложной сети идентификаций, тем не менее, преобладающей является общая идентификация, определяющая и тех и других как «россиян», к которой присоединяются и другие этнические группы. К настоящему времени большинство этниче-ских групп, вступивших в процессы активного взаимодействия в XVII–XIX вв., на территории Забайкалья слились во внешне еди-ную территориальную общность, именуемую «Забайкальцы» [10. С. 175].
Термин «забайкальцы» не только означает местожительство, забайкальцам присущ свой менталитет, основной характеристикой которого является толерантность, сложившаяся как результат вза-имодействия различных миров. В основе сообщества забайкаль-цев – отражение общности и, вместе с тем, признания этнического много- и разнообразия народов, населяющих этот край. Вместе с этим все эти группы на территории региона выделяют одного эт-нического соседа, который находится на этой же территории, но, тем не менее, всегда понимается как «Чужой» – это китайцы. По отношению к нему, как к «Чужому» между забайкальцами рас-пространяются разнообразные виды этнических «стереотипов» и предубеждений. Для нас важно осознание того, что мы проводим исследования процессов восприятия образа «Чужого», который воспринимается, а затем репрезентируется в сознании народов и людей, понимаемых нами, как «Свои».
Пятым фактором развития упомянутых процессов межконфес-сионального взаимодействия в современном Забайкалье являются
65
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
процессы взаимодействия между мировой глобализирующейся, российской и китайской культурами. Тенденции к глобализации социокультурной жизни приводят многих забайкальцев к отказу от прежних мировоззренческих ориентиров и кризису национальной и культурной идентичности. В связи с изменением ценностных ориентаций подвергаются переосмыслению ценности традици-онной жизни и поиск новых, действенных ценностей. Среди них ценности, предлагаемые Китаем, одной из ведущих цивилизаций мира, его культурой и религиями, занимают далеко не последнее место. Начало XXI в. для забайкальцев ознаменовалось усилени-ем влияния Китая, экономическая и культурная экспансия которо-го проявляется во многих сферах мировой цивилизации. Это об-стоятельство подметил известный китаист А. Г. Ларин, согласно мнению которого, для россиян характерна обеспокоенность актив-ностью граждан Китая на территориях, которые все больше вы-падают из сферы российских интересов [11. С. 94]. Это объектив-но приводит к всплеску мифотворческой активности вокруг этой страны, ее культуры, этнических представителей.
Подведем итоги:– идейное взаимодействие народов Забайкалья с Китаем, при-
ведшее к заимствованию ряда культурных моделей и явлений, обе-спечивает высокий уровень конструирования и распространения среди них мифологических образов Китая. Причиной этого явле-ния является ментальный процесс дистанцирования себя от «дру-гих», через который «некитайцы», находящиеся в контакте с ки-тайцами, пытаются осмыслить свою непохожесть и свое отличие от соседей, утверждая свою идентичность. Вместе с этим данный процесс свидетельствует об особом характере китайской культуры и мировоззрения его носителей, изначально задающих мифологи-ческий контекст явлениям, связанным происхождением с Китаем. Мифологические образы Китая присутствуют в большинстве сфер жизни населения на территории Забайкалья, и этот факт свиде-тельствует о многообразии и разнообразии китайской культуры;
– основным результатом работы является выделение авторами основных факторов воспроизводства и распространения мифоло-гических образов Китая, среди которых выделяется геополитиче-
66
VI Международная научно-практическая конференция
ский фактор, указывающий на пограничное положение региона между Россией с ее ориентированной на Европу культурой и язы-ком, и Китаем, чье влияние длительное время является преобла-дающим в центральной Азии. Распространению мифологических образов Китая способствуют: различие менталитетов и языков у населения, проживающего по разные стороны границы с Китаем; исторические процессы, связанные с периодом длительного вхож-дения Забайкалья в ареал центрально-азиатской цивилизации, где значительное влияние имело китайское мифотворчество; присо-единение этих территорий к России в XVII в. и их дальнейшее совместное существование; современные процессы распростране-ния мировой глобализирующейся культуры.
Список литературы1. Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и прак-
тики. М.: Изд-во «Наука», 1982. 264 с.2. Природная среда и человек в неоплейстоцене /
Л. В. Лбова [и др.]. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2003. 208 с.3. Найдыш В. М. Философия мифологии. От антично-
сти до эпохи романтизма. М.: Гардарики, 2002. 544 с.4. Морозова В. С. Региональная культура в социокуль-
турном пространстве российского и китайского приграни-чья: автореф. дис. … д-ра. филос. наук: 09.00.13. Чита, 2013. 43 с.
5. Демидова Н. Ф. , Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае. Роспись И. Петлина и статейный спи-сок Ф. И. Байкова. М.: Наука, 1966. 156 с.
6. Буряты / отв. ред. Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская. М.: Наука, 2004. 633 с.
7. Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука, 1980. 256 с.
8. Абаев Н. В. , Фельдман В. Р. , Хертек Л. К. «Тэнгрианство» и «Ак-Чаяан» как духовно-культурная ос-нова кочевнической цивилизации тюрко-монгольских на-родов Саяно-Алтая и Центральной Азии // Социальные процессы в современной Западной Сибири: сборник науч-ных статей. Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 2002. С. 10–18.
67
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
9. Логинов А. В. Поликонфессиональность россий-ской цивилизации // Российская цивилизация / под общ. ред. М. П. Мчедлова. М.: Академический проект, 2003. С. 306–310.
10. Васильева К. К. , Мельницкая С. А. Менталитет со-циокультурных обществ Забайкальского края. Чита: ЧитГУ, 2008. 210 с.
11. Ларин А. Г. Российско-китайские отношения и китайские мигранты в оценке россиян (продолжение) // Проблемы Дальнего Востока. 2008. № 6. С. 81–95.
И. А. Забелина, канд. экон. наук, научный сотрудник Института
природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,доцент Забайкальского государственного
университета, г. ЧитаЕ. А. Клевакина,
канд. экон. наук, научный сотрудник Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, доцент
Забайкальского государственного университета, г. Чита
Сравнительный анализ динамики эко-интенсивности хозяйственной деятельности в
отдельных приграничных регионах РФ и КНР1
Двусторонние отношения между РФ и КНР существуют и раз-вививаются на протяжении длительного периода времени, являясь важным элементом мировой политики. Взаимодействие в сфере политики, экономики, культуры и т. д. реализуется в соответсвии с принятыми документами, а территории, прилегающие к грани-це, испытывают соответсвующие влияние и играют особую роль в процессе его реализации. Поддержание стабильного экономи-ческого роста, наблюдающегося в КНР в последние годы, требу-ет вовлечения большого количества ресурсов, что отражается на структуре импорта. В работе выполнен сравнительный анализ ди-
1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследова-ний Президиума РАН «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал», Проект СО РАН IX.88.1.6.
68
VI Международная научно-практическая конференция
намики качества экономического роста в приграничных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также северо-востока КНР, основанный на использовании индикатора эко-интенсивно-сти. Он определяет степень негативного воздействия на природные ресурсы и среды в расчете на единицу экономического результата (в частности валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт) и позволяет оценить насколько затратным является эконо-мический рост с точки зрения потребления экологических благ [1]. Статистические особенности исчисления показателей загрязнения окружающей среды в РФ [2] и Китае [3] не позволяют непосред-ственно выполнить сопоставление, но характеризуют динамику интенсивности воздействия хозяйственных систем на природные среды, на рассмотрении которой и сфокусирована данная работа. В соответствии с основными оказываемыми видами негативного воздействия, рассмотрим эко-интенсивность сбросов сточных вод, загрязнения атмосферы и образования отходов.
Эко-интенсивность сбросов сточных вод. В российских при-граничных регионах структура стоков значительно различает-ся: большинство сточных вод в Забайкальском крае не являются загрязненными – 69 % (2010 г.), в Хабаровском крае – 44 %, а в Амурской области, Еврейской автономной области и Приморском крае объем не загрязненных сбросов составляет от 11 до 24 %. В КНР в 2010 около 3/5 стоков приходилось на ЖКХ и 2/5 на про-мышленность. Доля промышленных сточных вод, соответствую-щих национальным (или местным) стандартам в отношении всех загрязняющих веществ в КНР, составляет лишь 35 % от общего объема промышленных стоков, а в приграничных регионах севе-ро-востока КНР за рассматриваемый период наблюдается ее сокра-щение.
Увеличивающееся в период интенсивного экономического роста воздействие на окружающую среду в Китае представля-ет собой огромную проблему как для жителей страны, так и для всего мирового сообщества. Неочищенные сбросы содержат боль-шой объем различных токсических веществ, которые в конечном итоге попадают в океан. В последние годы как в России, так и в Китае наметилась устойчивая тенденция к сокращению значения индикатора «эко-интенсивность сбросов сточных вод» (рис. 1).
69
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Максимальное снижение интенсивности данного вида негатив-ного воздействия наблюдалось в Забайкальском крае – на 55 %, Приморском крае – на 31 % и в целом по стране – на 31 % за пери-од с 2003 по 2009 годы. В Китае, а также его приграничных реги-онах, снижение удельных показателей также весьма существенно: провинция Хэйлунцзян – 55 %, Внутренняя Монголия – 46 % и средний показатель по стране – 38 % (2003–2010 гг.).
При этом стоит отметить, что снижение эко-интенсивности сброса сточных вод произошло преимущественно за счет суще-ственного роста макроэкономических показателей приграничных регионов и страны в целом, а не благодаря снижению данного вида экологической нагрузки. Так, за рассматриваемый временной интервал валовой внутренний продукт Китая в сопоставимых це-нах вырос на 108 %, а валовой региональный продукт провинций Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия – на 120 и 235 % соответ-ственно. При этом сокращение объема сбросов сточных вод на-блюдалось лишь в провинции Хэйлунцзян – на 23 % за период с 2003 по 2010 годы. В целом по стране ситуация не изменилась – объем сточных вод сократился лишь на 0,2 %, а во Внутренней Монголии показатель существенно вырос – на 68 % за рассматри-ваемый период.
Рис. 1. Динамика эко-интенсивности сбросов сточных вод, 2003–2010 гг.
Эко-интенсивность загрязнения атмосферы. В обеих странах на долю электроэнергетики приходится большой объем выбросов, в структуре которых присутствуют диоксид серы и твердые части-
70
VI Международная научно-практическая конференция
цы. Диоксид серы, накапливаясь в атмосфере, приводит к выпа-дению кислотных осадков, воздействующих на почвы. Угольные ТЭЦ в Китае работают преимущественно на собственных ископа-емых низкого качества, зольность которых достаточно высока, а более качественный энергоноситель при этом может поставляться на экспорт. Согласно Гринпис [4] загрязнение атмосферы мелкоди-сперсными частицами наносит существенный вред местному на-селению, способствуя росту преждевременной смертности, онко-логических заболеваний и заболеваний дыхательных путей. В со-ставе энергосистем Сибири и Дальнего Востока также присутству-ют угольные ТЭЦ, поэтому перспектива экспорта электроэнергии из этих регионов в страны Азии имеет неоднозначную оценку.
Рис. 2. Динамика эко-интенсивности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 2003–2010 гг.
В последние годы в РФ и отдельных приграничных регионах (Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области) наметилась устойчивая тенденция к со-кращению значения показателя «эко-интенсивность загрязнения атмосферы» (рис. 2). Только в Амурской области существенных измений в отношении интенсивности данного вида негативного воздействия не произошло. Практически во всех рассматриваемых регионах интенсивность загрязнения атмосферы несколько выше среднего уровня по стране, а в Амурской области – в 1,5 раза.
За анализируемый временной интервал существенного изме-нения в значениях индикатора «эко-интенсивность загрязнения атмосферы» для приграничных регионов и Китая в целом не про-
71
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
изошло, а по стране наблюдается тенденция к росту. В кризис-ный период 2008–2009 гг. очевидных изменений в интенсивности хозяйственной деятельности как приграничных регионов, так и стран в целом не выявлено.
Анализ эко-интенсивности в разрезе загрязняющих веществ показал, что в каждом регионе наблюдается снижение удельного негативного воздействия как в отношении диоксида серы, так и твердых частиц (пыли и сажи). К 2010 г. почти в половину сокра-тилась эко-интенсивность загрязнения твердыми веществами в Хабаровском и Забайкальском краях, примерно на треть – в РФ, Амурской области и Приморском крае. Эко-интенсивность за-грязнения диоксидом серы в половину сократилась в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях, на треть – в РФ и на 16 % в Амурской области. При этом интенсивность за-грязнения выбросами твердых частиц в приграничных регионах РФ по-прежнему остается в несколько раз выше среднего зна-чения по стране, а диоксидом серы выше – в Амурской области, Забайкальском и Приморском краях (2010 г.). Динамика соответ-свующих показателей в Китае несколько лучше. Так, в стране по-казатели эко-интенсивности загрязнения диоксидом серы и твер-дыми частицами (измеренные в национальной валюте) сократи-лись в 2 и 4 раза соответственно, во Внутренней Монголии – в 3 раза, а в Хэйлунцзян – в 1,25 и 3 раза соответственно.
Эко-интенсивность образования отходов. В связи с обозна-ченными направлениями международного взаимодействия в про-граммных документах [5] в некоторых приграничных регионах (в том числе и в Забайкальском крае) приоритетное развитие полу-чает добывающая отрасль региона, которая оказывает наиболь-шее негативное воздействие на окружающую среду в отношении образования отходов. Так, при существующих производствен-ных технологиях процесс изъятия полезных ископаемых в реги-онах сопровождается образованием большого количества отходов вскрышных пород при разработке новых участков месторождений. В 2011 году при производстве 1 тонны угля в Забайкальском крае было образовано 3 тонны отходов, а 1 тонны урана – почти 7 тыс. тонн отходов. При этом при добыче топливно-энергетических ре-сурсов наблюдается тенденция опережающего роста объемов от-
72
VI Международная научно-практическая конференция
ходов производства и потребления: при относительном увеличе-нии объемов добычи угля на 17 % количество отходов изменилось на 177 % с 2010 по 2011 годы.
В 2010 году большинство граничащих с Китаем регионов ха-рактеризовались достаточно высокими показателями эко-интен-сивности образования отходов производства и потребления. В це-лом экономическое развитие в КНР характеризуется более низкой эко-интенсивностью экономики и более стабильной динамикой (рис. 3) в отношении образования отходов.
Рис. 3. Динамика эко-интенсивности образования отходов, 2004–2010 гг.
Таким образом, в большинстве рассмотренных случаев наблю-дается снижение эко-интенсивности хозяйственной деятельности. Особенно важно, что сокращение удельного негативного воздей-ствия происходит и за счет уменьшения экологической нагрузки и роста экономических результатов незагрязняющих производств. Однако, следует отметить тот факт, что в условиях слабой дивер-сификации региональных экономик восточных территорий России существует опасность закрепления экспортно-сырьевых тенден-ций, что будет способствовать не только пассивной интеграции в хозяйственные системы регионов сопредельного государства, но и увеличению экологической нагрузки на природные среды при-граничных регионов [6]. В сложившейся ситуации особенно важно сохранить направленность на достижение «собственных интере-сов» субъекта, в числе которых должно присутствовать обеспече-ние качества жизни местного населения, в том числе приемлемого состояния окружающей среды.
73
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Список литературы1. Экологические индикаторы качества роста ре-
гиональной экономики / под ред. И. П. Глазыриной, И. М. Потравного. М.: НИА-Природа, 2005. 326 с.
2. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru (дата обращения: 01.10.2013).
3. National Bureau of Statistics of China. URL: http://www.stats.gov.cn/english/ (дата обращения: 01.10.2013).
4. Загрязнение от угольных электростанций ежегодно вызывает тысячи смертей. URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2013/20–06-Coal-power-plants-in-China/ (дата обращения: 01.10.2013).
5. Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009 - 2018 годы). URL: http://www.minregion.ru/upload/documents/2010/04/dv-knr-programm.doc (дата об-ращения: 01.04.2013).
6. Глазырина И. П. Минерально-сырьевой комплекс в экономике Забайкалья: опасные иллюзии и имитация мо-дернизации // ЭКО. 2011. № 1. С. 19–35.
Т. В. Колпакова, канд. филос. наук, доцент Забайкальского государственного университета, г. Чита
Конструктивные и деструктивные факторы интеграционного взаимодействия приграничных регионов России и Китая
(на примере Байкальского региона РФ и Северо-Восточного региона КНР)1
В начале XXI в. происходит усиление интеграционного взаи-модействия между Россией и Китаем: углубляется политическое доверие государств, совершенствуются механизмы взаимообме-нов, расширяются сферы сотрудничества, поступательно разви-ваются связи между приграничными регионами. Значимость раз-вития между двумя странами равноправного доверительного пар-тнерства, ориентированного на стратегическое взаимодействие,
1 Статья подготовлена в рамках научного исследования, поддержанного Советом по грантам Президента РФ МК-4300.2014.6
74
VI Международная научно-практическая конференция
является неоспоримой. Данный факт подтверждает подписанный в июле 2001 г. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Современный этап российско-китайского партнерства осно-вывается на глобально-стратегических интересах обеих стран. Стремительно развивающийся Китай поступательно наращивает свою глобальную значимость. Сегодня КНР стремится к равно-правному сотрудничеству с мировым сообществом для поддержа-ния глобальной и региональной стабильности. В данных условиях стратегическое партнерство с Россией помогает Китаю обеспечи-вать свое развитие в региональном и глобальном масштабах, а так-же противостоять попыткам Запада в его сдерживании.
Для России же значимость взаимодействия с Китаем опре-деляется приоритетом восточного направления внешней поли-тики и внешнеэкономической деятельности, что обусловлено не-обходимостью для России найти свое место в АТР, прежде всего в Северо-Восточной Азии, представляющих сферу ее жизненно важных интересов [1].
Совпадение коренных национальных интересов РФ и КНР является одним из наиболее важных факторов социально-эконо-мического развития России, особенно ее восточных регионов. Для российского приграничья (прежде всего, приграничных субъектов Байкальского региона и Дальнего Востока) Северо-Восточный регион КНР в настоящее время становится все более значимым фактором развития. При этом необходимо отметить, что взаимо-действие российского приграничья с сопредельными территори-ями КНР обладает как конструктивными, так и деструктивными характеристиками.
К числу конструктивных факторов интеграционного взаимо-действия Байкальского региона РФ с Северо-Восточным регионом КНР можно отнести следующие:
– реализация азиатского вектора геополитической страте-гии России. По мнению Б. Л. Раднаева, основными глобальными силами, которые в ближайшей перспективе будут воздействовать на Россию, являются собственно процесс глобализации и расту-щая мощь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего
75
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Китая [2. С. 285]. Говоря о Сибири и Дальневосточном регионе, необходимо отметить, что наибольшим стратегическим значением обладают приграничные территории, имеющие трансграничные функции. В этом контексте, также как Приморье и Хабаровский край, Байкальский регион, включающий в себя три субъекта Российской Федерации – Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край, в перспективе может стать стратегической территорией не только для азиатской части России, но и для стран восточной Азии.
С точки зрения стратегической значимости, Байкальский ре-гион, будучи частью российско-китайского трансграничья, имеет большое значение для устойчивого социально-экономического развития России, для реализации ее геополитических интересов, обеспечения национальной безопасности, привлечения и закре-пления на данной территории национальных и транснациональ-ных корпораций, для продвижения своих интересов на междуна-родной арене и т. д.;
– взаимодополняемость экономик России и Китая. На сегод-няшний день экономика КНР является одной из самых мощных и широко диверсифицированных в мире, что говорит о возможности реализации широкого спектра направлений достаточно масштаб-ного сотрудничества. При этом из-за географической удаленности и высокой стоимости транспортных тарифов, Байкальский регион, как и все дальневосточные территории России, находится в усло-виях экономической изоляции от «Центра», что ставит их перед необходимостью активного экономического и гуманитарного вза-имодействия с соседними странами. В условиях низкого уровня экономического потенциала и при наличии сравнительно емкого потребительского рынка, начиная с середины 1990-х гг. произошла вынужденная переориентация российского приграничья на рынки Китая и других стран АТР.
Говоря о внешнеэкономическом сотрудничестве Байкальского региона с сопредельными провинциями КНР, необходимо при-знать, что основной составляющей являются ресурсы. Несмотря на то, что Северо-Восточный регион Китая отличается достаточно богатым природно-ресурсным потенциалом, в сложившихся усло-
76
VI Международная научно-практическая конференция
виях широкомасштабного и ресурсозатратного производства сегод-ня китайская сторона испытывает очевидный дефицит энергетиче-ских и ряда других видов ресурсов, которые в свою очередь может предложить Россия. С другой стороны, Китай обладает широкими возможностями для экспорта широкого ряда товаров, прежде всего продукции легкой промышленности, сельского хозяйства и быто-вой электроники, которыми ни Байкальский, ни Дальневосточный регионы не способны обеспечить себя самостоятельно;
Китай – один из основных поставщиков трудовых ресурсов. В конце XX – начале XXI вв. в связи с изменением политической и экономической ситуации в России произошли резкие нарушения в социально-экономическом развитии Байкальского региона. Это привело к снижению уровня жизни населения и, как следствие, к сокращению его численности: уменьшилась рождаемость, уве-личилась смертность, усилился и миграционный отток людей. Данная тенденция обусловила серьезный дефицит трудовых ре-сурсов на территории региона.
Потребности Дальневосточного и Байкальского регионов в ра-бочей силе, прежде всего в отраслях, не требующих квалифициро-ванных кадров, обусловливают привлечение в регион иностранной рабочей силы. Зарубежные трудовые мигранты, как правило, зани-мают на рынке труда те ниши, которые в силу тяжелых и вредных условий труда оказались невостребованными жителями региона. При этом в приграничные регионы России привлекаются кадры из КНР, Вьетнама, стран СНГ, но в наибольшей мере из Китая.
Иностранные трудовые мигранты заняты в таких сферах как строительство, общественное питание, розничная торговля, сель-ское хозяйство, промышленность. При этом по прогнозам экс-пертов, количество иностранных граждан на рынке Байкальского региона будет увеличиваться. Наиболее значимым источником ра-бочей силы является Китай, даже несмотря на реализацию доста-точно жесткой политики по ограничению въезда рабочих мигран-тов из КНР на территорию России. В условиях экономической от-сталости и дефицита трудовых ресурсов использование китайской рабочей силы необходимо увязывать с социально-экономическим развитием приграничных субъектов российской Федерации [3], в том числе и Байкальского региона. В контексте усиления «ки-
77
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
тайского фактора» в развитии Дальневосточного и Байкальского регионов привлечение трудовых ресурсов из Китая – это один из наиболее вероятных сегодня сценариев развития производитель-ных сил данной части России.
Однако наряду с конструктивными факторами, оказывающи-ми положительное влияние на развитие Байкальского и других граничащих с КНР регионов, следует отметить и явно негативные. Основными деструктивными для российской стороны факторами, лимитирующими развитие территориально сопряженных с Китаем регионов, следует рассматривать:
− отсутствие четкого понимания роли и места Байкальского региона во внешнеполитической стратегии государства. Несмотря на осознание стратегической значимости развития Байкальского региона, что отражено в утвержденной в декабре 2009 г. Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, за дан-ными регионами не закреплены какие-либо конкретные функции, способствующие продвижению внешнеполитических интересов России в АТР. Так, например, стратегия развития северо-восточ-ного Китая предусматривает следующую спецификацию внеш-неполитической и внешнеэкономической деятельности террито-риально-административных единиц, входящих в данный регион: провинция Ляонин, с учетом географического положения, ориен-тируется на Японию и Южную Корею; провинция Цзилинь, име-ющая в своей административной структуре корейский националь-ный округ Яньбянь, – на Южную и Северную Корею и Россию; провинции Хэйлунцзян правительством отведена роль главного посредника между провинциями Китая и странами СНГ [4, С. 26]. Отсутствие подобной спецификации среди приграничных субъ-ектов Российской Федерации приводит к тому, что каждый реги-он пытается выстраивать самостоятельный внешнеполитический курс, руководствуясь лишь собственными экономическими инте-ресами и возможностями без учета общих внешнеполитических интересов государства;
− зависимость внутреннего рынка от китайского импорта. В условиях низкого уровня развития экспортной составляющей Байкальского региона, основными позициями в структуре экс-
78
VI Международная научно-практическая конференция
порта региона являются производство и реализация древесины с низкой степенью переработки, продукции цветной металлургии и горнодобывающей промышленности. Неразвитое импортозамеща-ющее производство обусловливает высокую зависимость потреби-тельского рынка от импорта. В связи с отсутствием собственной продовольственной базы и развитой пищевой промышленности в регион необходимо завозить извне до 70 % отдельных видов про-довольственных товаров. При этом необходимо отметить, что за-частую импортируемый из Китая товар отличается крайне низким качеством;
− низкий уровень развития перерабатывающей промышлен-ности, тенденция к превращению региона в сырьевой придаток. Широкий объем импорта сравнительно дешевых китайских това-ров легкой, текстильной промышленности и сельского хозяйства, в контексте неблагоприятных внутренних условий развития произ-водства, создает серьезную конкуренцию российским производи-телям. В результате происходит резкое снижение доли обрабаты-вающей промышленности в ВРП, приоритетное положение сохра-няют лишь добывающая отрасль и отрасль первичной переработ-ки природных ресурсов. В данных условиях обостряется угроза превращения региона в ресурсную базу для соседних динамично развивающихся стран, прежде всего КНР. Кроме того, нельзя не учитывать негативное воздействие на окружающую природную среду, наносимое вследствие реализации ресурсо-ориентирован-ной модели экономического развития;
− узконаправленная география внешнеторговых связей, что приводит к серьезной зависимости Байкальского региона от лю-бых колебаний конъюнктуры внешних рынков, колебаний курсов национальной и зарубежных валют, от ценового диктата торговых партнеров [5, С. 421].
Совокупность приведенных конструктивных и деструктивных факторов, определяющих специфику интеграционного взаимодей-ствия Байкальского региона РФ с Северо-Восточным регионом КНР, позволяет сделать следующие выводы:
− во-первых, при сохранении благоприятной обстановки по-литического взаимодействия между Россией и Китаем наиболее
79
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
вероятным сценарием становится дальнейшее усиление связей между Байкальским регионом РФ и Северо-Восточным регионом КНР, что определяет необходимость анализа специфики существу-ющих направлений сотрудничества;
− во-вторых, наличие вышеперечисленных деструктивных факторов говорит о то, что потенциал международного сотрудни-чества между приграничными регионами России и Китая реали-зуется недостаточно полно и необходима разработка и реализация комплекса мер для улучшения условий двустороннего взаимодей-ствия;
− в-третьих, деструктивные факторы интеграционного взаимо-действия Байкальского региона и сопредельных регионов Китая, оказывающие негативное воздействие на социально-экономиче-ское развитие российского приграничья, обусловлены не столько китайской стороной, сколько внутренними проблемами региона, отсутствием внятной позиции по стратегии его развития.
Список литературы1. Чудодеев Ю. В. Проблемы и перспективы эконо-
мического сотрудничества России и Китая. URL: http://www.rakurs-art.ru/publications/id/127/ (дата обращения: 18.01.2014).
2. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран (проблемы и пред-посылки устойчивого развития) / отв. ред. П. Я. Бакланов, А. К. Тулохонов; Рос. акад. Наук, Сиб. отд-ние, Байкальский ин-т природопользования [и др.]. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 610 с.
3. Деева Н. Н. Проблема дефицита кадров на Дальнем Востоке России. URL: http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/3205.htm (дата обращения: 29.01.2014).
4. Волынчук А. Б. , Фролова Я. А. Китай в транс-граничном регионе Северо-Восточная Азия: экономико-географическое основание геополитического статуса // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 4. С. 24–29.
5. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран (проблемы и пред-посылки устойчивого развития) / отв. ред. П. Я. Бакланов,
80
VI Международная научно-практическая конференция
А. К. Тулохонов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Байкальский ин-т природопользования [и др.]. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 610 с.
А. А. Котельников, канд. полит. наук, представитель Министерства
иностранных дел России в г. Чите
Развитие Забайкалья в контексте российско-китайских отношений
С точки зрения географии и экономики Забайкалье, как часть Сибири, является периферией АТР. В статье «Россия и меняющийся мир» президент России В. В. Путин обозначил необходимость, «со-прягая технологические и производственные возможности наших стран», задействовать «китайский потенциал в целях хозяйственного подъема Сибири и Дальнего Востока» [1]. Целый комплекс истори-ческих, демографических и актуально-политических обстоятельств обусловливает имеющие место диспропорции в развитии пригра-ничных c Китаем регионов России и приграничных регионов КНР. Российское дальневосточное приграничье фактически находится в состоянии экономического и социально-психологического упадка, рассматриваясь преимущественно как военно-политический фор-пост государства. Такая ситуация является стратегически неприем-лемой и требующей целенаправленных корректирующих усилий федерального центра и местных российских властей [2. С. 4].
Судя по зарубежному (в том числе китайскому) опыту, эффек-тивнее полагаться, на специфические свойства, особенности соот-ветствующих регионов. Успеха добивается тот, кто эффективно ис-пользует свои конкурентные преимущества. В ряд природно-кли-матических и ресурсных обстоятельств, которые могут рассматри-ваться как конкурентные преимущества Забайкальского края, сегодня можно ставить и само соседство с быстро развивающейся КНР.
В России отсутствует законодательная база, определяющая формы и порядок осуществления приграничного сотрудничества. Так, законопроект «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом
81
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
чтении в 2010 году, перспективы его дальнейшего прохождения неясны. Требует обновления и принятая в 2001 году Концепция приграничного сотрудничества.
В Китае же правовая база развития приграничных территорий разработана в деталях. Реализуются и многочисленные программы, например, Программа возрождения старых промышленных баз Северо-Восточного Китая, План развития туризма Северо-Восточного региона КНР на 2010–2015 гг. и др. С 2006 года ведется работа по коорди-нации нормативно-законодательной базы провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин. На границе с Россией зоны приграничного эко-номического сотрудничества открыты в городах Маньчжурия, Хэйхэ, Суйфэньхэ, Хуньчунь. Важную роль в региональном развитии могла бы сыграть Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009–2018 гг., подписанная в 2009 году главами государств, если бы кто-то все-рьез занимался ее выполнением [3. С. 5].
Аналитики из Института Брукингса, занимающиеся изучением природы китайского успеха, отмечают, что в Китае вышестоящие ор-ганы власти требуют от нижестоящих выполнения ряда условий. К ним относят, в частности, обеспечение устойчивого роста ВРП, поддержание социального порядка, отсутствие громких сканда-лов и публичных конфликтов. Это своеобразная «сделка», толь-ко при выполнении условий которой, руководители всех уровней (провинция, город или район) могут продвигаться по карьерной лестнице. Между провинциями, городами и районами существует конкуренция. Она заставляет местные власти максимально эффек-тивно использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы [4].
Одним из наиболее узких мест приграничного сотрудничества является необустроенность российских пунктов пропуска на забай-кальском участке российско-китайской государственной границы и в целом всей приграничной инфраструктуры. В Забайкальском крае на границе с КНР функционируют пять пунктов пропуска, из которых только автомобильный и железнодорожный пункты пропуска в Забайкальске имеют статус многосторонних (откры-тых для пропуска граждан третьих стран). В качестве примера можно рассмотреть двусторонний автомобильный пункт пропуска
82
VI Международная научно-практическая конференция
Староцурухайтуйский, где таможенное оформление и погранич-ный контроль пассажиров и грузов производятся в одном зале. Пункт не оснащен современным досмотровым оборудованием и уже давно нуждается в реконструкции, однако денег для этого нет. Китайская сторона, напротив, в 2009 году произвела реконструк-цию сопредельного Староцурухайтуйскому китайского пункта пропуска Хэйшаньтоу. Пассажирское и грузовое направления раз-делены, построены зал въезда и выезда, площадь каждого состав-ляет примерно 2000 кв/м Пропускная способность пункта пропу-ска: пассажирская – 2 млн человек в год, грузовая – 2 млн тонн грузов в год.
В еще более печальном состоянии находится автомобиль-ный пункт пропуска Олочи. Нет ясности в вопросе заключения межправительственного соглашения о строительстве погранично-го мостового перехода через реку Амур в районе пунктов пропуска Покровка – Логухэ.
Протяженность российско-китайской границы требует не од-них, а множества современных ворот в Китай. Учитывая сложив-шуюся в последние два десятилетия сырьевую направленность российского экспорта, без увеличения пропускной способности пунктов пропуска будет трудно выполнить поставленные руковод-ством двух стран задачи повышения объемов взаимной торговли до 100 млрд долларов к 2015 году и до 150 млрд к 2020 году.
Выгодное географическое положение Забайкальского края, наличие Транссибирской железнодорожной магистрали с ответ-влением на Китай («южный ход» Транссиба), делает возможным реализацию российской политики в области транспорта в АТР.
Руководство Российской Федерации нацелено на подключе-ние восточных регионов страны к масштабным международным проектам. Так, в ходе дискуссий на недавнем саммите АТЭС на Бали обсуждалась задача преодоления недостаточной взаимос-вязанности региона (по определению индонезийской стороны). В. В. Путин заявил, что Россия «готова внести конкретный вклад в ее реализацию. Мы расширяем, как вы знаете, пропускную спо-собность Транссиба и Байкало-Амурской магистрали, наращиваем потенциал Северного морского пути» [5].
7 ноября 2013 года в Таиланде представители 14 стран, вклю-чая Россию, входящих в Экономическую и Социальную комиссию
83
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) подписали соглашение о «сухих портах», позволяющее упростить процедуру транспорти-ровки грузов морем.
«Россия на протяжении многих лет прилагает усилия по созданию интегрированной транспортной системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, облегчению перевозок и развитию ев-роазиатских транспортных связей с целью облегчения доступа товаров азиатских стран на рынки стран Европы», – отметил за-меститель министра транспорта РФ Алексей Цыденов, выступая в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке [6].
Документ предполагает создание системы «сухих портов». Речь идет о логистическом комплексе, который предоставляет услуги по техническому обслуживанию, временному хранению контейнерных и иных типов грузов импортного и экспортного на-значения с возможностью организации таможенного досмотра и оформления груза непосредственно на месте. Как отмечают экс-перты, соглашение о «сухих портах» призвано способствовать наращиванию товарооборота в Азии с использованием морского пути [7].
Изменение условий внешней торговли после вступления России в ВТО привело к резкому росту контейнерного грузопото-ка. Для своевременной их обработки и избежания заторов на же-лезной дороге необходима интенсификация транспортно-логисти-ческих потоков. Рост объемов экспортных грузов требует создание сквозного транспортного сервиса с использованием современных логистических технологий.
Одним из решений могло бы стать создание в пос. Забайкальск особой экономической зоны портового типа для чего потребуется внесение изменений в федеральный закон «Об особых экономиче-ских зонах в Российской Федерации», в части касающейся «сухих портов».
Забайкалье, как и другие регионы Сибири и Дальнего Востока, испытывает и будет испытывать впредь дефицит рабочей силы. В этой ситуации стратегическое значение имеют те направления со-трудничества и конкретные проекты, реализация которых позво-ляет внедрять в восточных регионах современные малолюдные технологии.
84
VI Международная научно-практическая конференция
Необходимо понимать, что для движения в этом направлении сотрудничество с Республикой Корея очевидно перспективнее, чем с КНР. Это может быть, в частности, и сотрудничество в аграрно-промышленной сфере, позволяющее в перспективе сократить за-висимость восточных регионов от импорта и дорогостоящего завоза из европейских регионов России.
Целенаправленной политики КНР по формированию отрасле-вой структуры восточных регионов России пока не просматрива-ется. Китайские инвестиции вкладываются в небольшие проекты, а государственные предприятия и транснациональные корпорации КНР не ведут здесь никаких дел [8].
В Забайкальском крае на протяжении нескольких лет реали-зуются крупные инвестиционные проекты в горнодобывающей и лесоперерабатывающей отраслях, однако говорить об их скором завершении и вводе производств пока еще рано. Создание новых рабочих мест, реализация продукции, налоговые поступления в местные бюджеты переносятся на более отдаленную перспективу.
Однако в КНР проводится акцентированная политика по раз-витию своих северо-восточных регионов, в том числе за счет рас-ширения их экономических связей с Россией. При осуществлении данных связей китайские предприниматели не имеют интереса к переходу Дальнего Востока на более высокий уровень промыш-ленного развития. Основной интерес в двусторонних проектах для китайских предпринимателей представляет освоение природных ресурсов Дальнего Востока, причем с наименьшими издержками, то есть с минимальной деятельностью в пределах России. В во-просе промышленной модернизации центральное правительство и провинциальные администрации КНР сами озабочены привлече-нием новых технологий из развитых стран.
В статье В. В. Путина «Россия и меняющийся мир» постав-лена задача «поймать китайский ветер в паруса российской эко-номики». Для Забайкалья выполнение поставленной задачи в области отношений России с КНР означает координацию усилий федерального центра, региональных и местных властей, прове-дение серьезных маркетинговых исследований, выявление своих конкурентных преимуществ, уход от поиска инвесторов в пригра-ничных районах Китая к развитию сотрудничества с богатыми приморскими провинциями.
85
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Список литературы1. Россия и меняющийся мир. URL: www.mn.ru/poli-
tics/ 20120227/312306749.html (дата обращения: 31.01.2014).2. Развитие Сибири и Дальнего Востока в контексте
отношений России со странами АТР. URL: http://www.int.mid.ru/bdomp/ns-analit.nsf/e39f41e74968e124c3256f54003bf369/a5e8eaa457e2457f44257c600030d99c!OpenDocument (дата обращения: 31.01.2014).
3. Там же.4. Lieberthal, Kenneth G. Managing the China Challenge
in Business. URL: http://www.brookings.edu/-~/media/Files/events/2011/0622_china _corporate/ 20110622_china_corporate.pdf (дата обращения: 31.01.2014).
5. Россия и ЭСКАТО подписали соглашение о «сухих портах». URL: http://www.farangforum.ru/topic/35041-rossija-i-askato-podpisali-soglashenie-o-suhih-p/ (дата обращения: 01.01.2014).
6. В Бангкоке подписано соглашение о «сухих пор-тах». URL: http://old.nr2.ru/thai/469559.html (дата обраще-ния: 01.01.2014).
7. Проект «сухой порт». URL: http://overlandport.ru/ (дата обращения: 01.01.2014).
8. Козлов Л. Е. Экономическая модернизация Дальнего Востока в контексте отношений России со страна-ми Северо-Восточной Азии. URL: http://l-e-kozlov.narod.ru/text/text2012_1.pdf (дата обращения: 01.01.2014).
Т. В. Котельникова, канд. филос. наук, доцент Забайкальского государственного университета, г. Чита
Проблемы ассимиляции сельских мигрантов в городах в условиях урбанизации в КНР
Для современного Китая характерны высокие темпы урбани-зации: с 2000 по 2010 г. доля городского населения в КНР выросла на 13,46 % и составила 665,57 млн человек [1. С. 144]. Однако, как отмечают некоторые китайские исследователи, «качество такой урбанизации довольно низкое» [2. С. 267], поскольку рост город-
86
VI Международная научно-практическая конференция
ского населения происходит не только за счет притока рабочих-ми-грантов, приезжающих в город на заработки, но также вследствие перерегистрации части населения из сельских в городских жите-лей. В связи с этим одной из самых актуальных проблем является растущая дистанция между городскими жителями и прибывающи-ми в города сельскими мигрантами. Бесспорно, рабочие-мигран-ты внесли огромный вклад в модернизацию китайской экономи-ки, обеспечили высокие темпы урбанизации и индустриализации страны. Однако, вместе с тем, масштабы миграционных процессов и проблемы, которые в связи с этим возникают в китайском обще-стве, требуют всестороннего исследования. В китайской науке в последние годы уделяют много внимания данной проблематике, в том числе ассимиляции бывших сельских жителей в городах.
Появление первого поколения рабочих-мигрантов было обу-словлено началом реформ в деревне – проведением политики се-мейного подряда в начале 80-х гг. ХХ века. Количество сельских рабочих в тот период не превышало 70 млн человек. Это были люди с низким уровнем образования (5,4 классами сельской шко-лы) и большим опытом работы в сельском хозяйстве. Их переход на производство, главным образом мелкотоварное, не препятство-вал, в случае необходимости, снова вернуться в деревню. «Уход от земли, но не от деревни» («ли ту бу ли сян») позволял сохра-нять достаточно прочные семейные связи. В связи с этим первое поколение сельских рабочих не ассоциировало себя с городскими жителями, и впоследствии большая часть мигрантов вернулась к сельскому образу жизни.
Второе поколение китайских рабочих-мигрантов сформирова-лось в 1989–2000 гг, когда развитие рыночных отношений и про-цессы урбанизации непосредственно затронули деревню. В этот период количество сельских рабочих увеличилось до 100 млн чело-век. Уровень образования этого поколения оставался по-прежнему невысоким – 7, 6 классов. Многие отправлялись в города для ра-боты на производстве и в строительстве сразу после окончания не-полной сельской средней школы. К концу 90-х гг. ХХ в. получает распространение модель «уход от земли и от деревни» («ли ту ю ли сян»), в результате чего постепенно ослабевают семейные связи. В
87
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
последние годы возникает такое явление как «оставленные дети» («люшоу эртун»), когда оба родителя отправляются на заработки в город, оставляя детей на попечение престарелых родственников. С точки зрения самоидентичности, второе поколение мигрантов не утратило связи с деревней и находится в промежуточном положе-нии, «живет на два дома» («лян ци шэнхо»).
К 2010 г. количество рабочих мигрантов в городах уже превы-сило 200 млн человек. Примечательно, что среди т. н. «третьего поколения» сельских рабочих, преобладают молодые люди, кото-рые росли без родителей – «люшоу эртун», а также те, кто родился в городе. Согласно китайской статистике, среди 130 млн сельских детей до 14 лет, 58 млн – «оставленные дети», 44 млн – дети, ро-дившиеся у мигрантов в городах, т. е. большинство составляют дети, выросшие без родительской опеки, которые не знают, что такое «нормальная» семья. Это, по мнению китайских ученых [3. С. 78]. Третье поколение мигрантов отличается более высоким уровнем образования (не менее 9 классов), в том числе в город-ских и поселковых школах. Сфера применения их труда постепен-но расширяется, и, кроме строительства и промышленного произ-водства, они становятся все более востребованными в третичном секторе экономики. Мигранты третьего поколения в большинстве своем не состоят в браке, и достаточно распространенными стали семьи, где родители относятся ко второму поколению, а дети – к третьему поколению мигрантов. Эти люди никогда не работали в аграрной сфере и уже не считают себя крестьянами, однако су-ществующие административные барьеры, прежде всего, система регистрации, не позволяют им стать полноправными городскими жителями. Несмотря на то, что в последние годы в Китае стали уделять внимание проблемам мигрантов, по-прежнему многие со-циальные блага остаются для них недоступными. Как показывают различные исследования, городские жители дистанцируются от приезжих мигрантов. Это объясняется не столько традиционным настороженным отношением к чужакам, культурными различи-ями, сколько растущей конкуренцией на рынке труда. Новое по-коление мигрантов, по мнению некоторых китайских исследова-телей, уже не является «дополнительной» рабочей силой, которая
88
VI Международная научно-практическая конференция
была особенно востребована в 90-е гг. ХХ в. [4. С. 32]. По уровню образования и профессиональной подготовки они могут соперни-чать с определенной частью городского населения на вторичном рынке труда. При этом новые сельские мигранты обладают конку-рентным преимуществом – более низким уровнем оплаты труда, что, несомненно, приводит к росту социальной напряженности в городах и не отвечает планам построения гармоничного общества в Китае.
Каким образом можно ускорить процесс ассимиляции сель-ских мигрантов в городах? Основные направления можно обозна-чить следующим образом: во-первых, предоставить возможность детям мигрантов получать образование в городских школах. В экспериментальном порядке предоставить право сдачи экзаменов для поступления на высшую ступень средней школы и в вузы; во-вторых, поскольку в Китае отсутствует единая система социальной поддержки населения, специально для сельских мигрантов разра-ботать порядок различных социальных выплат; в-третьих, улуч-шить жилищные условия мигрантов в городах. Одним из серьез-ных препятствий на пути решения этой проблемы является двой-ственный правовой статус сельских мигрантов – их право жить как в городе, так и в деревне; в-четвертых, разработать такую систему, которая бы позволяла сельским мигрантам в конкурентной борьбе повышать социальный статус; в-пятых, работникам городских тер-риториальных общин необходимо учитывать интересы сельских мигрантов, предоставить им возможность пользоваться всеми со-циальными услугами наравне с городскими жителями [5. С. 32]. В условиях ослабления социальных связей, дефицита ресурсов, конфликта интересов обостряется конкуренция, и становится не-возможным поддержание отношений, характерных для традици-онного общества, поэтому роль территориальных общин в преодо-лении разобщенности между приезжими мигрантами и местными жителями становится все более значимой.
Согласно прогнозам, в ближайшие 20–30 лет до 300 млн че-ловек переедут в города из деревень. Для того, чтобы эти люди стали полноправными городскими жителями, необходимы усилия со стороны властей по управлению миграционными потоками,
89
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
обеспечению развития городской инфраструктуры, пристально-го внимания к решению социальных проблем мигрантов и охра-не окружающей среды в городах, а также стремление всех членов общества к консолидации.
Список литературы1. Китайская Народная Республика: политика, эконо-
мика, культура. 2010–2011 / М. Л. Титаренко [и др.]. М.: ИД «ФОРУМ», 2011. 448 с.
2. Дандай Чжунго шэхой цзегоу=Социальная струк-тура современного Китая / Лу Сюэи [и др.]. Бэйцзин, 2010. 267 с.
3. Чэн Хой, Сюн Чуньвэнь. Лян дай хайши саньдай. Гуаньюй нунмингун дайцзи хуафэнь вэньтидэ таолунь=Два или три поколения. Дискуссия по проблемам разделения по-колений сельских мигрантов // Социологический дайджест. 2012. № 2. С. 78.
4. Тан Юцай, Фу Пин. Тунлэй сянчи. Чжунго чэнши цзюйминь юй вайлай жэнькоу дэ шэхой цзюй-ли вэньти=Взаимное отторжение в однородной среде. Проблемы социальной дистанции между городскими жите-лями и пришлым населением // Социологический дайджест. 2012. № 2. С.31.
5. Ли Цян. Чжунго чэншихуа цзиньчэнчжундэ «бань-жунжу» юй «бу жунжу»=«Неполная ассимиляция» и «не-возможная ассимиляция» в процессе урбанизации в Китае // Социологический дайджест. 2012. № 1. С.32.
Т. Н. Кучинская, канд. полит. наук, доцент Забайкальского государственного университета, г. Чита
Воспроизводство культуры «гармонии» и строительство «гармоничной культуры»
в КНР на пути к «китайской мечте»
Выступая на заключительном заседании 1-й сессии ВСНП 12-го созыва 17 марта 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин обозна-чил приоритетные задачи развития страны. Главным содержанием
90
VI Международная научно-практическая конференция
его речи стал тезис о реализации концепции «китайской мечты» («中国梦»概念), которая должна стать национальной идеей китай-ского общества на перспективу [1].
В отличие от американской версии в китайской модели «ве-ликого возрождения китайской нации» «мечта» несет идеологи-ческую и культурно-ценностную нагрузку, являясь одним из ее обязательных атрибутов. Китайские идеологи объясняют ценность своей доктрины тем, что она «вобрала в себя лучшие традицион-ные китайские представления об общечеловеческих ценностях». Речь идет об акцентах на духовное (гармоничное) начало, приори-тете общественных ценностей и прочем [2].
Трансформации, происходящие в Китае и в мире, обуславли-вают обращение современного философского и общественно-по-литического дискурса КНР к базисным для традиционной куль-туры ценностным идеологемам, среди которых особо выделяется «гармония» (和谐), представленная в научной теории и практике объединяющим социальным и культурным идеалом.
На протяжении всей человеческой истории в дискурсе раз-вития представлений о сочетании целого и единичного, соорга-низации общества и мира как единого организма, идеал гармонии выступает как главная ценностная установка, определяющая соци-окультурные практики, характерные для каждой отдельной куль-туры. Претендующая на универсальность культура «гармонии» в китайской интерпретации сформировала оригинальную культур-философскую парадигму, выраженную в конкретных образцах (паттернах): «гармония-ценность» (和为贵); «единство неба и че-ловека» (天人合一); «гармония рождает вещи» (夫和實生物); «гар-мония не обездоленность» (和无寡); «устойчивое и равновесное состояние» (中庸, 中和 ); «гармония в единстве, единство – сила» (和则一,一则多力); «единение без унификации» (和而不同); вели-кая гармония (太和) и др.
Необходимо отметить, что культурная парадигма, в отличие от доктрины/идеологии, всегда прагматична, ориентирована на тра-диционные социокультурные практики. Паттерны в рамках куль-тур-философской парадигмы как конкретные смысло-жизненные схемы структурируют Бытие ее носителя, а жизненность самой культур-философской парадигмы сохраняется при условии ее вос-
91
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
производства и способности отвечать на жизненные запросы кон-кретного временного периода применительно к как можно боль-шему количеству жизненных ситуаций [3].
Китайская культура «гармонии», впитавшая в себя традици-онные культурные образцы, сформировавшиеся в конфуцианстве (гармония между людьми и в обществе), даосизме (гармония че-ловека и природы), буддизме (гармония в единстве и непротиво-речивости), моизме (гармония, равенство, движение) [4; 5; 6; 7; 8 и др.] полностью отвечает парадигмальным критериям, определяя базовые принципы понимания «гармонии» в современном Китае и реализации практик всестороннего гармоничного развития.
В начале XXI в. в китайском философском дискурсе гармонии глубокая связь традиционализма и необходимости преодоления противоречий социокультурной динамики модернизирующегося Китая носит не только философско-онтологический, но и процес-суально-практический характер. В поисках консолидирующего ядра традиционный идеал «гармонии» наполняется новым куль-турно-ценностным содержанием, соответствующим духу времени, и тем противоречиям, которые существуют в современном китай-ском обществе. Гармоничное строительство в современных усло-виях представляет собой комплексную программу, связывающую регулятивные практики в сфере культуры и этики межличностных отношений, политической и экономической сферах, правовой и экологической этики и т. д. [9].
Профессор Ван Кэпин, директор Института транскультур-ных исследований Пекинского университета международных от-ношений, директор ИФ КАОН, почетный член Международного общества всемирного диалога (International Society for Universal Dialogue, ISUD) отмечает, что, несмотря на то, что в современных условиях природа «гармонии» все чаще рассматривается как поли-тико-управленческий метод или социальная программа в контек-сте современного идеологического курса, ее сущность наполнена традиционными культурными идеалами, которые служат основой гармоничного развития и наполняют этос современной культу-ры Китая ценностными универсалиями конфуцианской культуры «гармонии» [10].
92
VI Международная научно-практическая конференция
Наиболее полно сущность культурного и социального идеа-ла «гармонии» в современных условиях, по мнению Ван Кэпина, раскрывается в его диалектической природе, отражающей есте-ственное сосуществование противоположностей вещей и явлений. Хаотичное, неупорядоченное взаимодействие противоположно-стей неизбежно приводит к конфликту и разрушению системы – хаосу (混沌), а гармоничное сочетание противоположностей при-водит к преодолению конфликта, обогащая саму систему, делая ее разнообразной. «Гармония» в данном контексте, следуя традици-онному конфуцианскому принципу, противопоставляется унифи-кации (统). Акцентирование функциональности практик «гармо-нии» в преодолении противоречий соответствует традиционному культурному паттерну «единения без унификации», применимому в современных условиях во многих сферах жизнедеятельности ки-тайского социума – решении противоречий в сфере межличност-ного общения; формирования морально-этических норм и нрав-ственности; практике межцивилизационного взаимодействия.
В работе Чжан Сяопина и Чжан Цзяньюня «Теория и прак-тика гармоничной культуры» наиболее ярко раскрывается процес-суальный характер «гармонии» и ее роль в консолидации совре-менного китайского социума. Диалектический дискурс позволяет авторам раскрыть сущность гармонии в следующих ее ипостасях: 1) «гармония» как практика преодоления противоречий (矛盾中的和谐); «гармония» как система (系统中的和谐); «гармония» как способ борьбы с противоречиями, «метод гармонии» (处理矛盾的一种芳法, 和谐芳法); «гармония» как процесс (和谐过程) [11]. «Гармония» в данном случае выступает системой методов преодо-ления противоречий, а достижение «гармонии» представляет со-бой длительный процесс. Авторы отмечают некую абстрактность «гармонии» как культурного и социального идеала, достижение ко-торого требует длительных усилий, однако выражают надежду, что в будущем в Китае и мире он обретет более конкретные формы. В целом, анализ культурных образцов «гармонии» позволяет сделать вывод о том, что содержание категории претерпело значительные изменения, расширившись от традиционно узкого понимания до современной системы культурно-ценностных императивов и прак-тик культуры «гармонии» [12. С. 26].
93
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Концептуально идея «гармонии» закреплена в современных политических и культурных стратегиях инновационного развития Китая. «Гармония» является аксиологической основой идеологии КПК, концептуально закрепленной в стратегиях «гармоничной культуры», «гармоничного общества» и «гармоничного мира».
Инициированная на 6-м пленуме КПК 16-го созыва (2006 г.) культурная стратегия строительства «гармоничной культуры» (和谐文化) является воспроизводством традиционных практик «гармонии», дополненных инновационными; новым способом мышления и методом разрешения противоречий и конфликтов со-циокультурной динамики современного Китая. Основные компо-ненты стратегии: координация развития человека и природы; ре-шение социальных противоречий и интеграции социальных сил; улучшение духовного состояния общества. Строительство «гар-моничной культуры» выступает важной стратегической задачей Китая, направленной на осуществление научной концепции все-стороннего гармоничного развития. В основе социалистического «гармоничного общества» должна лежать «гармоничная культу-ра», характеризующаяся преемственностью, инновационностью, прогрессивностью, открытостью [13]. «Гармоничная культура» в этом плане призвана обеспечить воспитание «нового сознания», распространение «духа гармонии», формирование культурно-цен-ностных императивов развития; достижение сплоченности в деле строительства «гармоничного общества» и создания благоприят-ной международной среды для реализации концепции «гармонич-ного мира». При этом открытость «гармоничной культуры» обе-спечивает ее жизненность в условиях культурной глобализации и интенсификации межкультурных связей: стойкость к инокультур-ному воздействию и способность к расширению ареала культур-ного влияния.
После XVII съезда (2007 г) КПК был взят курс на инноваци-онное культурное строительство, которое заключается в развитии новых тенденций в социалистической культуре, развитии творче-ского потенциала в деле культуры, повышении ее «мягкой силы» (文化软实力), укреплении межкультурных обменов, заимствовании лучших достижений других культур, усилении влияния китайской культуры в мире [14].
94
VI Международная научно-практическая конференция
«Пятиаспектный план» («五位一体»总体布局) как парадиг-мальная инновация XVIII съезда КПК (2012 г.) [15] предполага-ет всестороннее гармоничное развитие материальной, духовной, политической, социальной и экологической цивилизации, ядром которой выступает инновационная китайская культура и иннова-ционные ценности. План предполагает выполнение расширенных взаимосвязанных задач в каждой из пяти сфер. Экономическое строительство предполагается осуществлять с опорой на концеп-ции научного развития, устойчивого развития; акцентируется вне-дрение инновационных технологий и достижение высоких темпов экономического роста. Политическое строительство опирается на демократические принципы («человек – основа»), активное про-движение политических реформ и неуклонное следование пути социализма с китайской спецификой. В плане социального стро-ительства с учетом реалий страны предполагается достижение уровня «средней зажиточности» на основе социально-экономиче-ского развития, консолидация социальных сил в деле строитель-ства «гармоничного общества». В строительстве экологической цивилизации важнейшими задачами являются: экономия ресурсов и охрана окружающей среды, следование пути поступательного развития и внедрение инноваций. В рамках комплексного плана задачи культурного строительства сводятся к поддержке социали-стической системы ценностей и идеалов, всестороннему обогаще-нию внутреннего духовного мира человека, улучшению качества духовной и культурной жизни, повышению комплексной мощи и конкурентоспособности китайской культуры [16]. Конечная цель перспективной модели «единства пятичлена» – «богатое сильное демократическое цивилизованное и гармоничное модернизиро-ванное социалистическое государство» [17].
Представленный «пятиаспектный план» по существу является комплексной теоретико-методологической моделью и стратегиче-ской программой реализации «китайской мечты», в которой «гар-мония» играет роль духовной и процессуальной «скрепы» всесто-роннего гармоничного развития Китая во внутреннем и внешних аспектах.
В программных документах КПК подчеркивается, что «китай-ская мечта тесно связана с мировой мечтой», и что «успех Китая –
95
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
стимул для других стран» [18]. Однако вопрос о том, будет ли и каким образом будет воспринята «китайская мечта» мировым со-обществом, реально ли совпадение «мировой» и «китайской меч-ты» в будущем, остается открытым и представляет основания, как для возникновения противоречий, так и выстраивания диалога. Однозначно то, что на современном этапе для многих стран миро-вого сообщества, в т. ч. и для развивающейся России, актуальным является тщательный анализ китайского опыта – истории и насто-ящего «китайской мечты». От этого в определенной степени зави-сит успех России в поиске объединяющих идеалов для формиро-вания национальной идеи и эффективных механизмов разработки самобытной модели развития. Российский опыт «слепого» копи-рования моделей развития других стран в отдельных сферах уже показал, что они обречены на провал: стало ясно, что «двигать-ся дальше невозможно без духовного, культурного и этнического суверенитета» [19]. В поисках своей модели развития и подходов к формированию «национальной мечты» китайский опыт может быть показателен именно в процессуальном плане при условии его адаптации к социокультурным реалиям страны-реципиента.
Список литературы1. «Китайская мечта» станет главным лозунгом во-
площения национальной идеи КНР // ИТАР-ТАСС. URL: http://itar-tass.com/glavnie-novosti/583744 (дата обращения: 17.03.2013).
2. Лузянин С. Г. «Китайская мечта»: между геопо-литикой, национализмом и выживанием // Радиостанция «Голос России». URL: http://rus.ruvr.ru/2013_07_18/Kitajskaja-mechta-mezhdu-geopolitikoj-naciona lizmom-i -vizhivaniem-2537/ (дата обращения: 20.07.2013 г.).
3. Ячин Д. В. , Конончук Д. В. Культурная пара-дигма: опыт концептуального осмысления // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2012. № 2. С. 7–13.
4. Янгутов Л. Е. Принципы единства и гармонии в китайской философии // Экологическая этика и образование для устойчивого развития: материалы Байкальской между-народн. конф. ЮНЕСКО (оз. Байкал, 29 июня – 2 июля 2006 г.). Улан-Удэ. 2006. URL: marshall. esstu.ru/unesco/konf1/essyas/IangutovLE.doc (дата обращения: 17.09.2011).
96
VI Международная научно-практическая конференция
5. Абрамова Н. А. Политическая культура Китая. Традиции и современность. М.: Муравей, 2001. 320 c.
6. Абрамова Н. А., Морозова В. С. Некоторые катего-рии традиционной китайской культуры в современных ин-терпретациях: ценностный аспект // Вестник ЧитГУ. 2007. № 2. С. 114–120.
7. Распертова С. Ю. Концепт «гармоничная культу-ра» в контексте современных культурных стратегий Китая // Вестник МГЛУ. 2010. № 11 (590). С. 74–95.
8. Распертова С. Ю. Гармоничное общество и гармо-ничная культура как платформа формирования «китайской мечты» // Международный научно-исследовательский жур-нал. 2013. № 9. C. 63–68.
9. Минянь Ц., Абрамова Н. А. Традиционная китай-ская культура и формирование социокультурного простран-ства Китая // Вестник ЗабГУ. 2010. № 8. С. 26–32.
10. Keping Wang. Harmonious Society in Harmony-conscious Culture // Dialogue among Cultures: Peace, Justice and Harmony: ISUD 8th World Congress. July 2nd -7th, 2010 Beijing, China. URL: isud.typepad.com/files/wang1.doc (дата обращения: 08.08.2010)
11. Хэсе вэньхуа дэ лилунь юй шицзянь=Теория и практика гармоничной культуры / под ред. Чжан Сяопина, Чжан Цзяньюня. Бэйцзин: Жэньмин чубаньшэ, 2007. 259 с.
12. Кучинская Т. Н. Архитектоника социокультурного пространства Китая в условиях транснационального меж-культурного взаимодействия: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.13. Чита. 2013. 42 с.
13. Ган Цинь. Гоуцзянь хэсешэхуэй бисюй чжоли цзяньшэ хэсевэньхуа=Построение гармоничной культу-ры для строительства гармоничного общества // Гуанмин жибао. 18.10.2005. URL: http://www.china.com.cn /chinese/zhuanti/gjhxsh/1001673.htm (дата обращения: 22.02.2011).
14. Доклад Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК // Синьхуа. 24.10.2007. URL: http://russian.china.org.cn/ china /ar chive/shiqida/2007–10/25/content_9120930.htm (дата обра-щения: 17.10.2009).
15. Полный текст доклада Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК. URL: http://russian.news.cn/syxw/2012–12/20/c_132053909.htm (дата обращения: 05.01.2013).
97
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
16. Янь Сяофэнь. Цюаньмянь лоши «увэй ибэнь» цзун-ти буцзю=Комплексное осуществление «Пятиаспектного пла-на» // Цзефанцзюньбао. 19.02.2013. URL: http://theory.people.com.cn/ n/2013 /0219 /c 49150–20526477.html (дата обращения: 23.02.2013).
17. Ломанов А. В. Новый лидер исполнит китайскую мечту о возрождении // Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Kaltcii-dlya-kommunistov-15791(дата обращения: 05.05.2013).
18. Лузянин С. Г. «Китайская мечта»: между геополити-кой, национализмом и выживанием // Радиостанция «Голос России». URL: http://rus.ruvr.ru/2013_07_18/Kitajskaja-mechta-mezhdu-geopolitikoj-nacio na liz mom-i-vizhivaniem-2537/ (дата обращения: 20.07.2013).
19. Романов А. Китайская мечта в глобальной кросс-культурной перспективе / Круглый стол «Китайская мечта и ми-ровой расцвет» в рамках международн. форума «Диалог о ки-тайской мечте», 8 декабря 2013 г., г. Шанхай, КНР // Китайский информационный интернет-центр. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013–12/10/content _ 308562 95 _ 2 . htm (дата обра-щения: 15.12.2013).
В. С. Морозова, канд. филос. наук, доцент Забайкальского
государственного университета, руководитель Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН, г. Чита
Региональная культура приграничных территорий РФ-КНР как предмет философского осмысления1
Процессы становления, развития и интеграции культуры яв-ляются традиционно актуальной тематикой культурфилософской рефлексии. Усиливающееся межкультурное взаимодействие стран и регионов повышает роль региональных культур, что обуслав-ливает необходимость их исследования с учетом особенностей пространства функционирования. Наличие совместных границ с другими странами у достаточно большого количества субъектов
1 Статья подготовлена в рамках научного исследования, поддержанного Советом по грантам Президента РФ МК-3689.2013.6
98
VI Международная научно-практическая конференция
РФ требует формирования новой парадигмы анализа пригранич-ного региона как специфичной формы организации пространства, заданной не только географическими рамками, но и социокуль-турными особенностями приграничья. В этой связи предметом философского осмысления оправданно становится региональная культура приграничных территорий в контексте их культурного взаимодействия и взаимовлияния [1. С. 3].
Социокультурное пространство российского и китайского при-граничья структурировано культурами приграничных регионов, которые характеризуются наличием заимствованных культурных явлений, готовностью к культурному взаимодействию, некоторой общностью мировоззренческих установок населения, обусловлен-ных непосредственной близостью к государственной границе, что позволяет определить феномен региональной культуры приграни-чья как совокупность культур приграничных административно-территориальных единиц. Это специфическое явление представ-ляет собой два социокультурных пространства, разделенные гра-ницей, два «культурных мира» по обе ее стороны. Обусловленная необходимостью существования в трех культурных измерениях (национальном, локальном и инокультурном) региональная куль-тура приграничья предстает как уникальный феномен. В связи с этим актуальность темы исследования связана с необходимостью выделения культурной специфики российского и китайского при-граничья не как единого социокультурного пространства, но как общего пространства приграничного межкультурного взаимодей-ствия, в котором обнаруживаются признаки культурной диффузии, что также требует исследовательского внимания.
Отметим, что сегодня наблюдается ситуация активного раз-вития приграничных социокультурных пространств РФ и КНР, в которой ключевое место занимает задача переоценки роли куль-турных ресурсов в процессах регионального развития, что требует выделения не только основных приоритетов культурной политики взаимодействующих регионов, но и обоснование вектора государ-ственной политики обеих стран в области межкультурного взаи-модействия. В КНР развитию культуры придается очень большое значение, вследствие чего тематика культуры является неотъемле-
99
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
мой составной частью стратегии государства. Внимание китайских властей к этой сфере привело к формированию и утверждению на государственном и партийном уровнях «Стратегии построения мо-гущественного культурного государства». Об этом специально го-ворилось в решениях 6-го Пленума ЦК КПК 17-го созыва (2012 г.) о политике в области культуры. Было акцентировано внимание на необходимости определения места китайской культуры в гло-бальной стратегической модели не только с целью осуществления экспорта китайской продукции, но и для распространения в мире китайских культурных ценностей [2. С. 154].
В последние годы значительный пласт российских регио-нальных исследований посвящен социокультурному пространству приграничья, проблемам культурной регионализации, механиз-мам межкультурного взаимодействия РФ-КНР (работы предста-вителей «Школы интерпретаций региональных практик совре-менного Китая» под руководством доктора философских наук Н. А. Абрамовой, труды ученых «Школы диалога культур Северо-Восточной Азии» под руководством доктора философских наук М. Н. Фоминой). Выделяется специфика региональной культуры приграничья, особенности ее функционирования в социокультур-ном приграничном пространстве. Процессы формирования этно-культурного приграничного ландшафта отражают в свою очередь пространственное выражение ментальных и материальных харак-теристик региональных культур. Все это наделяет социокультур-ное пространство приграничья особым статусом, который ставит вопрос о необходимости комплексного изучения подобного рода социокультурных образований, разработки методики оценки их потенциалов и трансформационной роли [3. С. 684].
Китайские исследователи в своих работах также обраща-ют внимание на проблематику культуры, осуществляющую свои функции в приграничном пространстве. Так, Цюй Цзин анализи-рует теоретические позиции кросснациональных исследований, а также факторы, детерминирующие становление приграничной культуры: политический, экономический, социальный [4]; Ли Пин акцентирует исследовательское внимание на межкультурном взаи-модействии РФ-КНР как возрастающем факторе культурной регио-
100
VI Международная научно-практическая конференция
нализации [5]; Чжоу Юй говорит об активизации роли китайского приграничья в региональном социокультурном взаимодействии, что обусловливает необходимость разработки перспективной ин-новационной модели развития транснационального социокультур-ного пространства этого ареала [6].
В этих условиях требуется обращение и к проблематике цен-ностных ориентаций приграничного населения, включающих ис-следование антропологических, этнических, культурных, аксиоло-гических компонентов. В рамках философского исследования важ-но обратить внимание на региональный ценностный компонент, который играет не последнюю роль в процессах формирования этнокультурного приграничного ландшафта как конструируемого региональной культурой пространства. Одной из главных характе-ристик такого пространства выступает уровень воплощения сово-купности региональный культурных традиций (как материальных, так и духовных).
Руководство РФ и КНР также проявляет заинтересованность процессами, происходящими в приграничье. В настоящее время китайская сторона активно использует преимущества пригранич-ного региона, осуществляя продуманную культурную политику. Вследствие этого китайское приграничье характеризуется дина-мичным «культурным строительством» с активным включением некоторых элементов русской культуры в региональные практики социокультурного развития приграничных территорий. В настоя-щее время очевидно усиленное воздействие глобализирующегося Китая на российское приграничье в контексте осуществления им политики повышения международного влияния своей культуры, что потенциально является угрозой социокультурной безопасно-сти приграничных российских регионов.
При наличии большой протяженности российских пригранич-ных регионов и выполнении ими роли «главных ворот страны», где в первую очередь усиливается влияние «мягкой силы» Китая, в будущем может возникнуть реальная опасность трансформации всего социокультурного пространства России. Уже сегодня обна-руживаются некоторые качественные изменения в пространстве приграничного социокультурного пространства России. Они об-
101
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
условлены теми диффузионными процессами, которые происхо-дят в результате межкультурного взаимодействия России и Китая. Процессы культурной диффузии в социокультурном пространстве приграничья взаимообусловлены. Однако эта зависимость асси-метрична. Определенный контраст социокультурного развития российских и китайских приграничных населенных пунктов как малых приграничных городов является во многом результатом це-ленаправленной политики китайского руководства и отсутствием должного внимания к развитию социокультурной сферы россий-ского приграничья со стороны руководства нашей страны. В на-стоящее время необходима переориентация малых приграничных городов России с концепции «закрытой территории», «форпоста страны» на актуализацию их становления как потенциальных пло-щадок для социокультурного развития приграничных территорий.
Уникальность региональной культуры приграничья актуали-зирует обращение к его культурно-цивилизационной специфике, представляющей не только важный потенциал развития пригра-ничных территорий, но и ресурс обеспечения социокультурной безопасности. В этой связи возникает необходимость дополнения стратегии социально-экономического развития приграничных ре-гионов задачами социокультурного соразвития российского и ки-тайского приграничья в контексте опережающей стратегии, что требует осмысления феномена «региональной культуры приграни-чья» как потенциального ресурса обеспечения безопасности соци-окультурного пространства России и позволяет считать выбор за-явленной темы исследования оправданной. Более того, выделение феномена региональной культуры и его исследование с позиций философии культуры представляет основу для создания т. н. при-граничного культурного кластера, который будет способствовать укреплению российского культурного присутствия в мире, созда-нию благоприятных условий для продвижения за рубеж культур-ных и духовных ценностей России.
В свете описанной социокультурной ситуации необходимо уточнение самого понятия «региональная культура приграничья», осмысление особенностей взаимодействия России и Китая в со-циокультурном приграничном пространстве, а также обоснование
102
VI Международная научно-практическая конференция
степени трансформации приграничных культурных пространств, что является актуальным для исследований в области философии культуры.
Список литературы1. Морозова В. С. Региональная культура в социо-
культурном пространстве российского и китайского при-граничья: автореф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.13. Чита, 2013. 43 с.
2. Хатькова К. С. Аналитическая записка по книге «高端决策参考:中国文化的力量» «Уникальные материалы стра-тегического плана: “культурная сила” Китая» // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. 2013. № 13. С. 154–155.
3. Абрамов В. А. Методологические предпосылки методики оценки трансграничного социокультурного по-тенциала приграничного региона КНР // Современные про-блемы науки и образования. 2012. № 6. С. 684.
4. Цюй Цзин. Приграничная культура Китая и России в кросснациональных исследованиях // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. 2011. № 9. С. 200–204.
5. Ли Пин. Культурная регионализация в условиях межкультурного взаимодействия (на примере автономного района Внутренней Монголии КНР): автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.13. Чита, 2007. 27 с.
6. Чжоу Юй, Абрамова Н. А. Потенциал социокуль-турного пространства китайского приграничья в соразвитии с Россией // Вестник Забайкальского государственного уни-верситета. 2013. № 4. С. 127–133.
С. Л. Сазонов, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН, г. Москва
КНР завоевывает мировые рынки транспортной продукции
Одной из особенностей китайских инвестиций за рубе-жом является ощутимая доля инвестиций в форме M&As, кото-рые по образному сравнению экономистов ведущего китайского Университета Цинхуа, «позволят внедрить инновационные тех-
103
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
нологии в экономику КНР, повысить конкурентоспособность про-дукции, укрепить отечественные бренды и снизить трансакци-онные издержки посредством вывода на международные рынки китайских инвестиций для совершения сделок по слиянию и по-глощению» [1. С. 104]. В этой связи в 2013 году замдиректора от-дела политических исследований при ЦК КПК Чжэн Синьпи заме-тил: «Обладая валютными резервами в размере 3,31 трлн долларов США, Китай может использовать более 2 трлн долларов США для приобретения акций и активов иностранных компаний, абсорб-ции современных технологий с целью повышения способности китайских производителей к самостоятельным инновациям» [2]. Частный китайский капитал, обладающий высокой инвестицион-ной активностью сегодня превратился в явного лидера в области размещения ПЗИ в основные фонды зарубежных предприятий – если доля частных компаний КНР в общем объеме китайских ПЗИ составляла в 2011 году 50 %, то в 2012 году она выросла до 61 % [3]. Для китайского капитала большой интерес представляют за-рубежные компании, занимающиеся производством транспортных средств, что позволяет получить доступ к уникальным передовым технологиям [4] и обеспечить выход качественного и передового отечественного транспортного продукта на мировые рынки под своими и приобретенными всемирно известными иностранными
брендами. Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group Co., закупив контрольный пакет акций подразделения британской корпорации Volvo компании Manganese Bronze Holdings (MBH) за 11,04 млн фунтов стерлингов (17,44 млн долларов США), со-бирается выпустить на английский рынок в начале 2013 года но-вые автомобили стоимостью 11,9 евро под своим брендом. В 2013 году корпорация планирует увеличить на 50 % экспорт своих ав-томобилей и до вести его объем до 150 тыс единиц [5]. В конце марта 2013 года крупнейшая китайская компания-производитель автозапчастей Ваньсян (Ханчжоу, Чжэцзян) приобрела 8 заводов американской фирмы BPI с персоналом, насчитывающим более 5,5 тыс человек. Основным направлением хозяйственной деятельно-сти американской фирмы BPI, являющейся из самых популярных брендов на американском рынке послепродажного сервиса – из-
104
VI Международная научно-практическая конференция
готовление и сбыт элементов тормозной системы автомобиля [6]. С целью привлечения новейших технологических разработок и инноваций в области строительства судов одна из двух ведущих
судостроительных корпораций КНР China Shipbuilding Industry Corp. с 2012 года ведет переговоры с крупнейшими судоверфями Европы о возможности закупки контрольного пакета их акций и активов. Китайские судовые гиганты заключили соглашение об инвестировании в период до 2025 года 1,6 млрд евро (2,1 млрд дол-ларов США) в развитие портовых мощностей второго по размерам европейского порта Антверпен. По данным мэра Антверпена, в 2012 году КНР являлся четвертым по размерам внешнеторговым партнером порта и составлял около 5 % ВВП Бельгии [7].
Стратегия экспансии китайских ПЗИ напрямую связана с по-литикой руководства КНР «выхода за рубеж». Хотя в 2012 году объемы продаж автомобилей в КНР превысили 19 млн ед., темпы продаж грузовых автомобилей в 2012 году снизились на 28 % и в стране их было реализовано лишь 600 тыс шт. Согласно прогнозам КААП, оживление экономики КНР и рост инвестиций в отрасль по-зволяет ожидать 10 %-й рост продаж грузовых автомобилей в Китае в 2013 году [8]. Тем не менее, руководство китайского автомобиль-ного концерна Beiqi Foton утверждает, что к 2020 году внутренний рынок будет перенасыщен объемами производства коммерческих грузовых автомобилей, «и компании необходимо создавать зару-бежные производственные мощности, резко повышать уровень технологических разработок и завоевывать внешние рынки для обеспечения сбалансированности спроса» [9. С. 35]. Для реализа-ции своих планов в 2013 году корпорация Beiqi Foton приобрела 51 % акций западногерманской компании Daimler. Доходы от про-даж крупнейшего в мире производителя трансмиссии для грузовых автомобилей китайской корпорации Shaanxi Fast Auto Drive Group Co. Ltd. в 2012 году выросли лишь на 3 %, что побудило руковод-ство корпорации создать две крупные производственные базы за рубежом – в восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Китайский менеджмент рассчитывает, что зарубежная экспансия и разработка новых технологий позволит добиться увеличения объемов продаж на 15–20 % в 2013 году [10]. Ведущие китайские производители
105
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
подвижного состава для ВСЖД CSR и CNR приобрели активы и акции ведущих западных компаний в этой сфере, получили доступ к ключевым технологиям, удивительно быстро внедрили их в про-изводство и в настоящее время доминируют на внутреннем рынке. Одновременно они выходят на международный рынок производ-ства железнодорожных локомотивов, объемы которого оценива-ются в 150 млрд долларов США, и внедряются на рынки развива-ющихся стран, где китайское правительство посредством гибкой кредитной политики финансирует создание и модернизацию мест-ной железнодорожной инфраструктуры. Китайская сторона, вкла-дывая собственные средства в какой-либо проект, настаивает на привлечении китайской рабочей силы, в том числе высококвалифи-цированной, покупке китайского оборудования. Сочетание низких производственных издержек и современных технологий, а также введенная с 2013 года государственная помощь в защите инвести-ций [11], помогают китайским компаниям постепенно входить и на рынки развитых стран – с 2011 года государственная корпорация CNR выиграла несколько тендеров на поставку железнодорожно-го подвижного состава в США, Австралию и Новую Зеландию, а в августе 2012 года поставила в Германию комплектующие для скоростных электровозов на общую сумму в 14,3 млн долларов США. Эта сделка стала первым прорывом корпорации CNR на ев-ропейский рынок. В апреле 2012 года корпорация CSR получила контракт на поставку локомотивов для ВСЖД Сянгана, а феврале 2013 года получила заказ на экспорт скоростного подвижного со-става в Аргентину и Туркменистан, который стал второй страной СНГ, сделавшей заказ у ведущей китайской корпорации по произ-водству подвижного состава для ВСЖД. В 2011 году корпорация CSR заключила соглашения за пределами Китая на общую сумму более 2 млрд долларов США, а доходы от ее зарубежного бизнеса составили 10 % от общей суммы доходов CSR. К 2015 году этот по-казатель руководство корпорации планирует увеличить до 20 % с прицелом на освоение новых рынков в странах Среднего Востока, Южной Америки и Африки [12]. С 2011 года ведущая китайская корпорация по строительству железных дорог CRCC приступила к прокладке линий ВСЖД в Таиланде и Лаосе, Бразилии и других
106
VI Международная научно-практическая конференция
странах. Так, в рамках заключенного трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере строительства ВСЖД в 2012 году началось строительство скоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет три страны. Прокладку полотна планируется завершить в 2015 году и, вполне вероятно, эта магистраль протянется дальше и достигнет Сингапура. На начальном этапе будет построена 240-км ВСЖД проектной стоимостью 25,6 млрд долларов США, которая свяжет Китай со столицей Таиланда Бангкоком и промышленным центром Районг на востоке страны [13].
По крупным инвестиционным проектам в области инфра-структурного строительства Китай старается заключать межправи-тельственные соглашения, так как это дает дополнительные гаран-тии исполнения проектов. Зачастую в Китае ВСЖД даже называют «самой ценной продукцией китайского экспорта» благодаря своей конкурентоспособности в области строительства инфраструкту-ры и производства современного железнодорожного подвижного состава. В Китае стоимость строительства 1 км ВСЖД состав-ляет 200 млн юаней, тогда как в Германии стоимость прокладки 1 км высокоскоростной железной дороги «Франкфурт-Кельн» обо-шлась около 300 млн юаней. В 2004 году в Южной Корее лишь прокладка полотна для ВСЖД обходилась в 250 млн юаней за 1 км [14]. В области строительства ВСЖД китайские специалисты соб-ственными силами создали ряд новых подлинно инновационных стандартов инженерной технологии: часть ЦТЖД на скоростном участке Голмуд-Лхаса стала самой высокогорной в мире – перегон протяженностью 960 км был проложен на высоте более 4 км над уровнем моря. ВСЖД нередко пересекают водоемы глубиной бо-лее чем 70 м и проходят через мосты-тоннели на высоте более 80 м. Китай уже обогнал многие страны мира не только в плане про-ектирования и прокладки бесшовных рельсов, но и овладел техно-логией противодействия температурному воздействию.
Сегодня в рамках стратегии открытости по-прежнему поощря-ется привлечение иностранного капитала в экономику страны, в то же время скорректированы рекомендации для иностранных инве-сторов в области развития высокотехнологичного транспортного комплекса КНР. В 2012 году появились новые положения, касаю-
107
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
щиеся приоритетных инновационных разработок, позволяющих Китаю в течение ближайших 10 лет занять значительный сегмент мировых продаж конкурентоспособных высокотехнологичных транспортных средств и оборудования. При этом из списка при-оритетных было исключено производство легковых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания – в первую очередь, по причине переизбытка производственных мощностей и чрезвычайно сильной конкуренцией на мировом рынке автомо-билей со стороны ведущих западных и азиатских производителей. Китайское руководство стало осознавать, что разрыв в традици-онном технологическом уровне между развитыми и развивающи-мися странами достаточно велик, и в ближайшее время его вряд ли можно сократить. Кроме того, внутренний рынок страны уже перенасыщен новыми отечественными автомобилями: если в 2009 и 2010 годах темпы роста объемов продаж новых автомобилей в КНР составляли двузначную цифру (более 30 %), то в 2011 году на фоне замедления темпов роста экономики Китая и завершения программ стимулирования покупки автомобилей, эти показатели резко упали до уровня 2,45 % [15. С. 34], а в 2012 года состави-ли 4,33 % [16]. Замедление роста темпов производства традици-онных автомобилей негативно отразилось на развитии смежных отраслей экономики КНР. Автомобильная промышленность тради-ционно является крупнейшим потребителем стали в Китае: доля использования стали в производстве грузового автомобиля в 2012 году составляла 85 % от всего объема использованных материа-лов, а пассажирского – 64% [17]. Как следствие, перепроизводство стали в КНР в последние годы в немалой степени было вызвано снижением объемов производства автомобильной промышленно-сти Китая. Директор Департамента промышленной координации ГКРР Чэнь Бинь на состоявшемся в августе 2012 года междуна-родном автосалоне в Тяньцзине, заявил: «И правительство, и руко-водство автомобильными компаниями КНР должны ясно осознать, что в течении еще долгого периода в стране не произойдет бурного роста рыночного спроса на традиционные бензиновые автомоби-ли» [18]. При определении на период 12-й пятилетки стратегиче-ского курса на развитие инновационных технологий Госсовет КНР
108
VI Международная научно-практическая конференция
определил семь приоритетных и стратегически важных отраслей промышленности (включая разработку и производство автомоби-лей, использующие альтернативные источники энергии) – той об-ласти, где стартовые условия мировых лидеров практически оди-наковы. Как полагают китайские аналитики, в 2015 году совокуп-ные годовые мощности в автомобильной промышленности КНР будут составлять около 23–25 млн единиц при спросе со стороны внутреннего рынка приблизительно в 20 млн автомобилей [19. С. 13]. В январе 2012 года в КНР официально было объявлено о прекращении активной государственной поддержки привлечения ПИИ в автомобильную отрасль, поскольку правительство страны намерено сделать основной упор на развитие производства ново-го поколения автомобилей, использующих альтернативные источ-ники энергии [20. С. 6]. В рамках политики «выхода за рубеж» с целью абсорбции новейших западных технологий в этой области китайские автомобильные компании активно используют ПЗИ в форме M&As. В начале 2013 года один из крупнейших автогиган-тов КНР Dongfeng Motor Corp. сделал предложение американско-му производителю гибридных автомобилей – корпорации Fisker Automotive. В случае одобрения американскими властями сделки, китайская компания за 350 млн долларов США приобретет 85 % акций корпорации Fisker Automotive и сможет выходить на меж-дународные рынки с ее весьма популярной гибридной моделью Karma стоимостью 100 тыс долларов США [21].
Список литературы1. Ху Аньган. Чжунгодэ вэйчжи=Место Китая в мире.
Шанхай: Дунфан чубань чжунсинь, 2012. 286 с.2. Factbox: China’s economic and social devel-
opment in 2012. URL: http://english.peopledaily.com.cn/90778/8140204.html (дата обращения: 27.01.2014).
3. Private firms lead China’s investment overseas. URL: http://english.peopledaily.com (дата обращения: 27.01.2014).
4. Wang Wenjie. Making Room for the Private Sector. Private economy needs more support from the government. URL: http://www.bjreview.com (дата обращения: 27.01.2014).
109
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
5. Chinese automakers to expand overseas presence. URL: http://english.peopledaily.com.cn (дата обращения: 27.01.2014).
6. Крупнейшая компания-производитель автозапча-стей Китая приобрела американскую фирму BPI. URL: http://russian.people.com.cn/31518/8182805.html (дата обра-щения: 27.01.2014).
7. Antwerp port seeks Chinese traffic and investment. URL: http://europe.chinadaily.com.cn/europe/2013–03/13/con-tent_16304174.htm (дата обращения: 27.01.2014).
8. Shaanxi Fast Auto plans its 1st overseas factories. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/201302/01/con-tent_16193306.htm (дата обращения: 27.01.2014).
9. Lan Xinzhen. Beware of the Bump. Outbound Chinese businesses struggle to make their investment profitable // Beijing Review. 2012. Vol. 55.
10. Shaanxi Fast Auto plans its 1st overseas factories. URL: http://www.chinadaily.com.cn/%20business/2013–02/01/content_16193306.htm (дата обращения: 27.01.2014).
11. China supports enterprises in defending rights over-seas. URL: http://www.china.org.cn/business/2013–03/08/con-tent_28175678.htm (дата обращения: 27.01.2014).
12. Chinese companies’ cross-border M&A rising. URL: http://www.china.org.cn/business/2012–12/23/con-tent_27492016.htm (дата обращения: 27.01.2014).
13. Tan Zongyang, Zhou Siyu, Liu Yiyu. Rail links: China “has technical capacity” // China Daily. 2012. Nov. 22.
14. China’s high-speed railway boom to continue. URL: http://www.china.org.cn/business/2013–01/16/con-tent_27700648.htm (дата обращения: 27.01.2014).
15. Tackling Overcapacity // Beijing Review. 2012. Jul. 19.16. China’s auto sales expand 4.33% in 2012. URL:
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013–01/11/con-tent_16106920.htm (дата обращения: 27.01.2014).
17. Steel companies pin hopes on autos. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2012–12/31/content_16070410.htm (дата обращения: 27.01.2014).
18. China’s auto sector faces overcapacity. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2012–09/01/con-tent_15726630.htm (дата обращения: 27.01.2014).
110
VI Международная научно-практическая конференция
19. О зарубежных инвестициях мировых автомобиль-ных компаний // Бюллетень иностранной коммерческой ин-формации. 2012. 5 мая.
20. Boosting Green Cars // Beijing Review. 2012. Apr. 26.21. Dongfeng among suitors for Fisker hybrid. URL:
http://english.peopledaily.com.cn/90778/8139039.html (дата обращения: 27.01.2014).
С. Л. Сазонов, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН, г. МоскваВ. С. Морозова,
канд. филос. наук, доцент Забайкальского государственного университета, руководитель Читинского
филиала Института Дальнего Востока РАН, г. Чита
Формирование национальной транспортной инфраструктуры в КНР и ее роль в развитии сферы культурного туризма1
Сегодня индустрия туризма, развиваясь стремительными тем-пами, начинает играть все более важную роль в структуре эконо-мики любой страны. Это происходит не только за счет улучшения условий проживания туристов, привлечения дополнительных ин-вестиций, но и путем активизации транспортно-логистической сети. В этих условиях, Китай, обладая огромным потенциалом культурных ресурсов, составляющих основу для разнообразных туристических маршрутов, требует улучшения и активизации всей системы транспортной инфраструктуры для реализации задач, по-ставленных правительством в процессе осуществления политики открытости внешнему миру.
Однако Китайская Народная Республика получила в наслед-ство от старого строя слабо развитую транспортную систему. В стране отсутствовали трубопроводы, не было ни одной линии воз-душных сообщений, а транспортная сеть характеризовалась малой пропускной способностью и крайней технической отсталостью. Низкий уровень развития транспорта стал одним из факторов,
1 Статья подготовлена в рамках научного исследования, поддержанного Советом по грантам Президента РФ МК-3689.2013.6
111
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
тормозящих развитие экономики. В условиях строительства со-циализма, когда решалась задача создания многоотраслевой ин-дустрии и обеспечения экономической независимости Китая, про-изошли кардинальные изменения в распределении капитальных вложений между промышленностью и транспортом. Удельный вес транспорта в суммарных капитальных вложениях стал постепенно снижаться, определился известный разрыв между инвестициями в инфраструктуру и другие ведущие отрасли народного хозяйства, в особенности в промышленность.
После образования КНР лишь в годы первых двух пятилеток развитие транспорта в основном соответствовало потребностям народного хозяйства страны. За этот период ежегодный прирост объема перевозки грузов составлял 20,6 % и превышал прирост валового продукта промышленности (18,0 %). Однако уже в годы третьей пятилетки наметился известный разрыв между этими двумя показателями, ежегодный прирост объема перевозок гру-зов стал отставать от прироста ВПП на 2,3 %. Постепенно разрыв увеличился и в четвертой пятилетке он составлял 3,0 %, пятой – 5,7 %, шестой – 3 %, седьмой – 4,5 %, восьмой – 4,1 % и девятой 3,3 %. Это привело к тому, что на этапе развития народного хо-зяйства КНР начиная с третьей пятилетки и до 1990-х годов про-изводственные мощности транспорта развивались медленнее, чем материально-техническая база потребителей его услуг.
Эффективность капиталовложений в транспортный комплекс резко снижалась вследствие нерациональной политики их терри-ториального распределения. Исходя из военно-стратегических соображений и, в первую очередь, потребностей транспортного обеспечения «третьей линии обороны», руководство КНР со вто-рой половины 1960-х годов до 1975 года 85 % ассигнований в же-лезнодорожный транспорт вкладывало в строительство магистра-лей во внутренних районах страны к западу от железной дороги Пекин-Гуанчжоу, на которые приходилось около 80 % вновь по-строенных магистралей. Эта политика привела к тому, что линии, расположенные к западу от магистрали Пекин-Гуанчжоу, имели значительный резерв пропускной способности, а дороги к востоку от основной железнодорожной артерии Китая и на северо-востоке
112
VI Международная научно-практическая конференция
страны работали с большим напряжением – их протяженность со-ставляла около 50 % общесетевой, но на них приходилось более 80 % всех перевозимых грузов.
Исследование национальной статистики ВВП, созданного на основе анализа транспорта Китая, характеризует развитие этой ин-фраструктурной отрасли КНР как стабильное, однако рассмотре-ние внутритранспортного фактора свидетельствует об обратном. За время после образования КНР наблюдалась устойчивая тенденция к стагнации удельного веса ВВП, созданных на транспорте Китая, что следовало бы признать экономически благоприятным показа-телем. Это подтверждается мировой практикой, согласно которой интенсификация транспортного комплекса, имея своей конечной целью экономию удельного веса живого и овеществленного тру-да на единицу транспортной работы в стране, неизбежно должна выражаться в уменьшении (либо в стабилизации) удельного веса транспорта и в совокупном валовом общественном продукте, и в национальном доходе.
Анализ, проведенный Научно-исследовательским институ-том транспортных проблем Госсовета КНР, свидетельствовал, что официальная статистика не отражала реального вклада транспорта Китая в ВВП. Основной причиной искажения информации о рабо-те транспортной отрасли являлась устаревшая тарифная система. Снижение доли транспорта в основных производственных фондах народного хозяйства при высоких темпах роста грузооборота и пассажирооборота также послужило причиной чрезвычайно вы-сокой интенсивности использования производственных фондов транспорта Китая.
Как и любая другая отрасль материального производства, транспорт заинтересован в увеличении фондоотдачи – чем боль-ше грузов и пассажиров будет перемещено с помощью одних и тех же транспортных средств, тем меньше потребуется дополни-тельных средств для удовлетворения дополнительных грузовых и пассажирских потоков. Ключевая задача развития отрасли за-ключается в создании разветвленной сети дорог и других транс-портных коммуникаций. Строительство большинства магистра-лей до 1970-х годов в приграничных районах сконцентрировало
113
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
транспортную сеть в малообжитых, в промышленном отношении слаборазвитых районах, где напряженность перевозок была чрез-вычайно мала. Ухудшало показатель фондоотдачи и качественное состояние транспортной сети страны, где превалировали однопут-ные железные дороги, шоссейные дороги четвертой (самой низкой категории).
Базируясь на всестороннем анализе отраслевой структуры экономики КНР, исходя из особенностей социально-экономиче-ского развития страны, можно сделать вывод, что в Китае за весь период с 1949 года до середины 1990-х годов игнорировалась при-оритетность развития транспорта. Специалисты НИИ транспорт-ных проблем Госсовета КНР полагали, что размеры бюджетных капиталовложений в развитие отрасли не должны были быть ниже государственных инвестиций в транспорт в период четвертой пя-тилетки (18 %), а, учитывая тот факт, что транспорт играет приори-тетную роль в народнохозяйственном комплексе страны, капита-ловложения в его развитие должны были составлять до 20 % всех бюджетных инвестиций.
Изучение проблемы межотраслевой пропорциональности за этот период свидетельствует о незавершенности структуры транс-портного комплекса КНР: имели место многочисленные случаи работы отдельных видов транспорта в сфере, не свойственной им. Основной причиной отраслевой диспропорции стала несбалан-сированная тарифная политика, приводящая к несопоставимости эксплуатационных расходов разных видов транспорта по перечню учитываемых затрат. Несомненно, что повышение транспортоем-кости продукции, и, как следствие, и нагрузки на отрасль в Китае было обусловлено системой планирования и управления транс-портом.
К экстернальным факторам, повышающим загруженность транспортной сети, следует отнести, во-первых, высокую энерго-емкость и материалоемкость продукции. Расчеты китайских эко-номистов свидетельствовали, что снижение материалоемкости производства и строительства в 1990 году позволило бы умень-шить объем транспортной нагрузки на 15–18 %. Во-вторых, на увеличение загруженности транспортной сети в КНР оказало вли-
114
VI Международная научно-практическая конференция
яние размещение производительных сил, которое сложилось по-сле образования республики. Существенные недостатки в работе транспортного комплекса страны приводили к огромным потерям материальных, трудовых и финансовых ресурсов, отрицательно сказывались на эффективности всего общественного производ-ства. Все эти диспропорции привели не только к тому, что к 1990-м годам транспорт превратился в «узкое место» в экономике КНР, в фактор, сдерживающий ее экономический прогресс, общий ущерб из-за несовершенного транспортного обслуживания исчислялся десятками млрд юаней.
Сфера культурного туризма в Китае в последнее время пред-ставляет собой одну из самых высокоразвитых отраслей экономи-ки. По численности туристов, посещающих страну, Китай занима-ет 3-е место в мире. В 2011 году Китай посетило 57,6 млн зарубеж-ных туристов (55,6 млн в 2010 году) [1]. Сегодня происходит по-стоянное увеличение количества иностранных туристов не только в центральных регионах Китая. Стремительно развивается туризм в приграничном пространстве РФ-КНР. Культурные ресурсы севе-ро-востока представляют большой потенциал для развития при-граничных территорий России и Китая. В качестве примера можно указать ряд перспективных социокультурных проектов, направ-ленных на соразвитие России и Китая в пространстве приграни-чья: культурный пояс ландшафтного туризма (озеро Ханка – озеро Цзинбоху – Ябули – Цзиньюань), трансграничный туристический парк «Восточные ворота России “Забайкальск-Маньчжурия”» [2, С. 31]. Правительством КНР высказывается необходимость уско-ренного развития инфраструктуры восточной части Дунбэя, стро-ительства транзитных железных дорог и транспровинциальных шоссейных дорог [3]. Об определенном интересе к туристическим ресурсам Китая со стороны россиян говорит и тот факт, что в мае 2013 г. был открыт регулярный чартерный рейс из Владивостока в г. Яньцзи (центр Яньбянь-Корейского автономного округа), а с 20 июля анонсирован рейс Чанчунь-Яньцзи-Владивосток Китайских южных авиалиний – крупнейшего авиаперевозчика КНР [4, С. 59].
Очевиден тот факт, что развитие сферы культурного туризма в Китае зависит не только от качественной репрезентации само-
115
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
го потенциала культурных ресурсов, но и от того транспортного обслуживания, развитие которого является необходимым в связи с приобретением туристической сферой характеристики «массо-вого времяпрепровождения». Речь идет не только о специализи-рованном транспорте, но и о создании материально-технической базы, соответствующей туристическим потребностям страны. В частности, стремительные темпы развития железнодорожного транспорта в Китае связаны и с потребностью туристов «быстро и с комфортом» добраться до места назначения. Соответственно, туризм и транспорт являются взаимообусловленными сферами, и только правильное решение вопросов формирования националь-ной транспортной инфраструктуры позволит удовлетворить воз-растающие потребности туристов к обслуживанию и повысить эффективность туристической деятельности страны.
Список литературы1. China world’s third most visited country. URL: http://
www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hFli5xB9YgVoSunOYYFREW6BozmQ?docId=CNG.f55f656a9f597ee071fe1ead97d63e4a.3b1&hl=en (дата обращения: 28.01.2014).
2. Морозова В. С. Региональная культура в социокуль-турном пространстве российского и китайского приграни-чья: автореф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.13. Чита, 2013. 43 с.
3. Чжунхуа жэньминь гунхэго гоминь цзинцзи хэ шэ-хуй фачжань дишии гэ у нянь цзихуа ганъяо=11-й пяти-летний план экономического и социального развития КНР. URL: http://www.gov.cn/ztzl/2006–03/16/content_228841_6.htm (дата обращения: 28.01.2014).
4. Ставров И. В. Политика по развитию туристической отрасли Северо-Восточного Китая как фактор экономиче-ского роста // Известия Иркутского государственного уни-верситета. Серия «Политология. Религиоведение». 2013. № 2 (11). С. 57–64.
116
VI Международная научно-практическая конференция
О. А. Симоненко, канд. полит. наук, доцент Тихоокеанского
государственного университета, г. Хабаровск
Идеологический фактор в современной политической системе КНР
С конца XVIII вв. вопрос о сущности идеологии и возмож-ности реального воплощения идеологических концептов остается спорным как для теоретиков, так и для практиков. Не останавли-ваясь на анализе классических и современных дефиниций, в на-стоящей работе под идеологией мы будем понимать систему базо-вых утверждений, предлагающихся обществу и воспринимаемых им в качестве истинных. Для обывателя идеология представляет-ся удобным конструктом, поскольку позволяет, с одной стороны, осознать осмысленность собственного существования, а с другой стороны, избавляет от утомительной длительной рефлексии, по-скольку основной труд по структурированию концепта поставля-ется «свыше». Такая функция идеологии наиболее значима в обще-ствах восточного типа, особенно если формально или фактически она является обоснованием монопольной власти. В реалиях КНР фактическая власть принадлежит центральным и местным струк-турам правящей партии, поэтому усилия, предпринимаемые КПК для сочетания в своей идеологической доктрине, казалось бы, не-сочетаемых феноменов, представляют особый интерес.
В Китае институт политических партий сформировался к 1912 г., когда в результате Синьхайской революции они стали играть за-метную роль в политической жизни общества. Наиболее влиятель-ной силой этого периода стала Китайская Национальная Народная партия (Гоминьдан), руководимая Сунь Ятсеном, который будучи сторонником националистических идей, не отрицал необходимо-сти расширения конституционной парламентской демократии, но настаивал на необходимости строгой партийной дисциплины.
Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 г. и первоначально образовывала альянс с Гоминьданом, разрешив своим членам вступать в ряды этой партии, оставаясь членами КПК. Сами отцы-основатели КПК Чэнь Дусю и Ли Дачжао были приняты в Гоминьдан лично Сунь Ятсеном и назначены на замет-ные партийные посты в Гуанчжоу и Пекине.
117
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
По мнению В. Ф. Печерицы, уникальная возможность для придерживающихся разных взглядов людей вступать в партию соперников и получать при этом хорошие результаты сотрудниче-ства, является основой для современной концепции «одна страна – две системы», применяющейся в Сянгане и имеющей перспективы для Тайваня [1. С. 113].
Со времени образования Китайской Народной Республики в 1949 г. КПК является правящей партией. Сейчас численность чле-нов партии превышает 80 миллионов человек [2], таким образом, КПК является самой массовой политической партией мира. В дей-ствующей Конституции 1982 г. КПК отводится руководящая роль в развитии системы многопартийного сотрудничества и политиче-ских консультаций [3].
Помимо КПК в период с 1921 по 1949 гг. в Китае возникло во-семь партий, легально действующих на территории КНР и поныне. Все они объединены наименованием «демократические партии». Однако если в начальный период своего развития партии имели некоторые различия в программных документах и практической деятельности, то сейчас их уставы практически идентичны.
В сущности, каждая организация полностью разделяет идео-логию КПК, сохраняя преемственность в риторике и идеологии. Некоторые различия можно отметить лишь в социальной принад-лежности членов партий: большинство относится к средним и высшим слоям интеллигенции, но одни представляют сферу здра-воохранения и фармацевтики (парадоксально, но это особенность Рабоче-крестьянской демократической партии Китая [4]), дру-гие – область культуры, науки и просвещения (Демократическая лига Китая [5]), третьи объединяют деятелей экономических кру-гов (Ассоциация демократического национального строитель-ства Китая [6]), работников издательского дела, науки и техники (Ассоциация содействия развитию демократии Китая [7]), высше-го образования (Общество 3 сентября [8]) и т. д.
Как известно, вопрос государственной принадлежности Тайваня является одним из самых болезненных для китайской ди-пломатии. Часть «демократических партий» позиционируют себя как борцов за объединение Родины и в этом качестве не лишены
118
VI Международная научно-практическая конференция
практического смысла: Революционный комитет Гоминьдана [9], Лига демократической автономии Тайваня [10], а также выступа-ющая за адаптацию возвратившихся в КНР китайских эмигрантов Партия стремления к справедливости [11].
Лидеры партий участвуют в консультациях по основным вопросам государственной политики, в согласовании канди-датур на важные государственные посты, в заседаниях сессий Всекитайского комитета Народного политического консультатив-ного совета Китая и Всекитайского собрания народных предста-вителей. Однако сессии указанных органов проводятся лишь раз в год, а представители КПК составляют большинство в любой кол-легиальной структуре (например, в ВСНП 12-го созыва – 2099 из 2987 делегатов), что закономерно, учитывая, что численность всех членов «демократических партий» в совокупности не достигает 1 млн человек.
Нормативные акты КПК регулируют основные процес-сы в стране. «Руководящие органы партии… выступают в ка-честве одного из субъектов правотворчества в стране, хотя по Конституции они не наделены правотворческой функцией» [12. С. 11]. Исполнительная ветвь власти может быть выделена в зна-чительной степени формально, поскольку большинство членов Госсовета, включая Председателя Правительства Ли Кэцяна, зани-мают видные посты на вершине Коммунистической партии, а ви-це-премьер Чжан Дэцзян также является главой парламента КНР. Такое совмещение постов в законодательной, исполнительной и судебной иерархиях укладывается в рамки «китайской демократи-ческой модели».
За годы существования КНР сложилась социально-политиче-ская система с сильной руководящей партией, которая успешно реагирует на внутренние и внешние угрозы и стабилизирует об-щество, сочетая традиции классической бюрократии и концепции мобилизационного развития. Рыночные реформы способствовали росту экономики, интересам которой стали постепенно подчинять-ся и другие сферы жизни общества.
В руководстве КПК сформировалась уверенность в том, что «одна из главных задач реформ заключается в создании единого
119
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
механизма государственного управления, сочетающего динамизм и верность идеологическим принципам» [13. С. 321]. Хотя запад-ные исследователи иногда иронично относятся к высказываниям о «реализации новейших коммунистических принципов… для мак-симизации прибыли акционеров», мало кто сомневается, что за ри-туальной партийной риторикой стоит мощь политических инсти-тутов [14. С. 108]. Идеологическая концепция довольно успешно модернизируется. Чтобы более соответствовать требованиям вре-мени, наиболее ярко окрашенные тезисы о необходимости классо-вой борьбы, революции и интернационализме заметно смещаются на периферию. В центр внимания выдвигаются идеи почитания старших, уважения власти, терпимого отношения к житейским не-взгодам, признания иерархического устройства общества, отказа от агрессии, открытых конфликтов. Эти тезисы замечательно со-четаются как с конфуцианскими добродетелями, так и с потреб-ностями рыночной экономики.
Устойчивость системы подтверждается плавностью пере-дачи власти в 2012–2013 гг. так называемому пятому поколению руководителей. Если на высшем государственном уровне органы власти формируются без участия широких народных масс, то на уездном и поселковом уровне прямые выборы все же проводятся. Как нам представляется, масштаб и успех дальнейшей демократи-зации будет зависеть от реализации идеи Ху Цзиньтао о постро-ении «гармоничного общества» и экономической модернизации. Уже сейчас граждане КНР оценивают своих лидеров не по партий-ным программам и принципам, а по их достижениям в решении социальных проблем. Следовательно, перспективы укрепления ле-гитимности КПК прочно связаны с восстановлением социальной справедливости.
Непременный атрибут идеологии Китая, как в истории, так и в современности, грандиозные символы величия – от построения самого высокого в мире здания до проведения Олимпийских игр, что является традиционным признаком достижения зрелости для азиатских наций [15. С. 39]. Символы выполняю двойную задачу: во-первых, показывают достижения экономики и науки, во-вторых, разогревают чувство национальной гордости. Символические про-
120
VI Международная научно-практическая конференция
екты не только воздействуют на население КНР (хотя эта их функ-ция наиболее значима), но и демонстрируют другим государствам, что амбиции Китая имеют реальные основания. Очевидно, мате-риальные затраты в таком случае не имеют первостепенного зна-чения.
Не кажется невероятным, что огромные ресурсы, потрачен-ные на «переформулировку» и пропаганду идеологии, когда-ли-бо окупятся. Особенно в системе, которая подвергается быстрой эволюции и оставляет людей в положении фундаментальной не-определенности по поводу их будущего. Идеологическая реформа может помочь сохранить политическую власть, стабилизируя со-циальные ожидания, смягчая напряженности перехода, формируя ощущение законности правил [16].
Возрастание влияния и силы трех новых элитных групп – юри-сты, бизнесмены и возвратившиеся на родину эмигранты – броса-ет вызов прежним лидерам-технократам, показывая, что варианты партийной карьеры стали существенно разниться. Различия в их демографическом, образовательном и административном прошлом могут способствовать политическому плюрализму в Китае, но все конкурирующие элиты для выживания нуждаются друг в друге.
Оппозиционность внутри КПК – это не только коалиционный механизм сдержек и противовесов оппозиционных сторон, но и способ придать процессу принятия решений большую динамич-ность и плюрализм. С одной стороны, конфликтующие интересы лидеров могут задерживать принятие решений и тормозить ско-рость социально-экономических процессов. С другой стороны, принимаемые решения будут более аргументированными, устой-чивыми к критике извне.
Еще один эксперимент по демократизации успешно реализу-ется в Сянгане, где КПК де-юре и де-факто разрешила контролиру-емую многопартийность. Поскольку деятельность политических партий особого административного района регулируется Пекином, говорить об их абсолютной свободе нельзя, но в перспективе этот опыт может быть использован в сотрудничестве с Тайванем, а так-же и на основной территории Китая.
Способность идеологии выполнять функцию легитимации не предполагает, что ее непременно разделяет все население на
121
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
уровне глубоко укоренившихся убеждений. Скорее идеология эф-фективна в том смысле, что она служит символическим ресурсом формирования общественного мнения и основой для социального понимания реальности.
Список литературы1. Печерица В. Ф. Политические партии стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. 312 с.
2. Новости Коммунистической партии Китая. URL: http://russian.cpc.people.com.cn/ (дата обращения: 29.01.2014).
3. Конституция КНР. URL: http://worldconstitutions.ru/-archives/31 (дата обращения: 31.01.2014).
4. Рабоче-крестьянская демократическая партия Китая. URL: http://www.ngd.org.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
5. Демократическая лига Китая. URL: http://www.dem-league.org.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
6. Ассоциация демократического национального строительства Китая. URL: http://www.cndca.org.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
7. Ассоциация содействия развитию демокра-тии Китая. URL: http://www.mj.org.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
8. Общество 3 сентября. URL: http://www.93.gov.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
9. Революционный комитет Гоминьдана. URL: http://www.gzminge.org.cn/gzminge/Index.shtml (дата обращения: 31.01.2014).
10. Лига демократической автономии Тайваня. URL: http://www.taimeng.org.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
11. Партия стремления к справедливости. URL: http://www.zg.org.cn/ (дата обращения: 31.01.2014).
12. Мамаева Н. Л. Партия и власть: Компартия Китая и проблема реформы политической системы. М.: НП ИД «Русская панорама», 2007. 232 с.
13. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М.: НОФМО, 2008. 368 с.
122
VI Международная научно-практическая конференция
14. МакГрегор Р. Партия: тайный мир коммунистиче-ских правителей Китая. М.: Эксмо, 2011. 416 с.
15. Шенкар О. Китай: век XXI: Развитие Китая, его влияние на мировую экономику и геополитическое равно-весие. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 208 с.
16. Holbig H. Remaking the CCP’s Ideology: Determinants, Progress, and Limits under Hu Jintao // Journal of Current Chinese Affairs. 2009. № 3 (38). Р. 35–61.
О. А. Тимофеев, канд. ист. наук, доцент, зам. декана по научной работе
факультета международных отношений Амурского государственного университета, г. Благовещенск
О. К. Грибова,кафедра китаеведения факультета
международных отношений Амурского государственного университета, г. Благовещенск
Проблема китайско-индийской государственной границы
Пограничные отношения между Индией и Китаем имеют дав-нюю историю. Главная ее особенность – наличие резких перехо-дов от дружеских отношений к прямым военным действиям.
Китай с Индией имеет протяженную границу, причем, она осложнена тем, что линия границы идет по высочайшим горным хребтам – Гималаи и Каракорум (демаркация границы в этом реги-оне – дело технически очень сложное).
Границу между Индией и Китаем, имеющую протяженность около 3,5 тыс км, можно условно разделить на три участка: запад-ный участок (около 1600 км) – граница индийского штата Джамму и Кашмир с Синьцзяном и Тибетом; центральный участок (око-ло 640 км) – граница индийских штатов Химачал Прадеш и Уттар Прадеш с Тибетом; восточный участок проходит вдоль так называ-емой линии Макмагона от стыка границ КНР, Индии и Мьянмы до стыка границ КНР, Индии и Непала.
Если на сегодняшний день в результате длительных перегово-ров и взаимных уступок в основном разрешены территориальные споры между КНР и большинством ее сухопутных соседей (КНДР,
123
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Россией, Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Непалом, Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом – за исключением проблемы принадлежности островов Южно-Китайского моря.), то между Индией и Китаем до сих пор существует два «спорных» района – регион Аксайчин (на запад-ном участке границы) и северная часть штата Аруначал-Прадеш (на восточном участке, «линия Макмагона»).
Китайская теория «спорных» районов сводится к тому, что, отразив на картах свои притязания на отдельные участки террито-рии соседних стран, китайская сторона в одностороннем порядке начинала именовать сферу своих притязаний спорными районами. Причем, сама «спорность», в соответствии с толкованием китай-ской стороны, проистекала из того, что эти районы будто бы со-ставляли часть государственной территории Китая, отнятой у него другими странами.
По мнению ряда российских экспертов, теория «спорных» районов несовместима с основными принципами современного международного права, в частности с принципом неприкосно-венности государственной территории; она также противоречит и принципам мирного сосуществования государств, в частности принципу уважения государственного суверенитета и территори-альной целостности [1. С. 438].
Длительность и сложность формирования границы с Индией объясняется тем, что китайская сторона не признает многие заклю-ченные договоры. Если позиция Индии базируется на заключен-ных договорах (государственная граница имеет договорно-право-вую базу), то Китай свои претензии основывает на исторической аргументации. Историческая аргументация покоилась на «трех ки-тах»: теории «единой китайской нации», тезисе об «исторической принадлежности Китаю» значительных территорий сопредельных стран, фальсификации исторических материалов в угоду амбици-ям и интересам пекинских лидеров [2. С. 440–441].
Так, относительно региона Аксайчин, Китай утверждает, что эта территория находилась под управлением тибетских властей. Позиция Индии базируется на китайско-индийском Соглашении 1954 г. о торговле и связях между Индией и Тибетским районом Китая, где были обозначены 6 перевалов-переходов: Шипки, Манна, Нити, Кунгри Бингри, Дарма и Липу Лек [3. С. 296].
124
VI Международная научно-практическая конференция
Относительно восточного участка, Китай считает незаконной «линию Макмагона» и относит британо-тибетское соглашение, подписанное на Симлской конференции 1914 г., к неравноправ-ным. В понимании китайской историографии, неравноправный до-говор – это договор, навязанный Китаю путем дипломатического шантажа, военной силы и другими способами, которые вынудили Китай подписать его. Неравноправный договор нарушает и ущем-ляет права и интересы Китая.
Значительным раздражителем в деле решения проблемы про-должает оставаться содержание китайских учебников по истории, а также исторических атласов и карт. С начала 1950-х годов в Китае начали публиковаться географические карты, на которых значи-тельная часть территории Индии, а также Сикким, Бутан, Непал и некоторые другие территории были обозначены как китайские. Около 130 тыс. кв/км территории в Аксайчине и в районе «линии Макмагона» были включены в состав Тибетского района Китая и провинции Синьцзян. Публикации подобных карт продолжались и после подписания соглашения 1954 г., в том числе и в приложе-нии к учебнику для средних школ «Краткая история современного Китая» [4. С. 306].
Корни становления индийско-китайской границы уходят в XVIII в., когда Британская империя установила контроль над Индией (создав свою Британскую индийскую империю), а Китай над Тибетом. И когда уже в середине XX в. ситуация в корне изме-нилась, на смену Британской Индии пришла независимая Индия, а гоминьдановский Китай уступил место КНР, территориальные разногласия привели к возникновению серьезного пограничного конфликта.
Специфической чертой китайско-индийской границы является наличие в приграничных регионах ряда формально независимых государств (королевства Непал и Бутан, княжество Сикким, до 1950-х гг. – Тибет), длительное время составлявших своеобразный буфер, разделяющий территории Китая и Индии.
В этом ряду показателен пример Сиккима. В 1975 г. это гима-лайское княжество было включено в состав Индийского Союза в качестве 22-го штата. Правительство КНР не признало этот факт и
125
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
обвинило индийские власти в экспансионизме. 20 октября 1975 г. произошло серьезное столкновение на данном участке границы, в результате чего несколько человек погибло.
Сикким обладает уникальным геостратегическим положени-ем. Через его территорию проходит т. н. «Старая шелковая дорога» – кратчайший путь, соединяющий г. Лхаса с Западной Бенгалией и всей Индией (Лхаса-Ядун-Гангток-Дарджилинг). Дорога проходит через перевал Нату Ла, находящийся на высоте 4290 м над уровнем моря (в отличие от остальных участков китайско-индийской гра-ницы, где преобладают труднодоступные горные пики).
Урегулирование споров по поводу Сиккима представляло со-бой достаточно длительный процесс. В точение нескольких де-сятилетий факт аншлюса не признавался правительством КНР. Процесс унификации позиций КНР и Индии по поводу Сиккима начался еще в марте 2002 г. В ходе состоявшегося тогда визита в Пекин министра иностранных дел Индии Дж. Сингха стороны выразили желание начать процесс формальных консультаций по поводу статуса Сиккима. В июне 2003 г., состоялся визит премьер-министра Индии А. Б. Ваджпаи в Китай. Китайская сторона заяви-ла: КНР не считает, что Сикким не является территорией Индии. В октябре того же года упоминание о Сиккиме как о независимом государстве было изъято из содержания официального сайта МИД КНР [5].
В ходе визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Индию 9–12 апреля 2005 г. были подписаны т. н. «Руководящие прин-ципы» (Guiding Principles) мирного решения проблемы границы между двумя странами. В данном документе территория Сиккима именуется «Штат Сикким Республики Индия» (the Sikkim State of the Republic of India). В ст. 13 подписанного в ходе визита Совместного заявления от 11 апреля говорилось: «Стороны с удов-летворением отмечают факт имплементации меморандума о раз-витии приграничной торговли в районе пограничного перехода Нату Ла между Тибетским автономным районом КНР и штатом Сикким Республики Индия» [6]. В ходе визита китайский премьер вручил главе индийского правительства М. Сингху карту, на кото-рой Сикким был обозначен как территория Индии.
126
VI Международная научно-практическая конференция
В отношениях между Китаем и Индией существует такое понятие, как «линия фактического контроля». Данная «линия» долгое время существовала де-факто, и лишь в соглашениях 1993 и 1996 гг. получила юридическое признание. Линия фактическо-го контроля – демаркационная линия между Индией и Китаем. Линия имеет протяженность 4057 километров в длину и проходит через три области Индии: западную (Ладакх, Кашмир), среднюю (Уттаракханд, Химачал) и восточную (Сикким, Аруначал).
Таким образом, несмотря на заявления сторон, что все тер-риториальные претензии нужно решать мирно и путем взаимных уступок, серьезных сдвигов в решении китайско-индийского по-граничного спора (за исключением проблемы Сиккима) пока не наблюдается. Удалось достичь лишь сохранения статус-кво и пре-дотвращения военных столкновений.
Список литературы1. Мясников В. С. Договорными статьями утвердили:
дипломатическая история русско-китайской границы, XVII–XX вв. М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1997. 543 с.
2. Там же.3. Там же.4. Там же.5. МИД КНР. URL: http://www.fmprc.gov.cn (дата об-
ращения: 02.02.2014).6. Joint Statement of the Republic of India and the People’s
Republic of China. URL: http://www.hindu.com/thehindu/nic/0041/jointstatement.htm (дата обращения: 02.02.2014).
П. В. Трощинский, канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН, руководитель группы правовых исследований Китая, г. Москва
Влияние глобализации на правовую систему КНР
Современный облик правовая система КНР стала приобретать в конце 1978 г., когда руководство страны приступило к осущест-влению широкомасштабных экономических и социально-полити-ческих реформ в рамках известной политики реформ и открыто-
127
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
сти (改革开放政策). Несмотря на то, что китайское государство в течение длительного времени было закрытой для внешнего мира страной и опиралось преимущественно на собственные силы (хотя с 50-х до 60-х годов прошлого столетия промышленная база Китая, его правовая система были сформированны при непосредственном участии советских специалистов), тем не менее, именно в годы ре-форм за основу развития был взят передовой зарубежный опыт. В основу осуществляемой политики легли слова великого реформа-тора Дэн Сяопина (邓小平), сказанные им еще 8 июля 1983 г. в бесе-де с ответственными лицами из ЦК КПК: «Надо использовать ин-теллектуальные ресурсы зарубежных стран, приглашать иностран-цев для участия в строительстве важнейших объектов, в работе на различных участках, например в области просвещения, техниче-ской реконструкции. Важность этого вопроса мы недооценивали, а потому и не проявляли большой решимости. Не надо бояться рас-ходов. Пусть иностранцы приезжают как на длительные, так и на короткие сроки или специально для разработки какой-либо одной определенной темы. Приглашайте их, чтобы они помогали в раз-решении кое-каких проблем. У нас не хватает ни опыта, ни знаний, необходимых для осуществления модернизации, и нам нужна их помощь. После приезда иностранцев надо следить за тем, чтобы лучше выявить их роль. Раньше мы устраивали для них массу бан-кетов, занимались церемониями, а вот за советами и помощью в работе обращались мало. Между тем, они хотят помогать нам в работе» [1].
Наряду с привлечением в экономическое развитие страны пе-редовых зарубежных технологий и методов управения, правовая система КНР также стала претерпевать серьезные изменения, свя-занные с появлением в ней новых важных актов правотврочества. Некоторые правовые документы принимались с учетом правотвор-ческого опыта зарубежных стран и международных организаций. Более того, требования международного сообщества о необходи-мости приведения внутрекитайского законодательства в соответ-ствие с общепризнанными принципами и нормами международно-го права становились все более настойчивее. Потребность во всту-плении КНР в различные международные организации, участие
128
VI Международная научно-практическая конференция
страны в международных конференциях, открытость информаци-онного пространства – все это заставляло китайское руководство в своей правотворческой деятельности учитывать особенности со-временного международного права и оказываемое глобализацион-ными процессами влияние на китайское законодательство и право-сознание обычного китайца.
Принятая в 1982 г. действующая Конституция КНР (中华人民共和国宪法) претерпела 4 Поправки. Одна из них напрямую свя-зана с оказываемым международным сообществом давлением на китайского правотворца. Так, в ст. 33 Основного закона было до-бавлено важное по содержанию положение, ставшее ч. 3 указанной статьи: «государство уважает и охраняет права человека». В связи с появлением конституционной нормы об уважении и охране прав человека следует напомнить, что в октябре 1997 г. китайское пра-вительство подписало Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а в феврале 2001 г. Постоянный комитет ВСНП его ратифицировал. В октябре 1998 г. Правительство КНР подписало и Международный пакт о гражданских и политиче-ских правах, который до сих пор так и не ратифицирован ПК ВСНП. Международный документ предполагает обязательную отмену действующей в стране-участнице этого международного договора смертной казни. Однако имплементировав указанное положение в конституционное законодательство КНР, китайский правотворец не стал отказываться от института смертной казни, а лишь уменьшил количество составов преступлений, за которые УК КНР она уста-навливается: с 68 до 55 (большинство составов преступлений, за совершение которых ранее предусматривалась высшая мера наказа-ния, носили экономический характер).
Включение Китая в глобализационные процессы привело к некоторому учету норм международного права не только в кон-ституционном законодательстве. В первые годы реформ в право-вой системе КНР появились не известные раньше законы: Общие положения гражданского права (1986 г., аналог первой части ГК РФ), Таможенный кодекс КНР (1987 г.), Административно-процессуальный кодекс КНР (1989 г.), закон КНР «О регулиро-вании налогообложения» (1992 г.) и многие другие нормативные
129
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
правовые акты. Важным стал и закон КНР «О борьбе с отмывани-ем денег» (2006 г.), положения которого практически полностью были сформулированы в соответствии с рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием де-нег – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF). Несмотря на то, что положения закона полностью соответствуют международным правовым нормам в сфере противодействия от-мыванию доходов, полученных преступным путем, тем не менее, на практике китайские власти никогда не интересуются источни-ком происхождения денег инвестора, которые в больших объемах вкладываются иностранцами в китайскую экономику. Власти КНР в первую очередь руководствуются национальными интересами, и при противоречии внутреннего законодательства и международ-ных норм отдают приоритет тем положениям, которые в данный момент отвечают интересам собственного государства.
Вступление в декабре 2001 г. КНР в ВТО послужило толчком к глубоким изменениям не только в социально-экономической, но и в законодательной сфере страны. Не случайно, что руководством китайского государства вступление в ВТО было признано одним из главных событий за период осуществления политики реформ и открытости. До официального провозглашения о вступлении КНР в ВТО китайский правотворец проделал комплексную работу по приведению своего национального законодательства в соответ-ствие с требованиями международного права. Были изменены по-ложения Таможенного кодекса КНР, закона КНР «О контроле каче-ства импортируемой и экспортируемой продукции», законов КНР, касающихся предприятий, основанных на иностранном капитале. В течение 10 лет с момента вступления в ВТО в правовой системе Китая появился целый ряд новых правовых актов, а многие ранее принятые законы подверглись существенным изменениям и/или дополнениям. В первую очередь это касается законов в сфере за-щиты прав интеллектуальной собственности, в инвестиционной и налоговой, банковской и предпринимательской сферах, в сфе-ре борьбы с отмыванием денег и др. Существенным изменениям подверглось не только материальное, но и процессуальное право Китая.
130
VI Международная научно-практическая конференция
Вместе с изменением либо отменой не соответствующего тре-бованиям ВТО общегосударственного законодательства, в Китае была развернута широкомасштабная кампания по принятию, из-менению либо отмене местных актов правотворчества. Во всех китайских провинциях и крупных городах местными органами законодательной власти осуществлялась «чистка» действующих нормативных правовых документов, не соответствующих общим принципам международного права. Особое место в этом ряду за-нимали приморские города, в которых основной упор был сделан на изменение внешнеторгового и инвестиционного законодатель-ства.
Однако, как и прежде, несмотря на заявления руководства ки-тайского государства об успешности процесса приведения нацио-нальной системы права в соответствие с предъявляемыми между-народными требованиями, все же эти изменения не могут быть признанными полными и достаточными. Скорее они носят «пока-зательный», «умиротворяющий», «компромиссный», а в большин-стве случаев «временный» характер. Китайские власти в процес-се реформирования правовой системы исходят исключительно из собственных интересов, руководствуясь целями и задачами, стоя-щими перед лицом китайского общества, а лишь затем обращают свои взоры на предложения и замечания со стороны иностранных партнеров.
Одним из источников права современного Китая являются и международные договоры и/или соглашения, которые подписаны (ратифицированы) КНР либо к которым она присоединилась, с уче-том сделанных оговорок. В Конституции КНР отсутствуют нормы, устанавливающие приоритет норм международного права над на-циональным либо закрепляющие общепризнанные принципы и нормы международного права в качестве составной части правовой системы Китая (как в Конституции РФ). Однако это вовсе не озна-чает, что КНР не признает некоторые положения международного права в качестве обязательных для китайского правоприменителя. Вступление китайского государства в международные организации, подписание и ратификация международных договоров потребовало от законодателя учета международных правовых норм в правопри-менительной практике, в законотворческой работе.
131
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
В действующем законодательстве КНР содержатся положе-ния, закрепляющие примат норм международных договоров над китайским правом в случае наличия между ними противоречий. Такого рода положения закреплены в следующей формулировке: «если международными договорами, которые заключены КНР или в которых она участвует, установлены иные правила, чем те, кото-рые предусмотрены:
− гражданским законодательством КНР (ч. 2 ст. 142 Общих по-ложений гражданского права КНР);
− гражданско-процессуальным Кодексом (ст. 238 ГПК КНР); − административно-процессуальным кодексом (ст. 72 АПК
КНР), то применяются правила международных договоров. Однако
это не относится к тем договорным положениям, в отношении ко-торых КНР сделаны оговорки».
Характерным примером практического действия приведенных выше законодательных норм, устанавливающих приоритет норм международных договоров, является разрешение международных коммерческих споров, если одним из их участников является ки-тайская компания. При наличии в договоре арбитражной оговорки о разрешении спора в международных арбитражных органах, на китайскую сторону распространяется действие Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская кон-венция 1980 г.), которую КНР ратифицировал в 1988 г. Вынесенное в соответствии с Венской конвенцией решение является обязатель-ным для коммерческих и государственных органов КНР. При этом, согласно сделанной Китаем оговорке, «договор международной купли-продажи должен заключаться в письменном виде».
Что касается особой позиции КНР по отношению к заключен-ным международным договорам, то следует в качестве примера привести Международный пакт о гражданских и политических правах – пакт Организации Объединенных Наций, основанный на Всеобщей декларации прав человека (принят 16 декабря 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г.). Пакт был подписан Китаем 5 октя-бря 1998 г., однако по причине наличия в уголовном законодатель-стве КНР статей, устанавливающих широкое применение высшей
132
VI Международная научно-практическая конференция
меры наказания за политические, имущественные и экономиче-ские преступления, документ до настоящего времени так и не ра-тифицирован ВСНП. В этом плане хотелось бы привести характе-ризующие позицию правительства КНР слова китайского юриста: «Вопросы обеспечения прав граждан являются в основном вну-тренним делом Китая. Не допускается какое-либо вмешательство во внутренние дела государства, в том числе с целью содействия обеспечению правового статуса личности. Китай в настоящее вре-мя против подписания и ратификации Факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, считая, что его положения могут быть использованы для вмеша-тельства во внутренние дела страны» [2].
Ярким подтверждение сказанному служит ч. 2 ст. 126 закона КНР «О договоре», в которой, несмотря на присоединение КНР к Венской конвенции 1980 г. сказано: «К исполняемым на терри-тории Китайской Народной Республики договорам о совместных предприятиях, о кооперационных предприятиях с китайским и иностранным участием, о китайско-иностранном сотрудничестве в освоении природных ресурсов применяется право Китайской Народной Республики».
Даже те изменения, которым было подвергнуто, например, за-конодательство КНР в сфере защиты прав интеллектуальной соб-ственности, в результате так и не привели к достаточной правовой охране интересов иностранных компаний на территории Китая. Известны лишь единичные случаи, когда за нарушение прав за-рубежной торговой марки, патента либо авторского права недо-бросовестные китайские предприниматели несли юридическую ответственность [3].
В рамках рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что Китаем подписаны такие основополагающие международные документы, как Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1985 г.), Мадридская конвенция о международной регистрации торговых марок (1989 г.), с 1 января 1994 г. Китай стал полноправным участником Договора о патентной кооперации и т. п. Положения действующих к настоящему времени закона КНР «О торговой марке» (принят 23 августа 1982 г., с последующими
133
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
изменениями от 22 февраля 1993 г. и 27 октября 2001 г.), закона КНР «О патентах» (принят 12 марта 1984 г., с последующими изменениями от 4 сентября 1992 г., 25 августа 2000 г. и 27 дека-бря 2008 г.), закона КНР «Об авторском праве» (принят 7 сентя-бря 1990 г., с последующими изменениями от 27 октября 2001 г. и 26 февраля 2010 г.) в общем. соответствуют предъявляемым к ним международными экспертами-юристами требованиям. Однако их применение на практике невозможно из-за существования мно-жества подзаконных и местных Инструкций, Правил, Извещений, Распоряжений, которые тормозят реализацию законодательных норм в судах КНР.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что глобализацион-ные процессы, происходящие в мире, напрямую оказывают влия-ние на китайское государство и его граждан. Не остается в стороне и правовая система КНР. При этом китайский правотворец старает-ся использовать в своей деятельности только тот международный опыт, который может принести пользу государству и правопри-менителю. По сути, даже имплементированные в национальную правую систему КНР принципы международного права, в случаях их несоответствия государственному курсу, не имеют практиче-ского применения. Известно, что в целях внешнего соответствия правовых норм страны общим принципам международного пра-ва в Конституцию КНР была внесена норма, предполагающая своободу вероисповедания всех без исключения граждан Китая (ч. 1 ст. 36). На практике же свобода вероисповедания существенно ограничивается партийными инструкциями, заявлениями высших партийных руководителей, настаивающих на невозможности ис-поведования религии членами коммунистической партии Китая. Таким образом, более чем 80 млн человек на основании партий-ных инструкций ограничены в конституционном праве свободного вероисповедования [4]. Работающим в правовом поле Китая рос-сийским юристам и исследователям китайского права необходимо учитывать указанные выше особенности при анализе действующе-го законодательства КНР.
134
VI Международная научно-практическая конференция
Список литературы1. Дэн Сяопин. Использовать интеллектуальные ре-
сурсы зарубежных стран // О строительстве специфически китайского социализма: сборник научных статей. Бэйцзин: «Издательство литературы на иностранных языках», 1985. С. 28–29.
2. Юй Лимэй. Пакты о правах человека и их импле-ментация в КНР: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2004. С. 8.
3. MAN готов праздновать победу над китайскими пиратами. URL: http://www.tirttn.com/news/3086/ (дата об-ращения: 02.02.2014).
4. Трощинский П. В. Особенности социалистической правовой системы с китайской спецификой // Журнал зару-бежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 6. С. 132.
Р. С. Федюк, преподаватель Дальневосточного федерального
университета, г. Владивосток
Динамика строительства жилья в КНР
Правительство Китая с 2011 г. начало реализацию программы по строительству недорогого жилья для населения страны. Уже до конца октября 2011 г. жителям Китая было предложено 10 000 но-вых недорогих квартир и домов [1].
Власти хотят не только добиться стабильности развития рын-ка жилья в Китае, но и дать возможность обзавестись собственным жильем людям со средним и невысоким доходом. Предполагается, что недорогое жилье будет предлагаться не только для покупки, но и для долгосрочной аренды (также по доступным ценам). Для тех же, кто покупает вторую квартиру, первоначальный взнос за квартиру будет повышен. Кроме того, запланировано расширение списка городов Китая, где действуют ограничения на приобрете-ние недвижимости.
К концу 2011 года Пекин обзавелся 200 тысячами дешевых квартир за счет постройки новых домов, либо реконструкции ста-
135
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
рых. В Шанхае появились 220 тысяч единиц жилья. В г. Тяньцзинь начато строительство 12 миллионов квадратных метров недо-рогой недвижимости, предназначенной для жилья. В провинции Аньхуэй, в городе Хэфэй появились 23,6 тысячи новых дешевых домов [1].
Как видим, жилье в Китае – не только прерогатива богатых людей. Правительство Китая старается обеспечить собственной жилой площадью все слои населения. С другой стороны, цифры пустующего жилья в Поднебесной ошеломляют. Согласно офи-циальной статистике [2], не заселенными в Китае остаются более 65 млн квартир. Поднебесную буквально заполонили пустующие районы и целые города. Отсюда вполне логичный вопрос – почему в КНР пустует жилье?
Ответ на него вроде бы лежит на поверхности – это послед-ствия государственного вмешательства в экономику. Тем более что именно его озвучивают все, кому не лень. Согласно существующе-му взгляду на ситуацию, руководство Китая буквально накачало страну дешевыми кредитами. В свою очередь, китайцы, способные гасить долги по кредитам, почувствовав возможности шальных де-нег, начали их брать и вкладывать в недвижимость в надежде полу-чить отдачу от дальнейшего роста цен на жилье. Ну, а так как при большом предложении аренды стоимость ипотечных платежей в два-три раза меньше платы за найм, то новые дома стоят пусты-ми. Заодно пустуют построенные тут же торговые площади, ресто-раны, школы. Их никто пока не собирается открывать, ведь некого учить, некому продавать, некого кормить. Однако новые районы и города все же заселяются, где-то быстрее, где-то медленнее.
Тем временем, благодаря сумасшедшей скорости строи-тельства жилья количество новых домов в Китае все прибавля-ется. И выглядит такое положение дел уже довольно странным. Странным со стороны. Но в китайском варианте понимания ситу-ации все вполне объяснимо. Дело в том, что лишь строительство инфраструктуры позволяет руководству страны решать задачи поддержания существования страны в ее нынешнем виде. Среди них поддержка высоких темпов экономического роста, обеспече-ние населения работой, масштабная урбанизация, модернизация
136
VI Международная научно-практическая конференция
экономики, утилизация свободных финансов за счет торгово-го профицита, недооцененного юаня и так далее. Короче говоря, строительство – это та самая панацея от проблем, решать которые другими способами пока малоэффективно.
При этом все происходящее в Китае очень напоминает армей-скую поговорку «копать от угла и до обеда». Но, присмотревшись к ней с точки зрения канализации гипер ресурсов молодых солдат, да процесса их становления в качестве воинов, процесс становится очень даже понятным. Единственный вопрос – что происходит, ког-да солдаты вырастают из статуса новобранцев? Собственно гово-ря, ничего особого не происходит. Просто они переходят на более высокий «солдатский» уровень, либо демобилизуются, а их место занимают новички.
В китайской истории, связанной со строительством, примерно все также – идет постоянный, хоть и очень постепенный переход граждан из одной категории состоятельности в другую. Китайцы в общей своей массе богатеют и постепенно большее их число становятся способными приобрести жилье, которого строится все больше и больше.
Но даже при огромной по меркам европейцев скорости стро-ительства разговоры о переизбытке жилья в Китае не имеют под собой оснований. На городского жителя Поднебесной сегодня при-ходится не более 20 кв. м. Что, в таком случае, говорить о значи-тельной массе рабочих-мигрантов, которые обитают в так назы-ваемых общежитиях при заводах? Т. е. , пустующие города – это, оказывается, не так страшно. Это лишь показатель того, что страна пока не выбрала ресурсы среднего класса.
Однако следом выясняется, что и лондонская недвижимость китайцев зачастую простаивает – три четверти покупаемого жи-лья приобретается богатыми гражданами Поднебесной в расчете на последующую аренду. Следовательно, есть резон говорить о не-кой системе. Что она из себя представляет?
Первый элемент системы – китайцы те еще предприниматели. Получив даже небольшие ресурсы, многие стараются не просто их проедать, а вкладывать в некую перспективу. И это настолько обыденное дело, что в Поднебесной, не в пример Москве, мало
137
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
кто волнуется по поводу скупки еще не построенного жилья. Приобретением будущих квадратных метров недвижимости ув-леклись и китайские студенты, и домохозяйки. Отсюда, видимо, и города-призраки, появившиеся в регионах, которым по тем или иным причинам предсказывали бурное индустриальное развитие.
Второй элемент – большая надежда на государство. В отно-шении жилищного вопроса расчет, видимо, строился на том, что если государство сказало, что здесь будет город-сад, значит, надо поскорей забронировать себе там небольшой кусочек, так сказать, про запас. Ну, а как распорядиться этим достоянием в последую-щем, наверное, мало кто думал, оставив это занятие тому же госу-дарству.
Третий, основной элемент – участники системы. Здесь все, как и везде – деление на категории – бедную, среднюю и богатую. Представителей последней, как недавно утверждала China Daily [2], порядка 0,2 % от общего числа семей в стране. К так называ-емому среднему классу, чей заработок составляет более $ 20 000, по данным Народного банка Китая, относится менее 5 % населе-ния.
Остальные 600 млн зарабатывают меньше чем $ 1000 в год, что составляет меньше $ 3 в день на семью. Еще 440 млн чело-век имеют доход в $ 1000–2000 в год ($ 3–6 в день). т. е. , все как в примере, связанном с армией – пока одни («новобранцы») стро-ят, другие, ставшие более состоятельными, с помощью кредитов покупают жилье в Поднебесной, а третьи, так называемые «дем-беля» вовсю ищут и приобретают недвижимость за рубежом. Но, так или иначе, все они действуют в рамках все той же системы, под названием «Современный Китай», который решает вопросы существования страны в ее нынешнем виде. А здесь все, что связа-но с недвижимостью пока остается самым эффективным способом решения современных проблем.
До какой поры это будет продолжаться, сказать трудно. Хотя все идет к тому, что рано или поздно Поднебесная затеет преобра-зования, в числе которых наверняка появятся те, что будут препят-ствовать вывозу капитала и, как следствие, скупке недвижимости за рубежом своим наиболее состоятельным гражданам. «Мы упор-
138
VI Международная научно-практическая конференция
но работали последние 30 лет, развивали экономику, а теперь эти элитные члены общества убегают, унося с собой львиную долю богатства», – заявил экономический аналитик Чжун Дацзюнь в интервью Global Times. «Потеря может оказаться больше, чем все иностранные инвестиции, которые мы привлекли. Это похоже на то, как во время сбора урожая обнаруживаешь вдруг, что все фрукты отправились в корзины других садоводов» [2]. О том, что преобразования будут в основном внутрикитайские, можно судить по другим высказываниям. «Мы можем только надеяться, что бога-тых остановит патриотизм», – говорит Ся Сюэлуань из Пекинского университета. Что касается так называемого среднего класса, то и в их отношении грядут корректировки. К примеру, ограничи-вающие возможность покупки более одной квартиры.
В свою очередь удовлетворение жильем небогатого населения будет сродни очередному этапу экономического роста, обеспече-ния населения работой, масштабной урбанизации и модернизации экономики. Так или иначе, обеспечивать квадратными метрами тех, кому страна пока не успела создать условия для увеличения их доходов, Поднебесной придется. Но Китаю, по причине нали-чия большого количества денег, справиться с таким мероприятием будет не очень сложно. Тем более что на кону стабильность.
Список литературы1. Строительство доступного жилья в Китае 2011.
URL: http://www.chinamodern.ru/?p=1437 (дата обращения: 25.01.2014).
2. Китайская «пирамида». Почему в Китае пустуют 65 миллионов квартир. URL: http://argumentua.com/stati/kitais-kaya-piramida-pochemu-v-kitae-pustuyut-65-millionov-kvartir (дата обращения: 25.01.2014).
139
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
М. В. Черниговский, преподаватель кафедры иностранных языков
Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ
Развитие дистанционного образования в КНР
Сетевое дистанционное обучение в Китае развивалось медлен-ными темпами. Спутниковая телевизионная сеть обучения стала распространенной в КНР только с 1980-х гг. В плане мероприятий по подъему обра зования навстречу XXI веку в 1999 г. было наме-чено создание в течение 3-х лет современной системы дистанци-онного обучения. Так, крупными университетами Китая была раз-работана и введена в действие Китайская образовательно-иссле-довательская сеть «The Chinese Education and Research Network» (CERNET). Эта сеть связывает с глобаль ным Интернетом 95 % всех вузов и учебных заведений страны. По данным инфор мационного сайта этой сети, на декабрь 2004 г. CERNET был распространен во всех провинциальных центрах и многих крупных городах КНР – он охватывал более 200 городов и 1600 предприятий. Количество физических пользователей превысило 12 млн чел. Китай пришел к соглашению не открывать внутренний рынок образовательных услуг дистанционного образования. Отечественный специалист Е. Смолькова выделяет несколько причин подобной политики: во-первых, в Китае проводятся ежегодные проверки качества об-разования по отношению к отечественным учреждениям дистан-ционного образования, однако подобная аттестация по отношению к зарубежным программам повлекла бы за собой легимитизацию оттока капитала из страны в качестве оплаты дистанционных ус-луг зарубежных вузов. Во-вторых, неполная свобода управления иностранным капиталом в Китае и другие проблемы технического обслуживания инвестиций повлекут за собой неизбежные проти-воречия в механизме функционирования дистанционного образо-вания, что может сказаться на качестве, стоимости и системе взи-мания оплаты за образовательные услуги. В-третьих, невысокий уровень дистанционного образования в Китае не может способ-ствовать выгодной конкуренции с иностранными вузами, занима-ющими прочную позицию на международном рынке дистанцион-ного образования [1. С. 152–153].
140
VI Международная научно-практическая конференция
Стоит отметить высокий рост компьютеризации в Китае. Государственные вузы при финансовой поддержке правитель-ства КНР в состоянии обеспечить доступом в Интернет студентов и аспирантов чуть ли не все 24 часа в сутки. Все новейшие про-граммные продукты закупаются университетами и размещаются в локальной сети [2. С. 99].
Совершенствование техники и программных продуктов бу-дет расти еще интенсивнее в Китае. Рост компьютеризации при-ведет к большей потребности КНР в дистанционном образовании. Сегодня количество физических пользователей в КНР превысило 12 миллионов человек. Сетью СERNET охвачено большинство высших учебных заведений, средних школ и даже некоторых дет-ских садов. Пропускная способность главной государственной сети CERNET и районных сетей с каждым годом растет. Рост мас-штабов сетей Интернета неизбежно стимулирует развитие совре-менного дистанционного образования. В Китае уже имеется не-сколько десятков высших учебных заведений, ведущих преподава-ние через Интернет [3. С. 714].
В 1995 г. государственный Комитет образования разработал документ «О реализации программы развития и реформы образо-вания Китая университетами радио и телевидения». Основная цель университетов радио и телевидения заключалась в «развитии пре-имуществ современных методов обучения, расширении условий и возможностей получения непрерывного образования, подготовке специалистов в нужных областях». Было принято решение «усер-дно строить» открытые университеты в рамках современного дис-танционного образования с китайской спецификой. Был обозначен переход от технологий радио- и телевещания к современным циф-ровым, мультимедийным технологиям. Дистанционное образова-ние в Китае перешло на концептуально новый уровень развития с появлением в стране общегосударственной образовательной ис-следовательской сети.
К середине 90-х годов в КНР сформировалась крупнейшая в мире по масштабам в рамках национальной территории система дистанционного образования, главным звеном которой являются радио и телевизионные передачи. Более 2 000 преподавателям и
141
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
директорам начальных и средних школ предоставляли возмож-ность продолжать образование и переподготовку, оставаясь на сво-их постах. Благодаря этой форме обучения было выпущено 2310 человек, получивших 3-летнее образование. В настоящее время в учебных заведениях радио и телевидения обучается свыше милли-она человек. Кроме того, учебные заведения радио и телевидения предоставили десяткам миллионам крестьян знания по агротехни-ке [4. С. 100].
В 2005 году был проведен опрос среди работников кадровых служб (свыше 10 000 человек), который показал, что 83,4 % опро-шенных полностью удовлетворены уровнем выпускников универ-ситетов радио и телевидения [5. С. 101].
С появлением университетов радио и телевидения возмож-ность получить высшее образование для жителей слаборазвитых районов стало вполне осуществимым. В какой-то мере это поло-жение уравнивает разрыв между отсталыми и экономически раз-витыми районами страны, что также соответствует провозглашен-ному в стране социальному равенству. Так, например, чтобы бы-стро подготовить необходимых специалистов в районах, где про-живают национальные меньшинства, в 2002 году ЦУРТК открыл Тибетский институт радио и телевидения на базе Тибетского уни-верситета, который, используя информационные сети, успешно применяет современные формы дистанционного обучения. В 2007 году было открыто 6 специальностей основного курса (бэнькэ) и 5 специальностей специального курса (чжуанькэ), насчитывалось свыше трех тысяч студентов. В том же году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в автономном районе Внутренней Монголии в рамках университетов радио и телевидения были разработаны учебные планы по изучению национальных языков. В 2002 году Центральный университет радио и телевидения совместно с ассо-циацией инвалидов Китая открыл ряд институтов радио и теле-видения для инвалидов, которые представляли собой филиалы, открытые на основе существующих университетов радио и теле-видения на уровне провинций при активном участии местных общественных ассоциаций инвалидов. Местные власти всячески оказывают поддержку в решении проблемы получения инвали-
142
VI Международная научно-практическая конференция
дами высшего образования. Например, городская администрация г. Шэньчжэнь (провинция Гуандун) каждому малообеспеченно-му студенту-инвалиду ежегодно из городского бюджета выделяет целевое пособие в размере 3000–5000 юаней на оплату обучения. Каждому студенту-инвалиду предоставляется компьютер, при-обретенный за счет городских общественных пожертвований. [6. С. 103].
В 2001 ЦУРТ совместно с институтами военных ведомств на-чал осуществлять дистанционное обучение для военных. Что было особенно удобно для тех, кто нес службу в отдаленных регионах. К декабрю 2007 года было открыто 469 филиалов (образовательных точек) в воинских частях. Насчитывалось 78 000 военных «дистан-ционщиков», 33 000 выпускников среди военных [7. С. 382].
К 2007 году в стране насчитывалось 44 университета радио и телевидения на уровне провинций, 956 филиалов в городах, 1875 отделений на уровне уездов (рабочих точек) и 3292 филиалов (образовательные точки). Каждый университет и отделение свя-заны в единую структурную сеть с помощью спутниковой связи и Интернета. В том же году количество студентов университетов радио и телевидения в стране достигло 27 млн человек, что соста-вило 8 % от общего количество студентов, проходящих специали-зированный курс обучения (чжуанькэ) и основной курс обучения (бэнькэ сюэсяо) [8. С. 384].
Дистанционное сетевое образование в Китае постоянно раз-вивается и увеличивает свои масштабы. Такая форма профессио-нальной подготовки особенно актуальна для студентов отдаленных районов, где возможность получить высшее профессиональное об-разование нередко отсутствует. ЦУРТК и ему подобные провинци-альные университеты, филиалы предоставляют возможность об-учения для молодых людей, не получивших высококачественные образовательные услуги в традиционной системе образования. Такие типы вузов также рассчитаны на: специалистов, уже име-ющих образование и желающих приобрести новые знания; сту-дентов, стремящихся получить второе параллельное образование; лиц, имеющих медицинские ограничения для получения регуляр-ного образования в стационарах; лиц с ограниченной свободой перемещения (военные).
143
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Современное дистанционное образование, в информационной основе которого находится Интернет и спутник, в соединении с радио и телевизионным образованием cформировало единое об-разовательное пространство общегосударственного уровня.
За десятую пятилетку (2001–2005) было выделено 6 млрд юа-ней на техническое оснащение университетов радио и телевиде-ния в стране [9. С. 391]. ЦУРТК и ему подобные университеты провинциального уровня благодаря соответствующим вложениям осуществляют и постоянно развивают дистанционный процесс обучения через Интернет сеть, спутниковую телевизионную сеть, электронную почту, интерактивную связь с помощью веб-камер, мультимедийных технологий и т. д. Студенты могут обучаться в дистанционных отделениях (образовательные точки) или дома, что позволяет оптимизировать весь процесс в зависимости от ин-дивидуальных способностей каждого. Существует возможность сделать заявку на теле- и радиопередачу, скачать нужный учебный материал или создавать общение между преподавателями и сту-дентами с помощью Интернет связи. Образование открытого типа на основе мультимедийных технологий стало основным направ-лением для университетов радио и телевидения. По мнению ки-тайских исследователей, информационные технологии составляют наиважнейший ресурс дистанционного образования в условиях развития системы непрерывного образования в стране (пожизнен-ного образования).
Таким образом, развитие дистанционного образования Китая в полной мере отражает известный лозунг Дэн Сяопина, что об-разование должно повернуться к «модернизации, к миру и к бу-дущему». Реализация дистанционных обучающих технологий по-зволяет интенсифицировать и индивидуализировать образователь-ный процесс, повысить его эффективность. Совершенствование техники и программных продуктов будет расти еще интенсивнее в Китае. Рост компьютеризации приведет к большей потребно-сти КНР в дистанционном образовании, поэтому этот опыт может быть весьма полезен для разработки подобных технологий и в на-шей стране.
Считается, что дистанционное образование дешевле традици-онного образования как минимум на 10–20 %, и эта экономия осо-
144
VI Международная научно-практическая конференция
бенно ощутима при массовом стремлении населения к получению высшего образования, что особенно актуально для китайского на-селения.
Наряду с ростом потребности в высшем и непрерывном об-разовании усиливаются тенденции к созданию интернациональ-ных образовательных структур различного назначения и видов. Происходит процесс интернационализации образования по содер-жанию, по методикам обучения и по организационным формам. Образование становится инструментом взаимопроникновения не только знаний и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок, решения геополитических задач.
Список литературы1. Смолькова Е. Реформа образовательного рынка КНР
после вступления в ВТО: былое Китая и думы о России // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 4. С. 150–156.
2. Базарова А. Н. Основные тенденции развития систе-мы высшего профессионального образования КНР (1978 – 2008 гг.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Улан-Удэ, 2011. 219 с.
3. Гайгэ кайфанг 30 нянь чжунгго цзяоюй цзиши=Образование в Китае: 30 лет с начала реформы от-крытости). Бэйцзин: Жэньминь чубаньшэ, 2008. 744 с.
4. Базарова А. Н. Основные тенденции развития систе-мы высшего профессионального образования КНР (1978 – 2008 гг.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Улан-Удэ, 2011. 219 с.
5. Чжунго гуанбо дяньши дасюэ цзяоюй тунцзи нянь-цзень 2007=Статистический сборник по образованию уни-верситетов радио и телевидения в Китае на 2007 г. Бэйцзин: Чжунянг гуанбо дяньши дасюэ, 2008.
6. Базарова А. Н. Основные тенденции развития систе-мы высшего профессионального образования КНР (1978 – 2008 гг.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Улан-Удэ, 2011. 219 с.
7. Чжунго гуанбо дяньши дасюэ цзяоюй тунцзи нянь-цзень 2007=Статистический сборник по образованию уни-верситетов радио и телевидения в Китае на 2007 г. Бэйцзин: Чжунянг гуанбо дяньши дасюэ, 2008.
8. Там же.9. Там же.
145
ВЗГЛЯд ИЗ-ЗА РУБЕжА
Ван Синьцзюй, Маньчжурский институт университета
Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНР
К вопросу о культурных обменах в приграничных регионах России и Китая
Внешнеэкономические связи в пространстве при-граничья РФ-КНР развиваются все стремительнее. Одной из причин этому выступает т. н. экономиче-ская глобализация. Необходимым условием в этом процессе становится поддержка со стороны культу-ры взаимодействующих субъектов. Данный контекст обуславливает обращение к укреплению межкультур-ного взаимодействия в российско-китайском пригра-ничье, поиску факторов дальнейшего всестороннего развития социально-экономического партнерства приграничных субъектов на основе ценностей культу-ры.
王心菊, 内蒙古大学满洲里学院
关于中俄边境地区文化交流问题的思考加强中俄边境地区文化交流的重要性中俄东部边境地区指的是我国黑龙江省、吉林省、内蒙古自
治区与俄罗斯远东地区的阿穆尔州、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区和后贝加尔边疆区的毗邻地区。20世纪90年代,中俄两国关系进入了一个新阶段,确立了战略协作伙伴关系。在中俄关系持续稳定发展的大好形势下,加强中俄边境地区间的文化交流,发展两国边境地区的相互合作,有利于巩固中俄战略协作伙伴关系,振兴两国边境地区的社会经济。
二、中俄边境地区文化交流历史的简短回顾
146
VI Международная научно-практическая конференция
中国与俄罗斯之间的经贸往来、文化交流古已有之,最早可以追溯到什么年代,已不可考。但至少到辽王朝时期这种文化交流已经开始。1689年,中俄签订《尼布楚条约》,确定了中俄东段边界,为中俄东部边境贸易和文化交流的正常进行创造了条件。从19世纪末到20世纪初,随着中东铁路的修建,俄罗斯文化在中国东北地区快速传播。在中东铁路沿线各地,出现了一系列带有俄罗斯风情的新型城镇:博克图、满洲里、海拉尔、牙克石、绥芬河、哈尔滨等。20世纪五十年代是中苏两国关系的“蜜月”期,那个时候,大批苏联专家在黑龙江省的工厂、企业、矿山、学校工作,把苏联的先进技术和优秀文化传授给中国人民,促进了新中国的经济振兴和文化建设。
三、中俄边境地区文化交流现状随着中俄关系的深入发展,两国在文化、教育、旅游等领域的
合作不断加强,文化交流日益频繁。从1991年起,两国各有100多个文艺团体进行了互访,中国东北与俄罗斯东部地区也有几十个文艺团体进行了互访。从2001年起,中国每年有1万多名留学生在俄罗斯学习,两国旅游合作持续发展。2004年,中国赴俄旅游人次近81万,两国政府又分别于2006年和2007年互办俄罗斯年和中国年。可以看出,在中俄两国文化交流日益频繁的今天,中俄区域文化交流在中俄文化交流中的地位越来越突出,正因如此,许多边境城市更是积极利用地缘优势,努力扮演对俄文化交流“桥头堡”角色,如黑河市每年都要举办“中俄文化大集”,满洲里市更是充分利用地处中俄蒙三国交界的地缘优势,每年冬天都会举办中俄蒙冰雪文化节、国际选美大赛,夏天举办中俄蒙旅游文化节、中俄蒙科技展。俄罗斯艺术品展、油画展、摄影展也多次在满洲里举办,满洲里报社开辟了俄文专刊,满洲里广播电视节目还开辟了俄语专栏,这些多层面、多领域的文化沟通与接触,逐渐加深了中俄边境人民之间的了解和友谊,把中俄毗邻地区的发展引入了健康而快速的轨道。
四、中俄边境地区文化交流前景展望 近年来,我国东北地区与俄罗斯远东地区,在对俄经济贸易
发展和文化交流等方面做出了一定的贡献,取得了一定的成就。为了进一步发挥和加强我国边境地区在对俄经贸、文化交流等方面的作用,首先,我们应该继续加大传统文化和社会主义新文化的对外宣传力度。扩大中俄边境地区政界、学术界、文艺界人士的相互交往,增强相互之间的信任感,定期邀请中俄两国的政府
147
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
官员、议会议员、政党领袖、知名学者等具有较高声誉和影响力的人士到远东、后贝加尔边境地区进行互访,通过作报告、做讲座等方式向两国边民宣传各自国家的历史文化和社会经济发展状况。通过电视、报刊、广播等传媒工具向俄罗斯边境地区的广大居民。其次,我们应该把边境地区发展成为中俄文化交流的特区,给予特殊的关注,特殊的政策,采取特殊的措施。。中俄两国在边境地区建立了若干个互市贸易区,是否可以为其增加文化交流的内容,形成一个“文化特区”,开展丰富多彩的文化交流活动。最后还要依托边境城市各高校和科研院所,把中俄边境地区发展成为文化交流、学术研究的基地。学术研究在中俄文化交流中扮演着越来越重要的角色,它既为中俄文化交流的健康发展提供理论支撑,也为两国边境居民互相了解提供有效的途径。笔者认为,加大边境学术研究力度可以依托高校的研究资源,成立俄罗斯或中国研究基地、研究中心,设立专项资金,有规划地开展研究合作。为了进行学术交流和扩大对外影响,以研究基地或中心的名义成立中国-俄罗斯研究会等。这样有了理论支撑的边境文化交流才能更为有序地进行,才能更为有效地促进中俄关系全面发展。
А. В. Длугопольский, д-р экон. наук, доцент Тернопольского национального экономического университета, г. Тернополь, Украина
Особенности социокультурного развития КНР
На протяжении последних лет усиленно дискутируется тема будущего доминирования Китая на международной арене как в экспортно-импортных и валютных операциях, миграционных по-токах, так и в социокультурной экспансии. Китай, как наиболее быстрорастущая экономика стран БРИКС (Табл. 1), сегодня де-монстрирует небывалые ранее показатели индексов экономиче-ского развития, образования, социального капитала и т. д. Китай занял второе место в мире по общим количественным показателям экономики, среднегодовой прирост ВВП превысил 10 %, вклад в темп мирового экономического роста составил 20 %. В чем же кроется специфика культурной экспансии КНР на мировой арене?
148
VI Международная научно-практическая конференция
Таблица 1 Индикаторы развития стран БРИКС, 2011 г. [1]
Индикатор
Бразилия
Россия
Индия
Кит
ай
ЮА
Р
Численность населения, млн 194,9 139,9 1232,7 1348,1 50,5Экономически актив-ное население, %
53 53 40 57 35
Уровень безработицы, % 8,3 6,6 н. д. н. д. 24,9Индекс потреби-тельских цен, %
6,5 8,4 10,4 5,4 5,0
ВВП, млрд долларов США 2293,8 2355,8 4447,7 11174,3 548,3ВВП на душу населения, тыс долларов США
11,7 16,8 3,6 8,3 10,8
Средняя продолжитель-ность жизни, лет
72,6 68,9 64,1 73,3 51,6
Уровень грамотно-сти населения, %
40,4 99,5 62,8 93,9 88,7
Индекс Джини 0,5 0,42 н. д. н. д. 0,64Индекс экономического развития (от 3,87 до -6,6)
1,52 -0,16 0,64 2,83 -0,68
Индекс развития предприни-мательства (от 3,88 до -4,04)
0,41 0,38 -1,65 -0,22 0,73
Индекс качества госу-дарственного управле-ния (от 4,22 до -3,91)
-0,17 -2,05 0,31 -0,64 0,28
Индекс развития образо-вания (от 3,29 до -4,27)
-0,09 1,44 -1,69 0,58 -0,57
Индекс развития систе-мы здравоохранения (от 3,54 до -4,02)
0,64 0,88 -2,41 0,17 -2,27
Индекс национальной без-опасности и защиты лич-ности (от 3,93 до -3,94)
-1,02 -1,41 -1,99 -1,48 -1,24
Индекс личной свобо-ды (от 3,76 до -4,09)
2,03 -1,42 -0,87 -1,68 -0,06
Индекс развития социально-го капитала (от 4,47 до -3,35)
-0,12 0,12 -2,49 0,96 -0,38
149
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
В китайском обществе понятие гармонии играет важную роль и, как следствие, оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Гармония представляет собой целостную систе-му, включающую в себя три аспекта [2]:
− мировоззрение и методологию (например, философию тайц-зи, диалектику инь и ян);
− систему ценностей (например, понятия гармонии, обще-ственной жизнедеятельности, благодетельности, справедливости, вежливости, мудрости, честности, преданности и почтительности к родителям);
− идеальные цели (например, гармония человека и природы, человека и общества, а также гармония общества разных по свое-му характеру людей).
Древние китайские философы Лао-цзы и Мэн-цзы писали, что интересы простого народа должны быть важнее интересов тех, кто находится у власти [3]. Таким образом, основы гармонии внутрен-ней политики заключаются в том, что лидеры не должны престу-пать закон и обязаны давать больше свободы населению страны (во власти должны находиться люди, подчиняющиеся законам и ориентированные на интересы общества). Относительно гармонии во внешней политике, то здесь важными элементами являются [4]:
− самосовершенствование и самообеспечение;− щедрость и терпимость;− гармония и разнообразие;− скромность;− гибкость и мудрость.Данные характеристики нашли свое отражение в договоре
между Индией и Китаем «Пять принципов мирного сосущество-вания», заключенном в 1954 году, а также регулярно упоминают-ся в выступлениях президентов и премьер-министров Китая. Эти характеристики также объясняют стремление Китая к кооперации внутри и сотрудничеству с АСЕАН, а также защиту Китаем своих национальных интересов в Южно-Китайском море.
Дополнительным подтверждением вышесказанного служит обращение к мировой карте ценностей (рис. 1), на которой страны ранжируются по шкалам «традиционные – рациональные ценно-
150
VI Международная научно-практическая конференция
сти» и «ценности выживания – самовыражения». Так, по уровню рациональности китайцы находятся на одной ступени со многими европейскими нациями: норвежцами, эстонцами, чехами, болга-рами и россиянами. Однако все еще аграрно-индустриальная на-правленность развития экономики страны не позволяет китайцам отойти от ценностей выживания и исповедовать в большей степе-ни ценности самовыражения. Так, по этим показателям Китай на-ходится на уровне Польши, Индии, Турции, Пакистана.
Рис. 1. Карта ценностей [5]
Важной задачей дальнейшего развития Китая в обозримом бу-дущем является построение среднезажиточного общества. Так, на XVIII съезде Компартии Китая были утверждены цели развития страны до 2020 года [6]: удвоить ВВП и средние доходы городско-го и сельского населения по сравнению с 2010 годом, тем самым обеспечить выполнение важнейшей задачи полного построения среднезажиточного общества, а к середине текущего века создать богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное и гармонично-модернизированное социалистическое государ-ство. Впервые в задачах государства были сопоставлены вместе макроэкономические показатели и коэффициенты доходов на-селения, что свидетельствует о том, что государство действи-
151
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
тельно желает, чтобы все жители Китая ощутили на себе по-ложительный результат развития страны и жили при всеобщей зажиточности.
Список литературы1. BRICS Join Statistical Publication, 2012. URL: http://
www.statssa.gov.za (дата обращения: 02.02.2014). 2. Дмитрий Тренин, Zhang Lihua. Культурные
основы китайской внешней политики. URL: www.carnegieendowment.org (дата обращения: 02.02.2014).
3. Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л.,1950.
4. Дмитрий Тренин, Zhang Lihua. Культурные основы китайской внешней политики. URL: www.carnegieendowment.org (дата обращения: 02.02.2014).
5. The World Value Survey Cultural Map. URL: http://www.worldvaluessurvey.org (дата обращения: 13.01.2014).
6. Чжан Сиюнь. Развитие Китая создает новый шанс для углубления китайско-украинских отношений страте-гического сотрудничества и партнерства. URL: http://www.ua.chineseembassy.org (дата обращения: 02.02.2014)
Ли Пин, преподаватель Маньчжурского института университета
Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНР
Анализ двусторонней торговли между Китаем и Россией за последние два года
Тесные экономические и торговые отношения между Китаем и Россией за последние годы про-должают развиваться стремительными темпами. Страны установили механизм регулирования взаи-моотношений, в частности, путем проведения регу-лярных встреч на государственном и региональном уровне. Беспрецедентного уровня также достигли обмены в области науки и экономики. Вместе с тем, нельзя останавливаться на достигнутом. Новому ру-ководству КНР необходимо урегулировать вопрос со-
152
VI Международная научно-практическая конференция
вместного использования трансграничных ресурсов, что усилит экономическое строительство Китая на основе равного партнерства с Россией.
李萍, 内蒙古大学满洲里学院
近两年中俄双边贸易现状分析俄罗斯联邦是中国最大的邻邦—双方拥有的共同边界线达四
千三百多千米,也是我国的重要贸易伙伴。中俄边境贸易历史悠久,但是由于贸易关系中存在着固有的一些差异与问题,目前中俄两国的贸易发展均存在着较大的发展空间,双方经贸还需要进一步开发。
1. 中国与俄罗斯联邦2012、2013年贸易总量与关系变化 据俄海关统计数据显示,2011年中俄双边贸易额达835亿
美元,同比增长40.84 %,占俄全年对外贸易额(8016亿美元)的10.42 %。其中,俄对华出口352.4亿美元,自华进口482.6亿美元,分别同比增长73.3 %和23.9 %。贸易逆差130.2亿美元,同比下降30 %。2012年中俄贸易额再创历史新纪录,达到881.6亿美元,较上一年增长11.2 %。2012中国对俄出口增长13.4 %,从俄进口增长9.9 %。2013年中俄双面贸易额为892.1亿美元,较上一年增长1.2 %。2013年中俄对俄出口495.9亿美元,较上一年增长11.2 %,从俄进口396.2亿美元,较上年减少11.3 %。
2. 满洲里海关中俄边贸易进出口总量 满洲里口岸成立于1992年,是目前对俄贸易规模最大的口
岸之一。满洲里海关地处亚欧大陆桥的要冲,是中国陆路口岸最早成立的海关之一, 2012年我国对俄出口的37.0%,2013年前11个月我国对俄出口的32.1%都是通过满洲里海关实现。从统计数据来看,2012年满洲里口岸对俄出口总值是稳步增长的,但是2013年对俄出口总值出现了波动,前11个月中有一个月没有增长,5个月出口总值出现了负增长,情况不容小觑。
3. 满洲里口岸在中俄贸易存在的问题及分析中俄两国贸易在国际贸易中有举足轻重的作用和地位,所以
大量学者从事于中俄贸易问题和解决对策的研究。中俄两国的产业结构、资源禀赋等方面存在着很强的互补性,但是各种因素影响,使中俄贸易存在着一些亟待解决的问题。
3.1 贸易结构不合理,优化贸易结构从之前的数据中我们不难看出近两年满洲里海关从俄进口量
153
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
在逐年降低,今年全国从俄进口量也出现了负增长,究其原因,无外乎俄罗斯联邦对中国出口能源占半壁江山,材木、石油、化工和铁矿石等初级的资源开发产品是俄出口我国的主要产业;我国出口俄罗斯联邦多以劳动密集型产业为主,例如鞋帽、服装、玩具等。中国出口商品缺乏国际知名品牌支撑,附加值不高。我们应改善两国贸易商品结构,大力促进高附加值产品出口,改善中俄双方的贸易结构,提高中国出口商品的附加值。
3.2 信息沟通不畅通,建立畅通的信息渠道中俄企业间因缺少沟通和交流相互之间了解不够,缺乏品牌
认同感,甚至对对方产品存在一些误区。国内企业缺少政府官方的渠道以及权威的中介信息机构所提供的信息,影响了两国企业间建立直接的经济合作关系。政府部门应及时快速的发布两国目前的各种信息,地方政府出台的各种政策;非政府组织也可以发挥自己灵活的特点,把最新鲜的信息在两个国家之间进行传递。
3.3 双边贸易制度不完善,贸易秩序必须进一步的规范。 与我国接壤的主要是俄罗斯的东西伯利亚、西西伯利亚和
远东地区,这些地区包含6个联邦主体,这些地区在对外贸易政策实施方面并不一致,这就直接导致了两国在边境贸易方面的障碍。我们应完善双方的外贸政策,法规体系,保证贸易渠道畅通,加快推进中俄贸易向规范化、制度化、法制化方向发展。还应加大对外贸易活动的监督力度,形成高效的监督机制,建立有法可依、有法必依、执法必严、政策公开、执法公正的贸易新秩序。
中国高增长高耗能的经济发展方式需要进口越来越多的能源和原材料,而俄罗斯联邦作为世界上资源最富饶的大国恰恰可以提供丰富的资源出口;中国劳动力廉价且资源丰富,而俄罗斯联邦多年来人口一直处于缓慢减少的情况;中国是劳动密集型的轻工产品的出口大国,而俄罗斯联邦是重工业为主的强国,需要进口大量轻工产品;俄罗斯教育发达,拥有高尖端技术人才,而我国在这个领域不具有优势。所以中俄贸易之间存在很大的互补关系,能够形成良好的伙伴关系。
同时2012年普京再度当选俄罗斯联邦总统,强悍的“铁腕总统”给中俄贸易带来了机遇;2013年我国已习近平为总书记的新领导班子,更会加强国家的经济建设,和我们的友邦形成良好关系。全球金融危机以及其他各种危机的考验,紧密团结了中俄两国战略伙伴关系。有这样的政治和经济大背景,未来中俄贸易的这种发展势头必将会在很长一段时间内持续。
154
VI Международная научно-практическая конференция
Лу Яньцинь, Ван Сяочжэн преподаватели Маньчжурского института университета
Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНР
Направление и выбор приоритетов научной концепции развития КНР
Научная концепция развития КНР проходит исторический путь естественного развития и транс-формации. Меняется система ценностей, критерии самого развития, но одно остается неизменным – кон-цепция, как и прежде, нацелена на человека. Одной из основных целей рассматриваемой концепции являет-ся ее роль в процессе экономического строительства КНР. Однако не стоит забывать и о том, что Китай по-прежнему придерживается пути построения со-временного социалистического государства, что тре-бует тщательного анализа руководящих принципов при выборе вектора развития и приоритетов концеп-ции.
卢艳芹, 王晓政内蒙古大学满洲里学院
科学发展观的价值取向选择与特征发展是人类追求的永恒主题,发展的思想中既包含了主体的
价值取向与价值选择,同时也涵盖着对客体的规律性探索。发展的主体尺度与客体尺度构成了发展观的全部内容,科学发展观在遵循发展的客观规律基础上做出了人类的价值选择,是客观规律性与主体能动性的结合,也是价值取向的客体尺度与主体尺度的统一。
一、发展观的价值取向演变价值取向是指价值关系中主体与客体的指向性,也就是人类
实践活动所遵循的价值准则与价值目标,它一般表现为价值观或者价值观念。尺度实际就是人类实践活动的客体尺度和主体尺度以及主体客体化和客体主体化的过程。
(一)以经济的单纯性增长为核心价值的客体尺度发展观发展经济学关于发展的模式探索虽然不尽相同,但是都有相
155
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
同的观点,就是认为发展就是增长,经济的单纯性增长成为衡量一个国家进步与否的唯一指标。单纯追求经济增长的发展观虽然带来了经济上的暂时繁荣,然而,随着时间的推移,它所暴露的弊病也来越多,如分配不公、两极分化等由社会结构,除此之外,还有资源与能源的大量浪费、环境的污染与生态系统的破坏等一系列问题。
(二)以满足人的基本需要为价值中心的主体尺度发展观20世纪60年代,人们开始对早期的发展理论进行反思与批
判,经济学家开始认识到发展并不等于增长,增长是纯粹的经济现象,发展不仅包括经济、还包括政治、文化、社会的整体进步与提升。综合发展观将发展的价值取向转向了人,这是发展理念的实质性进步。但是综合发展观也有它的缺陷,这主要集中在,综合发展观注重当代人的发展而未涉及后代人的发展问题。
(三)以当代人与后代人协同发展为价值目标的主体尺度与客体尺度统一的发展观
随着经济的快速发展,人们开始对自然的开发与利用越来越具有掠夺性,造成了资源的浪费和环境的污染,人类的生存面临威胁,人们开始思考经济增长、社会发展与资源环境的关系问题。可持续发展观是建立在经济、社会、资源、环境相互协调和共同发展的基础上的新的发展观。可持续发展观在全球各个国家都得到了普遍的认同,不同的国家也结合自身的实际积极投身到可持续发展的具体实践中,并在实践中不断的进行创新。
二、科学发展观的价值取向选择发展观的价值取向是指对主体尺度与客体尺度的把握与选
择,其低级形式是主体尺度或客体尺度的单方选择,其高级形式是实现主体尺度与客体尺度的统一。科学发展观在延续了人类历史先进发展理念的基础上,对主体尺度与客体尺度进行了科学的理解与把握,并最终实现二者的统一。坚辨证唯物主义认为,人类社会应该是合目的性和合规律性的统一,就是坚持客体尺度与主体尺度的统一,科学发展观在坚持发展这一主题的过程中,将发展的价值目标定位于人,人类要从人的生存与发展角度去爱护自然,将客体性原则最终归结于主体的存在,在价值目标上坚持了客体尺度与主体尺度的统一。
三、科学发展观的价值取向特征(一)主体尺度的主体性无论是何种形式的价值观念形式,都具有明显的主体性特
156
VI Международная научно-практическая конференция
征,一切信念、信仰、理想等观念形式都取源于主体的生产与生活的实践,主体性构成条件是多种多样的。科学发展观价值取向的主体尺度要从价值关系的主体性层次上来理解。即从人类主体的生存论本义上理解。
(二)客体尺度的“为主体”性 客体与主体对应而存在,都是关系的一方,客体在关系中具
有为主体所选择的特性,也就是“为主体”的特性,它在关系中处于被动方或依附地位。科学发展观的客体性体现在它的“客体尺度”的价值选择上,科学发展观在如何创造人类的物质财富上继承了先进的发展理念,并通过科学的方式实现这一目标。
(三)主体尺度与客体尺度的实践统一性为我性是价值关系的本质特征,在价值关系中,为我性与为
他性同时存在,为他性的最终目的是为我性,为我性要通过为他性来实现。二者相互协调,互为目的。在人类实践的两个过程中,人类始终在遵循着两个尺度,即主体尺度和客体尺度,并最终实现二者的统一。科学发展观以经济建设为中心注重发展的同时坚持发展为了人、发展依靠人,将发展的客观规律与发展的目的和依据相结合,有效的实现了发展的客体尺度与主体尺度的内在统一。科学发展观把生产力发展的客体尺度与人的全面自由发展的主体尺度相结合,将这两个历史发展的基本尺度在实践中统一起来,从而实现了价值观的飞跃。科学发展观是指导中国进行社会主义建设,实现全面建设小康社会的奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的价值指南。
Цинь Дань, Маньчжурский институт университета
Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНР
Анализ проблем определения жизненной позиции женщин в условиях приграничного города (на примере г. Маньчжурия)
Данная работа, анализируя условия функциониро-вания расположенного в непосредственной близости к китайско-российской государственной границе го-рода Маньчжурия, уделяет особое внимание опреде-лению статуса женщин, который опосредован спец-ифическими особенностями среды обитания в пригра-
157
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ничье. Автор определяет те проблемы, с которыми сталкивается женское население приграничья, дела-ет акцент на необходимости улучшения их качества жизни. Ставится вопрос определения экономическо-го, психологического и социального статуса женского населения города Маньчжурия. Даются рекомендации по целесообразному решению соответствующих про-блем.
秦丹, 内蒙古大学满洲里学院
浅析在中俄边境城市中留守妇女的生存状态农村留守妇女是指丈夫长期进城务工、经商或从事其他生产
经营活动, 自己则留居农村的己婚妇女。而本文中所要论述的留守妇女是指在一些边境城市中,丈夫长期在国外国务工、经商,自己在家里照顾孩子和家庭的居住在城市的留守妇女。这些留守妇女的生活状况与农村留守妇女有着一些不同,也往往会被人们所忽视。也许这个群体并不像农村留守妇女群体那样庞大,只是集中在一些边境城市,但是她们用自己的默默支持为为自己的家庭为这些地区的发展做出了重要的贡献。所以关注她们的生存状态有很重要的现实意义。同时也对这些地区的边贸发展和社会稳定也是有很大的促进作用。
本文主要以2008年在边境城市满洲里的调查为基础,对这一问题进行分析和探讨。这次调查的内容要是关于在中俄边境贸易中的一些性别分析问题。时间是2008年的7月,其中访谈的留守妇女有15名,同时也在当地一些有关部门查阅了一些关于外来人口的资料。
中俄边境城市满洲里地处内蒙古自治区的东北部,毗邻俄罗斯和蒙古。1994年被国家批准为国家级开放城市,边境贸易是该市主要的经济支柱。开放至今,满洲里的边贸得到了蓬勃发展,知名度也在不断提升。人口由过去的7,8万增至现在的25万,在这样的边境城市中,外来人口的数量是比较大的,随着边贸经济的发展,出国务工和经商的人越来越多,随之也出现了大量的留守在国内的留守妇女。
一、在边境城市中留守妇女的基本情况这里主要以2008年边境城市满洲里的调查为例。1,从年龄上看,边境城市中留守妇女的年龄主要以中青年
158
VI Международная научно-практическая конференция
为主。年龄大多在30–50岁之间。2,从文化程度看,边境城市的留守妇女有90%是来自农
村,文化程度相对较低。她们的情况基本上是随丈夫来到边境城市打工,有了些积蓄后开始出国务工,丈夫一般常年在国外,女性留在国内在家照顾孩子,有的也打一些零工。当然也有少部分是文化层次较高的妇女,她们有稳定和高收入的工作、或是家境富裕在家作全职太太,丈夫也是常年在国外经商,但这部分人群数量相对较少、不具有代表性。
3,从子女的教育看,这些家庭中一般都比较重视子女的教育,她们认为从农村出来挣钱,两个人两地分居做生意很大程度上是为了给子女一个好的环境、好的未来。就孩子的数量看,大部分家庭是一个孩子这样的家庭占到总数的70%。
4,从赡养老人的情况看,因为这些家庭大部分来自农村,照顾父母的责任都由在农村生活的兄弟姐妹来承担,但是他们会定期给自己的父母寄赡养费。
从以上调查中可以看出,在大多数的边境城市留守妇女的家庭中,这些妇女最主要的责任是培养子女。至于就业方面,由于这些女性的文化程度不高、而且家里的经济支柱主要是在国外挣钱的丈夫,所以她们几乎没有什么正当的工作。
二、在边境城市中留守妇女的生存状态这些留守妇女的生存状态可以通过不同方面表现出来,这里
我想主要从经济、婚姻状态、社会地位三个方面来论述现在在边境城市中的这个留守妇女群体的生存状态以及存在的一些问题,同样以2008年在中俄边境城市满洲里的一次调查为依据。
1,家庭的收支状况。在这些留守妇女的家庭中,毋庸置疑,丈夫的收入是他们家庭的经济支柱。当然在国外经商的收入各有不同、差距很大,但是我们以一个最普遍的水平为例。大部分在国外务工或经商的人员收入在5万元/年,这个收入是这个家庭中的男性除去在国外打工时的个人花销、工作一年后的纯收入,留守妇女在家也会在家打一些零工,例如,有时会经人介绍到饭店当服务员,或者做一些计件工,大约每年有6千元左右的收入。这样算来这样的收入跟他们之前在农村务农的收入相比,可以说是很可观的,至于花销,一般这样的家庭在国内的花费包括房租、孩子的学费、生活费、还有寄给在家乡老人的赡养费,大概要2万元。虽然花销要比在农村生活多很多,但是这些妇女也觉得她们的生活水平也提高了很多,不用在农村干力气活那样
159
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
辛苦,还能过上和城市人一样的生活,孩子也能有一个好的生活和学习环境。根据调查,在这样的家庭中,丈夫一般只给妇女所需的基本生活费用,家里的财政大全还是掌握在男性手中,一般重大的花销要由男性来决定,这些留守妇女在经济上还是要依靠自己的丈夫。
2,在心理和婚姻方面。这些留守妇女甘愿为家庭为丈夫为孩子牺牲自己。这种留守生活给这些妇女以希望,他们为自己的丈夫在国外挣钱养家而骄傲,她们希望有一天,丈夫能挣上足够多的钱,回家和她团聚,一家人幸福的生活。但是同时这样的生活也给她们带来很大的压力,丈夫常年在外面而且是国外,不像在农村的留守妇女如果想见自己的丈夫可以进城去看望,相比之下,出国要比进城复杂得多。而且就通讯上来说,国际长途话费较贵、信号问题等等都是障碍,所以有的妇女和她们在国外的丈夫有时候几个月或半年时间才能联系一次,所以丈夫在外面是怎么样的情况,她们感觉到根本无力掌握。这也给她们的精神、她们的婚姻带来潜在的危机。
而且由于长期两地分居而导致婚姻破裂的例子也不在少数。例如在我们的访谈过程中一位被访者王阿姨就有过这样的经历。王阿姨的丈夫在国外从事蔬菜种植,她在国内照顾要高考的孩子。经过了4年的留守生活,儿子考上大学后,她觉得无后顾之忧了,想办理出国手续帮助丈夫挣些钱供孩子上学、结婚。但是发现她的丈夫在俄罗斯已经和一位当地妇女同居并已有一子,只是为了孩子考大学才没跟她提出离婚。在面对这样的状况时,这些留守妇女往往会处于一个很艰难的境地,她们大多是从农村来到城市,在城市里没有她们的亲人,也很少有朋友,丈夫是她们的唯一的依靠和希望,丈夫背叛对她们来说在精神上是一个莫大的打击。并且在经济上的困难也更加凸显,有的妇女在被抛弃之后,失去了经济来源,又碍于颜面不会再回到农村的家中,自己有限的能力又无法供养孩子,迫于生活压力很多人会做出一些违法的行为。还有一部人面对这种状况会由愤怒转而变为无奈的接受,只要在经济上有保障,很多妇女会选择容忍。
3,从社会地位的角度。大部分的留守妇女来自农村,并且有相当一部分人没有取得当地的户籍,她们都属于外来人口,在当地人眼里她们是“外地人”,在有些时候会受到一些不平等的待遇。而且她们没有固定的工作,在医疗、养老、等方面都得不到保障。由于她们大多租房居住,流动性比较大,社区等一些组织
160
VI Международная научно-практическая конференция
对她们的管理往往比较松散。所以她们的声音,她们的权益往往会被忽视,处在一种边缘状态。
三、对策及建议:1,有关部门是否可以简便务工人员回国探亲的手续,或是
更方便留守妇女出国探亲。这样也可以提高这些家庭的婚姻质量。因为,像中俄边境城市的这些务工人员,他们工作的城市其实路途并不遥远,也只是邻近我国的一些边境地区,只是通关手续相对繁琐。这对分居两国的夫妻的沟通造成了很大障碍。
2,改变留守妇女的被动地位,我觉得最主要的还是发挥其自身的能动性。
首先是改变她们一些意识。比如说,对男性经济上的依赖,她们认为谁挣钱就听谁的,谁就掌控经济大权,而这些留守妇女所承担的家庭重担也是家庭经济中的一部分,对于这部分贡献女性自己是要意识到的。婚姻生活是两个人要面临的问题,男性也要意识到女性在家庭中所做的重要贡献。
其次,一些留守妇女还应该增强自己的社交能力。在这些留守妇女中大部分来自农村,虽然在城市生活,但是在与人交往中,显得有些封闭,狭窄的交际圈子使这些妇女在遇到困难时往往找不到可以倾诉和能帮助她的的对象。
再次,留守妇女不应把自己的一切都寄托在自己的丈夫身上,应该增强自己的生存能力,比如说可以学习一些技术、技能。在必要的时候至少能维持自己的生计。
3,发挥地方政府组织和社会组织的力量。在一些留守妇女比较多的城市,当地的有关部门在保护这些妇女的权益的同时也应该开展一些活动,丰富这些妇女业余的生活,并可以组织一些技能培训的项目。同时应该动员这些妇女依靠自己的力量提高在当地的社会地位。这样一种模式会对保障留守妇女权益会起到一定保护作用的。
参考文献[1] 李楠 ,杨洋. 广东农村留守妇女生存现状、问题及
对策.河北大学学报,2008 (4) .[2] 朱海忠. 农村留守妇女问题研究述评.妇女研究论
丛,2008 (1).
161
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
У Цзы, аспирант Института Дальнего Востока РАН, г. Москва
С. Л. Сазонов, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН, г. Москва
Транспортный комплекс КНР выходит в мировые лидеры
Исключительная важность развития инфраструктурного ком-плекса для экономики страны подтверждается тем, что базовые программы развития транспортного комплекса Китая разрабаты-вались и утверждались Госсоветом КНР в тесном взаимодействии с отраслевыми министерствами (МЖД КНР и Минтранс КНР). На состоявшемся 14 декабря 2011 года в Пекине Центральном сове-щании по вопросам экономики, созванном ЦК КПК, было отме-чено, что «для Китая наступил ключевой период на пути экономи-ческой трансформации, необходимой для достижения существен-ного прогресса в 2011–2015 годах». Настойчивость руководства страны в реализации амбициозных планов ускоренного развития транспортного комплекса способствовала выводу отрасли в начале XXI века в мировые лидеры по многим показателям.
Железнодорожный транспорт, несмотря на снижение в начале XXI века его доли в объеме перевозок, остается важнейшим видом транспорта в Китае. По общей протяженности действующих желез-ных дорог Китай занимает 2-е место в мире (уступая лишь США) и 1-е место в Азии. В начале 2014 года общая протяженность желез-ных дорог превысила 100 тыс км, а протяженность действующих в Китае электрифицированных магистралей превысила 48 тыс км (52 % общесетевой протяженности) – по этому показателю КНР заняла первое место в мире. К концу 2015 года МЖД КНР пла-нирует довести протяженность электрифицированных линий до 60 %. На Китай приходится лишь 6 % мировой железнодорожной сети, но по ней осуществляется 25 % мировых железнодорожных перевозок грузов и пассажиров. В 2013 году плотность грузовых перевозок составляла 45 млн т/км, пассажирских – 10 млн пасс/км на 1 км пути, по объемам грузооборота и пассажирооборота Китая является мировым лидером. Средняя дальность перевозки грузов в 2013 году равнялась 760 км, численность занятых в отрасли пре-
162
VI Международная научно-практическая конференция
вышала 2,4 млн человек – эти показатели являются одними из са-мых высоких в мире. После ввода в эксплуатацию в декабре 2012 года ВСЖД Харбин-Далянь и самой протяженной в мире (2298 км) ВСЖД Пекин-Гуанчжоу, сократившей время в пути между двумя крупнейшими мегаполисами страны с 22 до 8 часов, за одиннад-цать лет к началу 2014 году была создана крупнейшая в мире сеть ВСЖД (составляющая около 60 % общей протяженности скорост-ных дорог в мире) протяженностью 10463 км (около 7 тыс км – во внутренних районах Китая). Эта гигантская работа обошлась МЖД КНР в астрономическую сумму – более 2 трлн юаней, и в начале 2014 года в Китае высокоскоростные экспрессы курсиро-вали по 21 построенным ВСЖД. В 2013 году в стадии строитель-ства находилось около 10 тыс км ВСЖД, а, согласно уточненным в 2013 году планам МЖД КНР, протяженность сети ВСЖД в КНР к 2015 году возрастет до 20463 км.
Согласно «Программе развития комплексной транспортной системы на 12-ю пятилетку», общая протяженность ВСЖД в КНР в 2015 году возрастет до 18 тыс км, а суммарная длина железно-дорожных линий для поездов со скоростью не менее 160 км/час составит 40 тыс км, увеличившись в два раза по сравнению с 2010 годом. Эти магистрали, состоящие из четырех линий в на-правлении восток-запад и четырех маршрутов в направлении север-юг, охватят почти все города Китая с населением более 500 тыс человек и обеспечат доступ к скоростному железнодорожному сообщению более 90 % населения страны. Созданная сеть ВСЖД позволит людям добираться от Пекина до подавляющего большин-ства административных центров провинций страны за время, не превышающее 8 часов, за исключением лишь Хайкоу, Наньнина, Куньмина, Урумчи и Лхасы. Время в пути между крупнейшими го-родами страны должно сократиться в 2 раза. В результате ускорит-ся пассажирское сообщение, сократится время в пути, увеличится провозная способность сети, будет решена проблема перегрузки крупнейших железнодорожных узлов в периоды массовых поез-док жителей Китая.
В 2011 году ведущие китайские производители подвижного состава для ВСЖД корпорации CNR и CSR вышли на первое и
163
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
второе место в мире по объему экспорта скоростных локомотивов и подвижного состава для ВСЖД, обойдя таких ведущих западных производителей, как Bombardier, Alstom и Siemens. Бурное разви-тие других видов транспорта не может заменить ведущую роль же-лезных дорог в Китае. В течение долгих лет на железные дороги страны приходится свыше 50 % пассажирооборота и 70 % грузоо-борота транспортного комплекса КНР, они перевозят 85 % древе-сины, 85 % сырой нефти, 60 % угля и 80 % железа и стали в стране.
Ключевым достижением отраслевой реформы следует считать развитие специализации транспортного комплекса КНР, которая, с одной стороны, обеспечивает кардинальный рост скорости дви-жения в соответствии с потребностями пассажиров (развитие сети ВСЖД), а с другой – рост провозной способности для обеспечения массовых грузовых перевозок с минимальной себестоимостью. Развитие высокоскоростных пассажирских железных дорог в Китае продуцирует значительный внутриотраслевой и межотрас-левой мультипликативный эффект. Согласно анализу специали-стов МЖД КНР, изъятие одного пассажирского состава из маги-страли со смешанным типом эксплуатации (создание специальной выделенной железной дороги для высокоскоростного пассажир-ского движения) позволяет повысить пропускной потенциал ма-гистрали на 1,5–2 грузового состава, а увеличение доли грузовых железнодорожных перевозок на 1 % в совокупном грузообороте транспорта страны позволит снизить себестоимость националь-ной логистики на 21,2 млрд юаней. Строительство ВСЖД Пекин-Шанхай в период 2008–2010 годов стимулировало рост внутрен-него спроса экономической зоны Бохайского залива и дельты реки Янцзы в объеме 1,2 трлн юаней. Согласно расчетам китайских экономистов, проведенным на основе межотраслевых балансов, каждый миллиард юаней вложенный в развитие ВСЖД, создает более 20 тыс. новых рабочих мест в железнодорожной отрасли и в 2 раза больше рабочих мест в смежных отраслях. По мере рас-ширения сети ВСЖД скоростные поезда стали успешно конкури-ровать с региональными авиакомпаниями и нарушили господство авиационного транспорта на традиционном рынке пассажирских транспортных перевозок на расстояние свыше 1 тыс. км. Многим
164
VI Международная научно-практическая конференция
авиакомпаниям пришлось значительно снизить стоимость пере-возок пассажиров – в конце 2012 года некоторые региональные авиаперевозчики снизили стоимость билетов на перелет по марш-руту Ухань-Пекин с 1000 юаней (160 долларов США) до 200 юаней (32 доллара США). К 2015 году протяженность ВСЖД возрастет до 18 тыс км, а суммарная длина железнодорожных линий для по-ездов со скоростью не менее 160 км/час составит 40 тыс. км. Эти магистрали охватят почти все города Китая с населением более 500 тыс. человек и обеспечат доступ к скоростному железнодорож-ному сообщению более 90 % населения страны. Таким образом, ВСЖД «сжимают» обширное пространство Китая, способствуя превращению его территориальной структуры в более надежную и доступную. Они не только связывают разные города страны, но и, стимулируя нутренний спрос, становятся новой стратегической отраслью промышленности Китая, одновременно содействуя раз-витию смежных высокотехнологичных отраслей, превращаясь в новую «визитную карточку» китайского экспорта.
В 2013 году протяженность автомобильных дорог Китая пре-высила 4,2 млн км, из которых 3,3 млн км приходились на скорост-ные автомагистрали и дороги I–IV классов, а на автомобильные до-роги с твердым покрытием приходится более 65 % протяженности всех автодорог КНР. К началу 2013 года в Китае было построено более 95 тыс. км скоростных автомобильных магистралей – второе место в мире после США, а к 2015 году по общей протяженности скоростных дорог в 109 тыс км КНР займет первое место в мире. В стране построено одно из самых протяженных высококласс-ных автомобильных шоссе в мире – автомагистраль «Тунсань»: Тунцзян (Хэйлунцзян) – Санья (Хайнань), протяженностью около 5700 км (3500 миль). С 2009 года начались работы по строитель-ству автомобильного моста Чжухай (Гуандун)-САР Сянган-САР Аомэнь, который станет самым длинным морским мостом в мире – его общая протяженность составит 35,6 км, включая 6 км подво-дного туннеля.
В 2012 году в Китае были произведено 19,27 млн автомоби-лей, что составило около 24 % от объема мирового производства – по выпуску автомашин страна с 2009 года вышла на первое место
165
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
в мире. КНР имеет хорошие шансы стать в течение ближайших 10 лет мировым лидером по созданию и производству нового по-коления автомобилей, использующих альтернативные источники энергии. Утвержденная Госсоветом КНР «Программа развития ав-томобилестроения на основе энергосбережения и новой энергети-ки на период 2011–2020 годов» нацелена на превращение Китая в мирового лидера в этой области, увеличение его доли в мировом объеме производства автомобилей, использующие альтернативные источники энергии, с 2,7 % в 2010 году до 35 % в 2020 г.
В 2012 году объем внешней торговли КНР составил 3,87 трлн долларов США, а с 1990 года несомненным лидером по объему зарубежных грузоперевозок стал морской транспорт, на долю ко-торого приходится транспортировка более 90 % китайских экс-портно-импортных товаров. По оценкам Мирового банка, в 2012 году около 36 % мировых морских перевозок грузов осуществля-лось морским флотом КНР, который в 2013 году насчитывал более 2 тыс. судов. Внутренний водный транспорт страны имеет бо-лее 180 тыс. судов и барж общим тоннажем свыше 50 млн тонн. В Китае действует более 200 международных судоходных компа-ний и около 1200 компаний внутренних морских (каботажных) и речных перевозок, насчитывается более 1800 морских и речных портов. По грузообороту и объему контейнерных перевозок через морские порты в годы 11-й пятилетки Китай, обогнав США, вышел на 1-е место в мире. Начиная с 2004 года, 5 китайских портов еже-годно входили в первую десятку мировых портов по показателям обработки контейнеров и грузооборота, а с 2012 года уже 7 китай-ских портов вошли в число 10 ведущих портов мира. По объемам обработки грузов порты Нинбо-Чжоушань и Шанхай являются ми-ровыми лидерами. В 2013 году грузооборот 21 китайского порта превысил 100 млн тонн. С 2010 года порт Шанхая вышел на первое место в мире по объему контейнерных перевозок, который в 2013 году превысил 32 млн стандартных контейнеров, а совокупная доля портов Шанхай и Нинбо-Чжоушань в мировом объеме обработки контейнеров выросла с 4,9 % в 1996 году до более 25 % в 2013 году. Согласно данным международной статистики, в 2010 году китай-ская судостроительная промышленность, обогнав южнокорейских
166
VI Международная научно-практическая конференция
конкурентов, вышла на первое место в мире по объему выполнен-ных и заключенных новых контрактов на постройку судов, а в 2012 году доля КНР на мировом рынке судостроения составила 43,6 % – Китай осуществлял экспорт судов в 169 стран мира. Значительно укрепились позиции внутреннего водного транспорта (как второго по внутреннему грузообороту вида), а сеть внутренних водных пу-тей Китая является крупнейшей в мире, как по протяженности, так и по объему перевозимых грузов.
Воздушный транспорт превратился в наиболее динамичный сегмент рынка транспортных услуг. В период 1995–2013 годов его грузооборот увеличился в четверо, а объем перевезенных грузов – в 3,5 раза, пассажирооборот – втрое. КНР стала вторым после США крупнейшим рынком авиаперевозок в мире. В первую де-сятку мировых авиакомпаний по объему перевозок пассажиров в 2011 году вошли две китайские авиакомпании: China Southern Airlines (4 место) и China Eastern Airlines (9 место). Air China по показателю чистой прибыли поднялась на первую строчку в мире. Китайский воздушный транспорт является одним из самых без-опасных в мире – число несчастных случаев на миллион рейсов в период 11-й пятилетки составил 0,1 %, что в пять раз ниже средне-мирового показателя. В 2012 году в КНР насчитывалось 482 аэро-портов (из них 182 – гражданские), а количество авиалиний – 2290. Системой аэропортов охвачены 70 % административных районов уездного уровня, доступ к их услугам получили 76 % населения страны. В 2013 году пассажирооборот 21 аэропорта превышал 10 млн пассажиров, а к 2020 году количество аэропортов, способных обслужить за год более 30 млн пассажиров, возрастет с 3 до 13. В 2013 году международный аэропорт Пекина (Шоуду) обслужил более 83,60 млн пассажиров, а Шанхая – около 80 млн, что обеспе-чило уже третий год подряд столичному аэропорту второе место, а Шанхайскому – третье место в мире. Согласно прогнозам, к 2015 году с пассажирооборотом более 100 млн человек оба аэропорта обгонят аэропорт Атланты Hartsfield-Jackson (90 млн пассажиров) и займут первое место в мире. В 2012 году по объему перевезен-ных грузов в 3,38 млн тонн аэропорт Шанхая (Пудун) поднялся до третьего места в мире. В структуре авиапарка Китая, по-прежнему, доминируют самолеты, произведенные западными авиастроитель-
167
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ными компаниями – в конце 2012 года авиационный парк пасса-жирских самолетов вырос до 1970 авиалайнеров, из них лишь около 1 % были изготовлены отечественными производителями. По прогнозам экспертов корпорации Boeing, в 2020 году объем пассажирских перевозок в стране превысит 700 млн человек, а к 2030 году Китаю авиационный парк по сравнению с 2013 годом утроится. КНР превратится во второй по величине мировой рынок самолетов для гражданской авиации, а стране понадобится 5260 новых магистральных авиалайнеров. К 2030 году объем пассажир-ских перевозок достигнет 1,5 млрд человек, что превратит Китай в крупнейший авиационный рынок в мире.
В XXI в. Китай превратился в самого крупного покупателя на мировом нефтегазовом рынке, что предопределило крайнюю актуальность развития национального трубопроводного транс-порта. В декабре 2012 года вступил в строй самый протяженный в мире магистральный газопровод из Туркменистана общей про-тяженностью 8704 км, состоящий из газопровода «Центральная Азия (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан)-Китай (Хоргос)» и второй ветки газопровода «Запад-Восток» с 8 региональными от-ветвлениями. Трубопровод позволил получить доступ к газовому снабжению более 500 млн человек. Отличительной особенностью газового рынка КНР является параллельное развитие секторов тру-бопроводного газа и СПГ, однако эксперты полагают, что к 2015 году природный газ, поставляемый по газопроводам, выйдет на первое место в китайском газовом импорте.
Темпы роста объема рынка экспресс-доставки в Китае даже на фоне финансового кризиса и последующей рецессии превыша-ли 20 % – в стране экспресс-доставку называют наиболее быстро развивающимся рынком в мире. В 2006 году количество ежеднев-ных операций по экспресс-доставке составляло всего 250 млн, а в 2012 году в области экспресс-доставки Китай, обогнав Японию (5,5 млрд экспресс-отправлений), вышел на 2-е место в мире по годовому объему операций – 6,7 млрд, а в 2013 объем операций в КНР составил 8 млрд отправлений. К 2015 году количество китай-ских пользователей сети, совершающих покупки в интернете, пре-высит 700 млн человек, что превратит КНР в крупнейший мировой рынок электронной коммерции.
168
VI Международная научно-практическая конференция
С полным правом можно утверждать, что начало XXI века прошло под знаком триумфального возрождения транспортного комплекса КНР, а создание инновационных транспортных про-дуктов, формирование современной высокотехнологичной транс-портной сети способствовало созданию успешно развивающейся и конкурентоспособной экономики, с которой сегодня вынуждены считаться все страны мира. Китай занимает 2-е место в мире по объему ВВП, и, согласно оценкам МВФ, доминирование США в глобальной экономике заканчивается. В конце второго десятиле-тия XXI века новым мировым лидером станет Китай – доля ВВП КНР в мировой экономике составит 18–20 %. Анализ развития ин-фраструктурной отрасли Китая дает возможность утверждать, что реализация стратегии инновационной модернизации транспортно-го комплекса КНР внесет ключевой вклад в достижение постав-ленной руководством КНР перед экономикой страны глобальной цели.
Цзи Цзяньцюань, специалист центра исследований России
Маньчжурского института университета Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНР
«Мягкая сила культуры» в контексте развития международных отношений РФ-КНР
В условиях беспрецедентного уровня взаимопо-нимания и доверия, достигнутого между Россией и Китаем, все активнее развиваются международные отношения. В этом контексте нельзя не обратить внимания на тот культурный образ партнера, кото-рый складывается у взаимодействующих субъектов в процессе общения. Стремительное развитие эко-номического сотрудничества также заставляет об-ратиться к роли культурно-идеологической состав-ляющей взаимодействия РФ-КНР. Авторитетными исследователями давно признан тот факт, что не-знание и непонимание культуры партнера ведет к ос-
169
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
лаблению торгово-экономического сотрудничества, становится препятствием к дальнейшему углублению всестороннего взаимодействия. Данный контекст приводит к необходимости глубинного понимания осо-бенностей китайской культуры, всей системы ценно-стей китайской цивилизации.
纪建全, 内蒙古大学满洲里学院俄罗斯研究中心专家
文化软实力—中国对外关系中的短板众所周知,中俄两国的理解和互信目前已达到前所未有的水
平,在经济全球化背景下,两国民间的经贸和文化交流也日趋紧密。两国国民对对方国家的认知和态度也随之发生着改变。俄罗斯人如何看待和评价中国,也是令中方各界各类人士感兴趣的问题之一。
中俄两国关系的基本特点笔者认为两国目前的各方面关系具有如下特点:政治基础稳定,对重大国际问题意见基本一致。2.两国经济互补性强,经贸合作不断发展,但经济与技术合
作水平与现实要求相距较远,发展潜力巨大。文化与教育交流合作发展较快,但不对等,呈单向输出。4.俄方有文化优势心理,中方有经济优势心理。但两国民众
都对欧美经济与文化更加青睐。5.两国经济关系落后于政治关系,民间关系落后于政府间关
系,文化关系落后于经济关系。6.两国基本制度差异并不对两国关系发展构成主要障碍。7.历史问题和民族心理,地缘政治与地缘经济政策选择,经
济、环保与国家安全政策导向上的差异,国家管理方式的不同。二、中国文化软实力和影响力是中国对俄关系中的短板 据2009及2010 年北京大学、中国国家广播电台及中国社会
科学院等媒体和研究机构所做的对两国民众问卷调查结果进行的综合分析,半数以上的俄民众认为中国是俄友好邻邦。中国在“俄最友好国家”排在前5名之内。而在中国的“最友好国家”中,俄始终处于第1、2名。
关于不喜欢中国的原因,受访者的答案是“中国侵占俄领土,忧虑中国人口太多,中国产品质量低劣,中国掠夺俄资源”,
170
VI Международная научно-практическая конференция
等等。关于对中国民众的印象,半数俄受访者认为中国人“不够友好”和“不够文明”。经济方面,近6成受访者认为中国的经济发展情况好于俄罗斯。文化方面,有半数以上的被调查者对有关中国文化的最主要印象的问题没有答案,其余近一半人的答案为“寿司、吃蛇、吃青蛙、喜欢中国菜、吃狗肉、绿茶、用筷子吃米饭、遵守传统、孝顺老人、中国商品”等概念。由此可见俄普通民众极为缺乏对中国文化的了解,甚至有不少误解。
总体来讲,俄罗斯人对中国的基本态度是: 政治上认可、经济上合作、文化上缺乏了解和轻视。中国在俄罗斯人眼中的社会文化形象,远没有中国人眼中的俄罗斯形象好。由此可以得出结论,中国的整体文化形象在俄罗斯人眼中地位不高,中国的文化软实力和影响力是对俄关系中的短板。
国际主流社会中影响中国文化形象的负面因素分析 显然,中国在俄罗斯人眼中的文化形象可以成为评价中国
在国际社会中文化形象的一个参考。从教育方面看,欧美国家,包括俄罗斯,其留学生来华学习目的主要是学习中国的文字、历史、文学和艺术,而科技知识似乎永远只是西方对中国的单向输出。中国在科技领域长期落后,今天还是欠发达,这也是中国文化被漠视甚至不被认可的原因之一。
四、改善和提升中国对外文化形象是进一步深化中俄两国全面伙伴关系的助推器,也是中国成为世界强国道路上的一个重大课题
俄罗斯对中国文化的态度与其对中国的政治和经济认同形成的反差,固然有上述的原因,同时也与中国经济飞速发展而社会和思想文化领域呈现出的混乱和颓势有关。也许,阻碍中俄两国经贸合作和全面伙伴关系进一步深化的深层次因素之一正是俄缺乏对中国文化内涵与文明价值取向的正确了解和认同。
如何充分发掘和发展中华文化,全方位改善外宣工作和中国对外形象,有效增强中华文化的软实力和影响力,是中俄进一步发展两国全面伙伴关系,也是中国成为世界强国道路上的一个重大课题。如何充分利用外语媒体,尤其是英语电视媒介向全世界广泛宣传中国,以打破西方国家英语媒体的话语霸权和宣传垄断,争夺必要的话语权,是提高中国文化影响力、改善中国文化形象的紧迫任务。
中国文化形象问题的最终解决,归根到底取决于中华文明的自强不息和进取发展,取决于中国社会的全面现代化,取决于中国人对本民族文化发展的贡献。
171
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Чжан Фань, аспирант Забайкальского государственного
университета, г. Чита
Истоки православной веры в провинции Хэйлунцзян КНР
В 2015 году исполняется 300 лет Российской Духовной Миссии в Китае
В 60-х годах XIX в. при поддержке Святителя Иннокентия – митрополита Московского – была учреждена Маньчжурская мис-сия, первым миссионером которой стал священник Камчатской епархии Роман Цыренпилов. Он быстро освоил маньчжурский язык, совершая поездки по китайским поселениям, раздавал Новый Завет на маньчжурском языке. Первыми интерес к русско-му православию проявили китайские купцы [1. С. 17–20]. Но при-нятие китайцами православия имело большие проблемы, которые были обусловлены как культурными, политическими, так и соци-альными причинами. Поэтому те, которые принимали веру, в по-следующем подавали прошение и о русском гражданстве. Таким образом, можно отметить, что проблема религиозной идентифи-кации в XIX веке в Китае была обусловлена национальными при-чинами. Учитывая это, события начала ХХ века в России, деятель-ность православных миссий, в большей степени, была направлена на российских граждан, проживающих в Китае.
Строительство КВЖД сыграло большую роль в истории пра-вославия в провинции Хэйлунцзян. В 1899 году при поддержке российского правительства в городе Харбине был построен пер-вый собор – Никольский собор, а к началу XX века были уже воз-ведены многие соборы, деятельность которых поддерживалась православной миссией в Пекине. Необходимо отметить и тот факт, что православные священнослужители внесли большой вклад в развитие китайско-российского культурного обмена. Они, помимо своей непосредственной деятельности, проводили исследования китайской культуры и жизни общества.
После Октябрьской революция 1917 года и последующей граж-данской войны, в провинции Хэйлунцзян увеличилось количество
172
VI Международная научно-практическая конференция
русского населения. Но, как отмечает А. Б. Ефимов, роль русской эмиграции в деле проповеди православия в Китае ограничивалась лишь внешним знакомством населения страны с Православной Церковью, которая воспринималась как Церковь русского народа [2].
Церковь стала для русских, как указывает Чжэн Юнван, иссле-дователь православия в Китае, «источником духовного хлеба, опо-рой веры и полезным лекарством, которое лечит тоску по Родине» [3, С. 202]. Китайский исследователь отмечает одну особенность, которая характерна для русского характера: «для русских не важ-но, куда прибыли, в первую очередь нужно сделать две вещи: во-первых, построить церкви; во-вторых, построить гостиницы» [4. С. 204].
Эта мысль близка и Чу Иенхуа, который отмечает, что право-славие как никакое другое религиозное учение отразило историче-ский путь русского народа. По мнению китайского исследователя, образ Христа стал символом терпения, дорогой к Богу, которая став единственной, лишила человека другого выбора. Это объясня-ет то, что «русские сознательно терпели бедствия, через горе они шли к самоутверждению, приобретая для себя глубокое осознание религиозного благоговения, которое было характерно для русской национальности, придавая ей особое значение» [5. С. 97].
Первым епископом Харбинской православной церкви был Мефодий – митрополит Харбинский и Маньчжурский, который с 1922 до 1931 г. на территории Харбина и Маньчжурии, пользо-вался высоким авторитетом среди православных верующих. Он не только сохранил православную веру у русских беженцев, но и способствовал популяризации православия среди китайского на-селения. Под его руководством было построено более 20 соборов в Харбине. Как священнослужитель, он обладал превосходной способностью общаться с простыми людьми, что позволило ему увеличить количество верующих в православие среди китайского населения провинции Хэйлунцзян.
Для русских в Китае вера в православие была не только ча-стью их духовной, но и основой повседневной жизни. Как отмеча-ет Чжэн Юнван, православная церковь не только способствовала
173
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
«поддержанию целостности русской национальной идеологии, что было одной из ее главных миссий», но и выступала «в целях защи-ты русских от ассимиляции китайским народом» [6. С. 203]. При этом православная церковь вела большую работу по привлечению китайцев к православной вере.
Этому была посвящена деятельность и православной миссии в Пекине под руководством Первого Митрополита Пекинского и Китайского Иннокентия. Митрополит способствовал тому, чтобы русские изучали китайский язык. Под его руководством были сде-ланы переводы «Катехизиса», песнопений на официальный китай-ский язык. Митрополит Мефодий, в свою очередь, способствовал их распространению среди китайского населения в провинции Хэйлунцзян. После его смерти Митрополит Милетий продолжил деятельность по распространению православия в провинции. В 30-е годы ХХ века по его инициативе учреждается комитет по ока-занию помощи беженцам на северо-востоке Китая. А в 1934 г. он возглавил Институт Св. Владимира, в котором происходит подго-товка священнослужителей в Харбине. В последующем митропо-лит Милетий открыл и духовную семинарию. Его деятельность в Харбине была направлена не только на духовное образование рус-ских, но и китайцев.
Активная деятельность православной миссии в провинции Хэйлунцзян способствовала тому, что в 30-е годы, как отмечает Чжэн Юнван, из 17 видов изданий большая часть принадлежа-ла православию. К ним относились такие издания как: «Вера и жизнь», «Миссионеры», «Дорога к христианству» и другие.
В начале 30-х годов, когда Япония захватила Маньчжурию, по-ложение православных в провинции осложнилось. Оккупационный режим был относительно мягким до тех пор, пока японцы не поня-ли, что русские не склонны воевать со своими соотечественника-ми. Вскоре в Маньчжурии были закрыты все русские учреждения и фирмы [7], а почти через 30 лет в период культурной революции было уничтожено большинство православных храмов в Китае.
В середине 80-х годов в Китае началось возрождение Православной Церкви. Власти провинции Хэйлунцзян выделили около 80 000 юаней (10 000 американских долларов) на реставра-
174
VI Международная научно-практическая конференция
цию Свято-Покровского храма в Харбине, которая была завершена в августе 1995 г. Это говорит о том, что сегодня власти провинции заботятся о возрождении исторического лица Харбина [8]. Сегодня в Китае действуют 4 православных храма (Покровский храм в Харбине, Храм Иннокентия Иркутского в Эргуне, Храм святителя Николая в Кульдже, Храм святителя Николая в Урумчи) [9. С. 53], поэтому большая часть православной общины проживает в про-винции Хэйлунцзян. В апреле 1997 г. на территории Посольства России в Пекине по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия был установлен Поклонный Крест. Именно с русской земли в центре Китая, где находятся останки святителя Иннокентия Фигуровского, начинается возрождение православия в Китае [10].
Список литературы1. Православие в Китае. Благовещенск: Амурская яр-
марка, 2013. 68 с. 2. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства
Русской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. 688 с.
3. Чжэн Юнван. Русское православие и культура про-винции Хэйлунцзян // Эхо истории православия на терри-тории провинции Хэйлуцзян. Харбин: Издательский Дом Хэйлунцзянского университета, 2010.
4. Там же. С. 204.5. Чу Иенхуа. Религиозное пояснение русской идеи.
Пекин: Восточный издательский дом, 1998. 240 с. 6. Чжэн Юнван. Русское православие и культура про-
винции Хэйлунцзян // Эхо истории православия на терри-тории провинции Хэйлуцзян. Харбин: Издательский Дом Хэйлунцзянского университета, 2010.
7. В. С. Русак (Сан Диего, США). Православие в Китае в ХХ веке. URL: http://e-lib.gasu.ru/konf/mak/arhiv/2009/36.doc (дата обращения: 31.01.2014).
8. Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае (1900–1997). URL: http://www.orthodox.cn/localchurch/pozdnyaev/epilog_ru.htm (дата обращения: 31.01.2014).
9. Православие в Китае. Благовещенск: Амурская яр-марка, 2013. 68 с.
175
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
10. Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае (1900–1997). URL: http://www.orthodox.cn/localchurch/pozdnyaev/epilog_ru.htm (дата обращения: 31.01.2014).
Чжоу Юй, преподаватель Маньчжурского института университета
Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНРН. А. Абрамова,
д-р филос. наук, профессор, заведующая кафедрой востоковедения Забайкальского государственного университета, г. Чита
Исторический фактор формирования современного социокультурного пространства Маньчжурии
Социокультурное пространство современного Китая рассма-тривается в научной литературе с точки зрения его транснацио-нального характера, конструирования модели и расширяющихся границ, роли региональной культуры, что особенно заметно про-является в ареале трансграничья. Наиболее исследованными фак-торами формирования социокультурного пространства КНР явля-ются культурные. Китайские ученые сосредотачивают внимание на культурном факторе как доминирующем в процессе межкуль-турного взаимодействия.
Однако китайская культура, отличаясь гомогенностью, вклю-чает в себя и исторический аспект, поэтому рассмотрение осо-бенностей формирования социокультурного пространства КНР с этих позиций является актуальным и необходимым. Историко-культурный контекст особенно заметен в деятельности властных и общественных структур приграничья КНР, представленном г. Маньчжурией, где разрабатываются маршруты «красного туриз-ма», связанные с памятными событиями, происходившими в этом пространстве в отдаленном прошлом.
Примером служит открытие центра пропаганды КПК в авто-номном районе Внутренняя Монголия КНР, основой которого яв-ляются экспонаты выставочного павильона «Шестой националь-ный съезд КПК», сыгравшего особую роль в китайской революции [1. С. 2].
176
VI Международная научно-практическая конференция
Стоит пояснить, что создание в 1921 г. коммунистической партии Китая (КПК) привело к распространению в стране социа-листических идей. Однако отсутствие политического опыта в ка-дровой среде КПК, наряду с другими причинами помешало раз-витию революционного движения в центральных районах Китая. Требовалась разработка новых стратегий и тактических установок. Значительная роль в формировании новой политической линии по изменению «маршрута революции» принадлежит VI съезду КПК, который из-за сложной обстановки в Китае прошел недалеко от Москвы летом 1928 г.
Через Маньчжурию как важную железнодорожную артерию, соединяющую Европу и Азию, проходила ведущая тайная ли-ния, через которую основатель и лидер коммунистической пар-тии Китая поддерживал тесные контакты с Советским Союзом и Коминтерном. С 1920-х до середины 1930-х годов через этот тайный транзит перевозилось большое количество литературы, распространяющей информацию о марксизме и Октябрьской ре-волюции. Этот форпост сыграл ведущую роль в деле распростра-нения марксизма-ленинизма на северо-востоке Китая, укрепления коммунистической партии и в победе в анти-японской войне [2]. Транзитная линия, через которую доставлялось в Китай большое количество информации революционного характера, известна под названием «международный Красный мост» или «Красный Шелковый путь». Маньчжурия названа «Красной крепостью». Многие основатели и первые руководители коммунистической партии Китая переезжали через Маньчжурию для участия в важ-ных международных конференциях или для учебы и работы в Советском Союзе. Среди них – Ли Дачжао, Чэн Дусю, Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Цюй Цюбо, Ли Лисань, Дэн Чжунся, Ли Вэйхань, Ван Мин, У Сюцюань, Сюй Гуаньда, Дэн Инчао и другие.
В настоящее время в Маньчжурии ведется большая работа по воспроизводству исторической памяти путем реставрации между-народных тайных линий и организации туристических маршрутов по местам боевой славы, связанных с именами советских воинов. В 2004 году были восстановлены тайные коммуникационные ли-нии на участке китайско-российской границе, находящиеся в 18 км к западу от г. Маньчжурия, где установлен памятник. В быв-
177
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
шем зале китайско-советских переговоров создан выставочный зал красных международных тайных коммуникационных линий, где существуют картины, отражающие обстоятельства тех лет.
Определены достопримечательности: Красные междуна-родные тайные коммуникационные линии Маньчжурии, музей красных международных тайных коммуникационных линий Маньчжурии, площадь Локомотива, памятник павшим борцам советской армии, китайско-восточная железнодорожная тюрь-ма, Красные международные тайные коммуникационные линии Чжалайнора. Разрабатывается экскурсионный маршрут под назва-нием «Красный тур Маньчжурии».
В настоящее время Китай вышел на новую историческую исход-ную точку развития. Об этом говорилось на 3-м Пленуме ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.), на котором приято «Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам всестороннего углубле-ния реформ». На пленуме отмечалась необходимость углубления реформирования экономических, политических, культурных, со-циальных институтов, совершенствование партийного строитель-ства, которое заключается в поддержке руководящей роли КПК в реализации стратегии развития страны [3]. Очевидно, что меро-приятия по поддержке исторической памяти нации, которые пред-принимаются в г. Маньчжурия, вполне укладываются в этот кон-текст.
Список литературы1. Бай Юнь. В городе устроена церемония откры-
тия базы пропаганды Коммунистической партии Китая во Внутренней Монголии // Маньчжоули бао. 2013. 9 сен.
2. «Красный шелковый путь». URL: http://www.man-zhouli.gov.cn/Contents/Channel_657/2008/0806/2019/con-tent_2019.htm (дата обращения: 20.12. 2013).
3. 3. Третий пленум Центрального комитета комму-нистической партии Китая /ЦК КПК/ 18-го созыва. URL: http://russian.people.com.cn/31857/208701/index.html (дата обращения: 21.01.2014).
178
VI Международная научно-практическая конференция
Янь Шуфан, канд. филос. наук, преподаватель Маньчжурского института
университета Внутренняя Монголия, г. Маньчжурия, КНРН. А. Абрамова,
д-р филос. наук, профессор, заведующая кафедрой востоковедения Забайкальского государственного университета, г. Чита
Развитие социокультурного пространства приграничья КНР: сравнительные характеристики
Стратегии международного сотрудничества, которые разра-батываются в КНР, делают актуальным исследования пригранич-ных пространств с точки зрения их развития и трансформации. В китайских источниках даются описания приграничных единиц: их территориальная организация, наличие производств, сферы услуг, демографический состав, уровень развития культуры и др. Попытаемся осуществить первичный сравнительный анализ при-граничных городов КНР, которые играют наиболее важную роль в международном сотрудничестве с Россией: Маньчжурия, Хэйхэ, Хуньчунь, Суйфэньхэ.
Прежде всего, эти города по административной принад-лежности входят в состав трех внутренних регионов – АРВМ (Маньчжурия), Хэйлунцзян (Хэйхэ, Суйфэньхэ), Цзилинь (Хуньчунь). Различное геополитическое положение формирует специфику городов. Например, расстояние между китайским г. Хэйхэ и российским г. Благовещенск не превышает одного кило-метра, поэтому его называют точкой слияния восточной и запад-ной культур. По количеству населения: в Маньчжурии и Хуньчуне проживают по 300 тысяч, в Суйфэньхэ – 160 тысяч. Самый насе-ленный город Хэйхэ – около 2-х миллионов человек.
Северо-восток Китая является полиэтничным регионом, по-этому состав населения в городах отражает земледельческую, ко-чевническую культуры и культуру народа хань. Так, в Маньчжурии насчитывается более чем 20 наций: хань, монголы, жуэй (дугане), корейцы, эвенки, орочоны, русские и т. д. Такие же национально-сти проживают и в Хэйхэ, но отличительной особенностью явля-ется большое количество здесь орочонов. В самом городе их про-
179
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
живает половина от числа живущих в провинции. В Хуньчунье и Суйфэньхэ больше маньчжуров и, особенно, – корейцев. Так, в Хуньчуне 59,8 % занимают хань, 31 % – корейцы, 9 % – маньчжу-ры, и только 0,2 % – другие нации. Такой национальный состав создает специфику жизнедеятельности города.
Особенностью управленческих практик китайского государ-ства является определение преимуществ, которые имеет регион и дальнейшее их развитие. Главное преимущество Маньчжурии – ее геополитическое положение. Это ключевой пункт Северо-Восточной Азии. Внутри страны район Маньчжурия граничит с тремя северо-восточным провинциям, является удобным пунктом транзита. Как самый большой контрольно-пропускной пункт су-хопутной дороги, порт железной дороги Маньчжурии имеет мно-го функций: складирование, перевозки и перегрузки. По общему объему операций порт Маньчжурии занимает первое место среди приграничных портов КНР. Район Маньчжурии утвержден госу-дарственным советом КНР как экспериментальная зона развития и открытости. Подтверждением политики открытости служит то, что Маньчжурия уже установила партнерские отношения с более чем сорока странами – Россией, Монголией, Японией, Северной Кореей, регионами – Гонконгом, Макао, Тайванем и др.
Другое преимущество – богатство ресурсами. Здесь находит-ся самое крупное, расположенное на севере страны, озеро Хулунь, площадь которого составляет около 2400 м². Район богат запасами угля. По расчетам, здесь залегает 10,4 млрд тонн высококачествен-ного бурого угля.
Инвестиционное направление, которое также активно в Маньчжурии, определено как преимущество, требующее специ-ального внимания и развития. Кроме улучшения жилищной ин-фраструктуры и увеличения жилой площади на душу населения инвестиции вкладываются в создание кластеров по разработке им-портных ресурсов в зоне сотрудничества, в переоснащение базы тя-желой промышленности в Чжалайноре, в совершенствование зоны взаимной торговли, в новый международный грузовой парк [1].
Преимущества г. Суйфэньхэ, расположенного на границе КНР и России, заключается в развитии шоп-туризма. Город обладает и
180
VI Международная научно-практическая конференция
экономическим преимуществом. В настоящее время здесь созданы три зоны: свободная таможенная зона (1,8 км²), состоящая из двух частей – логистическая и производственная, где установлен специ-альный (льготный) режим налогообложения; зона приграничного технико-экономического сотрудничества (5 км²); российско-ки-тайская зона трансграничного сотрудничества, которая находится непосредственно на линии государственной границы РФ и КНР и включает в себя приграничный торгово-экономический комплекс «Суйфэньхэ». С российской стороны к данной зоне примыкает торгово-экономический комплекс «Пограничный», построенный в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и КНР в конце 90-х годов прошлого века [2].
Что касается района Хуньчунь, он расположен в восточной части провинции Цзилинь, в нижнем течении реки Тумэньцзян и на стыке госграниц КНР, РФ и КНДР. В 1992 году Программа развития ООН /ПРООН/ задействовала план освоения бассейна реки Тумэньцзян. Таким образом, город Хуньчунь стал играть бо-лее важную роль в региональной двусторонней и многосторонней торговле, особенно в китайско-российской. С начала 1990-х годов китайское правительство инвестировало большой объем средств для превращения его в региональный экономический центр. 9 мар-та 1992 года китайский парламент одобрил создание Хуньчуньской пограничной экономической зоны сотрудничества. При поддержке Госсовета и местного правительства провинции Цзилинь на протя-жении 1990-х годов в Хуньчунь было вложено более 4 млрд юаней. В 1992 году была создана Хуньчуньская пограничная экономиче-ская зона сотрудничества, в рамках которой в 2001 и 2002 годах созданы Хуньчуньская зона переработки экспорта и Хуньчуньская торговая российско-китайская зона. Стратегическое расположение зоны на границе трех государств делает ее уникальной. Здесь раз-вита инфраструктура. Основные направления дальнейшего разви-тия – переработка продукции морского хозяйства, биология и фар-мацевтика, текстильное производство и т. д. [3].
Важным для дальнейшего развития района является восста-новление летом 2013 г. движения поездов по китайско-российской железнодорожной ветке Хуньчунь-Махалино. Железнодорожная
181
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ветка Хуньчунь-Махалино была построена в 90-е годы прошло-го века и закрыта в 2004 году по причине ряда факторов. В по-следние годы в России наращивается динамика освоения региона Дальнего Востока, в Китае также ускоряется освоение бассейна реки Тумэньцзян, что приводит к увеличению двусторонних тор-говых операций. Именно на таком фоне на повестке дня вновь встала проблема восстановления движения поездов по железнодо-рожной ветке Хуньчунь-Махалино. Открытие движения по линии Хуньчунь-Махалино будет стимулировать сотрудничество между провинцией Цзилинь и Приморским краем России в туристиче-ской, торговой и других областях [4].
Главным преимуществом района Хэйхэ является развитая система образования и наличие в городе университета Хэйхэ, ко-торый был создан на базе высшего специального педагогическо-го учебного заведения. В 2004 г. Министерство образования КНР утвердило введение бакалавриата по очной форме обучения. В настоящее время в университете имеется 33 специальности по бакалавриату, 25 специальностей по специальному образованию (студенты учатся только 3 года). При университете создали 4 ис-следовательских института: исследовательский институт изучения России, исследовательский институт сравнительного обучения в КНР и РФ, исследовательский институт по истории и культуре бассейна р. Амур, исследовательский институт художественного дизайна среды.
В университете реализуются проекты по совместному с рос-сийскими вузами обучению по системе бакалавриата и магистра-туры. В программах участвуют около 10 российских вузов региона Дальнего Востока. На 2013–2014 учебный год Министерство об-разования КНР выделило 26 квот в университете Хэйхэ для ино-странных абитуриентов. Квота предполагает бесплатное обучение, проживание и стипендию в размере от полутора до двух тысяч юа-ней в месяц [5].
Таким образом, социокультурное пространство приграничья КНР представляет собой пояс развития, в экономической и куль-турной областях ориентированное на сотрудничество с Россией. Каждый из обозначенных районов – точек роста – имеет свои пре-
182
VI Международная научно-практическая конференция
имущества, которые получают дальнейшее продвижение в соот-ветствии со стратегическими планами государства по развитию северо-востока страны.
Список литературы1. Маньчжоули ши фачжань юши=Преимущества раз-
вития г. Маньчжурии. URL: http://szb.northnews.cn/nmgrb/html/2012–04/30/content_925581htm (дата обращения: 14.01.2014).
2. Состоялась презентация «Международной вы-ставки приграничной торговли-2013. КНР-Суйфэньхэ». URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013–01/17/content_27717320.htm (дата обращения: 13.01.2014).
3. Программа сотрудничества утверждена. URL: http://www.hunchun.info/97-programma-sotrudnichestva-utverzhde-na.html (дата обращения: 10.01.2014).
4. Восстановлено движение поездов по китайско-российской железнодорожной ветке Хуньчунь-Махалино. URL: http://rcit.su/php/news.php?nmr=1136 (дата обращения: 07.01.2014).
5. Обучение в Хэйхэ. URL: http://trud-ost.ru/?p=186455 (дата обращения: 03.03.2013).
183
МОЛОдАЯ НАУКА
З. Г. Бакланов, аспирант Бурятского государственного
университета, г. Улан-Удэ
Социально-экономическое положение автономного района Внутренняя Монголия
Автономный район Внутренняя Монголия, расположенный на севере Китая, является первым из всех автономных районов КНР. Обширные территории АРВМ имеют большое значение для все-го Китая. Этот регион богат природными ресурсами, помимо того что здесь имеются запасы более 120 видов полезных ископаемых, АРВМ располагает обширными водными ресурсами, а это очень важно учитывая серьезную проблему нехватки воды в Китае.
Национальный состав АРВМ выглядит следующим образом: 70 % составляют ханьцы, 17 % соответственно монголы. Сильное переселение китайцев во Внутреннюю Монголию началось еще в XIX в. при династии Цинь.
АРВМ является очень интересным объектом для исследования в виду своей двойственности: с одной стороны, хорошее экономи-ческое развитие, достаточно высокий уровень производства, добы-чи ресурсов и т. д. , но с другой – опасность потери родной куль-туры монголами и полной ассимиляции, экологические проблемы.
С началом кампании «Идем на Запад» темпы экономического роста АРВМ ежегодно ускорялись, и вскоре Внутренняя Монголия вошла в число лидеров по темпам роста, догнав тем самым при-брежные регионы Китая, которые традиционно являются более развитыми в отличие от западных континентальных районов. Также в промежутке 2000–2008 гг. АРВМ была самым быстро раз-вивающимся субъектом среди не прибрежных регионов.
Внутренняя Монголия занимает 2-е место среди регионов КНР по залежам каменного угля, что дает серьезный толчок к
184
VI Международная научно-практическая конференция
росту другим сферам экономики. Так примерно 70 % электриче-ства вырабатывается за счет угля, для того чтобы обеспечить ста-бильную добычу развивается инфраструктура. АРВМ располагает богатейшими в мире залежами бериллия, а также богатейшими в Китае запасами циркония и ниобия. Что позволяет сказать, что Внутренняя Монголия является базой металлургии и угольной промышленности в КНР. Говоря об энергетических ресурсах, сто-ит отметить, что Внутренняя Монголия является самым ветреным регионом КНР, чем она привлекает внимание иностранных ком-паний, работающих в сфере альтернативных источников энергии [1, С. 1–4]. Также промышленность района представлена такими сферами как электроника, текстильная, химическая, легкая про-мышленности, производство сахара и бумаги.
Сельское хозяйство и животноводство региона достаточно развито, АРВМ является базой по производству товарного зерна, масла, сахара, а по комплексному производственному потенциа-лу животноводства входит в пятерку крупных животноводческих районов Китая [2].
В сфере внешней торговли регион стабильно показывает по-ложительную динамику. АРВМ установил торговые отношения примерно со 100 зарубежными странами и регионами, проводятся различные международные выставки и форумы сотрудничества, в районе действуют 18 КПП, открытых для зарубежья. Отдельно стоит отметить, что тесное сотрудничество в этом плане ведется между Внутренней Монголией и Забайкальским краем [3].
Экологические проблемы Внутренней Монголии выражены в проблеме опустынивания и песчаных бурь. Эти две проблемы, как впрочем, и большинство подобных, вызваны антропогенных фактором воздействия на природу. Но сегодня в Китае эти пробле-мы стараются разрешить, например, модель укрощения пустыни в Кузупчи (район АВРМ). Благодаря усилиям предприятия «Или-цзыюань» и поддержке правительства, борьба с песками в этом районе ведется весьма успешно [4, С. 24–27]. Для решения этой и других сложностей в Китае организуются различные международ-ные форумы и конференции в целях поиска решений по данным вопросам. Так, 14 декабря 2003 г. министры окружающей среды
185
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Японии, КНР и Республики Корея в Пекине заявили о намерении сотрудничать в борьбе с загрязнением, приняли решение о созда-нии сети контроля за кислотными осадками в Северо-Восточной Азии, системы предупреждения песчано-пылевых бурь и регио-нального координационного центра по охране окружающей среды на северо-западном побережье Тихого океана [5, С. 160].
Но не все способы решения оказывают исключительно по-ложительный эффект. Так, для того чтобы остановить опустыни-вание, которое стало настоящим бедствием для района, темы ко-торого год от года растут, правительство решило запретить выпас скота на пастбища, одну из причин опустынивания ландшафта Внутренней Монголии, но также являющуюся традиционным ви-дом деятельности монголов АРВМ. Это не могло не вызвать недо-вольства со стороны тех жителей региона, кто с детства занимает-ся этим.
Хотя правительство и обещало выплату компенсаций за пре-кращение деятельности и за покупку нового дома в случае пере-езда в другие области АРВМ, эти деньги не могут полностью компенсировать убытки, которые понесут монгольские скотоводы от 10-летнего запрета на выпас. Так за год пастух мог выручить с продажи продукции своей деятельности значительно больше, не-жели это позволяет компенсация, соответственно встает вопрос, чем же заниматься, тем людям, что промышляют скотоводством всю жизнь и которые не умеют ничего кроме этого. А прожить на компенсацию, которую будут периодически выплачивать, очень сложно, если учитывать инфляцию, которая за 10 лет уменьшит ее сумму (при условии что выплаты будут непрерывно выполняться в течение всех лет).
Но это не единственная проблема и далеко не самая трудно разрешаемая. Китаизация монгольского общества происходит все сильнее с течением времени. Молодое поколение все реже исполь-зует родной язык при общении, а многие его не знают. Несмотря на то, что в городах все вывески на двух языках, востребованность монгольского языка не может сравниться с китайским. То, что язык забывается, вызвано множеством причин, это и необходимость хо-рошего знания китайского языка для молодого поколения, которое
186
VI Международная научно-практическая конференция
будет поступать в вузы. Лучшие из них требуют хорошего знания китайского, также дела обстоят и при поиске работы. Почти все стороны жизни в АРВМ требуют познаний в китайском, хотя все же есть, к примеру, теле- и радиоканалы на монгольском, но их не так много. Наглядным примером того, что монгольский язык всесторонне уступает место в жизни китайскому является то, что популярные монгольские певцы исполняют песни на китайском.
Почему же складывается такая ситуация? Ведь, казалось бы, соседняя Монголия может своим существованием укреплять само-сознание монголов АРВМ как большого народа. Но здесь имеются свои сложности, в виду того, что в АРВМ и в Монголии проживают представители разных племен монголов, причем в последней это в основном халха, которые считают себя «истинными» монголами, по причине того, что они не подверглись влиянию культуры Китая. Такое мнение вполне очевидно отталкивает монголов АРВМ от своих «северных братьев», которые в свою очередь считают их по-павшими под культурное влияние России.
Но это не единственная причина снижения привлекательности Монголии в глазах автономного района. Вторая причина кроется в различии в экономическом уровне развития этих двух областей. Так, нам уже известно из описанного выше, что АРВМ – динамич-но развивающийся регион КНР, на чьем фоне Монголия выглядит не так благополучно. В настоящее время она экспортирует в Китай большую часть сырья, импортируя оттуда одежду, электронику и продукты сельского хозяйства. Начиная с 1999 года, Китай стал крупнейшим торговым партнером для Монголии. Из всего этого следует, что монголы АРВМ осознают, что их условия жизни луч-ше, нежели у их соседей, что в свою очередь опять же не добавляет привлекательности для последних. Эти причины обусловливают постепенное осознание монголами АРВМ себя как именно монго-лами Внутренней Монголии [6. С. 5–19].
Хотя в социальной сфере есть и положительные моменты, на-пример, уровень безработицы в регионе держится в пределах нор-мы (4–5 %). Образовательная реформа, которая последовательно проводилась с целью повышения уровня грамотности населения в регионе, также является положительным моментом. На время об-
187
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
разования КНР в регионе количество неграмотных или полугра-мотных составляло порядка 80 %, для борьбы с данным явлением правительство приняло программу обязательного образования во Внутренней Монголии, которую можно разделить на 4 этапа:
− 1978 г. – основными задачами стали строительство и укре-пление начальных и средних школ в районах, а также развитие профессионально-технического и народного образования;
− 1984 г. – начало реализации программы «всеобщего началь-ного образования»;
− 1993–2000 гг. – 65,68 % населения было охвачено получени-ем «обязательного образования»;
− 2004 г. – переход на завершающую стадию программы реги-онального развития.
Сегодня в АРВМ работают 35 вузов, 236 профессионально-технических училищ, 1500 среднеобразовательных учреждения [7. С. 51–54].
В данной статье был проведен краткий анализ социально-экономического положения Автономного района Внутренняя Монголия. Автор попытался затронуть основные моменты и про-блемы, связанные с темой доклада.
Список литературы1. Inner Mongolia Autonomous Region – Background.
URL: http://cbi.typepad.com/files/inner-mongolia-background-april-2010.pdf (дата обращения: 15.12. 2013).
2. Внутренняя Монголия. URL: http://ruchina.org/mon-gol-province.html (дата обращения: 08.12. 2013).
3. Автономный район Внутренняя Монголия. URL: http://www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/rcc/china/neimenggu.htm (дата обращения: 08.12. 2013).
4. Ван Шо. «Модель Кузупчи» – пример успешного укрощения пустыни // Ежемесячный журнал «Китай». 2013. № 9. С. 24–27.
5. Приходько Н., Черная В., Чан Янь. Экологические проблемы КНР и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 1. С. 160.
188
VI Международная научно-практическая конференция
6. The dog that hasn’t barked: assimilation and resistance in Inner Mongolia, China. URL: http://www.smhric.org/dog_hasnt_bark.pdf (дата обращения: 02.02.2014).
7. Алексеева И. Д. Повышение уровня образования в административных районах КНР (на примере автономного района Внутренняя Монголия) // Вестник БГУ. 2010. № 8. С. 51–54.
К. В. Косенко, институт истории и международных отношений
Саратовского государственного университета, г. Саратов И. И. Арсентьева,
д-р полит. наук, профессор Саратовского государственного университета, г. Саратов
Европейский вектор внешнеполитической стратегии Китая
За прошедшее десятилетие Китай впечатляюще усилил свои позиции в мировой экономике. В марте 2011 г. Государственное статистическое управление КНР представило ряд докладов о ре-зультатах социально-экономического развития страны за 11-ю пятилетку под общим названием «Стабильное повышение между-народного статуса, увеличение влияния в мире». Согласно опубли-кованным документам, в течение 2006–2010 гг. среднегодовой при-рост национальной экономики составлял 11,2 %, что значительно превысило аналогичный мировой показатель (3,5 %). Доля КНР в мировом ВВП за указанный период выросла с 5 до 9,5 % [1].
Этот беспрецедентный экономический рост не может не ин-тересовать потенциальных европейских партнеров. В качестве частных примеров китайско-европейских отношений рассмотрим отношения с Великобританией и Францией.
Британо-китайские отношения начинают активно развиваться в 2000-е гг. Важным событием стало присоединение обеих стран к Парижской декларации по повышению эффективности внеш-ней помощи (Paris Declaration on Aid Effectiveness), подписанной в 2005 г. В документе выделены основные принципы финансового сотрудничества развитых и развивающихся государств [2].
189
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
В ноябре 2005 г. председатель КНР Ху Цзиньтао, находясь с официальным визитом в Лондоне, сделал заявление о том, что в последнее время в китайско-британских отношениях фиксируют-ся весьма благоприятные тенденции, плодотворно осуществляется сотрудничество в разных областях. Дальнейшее развитие партнер-ства отвечает коренным интересам обеих сторон [3]. В ноябре 2010 г. британская делегация во главе с Д. Кэмероном посетила Китай. Это был первый за всю историю двусторонних отношений офици-альный визит британского премьер-министра.
Кроме того, еще раньше, в январе 2009 г., Великобритания опубликовала тезисы стратегической политики в отношении Китая (The UK and China: A Framework for Engagement International Development). В своем вступительном слове Г. Браун, занимавший в то время пост премьер-министра, отметил, что становление КНР в качестве мировой экономической и политической силы являет-ся одним из наиболее важных событий современности. Министр иностранных дел Д. Милибэнд, подчеркнул, что расширение кон-тактов пойдет на пользу не только Великобритании и Китаю, но и миру в целом [4. P. 3–4]. Подобные заявления свидетельствовали о том, что двусторонние связи выходили на качественно новый уро-вень.
Однако в 2012 г. отношения двух стран пережили серьезный кризис, вызванный визитом в Великобританию Далай-ламы XIV и его встречей с премьер-министром Д. Кэмероном. Общеизвестно, что Пекин крайне болезненно реагирует на подобные акции, расценивая их как неуважение территориальной целостности КНР. По сообщениям Daily Telegraph, китайская сторона заяви-ла, что не будет вкладывать средства в долгосрочные проекты в Великобритании до тех пор, пока не будет найдено решение про-изошедшего дипломатического недоразумения. «Любые хорошие деловые отношения опираются на хорошие политические отноше-ния в долгосрочной перспективе» [5].
Около года китайско-британские отношения были «замороже-ны». И лишь осенью 2013 г. налаживание экономических связей возобновилось. Одно из самых существенных достижений – под-писание в Пекине меморандума о намерениях. Его основным пун-
190
VI Международная научно-практическая конференция
ктом стало соглашение, превращающее Лондон в крупнейший ми-ровой центр, который может за пределами Китая торговать юанем. Китайцы, в свою очередь, получили право открывать филиалы своих банков в Великобритании [6].
О потеплении двусторонних отношений свидетельствует и декабрьский визит в Пекин Д. Кэмерона. Главу британского пра-вительства сопровождало около ста бизнесменов. Главная цель – «расчистить» дорогу британскому бизнесу в Поднебесной и китайскому бизнесу в Соединенном Королевстве. Д. Кэмерон за-явил, что Китай уже сделал капиталовложения в аэропорт Хитроу, аэропорт Манчестера, атомную электростанцию «Хинкли Пойнт». Британская сторона выразила надежду на китайские инвестиции и в высокоскоростную железнодорожную сеть. Также прозвуча-ло предложение о создании зоны свободной торговли между ЕС и КНР. По мнению Лондона, таможенные тарифы должны быть сокращены в 20 ключевых секторах, в том числе в автопромыш-ленности, фармацевтике, производстве электрических товаров. Это привело бы к росту китайско-европейской торговли до 1 трлн долларов США к 2020 г. [7]. Совершенно очевидно, что именно Великобритания делает шаги к сближению.
Если говорить о Франции, то в последнее десятилетие связи с Китаем оказывают возрастающее воздействие на национальную экономику. Франция стремится к их дальнейшему развитию, осво-ению огромного китайского рынка, а также, что особенно значимо в контексте долгового кризиса еврозоны, к получению дополни-тельных инвестиций. В 2009 г. Франция вернулась в НАТО и стала чаще согласовывать свои действия с Вашингтоном. С приходом к власти Б. Обамы отношения США и КНР расширились, что по-зволило обнаружить дополнительные возможности и для развития франко-китайского диалога [8].
Помимо этого, сближение с Китаем помогает Франции укре-пить свои позиции в рамках ЕС. Как отмечает Ю. И. Рубинский, «предлагая Китаю свои инвестиции и высокие технологии, фран-цузское руководство отдавало себе отчет в том, что возможности Франции, далеко отстающей по объему торговли с КНР от США, Японии и Германии, ограничены. Поэтому Париж стремится вы-ступить инициатором развития сотрудничества между Пекином
191
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
и Евросоюзом в целом… Перед лицом бурно растущего Китая Франция имеет шансы на равноправный диалог с ним только при опоре на ЕС в целом» [9. C. 295].
Развиваются и культурные связи. В Китае и Франции 2011 г. был объявлен перекрестным годом их государственных языков, за это время состоялось около 200 мероприятий. Вообще интерес к изучению китайского языка во Франции и французского языка в Китае растет рекордными темпами. Так, за 8 лет (2001–2009 гг.) ко-личество кафедр французского языка в Китае утроилось. В 2011 г. в Китае обучалось 10 тыс французских студентов, во Франции – 30 тыс. китайских студентов [10].
Возвращаясь к вопросу отношений Китая и Евросоюза в це-лом, следует отметить, что в последние годы они получили зна-чительное развитие, совершив «тройной прыжок». Стороны доби-лись неплохих результатов в сотрудничестве в области экономики и торговли, науки и техники, образования и культуры. Согласно данным Министерства коммерции КНР, в 2008 г. внешнеторговый оборот между КНР и ЕС достиг 425,5 млрд долларов США, соста-вив 16,6 % всей внешней торговли страны [11].
Говоря об отношениях ЕС и Китая, нельзя не упомянуть ми-грационный фактор. Китайские диаспоры есть практически во всех европейских странах. Самой крупной является диаспора в Великобритании с ежегодным приростом 11,2 %. В 2009 г. коли-чество китайцев в Соединенном Королевстве превысило 0,5 млн человек. Большое количество выходцев из Китая проживает во Франции (200–300 тыс.) и Италии (более 150 тыс.).
Переезжая в Европу, китайцы создают общины, сердцем кото-рых становятся чайнатауны. Самый старый из них расположен в Ливерпуле: он возник в 1830-е гг., когда в Англию пошли корабли с хлопком и шелком из Китая. В XX в. фиксировались все новые и новые волны миграции, поскольку распадались колониальные си-стемы. Много людей приехало в Великобританию из Гонконга, в Португалию – из Макао. По окончании войны во Вьетнаме немало этнических китайцев бежало в Европу из Сайгона. Сегодня китай-ские кварталы есть в Милане, Париже, Амстердаме, Антверпене, Манчестере и множестве других крупных городов Европы.
192
VI Международная научно-практическая конференция
Безусловно, в китайско-европейских отношениях существует большое количество проблем. Так, со стороны ЕС неоднократно были (и еще будут) попытки оказать давление на Китай по ли-нии ВТО. Европейцы часто поднимают темы событий в Тибете и нарушений прав человека в Китае. Однако, как отмечает В. Я. Портяков, заместитель директора ИДВ РАН, в Пекине полагают, что когда китайские инвестиции достигнут большого объема, ев-ропейские партнеры не будут вносить подобные вопросы в повест-ку дня переговоров [12].
На наш взгляд, есть все шансы и задействовано достаточное количество ресурсов для того, чтобы Китай и Европейский союз активно развивали взаимовыгодное сотрудничество друг с другом.
Список литературы1. Доля КНР в мировом ВВП выросла до 9,5 %. URL:
http://russian.people.com.cn/31518/7331614.html (дата обра-щения: 18.01.2014).
2. Парижская декларация по повышению эффектив-ности внешней помощи. URL: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023545.pdf (дата обращения: 18.01.2014).
3. Ху Цзиньтао начал визит в Великобританию. URL: http://russian.people.com.cn/31520/3841298.html (дата обра-щения: 25.01.2014).
4. The UK and China: A Framework for Engagement International Development. URL: http://www.ncuscr.org/files/uk-and-china_0.pdf (дата обращения: 28.01.2014).
5. Королева А. Политика против экономики. URL: http://expert.ru/2013/05/7/politika-protiv-ekonomiki/ (дата об-ращения: 29.01.2014).
6. Великобритания и Китай: стратегический прорыв. URL: http://newsland.com/news/detail/id/1264515/ (дата об-ращения: 25.01.2014).
7. Скосырев В. Кэмерон стал адвокатом КНР на Западе. URL: http://www.ng.ru/world/2013–12–03/7_china.html (дата обращения: 30.01.2014).
8. Зверева Т. В. Франция и Китай. URL: http://www.per-spectivy.info/oykumena/europe/francija_i_kitaj_2012–11–30.htm (дата обращения: 21.01.2014).
193
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
9. Рубинский Ю. И. Франция: Время Саркози. М.: Международные отношения, 2011. 320 с.
10. Зверева Т. В. Франция и Китай. URL: http://www.per-spectivy.info/oykumena/europe/francija_i_kitaj_2012–11–30.htm (дата обращения: 21.01.2014).
11. Направлением в Европу миссии по закупкам Китай подтверждает готовность к борьбе против торгово-го протекционизма. URL: http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2009–02/25/content_824649.htm (дата обращения: 31.01.2014).
12. Скосырев В. Кэмерон стал адвокатом КНР на Западе. URL: http://www.ng.ru/world/2013–12–03/7_china.html (дата обращения: 30.01.2014).
Е. С. Кудрявцев, аспирант Института Дальнего Востока РАН, г. Москва
Решение проблем городской инфраструктуры в мегаполисах КНР
Согласно статистике пекинского муниципального управления транспорта, количество автомобилей в столице возросло с 2300 единиц в 1949 году до 77 тыс в 1978 году. В 1997 году количество транспортных средств составило 1,3 млн единиц, а в августе 2003 года и мае 2007 года этот показатель соответственно достиг 2 и 3 млн единиц (в эти годы кратный прирост количества автомобилей занимал соответственно 6 лет и 3 месяца и 3 года и 9 месяцев).
С 2008 года ежегодно на улицах Пекина, где, по официальным данным, в начале 2013 года проживало 20,27 млн человек, появля-лось около миллиона новых автомобилей. Рекордного показателя в 4,8 млн автомобилей (февраль 2011 года) столица достигла всего за 4 года. Поскольку ежедневно в столице появлялось по 1900 новых машин, то уже в январе 2013 года парк пекинских автомобилей со-ставлял 5,2 млн единиц и, по прогнозам муниципалитета Пекина, ежегодный прирост столичного автопарка будет составлять 200 тыс автомобилей.
За последнее десятилетие быстрый рост благосостояния насе-ления привел к увеличению темпов продаж автомобилей в городах
194
VI Международная научно-практическая конференция
Китая до 15 % в год, в то время как темпы роста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием не превышали 3 %. Пекинский автопарк является лидером по темпам роста – в 2011 году на каждые 100 семей приходилось 30 автомобилей. В 1998 году общая протяженность столичных автомобильных дорог со-ставляла 12,5 тыс. км, а в начале 2013 года – около 30 тыс. км, и, как следствие, в Пекине на 5,2 млн автомобилей приходится лишь 2,48 млн парковочных мест. Очевидно, что темпы роста числа ав-томобилей (380 %) намного опережали темпы увеличение протя-женности автомобильных дорог (около 200 %), что привело к воз-никновению значительных проблем в обеспечении бесперебойно-го транспортного сообщения в столице.
По расчетам пекинских властей, городская дорожная инфра-структура рассчитана на максимальное количество в 6,7 млн авто-мобилей, а, согласно прогнозам пекинского центра исследования проблем транспорта, к 2015 году на магистралях мегаполиса их ко-личество может возрасти до 7–8 млн единиц, а неизбежные пробки создадут угрозу столичной экологии и негативно скажутся на эко-номическом развитии мегаполиса. Несмотря на то, что в столице КНР развернулось масштабное дорожное строительство, вступили в эксплуатацию 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я столичные кольцевые ав-тодороги, возросло количество муниципального общественного транспорта, ситуация с транспортом в Пекине оставалась доволь-но напряженной. Город стал задыхаться от многочасовых пробок – столица Китая, наряду с Мехико и Гуанчжоу, возглавляет список мировых городов по количеству и времени дорожных заторов.
Для решения такого положения 1 апреля 2010 года правитель-ство Пекина одобрило «Циркуляр о введении регулирующих мер, направленных на ограничение дорожного движения в часы пик по рабочим дням». Согласно статье III Циркуляра, с 11 апреля 2010 года ограничивался въезд с 7.00 до 20.00 по рабочим дням в преде-лы 5-й столичной кольцевой дороги любым городским автомоби-лям, включая государственные автомобили всех уровней власти, чьи номерные знаки заканчиваются на следующие цифры: 3 и 8 (по понедельникам); 4 и 9 (по вторникам); 5 и 0 (по средам); 1 и 6 (по четвергам); 2 и 7 (по пятницам). Ограничение на въезд в столицу
195
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
в пределах 5-го транспортного кольца в эти часы по рабочим дням относится и ко всем транспортным средствам, прибывающим из других провинций. Ограничения не распространялись на выход-ные и праздничные дни и не касались автомобильного транспорта полиции, министерства обороны, пожарных, скорых медицинских, иных экстренных и муниципальных технических служб, междуго-роднего общественного и туристического транспорта, городского такси и автомобилей, предоставляемых муниципальными фирма-ми на прокат.
По данным ГСУ КНР, количество служебных автомобилей в стране в начале 2011 года уже достигло 3–3,5 млн единиц, а еже-годные расходы на их обслуживание составляли 300–400 млрд юаней – не только огромное бремя как для бюджета страны, но и фактор, оказывающий негативное влияние на городское движение. В марте 2011 года премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в «Докладе о работе правительства» подчеркнул, что правительство готовится стандартизировать контроль в области распределения служебных автомобилей и будет активно продвигать реформу соответствую-щей системы. В то же время было заявлено, что в 2011 году будет осуществлен «нулевой рост» расходов на покупку и обслужива-ние служебных автомобилей. Такие положения, включая количе-ственные показатели, впервые были вписаны в доклад о работе правительства. Согласно новым правилам, срок использования служебных автомобилей чиновниками провинциального и мини-стерского уровней будет продлен с 5 до 8 лет. Даже после повыше-ния в должности государственному служащему запрещено менять служебную автомашину на новую, т. е. «автомобиль будет следо-вать за чиновником». В начале 2011 года Комиссией по транспорту муниципалитета города Пекин была разработана дополнительная «Программа по улучшению транспортной обстановки в столице», согласно которой всем государственным органам и общественным организациям столицы в течение ближайших 5 лет запрещается увеличивать объем государственного автомобильного парка, кото-рый в начале 2012 года насчитывал более 65 тыс. единиц.
В январе 2011 года пекинские власти предприняли очередной шаг по ограничению роста количества транспортных средств на
196
VI Международная научно-практическая конференция
улицах города – с начала года муниципалитет принял решение об ограничении ежегодной выдачи государственных регистрацион-ных знаков для вновь купленных автомобилей до 240 тысяч (20 тыс. знаков в месяц). Желающие приобрести автомобиль (к при-меру, в январе 2013 года их было 1,43 млн человек) должны при-нять участие в проводимой городскими властями 26 числа каж-дого месяца процедуре, весьма похожей на лотерею. Компьютер на основе случайного выбора определяет будущих обладателей государственных регистрационных номеров, а число желающих приобрести автомобильный номер выросло с 187,4 тыс. чел. в фев-рале 2011 года до 1,4 млн чел. в феврале 2013 года. Распределение ежемесячных квот следующее: 88 % резервируется за обычными гражданами, 10 % – за государственными организациями, 2 % – за коммерческими структурами. Государственные организации и предприятия могут участвовать в лотерее раз в два месяца, вы-игравшие не могут передавать свои права другим предприятиям. Участниками автомобильной «номерной лотереи» могут быть пе-кинцы, имеющие постоянную прописку, и иностранцы, которые прожили в Пекине более года. 11 июля 2011 года мэрия города Гуйян обнародовала документ, согласно которому он стал вторым городом КНР, который вслед за Пекином ввел ограничения на при-обретение новых автомобилей.
Как и другие китайские мегаполисы, Шанхай, в котором в 2012 году проживало 25 млн человек и было зарегистрировано около 1,9 млн автомобилей, также испытывает серьезные транспортные проблемы. Однако в области ограничения роста количества ав-томобилей на своих улицах городские власти предприняли более радикальные меры – ежемесячно владельцы новых автомобилей принимают участие в аукционе, на котором в ходе торгов приобре-тают государственный регистрационный знак. В феврале 2011 года в аукционе приняло участие 25 тыс. частных лиц и представителей коммерческих компаний, а по итогам было выдано 7,5 тыс. автомо-бильных номеров, а стоимость регистрационного знака составила 44,6 тыс. юаней (6800 долл. США). С начала 2012 года на аукцио-не в Шанхае стоимость номерного знака для частных автомобилей стала стремительно расти – с 58,3 тыс. юаней в феврале до 69 346
197
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
юаней в декабре. В феврале 2013 года цена автомобильного номера впервые превысила 80 тыс. юаней и составила 83,5 тыс. юаней, а в марте 2013 года эта цена побила рекорд – 90 тыс. юаней, что составляет примерно стоимость трех недорогих китайских авто-мобилей. Подобная система аукциона вызывает недовольство жи-телей Шанхая, и многие горожане предпочитают регистрировать свои купленные автомобили в соседних провинциях.
По мнению столичных властей, все эти меры, одобренные 85 % жителями 20-миллионного мегаполиса, позволят ежедневно ограничить выезд 20 % столичного автопарка частных автомоби-лей на улицы города, сократить ежедневную эмиссию газов на 10 %, эквивалентную 325 тоннам загрязняющих веществ. Согласно отчету муниципальных властей Пекина, благодаря ограничитель-ным мерам в 2012 году число автомобилей на столичных дорогах в часы пик по рабочим дням ежедневно сокращалось на 900 тыс. единиц, а выбросы выхлопных газов – на 237 тонн в день. В марте 2013 года в 25 крупных мегаполисах Китая в системе обществен-ного транспорта работало более 30 тыс. автомобилей, использую-щих альтернативные источники энергии, которые в значительной мере способствовали улучшению экологической обстановки в крупнейших городах КНР.
В реализации планов по разрешению проблем городских за-торов власти КНР в основном полагаются на увеличение финанси-рования крупномасштабного дорожного строительства, внедрение инноваций и передовых строительных технологий, совершенство-вание качества муниципального транспорта, увеличение его ско-рости и вместимости, освоение современных комплексных инфор-мационных систем на транспортных объектах, внедрение гибкой транспортной тарифной политики, широкое использование эконо-мических рычагов для решения проблем городского транспорта в целом по стране.
198
VI Международная научно-практическая конференция
О. А. Луцак, аспирант кафедры востоковедения Забайкальского
государственного университета, г. ЧитаН. А. Абрамова,
д-р филос. наук, профессор, заведующая кафедрой востоковедения Забайкальского государственного университета, г. Чита
Человек как основа социокультурного потенциала современного Китая
В настоящее время китайские ученые в качестве инновацион-ного механизма развития китайского общества выдвигают концеп-цию «человек – основа», которая рассматривается с философских позиций как универсальное ядро социализма с китайской спец-ификой [1]. Данная концепция интерпретируется китайскими ис-следователями как основополагающий принцип социокультурно-го развития страны, требующий научной рефлексии следующих аспектов: «какой человек» определяет основу данной концепции и «какие конкретные качества человека лежат в основе». При этом воспроизводятся идеи древнейшего мыслителя Мэн Кэ о «добро-те», которой имманентно присущи «четыре нравственные нача-ла: «человеколюбие» (жэнь)», чувство «долга»/«справедливости» («и»), стремление к соблюдению «ритуала» («ли») и «разум» («чжи») [2].
Современные китайские ученые считают, что при анализе концепции «человек – основа» следует ориентироваться на три основополагающие аксиомы: «всестороннее развитие человека» («и жэнь дэ цюаньмянь фачжань вэй бэнь»), «личностные качества человека» («и жэнь цзышэнь дэ цзячжи вэй бэнь») и «сущность человека» («и жэнь дэ бэньчжи вэй бэнь»), характеризующие его как человека «социального», находящегося в «центре» китайского социума, и являющегося «объектом» руководства страны, пред-принимающего меры для улучшения его благосостояния [3].
Таким образом, ценностный компонент традиционной фило-софской концепции «человек – основа» заключается в современ-ной интерпретации китайской гуманитарной наукой самого содер-
199
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
жания понятий «человек» и «основа», где ядром выступает тради-ционная ценность китайской культуры – саморазвитие и самосо-вершенствование человека.
В современном социальном развитии Китая культура и духов-ность начинают играть все более важную роль, являясь основанием его перехода к статусу державы. В этой связи в стране в последнее время активно разрабатывается и реализуется государственная со-циальная политика накопления и эффективной реализации нацио-нального человеческого потенциала на основе стратегии построе-ния «державы человеческих ресурсов», включающей общие цели, принципы и механизмы реализации, обозначенные в «Основных положениях национального плана по развитию человеческих ре-сурсов на средний и длительный срок (2010–2020 гг.)», «Основных положениях национального плана по развитию науки и техники на средний и длительный срок (2006–2020 гг.)» [4] и «Основных положениях национального плана по развитию и реформе образо-вания на средний и длительный срок (2010–2020 гг.)» [5].
Кроме того, в соответствии с «Основными положениями на-ционального плана по развитию человеческих ресурсов на сред-ний и длительный срок» (2010 г.) сформулированы стратегическая цель, система трех задач, система шести политик, система четырех требований и система механизмов обеспечения особой стимули-рующей среды.
Рассмотрим данные аспекты более конкретно. Стратегическая цель заключается в необходимости скорейшего вступления Китая в ряды мировых «держав человеческих ресурсов» («цзиньжу шицзе жэньцай цянго синле») посредством изменения количества, струк-туры и эффективности использования собственных человеческих ресурсов, активного «выхода вовне» («цзоучуцюй») и привлечения человеческих ресурсов извне («дали иньци, чжао цай инь чжи»).
В системе трех задач выделяются важнейшие точки приложе-ния усилий государства в работе с человеческими ресурсами в пла-не подготовки специалистов, включая собственно подготовку (ак-центирование внимания государства на подготовке технических кадров); развитие (подготовка особо важных специалистов во всех сферах деятельности государства); осуществление единого плани-
200
VI Международная научно-практическая конференция
рования изменений (контроль над изменениями кадровой структу-ры человеческих ресурсов, обеспечение подготовки и внедрения всех видов специалистов).
Следует отметить, что осуществляемая государственная по-литика развития страны, направленная на реализацию националь-ного человеческого потенциала на основе стратегии построения «державы человеческих ресурсов», прежде всего, ориентирована на повышение благосостояния народа.
В научном плане китайская стратегия развития человече-ских ресурсов соотносится с понятием человеческого потенциа-ла, интерпретируемого отечественной мыслью, в частности, как «потенциал социального развития», который, по мнению Е. В. Каргаполовой, следует рассматривать как близкое с социокультур-ным потенциалом явление, как «… категорию, разработка которой в составе теории социального развития обеспечивает преемствен-ность, синергетический эффект ресурсов и возможностей про-шлого («ретроспективный потенциал»), настоящего («исходный потенциал») и будущего («перспективный потенциал») развития социума на основе первичных внутренних и вторичных внешних факторов». Она отмечает, что операционализация категории по-тенциала социального развития производится с помощью не толь-ко социально-экономических, но и социально-демографических, природно-экологических, культурных и институционально-регу-лятивных показателей [6].
Понятийно стоит остановиться и на социокультурном потен-циале, который выражает стабильность государства, является ос-нованием его дальнейшего развития и определяет его положение в мире. Это главный параметр состояния общности (государства, региона, города, предприятия и т. д.), включающий в себя оценку широкого спектра позиций: культура, ценности, традиции, рели-гия, уровень образования, здравоохранения, система социальных гарантий, доход, структура населения, юридическое и политиче-ское сознание населения, национальная идентичность, активность населения (в том числе предпринимательская и инновационная активность), технологический уровень, развитие науки и другие.
Социокультурный потенциал может рассматриваться с пози-ции положения страны в мире и интерпретироваться как «деятель-
201
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ностно-структурный потенциал», который «… отражает интерио-ризированные акторами активные свойства социального простран-ства (в их личностном, структурном, культурном и физическом измерениях), которые могут быть реализованы в их стремлении к социальному действию, утверждению, расширению собственной свободы» [7].
По мнению Т. И. Заславской, «социокультурный потенци-ал» – это «…комплексная характеристика сравнительной силы и жизнеспособности крупных социальных общностей (государств, регионов, наций), их положения на глобальной шкале разви-тия и их способности адаптироваться к вызовам внешней – мир-экономической, геополитической и природной – среды и преобра-зовывать ее в собственных интересах». При этом выделяются тех-нологический, человеческий, социальный и духовный потенциалы как основные характеристики [8].
Более конкретное значение социокультурный потенциал при-обретает в контексте анализа модернизационных и трансформаци-онных процессов обществ и государств.
В. А. Абрамов отмечает, что «понятие социокультурный по-тенциал употребляется на макроуровне анализа возможностей со-циальной трансформации, когда речь идет о путях и направлениях развития, препятствиях, ограничениях трансформации и жизне-способности глобализирующегося и регионализирующегося об-щества», также, что анализ социокультурного потенциала «… это интерпретация не только социальной структуры любого общества (институциональной, групповой, региональной), но и его деятель-ностного потенциала в различных процессах глобализирующейся и регионализирующейся международной реальности» [9].
В широком смысле понятие «социокультурный потенциал» может быть соотнесено с введенным П. Сорокиным понятием «со-циокультура» – это «вселенная смыслов, объединенных в систе-ме языка, науки, религии, философии, права, этики, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, драмы, экономики, политических и социальных теорий; материальная культура – во-площение всех этих символов в биологической среде, начиная с простых орудий и кончая наисложнейшим оборудованием, книга-
202
VI Международная научно-практическая конференция
ми, картинами; все скрытые и открытые действия, ритуалы, цере-монии, поступки, в которых индивиды и группы осуществляют и принимают тот или иной набор смыслов» [10].
В настоящее время значительное внимание руководство КНР в плане реализации стратегии построения «державы человеческих ресурсов» уделяет проблеме образования. Так, по данным печат-ных и электронных источников, согласно «Докладу о развитии обучения китайских студентов за границей», опубликованному в 2012 г. научно-исследовательским центром Китая и глобализации совместно с Академией общественных наук КНР, по статистиче-ским данным ЮНЕСКО, число китайских студентов за рубежом составляет 14 % от общемирового объема, превращая Китай в крупнейшего поставщика иностранных студентов.
По сообщению агентства Синьхуа, министр образования КНР Юань Гуйжэнь на организованной пресс-канцелярией Госсовета КНР пресс-конференции отметил, что «с 1978 года по 2011 год за пределами Китая в общей сложности обучались 2,24 млн китай-цев, а на территории страны обучались 2,2 млн иностранцев» [11].
По сообщению газеты «Цзинхуа Шибао» от 20 августа 2012 г., министерство образования КНР опубликовало на сайте послед-ние данные о китайских студентах, выезжающих для обучения за рубеж. За последние три года их количество увеличилось на 23 %. Ожидается, что к 2020 г. Китай станет страной с наиболее высокой академической мобильностью в Азии.
Таким образом, рассмотренная нами ценностная составля-ющая концепции «человек – основа» является одним из важных компонентов социокультурного потенциала современного Китая. Принципиальным при этом является развитие и самосовершен-ствование человека, что постулируется в качестве традиционной ценности китайской культуры.
Список литературы1. Переломов Л. С. Традиции в политической культуре
Китая // Китай в диалоге цивилизаций: к 70-летию академи-ка М. Л. Титаренко: сб. науч. тр. / под ред. С. Л. Тихвинского. М.: Памятники исторической мысли, 2007. 837 с.
203
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
2. И жэнь вэй бэнь юй Чжунго тэсэ шэхуэйчжуи=Народ – основа и социализм с китайской спецификой / под ред. Чжунго жэньсюэхуэй. Бэйцзин: Дандай Чжунго чубаньшэ, 2009. С. 43.
3. Политические системы и политические культуры Востока / под ред. А. Д. Воскресенского. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 829 с.
4. Гоцзя чжунчан ци кэсюе цзишу фачжань гуйхуа ганяо (2006–2020)=Основные положения национально-го плана по развитию науки и техники на средний и дли-тельный срок 2006–2020 гг. URL: http://www.chinaacc.com/new/63/73/157/2006/9/wa0242691903960022736–0.htm (дата обращения: 08.10.2011).
5. Гоцзя чжунчан ци цзяоюй гайгэ фачжань гуйхуа ганяо (2010–2020 нянь)=Основные положения националь-ного плана по развитию и реформе образования на сред-ний и длительный срок 2010–2020 гг. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010–07/29/content_1667143.htm (дата обращения: 08.10.2011).
6. Каргаполова Е. В. Категории «потенциал социаль-ного развития» и «развитие человеческого потенциала» в современном гуманитарном знании: сопоставительный ана-лиз // Научный потенциал регионов на службу модерниза-ции. 2012. № 1 (2). С. 139–144.
7. Куценко О. Д. Деятельностно-структурный потен-циал трансформационных процессов: к разработке концеп-ции классообразования: дис. … д-ра социол. наук: 22.00.01. Харьков, 2001. 419 с.
8. Заславская Т. И. О социально-трансформацион-ной структуре современного российского общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и со-циальные перспективы. 2000. № 1. С. 15–19.
9. Абрамов В. А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. М.: Восточная книга, 2010. 240 с.
10. Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.
11. Китай занял первое место в мире по числу от-правляющихся ежегодно на учебу за границу граждан. URL: http://www.pkfond.ru/foundation/news/page/3 (дата обраще-ния: 30.01.2014).
204
VI Международная научно-практическая конференция
С. Т. Мирзаханова, аспирант кафедры востоковедения Забайкальского
государственного университета, г. Чита
Трансграничное сотрудничество Дальневосточного региона РФ
и Северо-Восточного региона КНР в стратегиях соразвития
После распада биполярного мира, когда архитектоника меж-дународных отношений характеризовалась противостоянием двух центров сил, большое влияние приобрели процессы формирова-ния региональных, субрегиональных, трансграничных взаимодей-ствий. В XX веке в связи с нарастанием тенденций глобализации, регионализации возникла необходимость разграничивать общие и частные проблемы систем международных отношений и диффе-ренцировать региональный уровень международных отношений как самостоятельный уровень анализа [1, С. 90].
Процесс глобализации идентифицируется через свойство про-странственности, в частности через процесс регионализации. В данных условиях возможность осуществления межкультурных и социально-экономических связей создает условия для развития трансграничных взаимодействий приграничных и трансгранич-ных регионов. «Трансграничность возможна при условии наличия проницаемости пространства, выступает в качестве новой формы глобального социума, включающая границу и характеризующую-ся развитием приграничных территорий и трансграничных про-странств в целом [2, С. 45]. Приграничный регион рассматривает-ся сквозь призму таких характеристик как граница – физическое понятие и приграничный регион – как территория договорных от-ношений.
В настоящее время на политическую авансцену выходят стра-ны, преимущественно азиатские, сумевшие сохранить свою ста-бильность в период распада биполярного мира и формирования новой полицентричной архитектоники международных отноше-ний. Многие аналитики объясняют это национально-цивилиза-ционными особенностями, стратагемным характером мышле-ния, использованием ценностного потенциала для формирования осуществляемой дипломатии. Наиболее яркий пример в данном
205
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
случае демонстрирует Китай. Важное практическое значение для адаптации внешней политики КНР в меняющейся международной обстановке сыграли внешнеполитические заветы Дэн Сяопина [3. С. 16]. Также обращает на себя внимание такой инструментарий внешней политики КНР как «мягкая сила», а также энергетиче-ская, экологическая, публичная дипломатия [4. С. 23]. В своем ис-следовании «Анализ китайской мягкой силы» Мэн Хунхуа рассма-тривает «мягкую силу» КНР как основной инструмент, направлен-ный против «парадокса возвышающейся державы» как основного вектора мирного развития [5. С. 7]. Демонстрирующим очевидные успехи является опыт КНР в осуществлении «политики открыто-сти» и «выхода вовне», в рамках которой реализовывался такой ме-ханизм глобальной стратегии как открытый приграничный реги-онализм. Китайский приграничный регионализм реализуется по-средством диверсификации форм приграничного сотрудничества в рамках политики «реформ и открытости», программы построения «приграничного пояса открытости», региональных программ «ос-воения западных регионов», программ «подъема и процветания старопромышленной базы» северо-восточных регионов КНР [6. С. 70].
Наличие ряда таких проблемных внутренних вопросов как на-рушение прав человека, закрытость китайского общества и высо-кое социальное давление поставили перед Китаем необходимость использования такого понятия как «публичная дипломатия», вы-ступающая как механизм наращивания и поддержания «мягкой силы». Основные задачи публичной дипломатии КНР: формиро-вание имиджа страны, усилия которой в первую очередь направ-лены на улучшение жизни собственных граждан; позиционирова-ние Китая как надежного экономического партнера и стабильного государства, деятельность которого направлена на поддержание мира и гармонии; привлечение внимания к уникальной древней-шей культуре страны [7. С. 23].
Одним из направлений стратегии КНР по обеспечению энерго-ресурсами своей бурно развивающейся промышленности является энергетическая дипломатия КНР. Рост цен на нефть, а также воз-росший спрос на нефть в Китае (с 2003 г. Китай занимает первое место в мире по импорту нефти) повлиял на энергетическую без-
206
VI Международная научно-практическая конференция
опасность во многих странах. Для обеспечения достаточных по-ставок нефти КНР использует ряд мер в рамках политики «выхода во вне», включая изыскание нефтяных ресурсов других стран для удовлетворения своего спроса, принятие на себя обязательств по разработке нефтяных месторождений с использованием китайско-го капитала параллельно с применением передовых иностранных технологий.
В настоящее время с точки зрения расстановки политических сил наиболее перспективными регионами мира являются СВА и АТР. Для ведущих мировых гигантов данные регионы представ-ляют повышенный стратегический интерес. Для России процесс «возвращения» в регион СВА будет представлять весомую стра-тегическую значимость. СВА является мощным фактором эконо-мического роста, потребляющим огромное количество энергоно-сителей и природных ресурсов, а также является перекрестком геополитических интересов многих держав мира. В свою очередь успешное развитие Дальнего Востока будет выступать в качестве необходимого условия для осуществления успешной интегра-ции РФ с СВА. В этой связи важными являются политико-право-вые механизмы, определяющие позицию официальных властей РФ в отношении дальнейших перспектив развития российского Дальнего Востока, механизмов (программ, стратегий), нацелен-ных на достижение определенного уровня развития данного ре-гиона. Актуальными в этой связи являются законопроекты, при-званные регулировать ключевые направления социально-эконо-мического развития Дальнего Востока с тем, чтобы сформировать более привлекательный образ в приграничных и трансграничных пространствах сопредельных стран, создать здесь благоприятную зону для инвестиционной деятельности (как иностранной, так и отечественной), а также необходимую инфраструктуру, позволя-ющую производить продукцию с более высокой добавленной сто-имостью.
Российско-китайское партнерство последовательно трансфор-мируется в конкретную политическую практику, в крупные со-вместные инициативы, нацеленные на гармонизацию процессов трансграничного взаимодействия приграничных регионов двух стран. Это свидетельствует о возможности выработки и реализа-
207
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ции смежных программ, стратегий в контексте межрегионального сотрудничества РФ и КНР. В настоящее время российское прави-тельство осуществляет ряд программ, стратегий, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока, Восточной Сибири, Забайкальского края. Стратегия социально-экономи-ческого развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, осуществляемая под контролем Минрегиона России, Минэкономразвития России и Минфин России совместно с за-интересованными федеральными органами, нацелена на исполь-зование ресурсного потенциала Дальнего Востока с точки зрения его роли для России в глобальной стратегической перспективе. Стратегия нацелена не преодоление инфраструктурной и эконо-мической изоляции региона и использование внешней границы как возможности социально-экономического сотрудничества с приграничными регионами КНР. Федеральная целевая програм-ма «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013года», срок которой продлен постановлени-ем правительства РФ до 2018 года, нацелена на развитие транс-портной и энергетической инфраструктуры территории Дальнего Востока.
Начиная с XVI съезда ЦК КПК руководством КНР был сформирован ряд стратегий, программ, нацеленных на развитие Северо-Восточного региона, среди них: «Стратегия возрождения старопромышленных баз Северо-Востока Китая», «План возрож-дения старых промышленных баз северо-восточных провинций», «План возрождения Северо-Восточного Китая», «План разви-тия пояса приграничной открытости». Приграничное положение Северо-Восточного региона определяет необходимость повыше-ния уровня культуры отсталых окраинных районов для развития отношений с соседями, а также для осуществления всекитайской программы создания приграничного культурного региона, глав-ными целями которого является пропаганда культуры, развитие торгово-экономической деятельности, туризма, а также укрепле-ние национальной обороны [8, С. 106]. Инновационным проектом, осуществляемым китайским правительством, является «План раз-вития туризма в Северо-Восточном регионе». Северо-Восточный
208
VI Международная научно-практическая конференция
регион обладает богатым потенциалом для развития туризма (оче-видны преимущества местоположения), является важным транс-портным коридором, соединяющим Северо-Восточную Азию и Европу.
Выработка программ, направленных на развитие северо-вос-точных провинций КНР свидетельствует об определенной пози-ции китайского руководства в вопросе необходимости развития приграничных регионов с тем, чтобы создать условия для успеш-ного взаимодействия с приграничными регионами РФ, демонстри-рует готовность и способность включить эти регионы в процесс активного трансграничного сотрудничества с регионами РФ и СВА. Дальневосточный регион РФ также является объектом осу-ществления национальных программ, нацеленных на наращивание темпов социально-экономического развития. Российское руковод-ство испытывает необходимость создания определенных условий (инфраструктура, привлекательный инвестиционный климат) для участия этого региона в процессах трансграничного взаимодей-ствия с регионами КНР и интеграции с СВА. Таким образом, вну-тренние программные документы, предполагающие повышение роли данных регионов в обозримой стратегической перспективе, создают необходимую политическую основу для осуществления совместных стратегий развития указанных приграничных регио-нов в контексте их соразвития.
В этой связи необходим тщательный анализ китайских про-грамм и стратегий, направленных на развитие внутренних регио-нов, для того, чтобы иметь возможность вести, своего рода, мони-торинг и вырабатывать соответствующие механизмы и инструмен-ты развития проблемных регионов российского Дальнего Востока. Это, в определенной мере, нашло свое выражение в «Программе сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009–2018 гг.». Политико-правовым основанием осуществления данной программы выступают ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», «Программа по возрождению районов Северо-Востока Китая», пункт 8 раздела I Совместной Декларации
209
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
РФ и КНР от 26 марта 2007 г., а также План действий по реализа-ции Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Несмотря на двусторонний характер осуществления «Программы», по мнению многих экспертов, она не способна в полной мере решить существующую проблему ассиметрии, суще-ствующую в приграничных территориях РФ и КНР. Однако, увели-чение объемов товарооборота с КНР, экспорт ресурсов, предостав-ление рынка сбыта для китайской продукции – все это необходи-мость, продиктованная стремление РФ активно интегрироваться со странами СВА и «возвращением» в АТР. Необходим тщательный учет «китайского фактора» в контексте развития трансграничного сотрудничества с приграничными территориями стран СВА и АТР.
Россия и Китая, обладая общностью глобальных и региональ-ных интересов, способны совместно вырабатывать стратегии, про-граммы соразвития регионов с тем, чтобы осуществлять синхрон-ные меры по развитию тех регионов, которые находятся условно в равном положении, в одинаковой степени нуждаются во внимании и сбалансированной региональной политики из центра, а также могут развиваться сообща на основе принципа «взаимодополня-емости».
Список литературы1. Салицкий А. И. , Таций В. В. Зарождение биполяр-
ности или солидерство? // Восток (Oriens). 2012. № 3. С. 90.2. Кучинская Т. Н. Социокультурное пространство
трансграничья как ресурс соразвития России и Китая (ре-гиональные практики Забайкальского края РФ и Северо-Восточного региона КНР). М.: Восточная книга, 2012. 232 с.
3. Портяков В. Я. Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная интерпретация // ПДВ. 2012. № 5. С. 16.
4. Кривохиж С. В. Публичная дипломатия Китая: за-щита или нападение? // ПДВ. 2013. № 5. С. 23.
5. Мэнь Хунхуа. Жуаньшили пингу баогао=Доклад об оценке мягкой силы // Гоцзи гуаньчха. 2009. № 2.
6. Кучинская Т. Н. Социокультурное пространство трансграничья как ресурс соразвития России и Китая (ре-гиональные практики Забайкальского края РФ и Северо-Восточного региона КНР). М.: Восточная книга, 2012. 232 с.
210
VI Международная научно-практическая конференция
7. Кривохиж С. В. Публичная дипломатия Китая: за-щита или нападение? // ПДВ. 2013. № 5. С. 25.
8. Кучинская Т. Н. Социокультурное пространство трансграничья как ресурс соразвития России и Китая (ре-гиональные практики Забайкальского края РФ и Северо-Восточного региона КНР). М.: Восточная книга, 2012. 232 с.
А. Д. Пивоваров, аспирант кафедры востоковедения Забайкальского
государственного университета, г. Чита
Развитие Северо-Восточного региона КНР: вызовы и возможности для России
Бурное развитие Северо-Восточного региона КНР обуславли-вает растущее к нему внимание в теоретическом и практическом смыслах. Его будущее связывается с созданием конкурентной в международном масштабе базы по производству оборудования, а так же ведущей национальной базы технологического развития и инноваций, обеспечения новыми материалами и электроэнер гией; ведущей национальной базы зерновой, сельскохозяй ственной и животноводческой продукции; стратегической областью нацио-нальной экологической безопасности. По сути, ставится цель его преобразования в регион сбалан сированного роста с развитыми рыночными институтами, рациональной отраслевой структурой, устойчивым развити ем территорий ресурсной направленности, гармоничными социальными условиями. Ключевые направления и инвестиционные проекты для решения этих задач заключаются в следующем.
Во-первых, реструктури зация тяжелой промышленно сти для создания конкурентной базы для произ водства обору дования: нефтеперерабатываю щих заводов и производства этилена, хими-ческой переработ ки угля, крупного металлургического оборудова-ния, энергетического оборудование высокой мощности, оборудо-вания сверхвысокого напряжения для пере дачи и трансформации энергии, крупнотоннажных судов, железнодорожных перевозок, станков и производственных систем с цифровым оборудованием.
211
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Далее следует ускорение раз вития высоко технологичной промышлен ности: построение высокотехнологичных промыш-ленных цепочек, образование ведущих отраслей и индустри-альных кластеров с конкурентоспособным ядром с приоритетами в промышленности информационных технологий и программ-ных средств, биологической промышленности, промышленности новых материалов (химические вещества тонкого органического синтеза, порошковая металлургия, нанометаллические материалы и т. д.), авиастроение.
В-третьих, оптимизация размещения энергетическо го про-изводства и структуры потребления. Ключевыми факторами раз-вития должны стать энергосбережение, разработка экологически благо приятных технологий и диверсификация энергопро изводства и энергопотребления, создание угольно-химических энергетиче-ских баз и новых центров угледобычи, расширение производства сырой нефти и газа, уси ление геологоразведочных работ на нефть, увеличение разработки нефтяного сланца в провинции Цзилинь.
В настоящее время в Китае насчитывается более 130 зон осво-ения новых и высоких технологий, среди них 53 – государствен-ного назначения. 10 объявлены открытыми для ино странных пар-тнеров из стран АСЕАН. Создание таких зон стало толчком для появления так называемого списка целей под названием «Смысл благосостояния», где подробно сформулированы задачи, которые Китай планирует достичь в ближайшее время[1. С. 102].
Рост экономики Северо-Восточного региона Китая, реализа-ция инновационных проектов, являющихся локомотивом рыноч-ных преобразований, объективно обуславливают вполне реальные социально-экономические проблемы и даже угрозы, которые нель-зя не учитывать российской стороне [2].
Реальной угрозой является вероятность установления кон-троля над Дальневосточным и Сибирским бизнесом и недвижи-мостью. При этом, наибольшую опасность представляет контроль не над крупными объектами и предприятиями, что легко контро-лировать, а над мельчайшим, мелким и средним бизнесом; приоб-ретение «малыми порциями», как правило, через подставных лиц жилой и коммерческой недвижимости, земельных участков. При
212
VI Международная научно-практическая конференция
этом опасность заключается в том, что вслед за финансовыми по-токами последуют потоки людские, но так как они будут привя-заны к реальной собственности и реальному бизнесу, их влияние на экономическую и социально-культурную ситуацию в россий-ских регионах будет возрастать пропорционально доле китай-ского бизнеса в общем экономическом обороте и даже быстрее, учитывая чрезвычайную деловую агрессивность, трудолюбие и целеустремленность китайцев, что делает их чрезмерно сильными конкурентами отечественным предпринимателям и в целом насе-лению. Особая опасность при этом связана с тем, что вероятные экономические мигранты из Китая – это выходцы из северо-вос-точных провинций, значительно уступающих южным и примор-ским провинциям Китая с точки зрения образовательного ценза, уровня культуры, этических норм, поведения в быту и т. д. Это может радикально изменить как сам бизнес, так и в целом социум Сибирского и Дальневосточного регионов, сделав их более при-митивными, соответственно резко ослабив потенциал адаптации в быстро меняющейся экономической и технологической обста-новке, принципиально осложнив конкурентоспособность на всех рынках, кроме китайского.
Не менее явной является угроза трансформации экономики Сибири и Дальнего Востока в сегмент общекитайского рынка, а точнее, превращение экономики этих регионов в сырьевую базу и транспортно-логистический центр по снабжению китайской промышленности сырьем, транспортной переброске китайской продукции на другие территориальные рынки и одновременно в рынок сбыта продукции китайской перерабатывающей промыш-ленности. При этом каких-либо кооперационных выгод, например, получение гарантированных китайских заказов для обрабаты-вающей промышленности самих российских регионов, не будет. Вероятность такого развития событий велика, так как внешний спрос является и для промышленности, и для транспорта Сибири и Дальнего Востока критически важным условием роста, а экономи-ческие аннексии сравнительно слабых приграничных территорий, создают объективную основу для все большего смещения этого внешнего спроса по направлению Китая. Отсутствие контригры,
213
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
выраженной в акцентированной экономической политике России на Дальнем Востоке, вполне может привести к созданию подобной ситуации «по умолчанию».
В-третьих, в случае, если экономическая концепция Китая, предусматривающая использование накопленных резервов и всего имеющегося потенциала китайской экономики для реставрации в послекризисный период глобальных экономических взаимосвязей по типу докризисной мировой экономики, окажется успешной и будет реализована, восстановивший экономический рост Китай вполне способен через определенное время поглотить существен-ную часть мировых сырьевых ресурсов. В этом смысле Сибирь и Дальний Восток как сырьевая провинция Северо-Восточной Азии, вполне вероятно, могут трансформироваться в сырьевую провин-цию Китая по тем компонентам запасов сырья, по которым Китай испытывает напряженность при формировании своих натураль-ных балансов. В таком случае сохранение докризисной модели глобальных торговых и финансовых перетоков означает дальней-шее увеличение финансового потенциала Китая, что облегчит ему задачу экономической аннексии (в форме концессий, приобрете-ния активов, прямых инвестиций, долговременных соглашений) на сырьевых рынках.
У России есть определенные возможности противодей-ствовать подобному сценарию. Россия сохранится как заметный игрок на сырьевых рынках мира, что будет означать аккумуляцию Россией в среднесрочном периоде существенных финансовых ре-сурсов. Это может быть использовано для активизации собствен-ной политики противодействия китайскому экспансионизму на сырьевых рынках. Однако подобная угроза реальна, и ее устране-ние требует эффективных, быстрых решений.
Очень сложной задачей является парирование угрозы длитель-ной консервации отсталой экономической структуры Сибири и Дальнего Востока на фоне быстрого экономического роста Китая, увеличение спроса со стороны которого на сырьевые ресурсы будет провоцировать перераспределение ресурсов накопления в Сибири и на Дальнем Востоке и в России в целом в сырьевые сектора. Это при-ведет к дрейфу экономической структуры в сторону сравнительно
214
VI Международная научно-практическая конференция
примитивных добывающих секторов при нехватке ресурсов для об-лагораживания структуры. Парировать эту угрозу, полагаясь только на рыночные механизмы регулирования, скорее всего, окажется не-возможным, так как фактор минимизации упущенной выгоды будет объективно препятствовать блокированию перераспределения ре-сурсов накопления в пользу добывающих отраслей. Следовательно, нивелировать угрозу возможно только в рамках целенаправленной государственной экономической политики.
Еще одним фактором является активно реализуемая, фи-нансируемая и жестко контролируемая китайским государством программа развития северо-восточных провинций Китая, что уже привело к ощутимому росту экономики трех сопредельных с Россией провинций КНР [3]. Экономика российских Сибири и Дальнего Востока не демонстрировала столь же высокие темпы роста, многие области и районы были вынуждены строить свои взаимоотношения с сопредельными территориями КНР, руковод-ствуясь не общегосударственными принципами, а интересами собственного экономического выживания. В результате регио-ны Сибири и Дальнего Востока не столько выступают в качестве представителей государства, проводя единую экономическую по-литику, сколько конкурируют между собой в получении выгод от взаимоотношений с сопредельными китайскими провинциями. Фактическое следование приграничных субъектов РФ китайской региональной экономической политике создает потенциальную угрозу либо институционального отторжения приграничных ре-гионов России, либо формирования на их территории принципи-ально противоречивой институциональной среды – смешанного институционального режима (официального российского и факти-ческого китайского), что, в конечном счете, способно разрушить экономику этих регионов.
Кроме того, Китай становится серьезным конкурентом России в сфере транзитных грузовых перевозок. Возникли объективные предпосылки для переориентации на китайские транспортные коридоры части товарных потоков из Восточной Азии в Европу. Это стимулируется также расширением Китаем своей транспорт-ной сети, соединением железнодорожных маршрутов северо-вос-
215
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
точного Китая с транспортными системами бывших среднеазиат-ских республик. В то же время высокие тарифы на перевозки по Транссибу, низкое качество предоставляемых транспортных услуг в России снижают потенциальную конкурентоспособность ОАО «РЖД» [4].
Экономическая стратегия Китая за три десятилетия рыноч ных реформ и открытости кардинально преобразовала страну. Создан огромный потенциал дальнейшего долговременного раз вития. Превращение Китая в одну из самых мощных экономик мира су-щественно меняет всю архитектуру мировых экономиче ских и по-литических отношений. Эти тенденции привлекают са мый живой интерес к дальнейшим перспективам Китая и должны стать ориен-тиром для стран, которые развиваются по параллельному экономи-ческому пути и в первую очередь для России, которая является его бли жайшим соседом и стратегическим партнером [5, С.16].
Список литературы1. НикифороваТ. В. Научно-исследовательская дея-
тельность иностран ных ТНК в Китае: особенности государ-ственного регулирования // Ин новации. 2008. № 7.
2. Минакир П. А. Россия – Китай на Дальнем Востоке: неожиданная угроза или грозные ожидания // Диалог куль-тур и партнерство цивилизаций: материалы 9-х между-нар. науч. Лихачевских чтений (14–15 мая 2009 г). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный универ-ситет профсоюзов, 2009. С. 99.
3. План возрождения Северо-Восточного Китая // Пространственная экономика. 2009. № 1. С. 140–158.
4. Минакир П. А. Тихоокеанская Россия: вызо-вы и возможности экономической кооперации с Северо-Восточной Азией // Пространственная экономика. 2005. № 4. С. 5–20.
5. Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. Москва: ИД «Форум», 2009. 560 с.
216
VI Международная научно-практическая конференция
К. А. Петрунько, востоковед-африканист, магистр экономики,
аспирант Института Дальнего Востока РАН, г. Москва инженер института автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток
Планы руководства КНР по созданию нового поколения автомобилей,
использующих альтернативные источники энергии
В 2011 году потребление нефти в Китае составило 461,8 млн тонн [1], из которых более 160 млн тонн расходовалось на содер-жание автомобильного парка легковых автомобилей страны, пре-высившего в начале 2012 года впервые в своей истории 100 млн единиц [2]. В результате резкого роста объемов производства авто-мобилей в КНР к 2015–2020 годам их парк превысит 200 млн ав-томобилей, что неизбежно создаст угрозу энергетической безопас-ности страны и приведет к катастрофической зависимости Китая от импорта нефти [3]. Согласно прогнозам экспертов, в 2020 году Китай уже не сможет развивать свою экономику и, в частности, от-ечественное автомобилестроение без привозных энергоресурсов и будет импортировать примерно до 70 % необходимой ему нефти, а общий объем энергопотребления страны в 2020 году вырастет на 40 % по сравнению с 2012 годом [4].
Согласно докладу специалистов Народного университета (Пекин), в 2012 году качество воздушной среды 90 % крупней-ших городов КНР не соответствовало экологическим стандартам. Источником 80 % загрязнения являлись антропогенные выбросы в атмосферу автотранспорта (мелкодисперсные частицы, соединения углерода, свинца, фтора, серы и азота размерами 0,1–10 микрон), развитие которого в дальнейшем может лишь обострить экологиче-скую ситуацию в стране и воспрепятствовать планам руководства КНР снизить к 2020 году объем выбросов соединений углерода на 45 % по сравнению с 2005 годом [5]. Китай поставил цель к 2020 году в структуре энергопотребления добиться 15%-й доли исполь-зования возобновляемых источников энергии, практически исклю-чающих вероятность загрязнения окружающей среды [6].
217
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Несмотря на то, что в настоящее время Китай превратился в крупнейшего мирового производителя и потребителя легковых ав-томобилей, однако в области разработки машин с традиционными двигателями (бензиновым и дизельным) китайские автомобильные компании в течение ближайших 10 лет не смогут догнать ведущих мировых производителей и занять значительный сегмент мирово-го рынка продаж этих автомобилей. Поэтому основной упор дела-ется на развитие новых для автомобилестроения инновационных технологий – разработку электромобилей и машин с гибридным двигателем. По мнению специалистов, наличие емкого внутрен-него и внешнего рынков, государственная поддержка стратегии инновационного прорыва в отечественном автомобилестроении, значительные финансовые ресурсы, направляемые на инноваци-онные разработки, позволит китайским компаниям осуществлять крупносерийный выпуск таких автомобилей с высокой долей до-бавочной стоимости.
Осознавая глобальные негативные последствия, связанные с продолжением политики развития традиционной автомобильной промышленности, основанной на применении двигателей вну-треннего сгорания, Госсовет КНР в 2011 году одобрил «Программу развития автомобилестроения на основе энергосбережения и но-вой энергетики (2011–2020 годы)» [7, C. 28], которая была детали-зирована постановлением Госсовета КНР от 18 апреля 2012 года «О плане развития производства энергосберегающих автомобилей на период 2012–2020 годов» [8]. За прошедшее десятилетие Китай уже вложил 2 млрд юаней (300 млн долларов США) в разработку энергосберегающих автомобилей, было получено более 500 патен-тов на новейшие изобретения [9]. Согласно новой Программе, ру-ководство страны приняло решение об инвестировании в течение ближайших 10 лет более 100 млрд юаней (15 млрд долларов США) в развитие производства автомобилей, использующих новые виды энергии, из которых 50 млрд юаней будет направлено на НИОКР, 20 млрд – совершенствование технологий и 30 млрд – рекламу и продвижение новинок. Более 15 млрд юаней будет направлено на создание соответствующей инфраструктуры электрозарядных станций [10].
218
VI Международная научно-практическая конференция
В «Программе 2011–2020» ясно определены основные направ-ления приоритетного развития рынка автомобилей, использующих альтернативные источники энергии. Программа беспрецедентна по своим рыночным перспективам и амбициозности: разработать и внедрить в массовое производство линейку китайских автомо-билей, конкурирующих с обычными автомобилями и по цене. Совершенствование технологий и налоговые льготы производите-лям ГА и ЭМ сможет сделать эти автомобили дешевле обычных автомобилей с бензиновым двигателем. С 2011 года правительство КНР приступило к льготному финансированию производства но-вых автомобилей, использующих альтернативные источники энер-гии – финансовые дотации предоставляются не покупателям, а непосредственно национальным автомобильным производителям, которые затем продадут новые энергосберегающие автомобили на-селению и организациям по льготным ценам.
Правительство зарезервировало право снижать размеры дота-ций автомобильным производителям после того, как объем продаж новых моделей превысит 50 тыс. единиц. Определено, что поку-патели ЭМ будут полностью освобождаться от налога с продаж, а покупатели ГА – платить лишь половину, и те и другие не будут платить дорожные сборы и будут освобождаться от оплаты муни-ципальных парковок. Программа предусматривает предоставле-ние финансовой помощи непосредственно и гражданам: каждый покупатель традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом от 1,6 литра и меньше получает скидку в размере 3,000 юаней (439 долларов США) [11]. В декабре 2011 года премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао подписал указ Госсовета КНР № 611 – «Положение по реализации Закона о налогообложе-нии транспортных средств», согласно которому народные админи-страции провинций, автономных районов, городов центрального подчинения с 1 января 2012 года освободили от уплаты транспорт-ного налога транспортные средства, использующие энергосбере-гающие технологии или альтернативные источники энергии [12]. 15 января 2013 года Госсовет КНР совместно с ГКРР объявили о введении новой системы субсидирования покупки автомобилей, использующие альтернативные источники питания, которая будет
219
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
состоять из 16 уровней поддержки в зависимости от того объема энергии, которое транспортное средство сможет сэкономить [13]. Правительство КНР рассчитывает, что эти меры позволят к 2015 году сократить потребление бензина обычным легковым автомо-билем на 100 км пробега до 6,9 литров [14], а к 2020 году – до 4,5 литров [15].
То обстоятельство, что объем производства литий-ионных ак-кумуляторных батарей в Китае составляет более 20 % общемиро-вого, их технологии и качество не уступают западным, становится благоприятным фактором для страны в стремлении переориен-тировать свой автомобильный рынок с традиционных машин на энергосберегающие. 22 января 2013 года Госсовет КНР в своем по-становлении «О проведении политики укрупнения и дальнейшего развития девяти ключевых отраслей промышленности КНР» опре-делил, что к 2015 году 90 % национального объема производства литий-ионных аккумуляторных батарей будет сконцентрировано на предприятиях 10 ведущих китайских производителей [16].
В Программе «2011–2020» определена «дорожная карта» бу-дущего технологического совершенствования ЭМ, с тем, чтобы их параметры превосходили лучшие мировые образцы. Одна из та-ких моделей – электромобиль А380, который является совместной разработкой американской компании ZAP и китайской Zhejiang Jonway Automobile Co. Модель представляет собой пятиместный седан, способный проехать без перезарядки 300 км со скоростью более 110 км/час [17], а стоимость электромобиля составляет око-ло 25 тыс. долларов США [18]. С февраля 2013 года на улицах Шанхая приняты в эксплуатацию первые 200 городских автобусов, работающие на электрической тяге. Новый автобус с полной за-грузкой и работающим кондиционером способен работать 10 ча-сов и проехать без дополнительной зарядки более 150 км [19].
Реализация одобренной Госсоветом КНР «Программы раз-вития автомобилестроения на основе энергосбережения и новой энергетики (2011–2020)» позволит отрасли перейти от стадии ла-бораторных исследований и разработок к полномасштабному про-изводству принципиально нового вида автомобилей, обеспечить стране стабильный экономический рост, стимулировать инноваци-
220
VI Международная научно-практическая конференция
онный прорыв в смежных отраслях, решение проблем загрязнения окружающей среды и занятости. По данным КААП, с января по август 2012 года в КНР было продано 6019 автомобилей, работаю-щих на альтернативных источниках энергии, из них 2661 – ЭМ и 3358 – ГА [20]. Стремительный рост традиционного автомобиль-ного рынка в Китае приводит к увеличению спроса на энергоноси-тели. Именно ГА и ЭМ позволят стране удовлетворить внутренний спрос, не попадая в зависимость от импорта нефти, и обеспечить занять значительный сегмент мирового рынка нового поколения автомобилей, использующие альтернативные источники энергии, с высокой добавленной стоимостью.
Список литературы1. В 2012 году объем сырой нефти CNPC в Китае
достиг 110 млн тонн. URL: http://russian.people.com.cn/31518/8087668.html (дата обращения: 30.01.2014).
2. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/business/txt/2012–11/06/con-tent_317297.htm (дата обращения: 30.01.2014).
3. Аналитический обзор: китайский импорт сырой нефти превысил 270 млн тонн, Китай остро нуждается в противодействии росту цен на нефть. URL: http://rus-sian.people.com.cn/31518/8088853.html (дата обращения: 30.01.2014).
4. Сhina’s Energy and Environment Challenges // The China Business Review. 2012. Vol. 39. P. 37.
5. Interior pollution problem in mass-market car brands. URL: http://english.peopledaily.com.cn/90882/8200777.html (дата обращения: 30.01.2014).
6. Академик о загрязненном воздухе: нельзя разви-ваться в ущерб экологии. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013–02/01/content_2785 9455_2.htm (дата об-ращения: 30.01.2014).
7. Lan Xinzhen. Keeping It Green. China gives more gen-erous incentives to energy-saving and new-energy vehicles // Beijing Review. 2012. May 3.
8. Lan Xinzhen. Let the TVs Roll. China’s electric vehicle sector needs to slow down and embrace safe, stable develop-ment instead of rapid growth and dubious standards // Beijing Review. 2012. July 5.
221
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
9. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/business/txt/2012–11/06/con-tent_317297.htm (дата обращения: 30.01.2014).
10. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/quotes/txt/2011–02/14/content_331522.htm (дата обращения: 30.01.2014).
11. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/business/txt/2010–06/11/con-tent_278837.htm (дата обращения: 30.01.2014).
12. China to extend subsidies for new energy cars. URL: http://www.china.org.cn/business/2013–03/13/con-tent_28225462.htm (дата обращения: 30.01.2014).
13. New-energy cars see new subsidies. URL: http://eng-lish.peopledaily.com.cn/90778/8168315.html (дата обраще-ния: 30.01.2014).
14. Han Tianyang (China Daily). Govt rolls out new fu-el-saving regulations. URL: http://english.peopledaily.com.cn/90778/8198718.html (дата обращения: 30.01.2014).
15. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/business/txt/2012–11/06/con-tent_317297.htm (дата обращения: 30.01.2014).
16. Lan Xinzhen. Fostering Mega-Sized Industries. The government plans to reorganize nine key industries, but what role should the market play? URL: http://www.bjreview.com.cn/print/txt/2013–02/17/content_518005_2.htm (дата обращения: 30.01.2014).
17. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/print/txt/2013–02/05/content_245688.htm (дата обращения: 30.01.2014).
18. All want slice of China’s new-energy car market. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2012–04/24/con-tent_15130289.htm (дата обращения: 30.01.2014).
19. China’s National English News Weekly. URL: http://www.bjreview.com.cn/quotes/txt/201310/11/con-tent_302976_2.htm (дата обращения: 30.01.2014).
20. Riding on a Green Dream. URL: http://www.bjreview.com.cn/business/txt/2012–10/29/content_494056_2.htm (дата обращения: 30.01.2014).
222
VI Международная научно-практическая конференция
Е. В. Соболева, аспирант кафедры философии Забайкальского
государственного университета, г. Чита
Культура Китая в системе базовых ценностей (на примере киноискусства)
В современных условиях культура как «алгоритм» культурной практики уже не является узко локальным явлением, имеющим пространственную определенность. Культурные индустрии начи-нают влиять на общую организацию мировой экономики, полити-ки, других сфер жизнедеятельности. Высокоразвитые государства оказываются способными экспортировать не только товары, но и свой образ жизни, культуру, интеллектуальные продукты, тем са-мым, оказывая влияние на процессы, происходящие в других стра-нах [1].
Термин «культура» представляется как опыт определенных совокупностей людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в различных условиях. Однако, применительно к китайской циви-лизации, возникает вопрос о культуре, раскрывающей специфику жизнедеятельности и ценностное отношение людей внутри терри-тории [2].
Искусство кино есть неотъемлемый компонент культуры, оно непосредственно взаимодействует со всеми сферами жизни обще-ства. Причем это взаимодействие отражает действительность, ведь киноискусство, с одной стороны, испытывает влияние каждой из форм общественного сознания, обогащается их специфическим содержанием, не теряя при этом своей специфики как художе-ственно-образного отражения жизни; с другой стороны, оно само активно воздействует, так или иначе, влияет на общественное со-знание. Киноискусство как компонент культуры отражает на экра-не человеческую жизнь и показывает сложный мир человеческих взаимоотношений.
Философская картина мира Китая и его мировоззренческие принципы видны через любое искусство, в том числе и через ки-ноискусство. Культура вливается в творческую практику художни-ка-сценариста кино через мировоззрение, мироощущение и, тем самым, влияет на характер творчества, выбор проблематики.
223
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Проследить влияние культуры в системе базовых ценностей и ее отражение на киноискусство легче всего, конечно же, на при-мере художественных кинопроизведений. В киноискусстве куль-турное содержание произведения обнаруживает себя не столь явно и требует от воспринимающего определенной художественной и мыслительной культуры, так как преломляется через специфику данного вида искусства. Современное кино Китая все более ха-рактеризуется повышением роли интеллектуального начала, ис-пользует смелые и неожиданные ассоциации, требует от зрителя умения эти ассоциации уловить.
Исследователь Г. Хофстеде классифицирует культуру по та-ким оппозициям как коллективизм/индивидуализм; высокий/низ-кий уровни избегания неопределенностей; дистанция между на-селением и властью. По этой шкале китайскую культуру следует относить к коллективистской (предпочтения взаимозависимости и служения друг другу), с высоким уровнем избегания неопре-деленностей (обязательное исполнение предписанных правил) и большой дистанцией власти (склонность к авторитаризму, допу-стимость подавления инакомыслия силой). В киноискусстве осо-бое значение уделяется коллективному началу, иерархии власти, взаимозависимости. Коллективистский тип культуры отражает фундаментальные базовые ценности китайца, где господствует приоритет интересов группы над личными интересами. Многие кинематографические персонажи берут начало в коллективном ге-рое, представлявшем, образ народных масс.
В проекте Шварца – три ключевые проблемы: личность и группа («автономия» или «принадлежность»); способ обеспечения социально ответственного поведения («равноправие» или «иерар-хия»); отношение индивида к природному и социальному окруже-нию («гармония» или «мастерство», т. е. стремление к самовыра-жению, к успеху, личным достижениям). Китайская культура по этой шкале входит в группы «принадлежности», «иерархичности» и «гармонии». Эти особенности культуры Китая также можно ус-мотреть в их отечественных кинолентах. Этим принципам в жизни общества всегда уделяется большое внимание, кино также обязано популяризировать эти ключевые проблемы. Ведущей тонально-
224
VI Международная научно-практическая конференция
стью художественного героя, начиная с фильмов, создававшихся еще до провозглашения КНР, был социальный оптимизм. Истоки его лежат, разумеется, вне пределов самого киноискусства – в об-щем настрое страны [3].
Китайская культура исторически сложилась как социорегуля-тивная ситема с сильной институциональной структурой, норма-тивирующей жизнь индивидов. Кодекс норм представлял собой набор социальных моделей, внутренняя ориентация на которые являлась обязательной для так называемого благородного мужа (цзюнь-цзы) [4].
Существовал определенный набор штампов, которые жестко и однозначно были связаны с социально-политическим, этическим содержанием. У нормативности – два основных истока. Дальние, генетические корни ее лежат в средневековой схоластической тра-диции, более близкие, политические – в вульгаризаторской эсте-тике, вытекающей из основных положений Яньаньских выступле-ний Мао Цзэдуна 1942 года. Нормативность стала одной из самых трудных преград на пути появления в китайском кино живых, полнокровных человеческих образов. Она парализует мышление творческих работников [5].
Показ человека в совокупности общественных связей – одна из важных функций искусства. Как сам человек немыслим в ином контексте действительности, так и его художественный образ, даже погружаясь в сугубо личные, интимные переживания, не в силах полностью оторваться от своей социальной основы. Проблема за-ключается не в «наличии» или «отсутствии» на экране «человека общественного», а в умении точно рассчитать пропорции обще-ственного и личного, соотнести индивида и массу, показать вну-тренний мир героя не как педантично воспроизведенный микро-косм общества, а как отражение социальных проблем, пропущен-ных сквозь личное, конкретное.
Локус контроля, определяющий характер своего поведения и отношений с окружающими как внешний или внутренний по отношению к себе, для китайской ментальности можно считать внешним. Китайцы воспринимают происходящие с ними собы-тия и характер отношений с другими людьми как результат воз-действия внешних по отношению к ним и не контролируемых ими
225
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
факторов. Оценку собственным действиям они склонны давать не «изнутри», а «извне», как бы глазами других людей, прежде все-го членов «своей» группы. Для китайской ментальности все ком-поненты системы ценностей находятся в тесной связи с группой. Источник добра локализуется в «своей» группе, источник зла – в «чужой». Как было сказано выше, оптимизм – одна из личностных черт китайца, и потому вероятность победы добра занимает в ки-тайской ментальности достаточно высокое место. Психологически любопытное исключение составляет категория рыцарей-одиночек в средневековых романах и современных боевиках кунфу. Обычно это персонажи, которые в своем личном прошлом входили в ка-кую-либо группу, но по тем или иным причинам покинули ее во имя личной борьбы с социальным «злом» за «справедливость». Они внесистемны, но по-прежнему социальны в своей ментально-сти. Таков, например, заглавный персонаж фильма «Герой», поки-нувший группу во имя борьбы с «системой», персонифицирован-ной для него в образе императора Цинь Шихуана. Интересно, что финальная победа героя, которую можно считать победой добра над злом, – виртуальна: как «индивид» он погибает, но как суб-стантивированная «идея» одерживает верх над императором, кото-рого заставил изменить свои взгляды и на систему, частью которой он является, и на войну, которую считал основным способом раз-решения межгрупповых конфликтов [6].
Таким образом, система ценностей китайской культуры, так или иначе, отражается в киноискусстве Китая. В массиве китай-ской культуры выбраны несколько структурообразующих аспек-тов, соотнесенных к киноискусству. Это помогает прикоснуться к особенностям китайской ментальности.
Изображение идеи и изображение действительности всегда противостояли друг другу на всем протяжении китайского искус-ства, и реальность чаще уступала идее. Художественное произведе-ние выражало не столько видение мира, сколько его сложную куль-туру, понимание ее сквозь призму мировоззренческих категорий.
Подводя итог, хочется сказать, что китайское кино, как и ки-ноискусство любой другой нации, является окном в мир культуры народа. Культура кино Китая отражает особенности этой древней-шей цивилизации.
226
VI Международная научно-практическая конференция
Китай традиционно рассматривал искусство как воспитатель-ный процесс, а воспитание – это пропаганда идеальных образцов, требующих подражания. Откровенное нравоучение, пришедшее из конфуцианской культуры, в фильмах обретало достаточную уверенность [7].
Одним из значимых вопросов, волнующих сегодня китайскую общественность, является определение того, что же собственно представляет собою китайская культура. Существует ли, несмотря на многотысячелетнюю традицию ее развития, какие-либо универ-сальные, исторически выработанные подходы, позволяющие адек-ватно интерпретировать богатейшее культурное наследие нации? Отражают ли многочисленные современные модифицированные символы суть китайской традиционной духовной культуры, или они все более приводят к искажению ее восприятия массовым общественным сознанием цивилизационно отличных народов? Насколько сам китайский народ сохранил в своей генетической памяти метафизику своеобразной традиции? Или процессы глоба-лизации, изменившие не только экономическую систему, матери-альный аспект культуры – ландшафт, архитектуру, кухню, костюм и пр., повлиявшие на семью, обычаи, ценности, являются необ-ратимыми и традиционный концепт «единение без унификации» все более тяготеет к унифицированному единству? На эти вопро-сы пока нельзя дать однозначный ответ. Ведь китайская культура, реализующая стратегию укрепления своей нации, много внимания уделяет сохранению своего культурного наследия. Трансляция культурных ценностей посредством отечественного киноискус-ства позволяет говорить о пути сохранения традиционной культу-ры, на который встал Китай [8].
Список литературы1. Янь Шуфан. Механизмы функционирования кре-
ативных индустрий в культурном пространстве КНР // Культурное пространство Северо-Восточной Азии: матери-алы международного симпозиума. Чита, 2011. 345 с.
2. Сорокин В. Ф. Китайская культура 20–40-х годов и современность / под ред. В. Ф. Сорокина, Л. Г. Губарева. М.: Наука, 1993. 262 с.
227
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
3. Торопцев С. А. Очерк истории китайского кино. М., 1979. 140 с.
4. Боревская Н. Е. , Торопцев С. А. Китайская культура во времени и пространстве. М.: ИД «ФОРУМ», 2012. 450 с.
5. Торопцев С. А. Китайское кино в социальном поле 1949–1992. М.: Наука, 1993. 194 с.
6. Боревская Н. Е. , Торопцев С. А. Китайская культура во времени и пространстве. М.: ИД «ФОРУМ», 2012. 450 с.
7. Ван Цзянь. Духовные ценности и культурные тради-ции в живописи Китая // Культурное пространство Северо-Восточной Азии: материалы международного симпозиума. Чита, 2011. 345 с.
8. Абрамова Н. А. Культурные традиции как инно-вационный ресурс современной китайской культуры // Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регио-нализации и глобализации: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (28 февраля 2012 г.). Чита: ЗабГУ, 2012. 220 с.
Ю. Н. Соломеина, аспирант кафедры философии Забайкальского
государственного университета, г. Чита
Взаимодействие культур в условиях приграничья Забайкальского края и северо-востока Китая
Исторически межкультурные взаимодействия являются одним из результатов миграционных процессов, которые в современное время становятся показательным фактором глобализации, опреде-ляющей не только новые рынки труда, но и выстраивающуюся си-стему межкультурных отношений. В данном контексте это, прежде всего, касается этнического взаимодействия, порождающего про-блему культурного взаимодействия этносов, традиционно прожи-вающих на территории, с этносами-мигрантами, которые, сохра-нив традиции исторической родины, вступая в социокультурные контакты с коренными жителями, сформировали особое культур-ное пространство, в котором пересеклись исторические (тради-ционные) и современные (реалии повседневной жизни) факторы. Поэтому трансграничная инфраструктура, которая может быть использована в качестве инструмента для реализации интересов
228
VI Международная научно-практическая конференция
государств «исторической родины» (например, в качества реали-зации Федерального закона о соотечественниках, проживающих за рубежом), сегодня приобретает в научных гуманитарных ис-следованиях особое звучание. Так, например, русские, проживая на территории Трехречья в КНР трансформируются в активные субъекты социально-экономических и политических отношений, стремясь сформировать свое социокультурное пространство, что требует формирования новой парадигмы анализа приграничного региона как социокультурного пространства, сформированного под влиянием миграционных процессов, заданного не только гео-графическими рамками, но и социокультурными особенностями приграничья. В этой связи предметом философского осмысления становится социокультурное пространство приграничных терри-торий КНР в контексте их культурного взаимодействия с анало-гичными территориями РФ в условиях их взаимовлияния [1. С. 3].
В последние десятилетия необычайно возросло значение куль-туры. Об этом свидетельствуют частые дискуссии о сохранение культурного наследия и культурного многообразия, бурное раз-витие культурологии и смежных отраслей знания, работа по со-вершенствованию законодательства в вопросах культуры, приня-тие Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) [2] и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г.) [3]. Актуализировались давние проблемы и в философии культуры, которые первоначально приобретают больше форму вопросов: может ли культурное воз-действие одной страны на другую, внести ощутимые перемены в исторический процесс? Стираются ли в процессе взаимодействия культурные признаки народов или, напротив, они устойчивы к чу-жеродным влияниям? Обсуждение этих и многих других вопро-сов всегда имело место в философии, но в условиях глобализации они приобрели не только особую актуальность, но и разные фор-мы их осмысления. В каком бы состоянии развития ни находилась культура, мы приблизились к той ситуации, когда большинство во-просов социальной, экономической и политической жизни невоз-можно решить без ее учета. Культура – тот феномен, который не подвержен быстрым изменениям, так как органичное взаимодей-
229
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
ствие «своего» и «чужого» зачастую требует весьма длительного времени. В условиях глобализации, усиления взаимообусловлен-ных процессов в мире как никогда требуется установление гармо-ничного соотношения между «своим» и «чужим».
Более остро встает вопрос о взаимодействии культур в социо-культурном пространстве приграничья, поскольку культурное про-странство приграничья – это сформированная концептами двух и более национальных культур особая форма поликультурного пространства. Так, на примере приграничных взаимоотношений Забайкальского края и КНР, так же как и других контактирующих территорий в условиях приграничья, можно говорить о процессе транскультурации, которую в данном контексте, мы рассматрива-ем как не одну, а несколько культурных точек отсчета, от которых идет пересечение многих культур, постоянное курсирование меж-ду ними и особое состояние культурной промежуточности – «не там и не здесь» или «и там, и здесь» [4. С. 98].
Анализируя миграционные процессы, происходящие на тер-ритории Трехречья в конце XVII века, можно утверждать, что это особая форма полилога, которая не ставит целью полное слияние культур. Транскультурация, основанная на культурном полилоге, предусматривает, что здесь культуры встречаются, но не сливают-ся, не ассимилируются, не исчезают. Обращение к понятию «по-лилог культур» адекватно передает «диалог многих», как «множе-ства иных» культур. Останавливаясь, на процессе формирования и развития пространства межкультурных взаимодействий северо-востока Китая и Забайкальского края, стоит отметить, что на со-временном этапе все более актуальным становится обращение к культурному наследию приграничных территорий, так как выстро-енное взаимопонимание, роль культурного и человеческого факто-ров служат ключом решения многих возникающих в современном мире проблем, зарождающихся на территориях мультикультурного взаимодействия.
Россияне (русские, буряты, хамниганы, старообрядцы) и ки-тайцы, проживающие вдоль линии границы, взаимодействуя друг с другом, прекрасно обходились без «руководящей и направляю-щей» роли правительств [5. С. 6]. Гуманитарный фактор, личные
230
VI Международная научно-практическая конференция
интересы и потребности играли в их отношениях ключевую роль, что позволило сформировать особую территорию, которую этно-граф Тарасов А. П. называл «Русское Трехречье», закрепившееся как в научной литературе, так и в повседневности, характеризуя уникальный мир жизнеустоев переселенцев из России, сохранив-ших ментальность и особую степень своей самоидентификации. Культурные системы взаимодействующих сторон, сталкиваясь между собой, породили третью реальность, принципиально но-вую, не являющуюся очевидным, логически предсказуемым по-следствием ни одной из столкнувшихся систем.
Исторически, миграционные волны формировались под влия-нием локальных войн, революций, социальных и природных ката-клизмов и других объективных причин. Приграничное расположе-ние Забайкальского края и одного из восьми аймаков Внутренней Монголии – Хулуньбуирского (Браги), способствовало формиро-ванию русской диаспоры, эволюция которой зависела от истори-ческих и политических процессов, возникающих в России. Так, северо-восток Китая в судьбе русского народа сыграл важную роль, став пристанищем для многих сотен тысяч россиян, оказав-шихся вне своей исторической родины. Мигрировав в Китай, они сумели сохранить в иноэтничном окружении традиционную рус-скую культуру, образовав специфический гео-культурный пласт – Трехречье, которое сегодня представляет уникальное социокуль-турное пространство со своим специфическим языком, системой межкультурных отношений. В этом контексте особую значимость приобретают идеи культурного диалога, основанного на принци-пах равноправия, взаимного уважения, учета особенностей и инте-ресов участников диалога.
В данном случае равный статус культур различного типа, их мирное соседство на одном территориальном и социальном про-странстве, свобода культурных проявлений этнической, религиоз-ной, бытовой самобытности – стали ядром зарождения отношений русских и китайцев на территории Трехречья, что позволило из-бежать противостояния культур. В силу различных исторических и политических причин русским, мигрировавшим на территорию правобережья реки Аргунь, не удалось сохранить свой анклав.
231
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
Хотя до августа 1945 года русское население, тяготевшее к ки-тайским городам Харбину и Хайлару, представляло собой обосо-бленный район забайкальского казачества из девяти отдельных районов. Исторические и политические обстоятельства делают невозможными дальнейшее обособленное существование и мир-ную жизнь русской эмиграции в Китае после 1945 года [6. С. 128]. Депортация мужского населения задает новые рамки взаимодей-ствия русских женщин с китайцами и порождает межкультурные (межэтнические) браки, как единственный способ дальнейшего существования и сосуществования. Начинается совершенно но-вый уровень диалога культур.
Результатом всех предшествующих событий является образо-вание 27 июля 1994 г. единственной в Китае русской националь-ной волости, расположенной полосой, прилегающей к китайско-российской границе. Ее появление представляет своеобразный фе-номен: это территориальное образование в приграничном районе, где бережно сохраняется и культивируется православие и некото-рые традиции жизни и быта России. В апреле 2001 г. властями г. Эргуна было принято решение о расширении административных границ русского национального сомона Эньхэ: он был объединен с сопредельным поселком Шивей в русский национальный со-мон Шивеэй [7. С. 151]. На современном этапе волость выступает важным объектом международных отношений, чему способство-вали активные приграничные торгово-экономические отношения между русскими, проживающими по разные стороны границы. Слияние различных типов культур составило неповторимый облик региона, так новой отраслью экономики стал туризм, и туристиче-ский поток из года в год возрастает.
Трехреченцы сегодня – это потомки от браков русских с китай-цами. Сейчас в волости проживают русские, в основном во втором и третьем поколении. Современное состояние деревень свидетель-ствует о том, что русская идентичность существует и сохраняет-ся за счет православия и традиционного хозяйства. Волость по-степенно утрачивает свой первоначальный облик и приобретает вид туристического центра, но, несмотря на все изменения, облик поселков имеет общие черты с русскими деревнями. Важно от-
232
VI Международная научно-практическая конференция
метить, что правительство Китая формирует здесь одну из своих этнических деревень, которая будет приносить экономическую вы-году, как это характерно, например, для некоторых территорий ма-лых народностей Китая. Интересен и такой факт, как религиозный «пантеон» Трехречья: китайцы придерживаются конфуцианства или буддизма, метисы считают себя православными, для них это один из важнейших идентификаторов с русской культурой.
Диалог культур, на рассматриваемой территории, привел к взаимному влиянию взаимодействующих культур, которое имело характер естественного процесса жизнедеятельности индивидов в поликультурном пространстве. Переселенцам удалось избежать негативных форм аккультурации: ассимиляции, сепарации, марги-нализации; адаптация на новом месте имела форму интеграции, в результате которой произошло сближение культур. В процессе со-вместной жизни осуществилось сотрудничество в хозяйственно-экономической сфере, согласование их картин мира, упорядочение способов и форм коммуникации и др. Результат взаимодействия культур на территории Трехречья – формирование пространства поликультурных взаимодействий, которое подобно перекрестку культур.
Опыт культурного взаимодействия Забайкальского края и се-веро-востока Китая является уникальным в каком-то отношении. Этот процесс не был простым, на его характер оказывали влияние не только уровень развития взаимодействующих культур, но и кон-кретные исторические условия.
Трехречье длительное время в силу различных причин было центром притяжения русского населения, что не могло не оста-вить отпечатка на его облике, а слияние различных типов культур составило неповторимый облик региона. Процессы формирова-ния и трансформации этнокультурного ландшафта пригранично-го китайского региона оказались под воздействием культурных норм русского населения, что является особенностью культурного пространства северо-востока Китая. Несмотря на наличие исто-рических факторов культурного взаимодействия, приграничные субъекты стремятся к углублению уже наработанных контактов и
233
Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации
к расширению связей, поэтому межкультурное взаимодействие в данном случае – равноправное взаимодействие с учетом уникаль-ности культур контактирующих территорий.
Список литературы1. Морозова В. С. Региональная культура в социокуль-
турном пространстве российского и китайского пригра-ничья: автореф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.13. Чита: ЗабГУ, 2013. 43 с.
2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном раз-нообразии. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtm (дата обращения: 02.02.2014).
3. Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.sht-ml (дата обращения: 02.02.2014).
4. Уланов М. С. , Уланова Г. В. Социокультурное про-странство России и буддизм // Вестник Калмыцкого универ-ситета. 2012. № 1 (13). С. 98.
5. Ларин В. Л. Россия и Китай: уроки прошлого, от-кровения настоящего, горизонты будущего // Россия и АТР. 2007. №3. С.6.
6. Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2007. № 4. С. 128.
7. Батурина Ю. П. Потомки русских на правобережье Аргуни (на примере пос. Эньхэ) // Приграничное сотрудни-чество и внешнеэкономическая деятельность: исторический ракурс и современные оценки: материалы междунар. науч. конф. (22–27 ноября 2012). Чита: ЗабГГПУ, 2012. С. 151.
Научное издание
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КНР В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
VI Международная научно-практическая конференция
(12–14 марта 2014 г.)
Редактор Н. С. МуромскаяВерстка Г. А. Зенковой
Подписано в печать Форм. бум. 60х84 1/16
Печать офсетная Уч.- изд. 13,6. Усл. печ. л. 14,6.Тираж экз. 100. Бум. тип. № 2
Гарнитура литературнаяЗаказ № 04714
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30