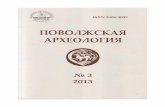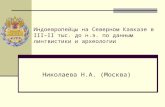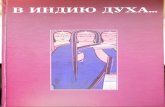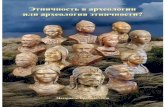Questions of history and archaeology of medieval nomades and Golden Horde (ad memoriam of...
Transcript of Questions of history and archaeology of medieval nomades and Golden Horde (ad memoriam of...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ
средневековых кочевников и Золотой Орды
сборник научных статей памяти В.П. Костюкова
2
Издательский дом «Астраханский университет»
ББК
Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом Астраханскогогосударственного университета
Вопросы истории и археологии средневековых кочевникови Золотой Орды: сборник научных статей памяти В.П.Костюкова, / Отв. ред. и сост. Д.В. Марыксин, Д.В.Васильев. Астрахань: Издательский дом «Астраханскийуниверситет», 2011. – 202 с.
Сборник посвящена памяти выдающегося челябинскогоисторикоа и археолога В.П. Костюкова. Материалы,представленные в сборнике, касаются проблем археологии,культурной, политической и этнической истории ЗолотойОрды, а также кочевых народов эпохи средневековья.Сборник представляет интерес для историков, археологов,
3
этнографов, краеведов, студентов вузов и всех, ктоинтересуется историей.
ISBN
© Изд. дом «Астраханский университет», 2011
© Д.В. Марыксин, Д.В. Васильев, 2011, составление.© А.Г. Жирова, 2011, дизайн обложки
4
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Этот сборник посвящён памяти челябинского археолога и историкаВладимира Петровича Костюкова. Прошло уже более года, как его нетс нами. Это был замечательный человек и про него хочется сказатьмного хороших слов, которые по отношению к нему не будут выглядетьпреувеличением. Он пришёл в археологию довольно поздно, уже взрелом возрасте, но успел сделать столько, что его творческой инаучной активности могут позавидовать и молодые люди. До сих порвсем, кто знал этого удивительного человека, не хватает егоприсутствия, общения с ним. Не хватает его негромкого голоса, егоспокойных и убедительных рассуждений с лёгкими запинками в речи,его интеллигентной, но твёрдой поддержки или его мягкой, но точнойкритики.
Это был очень красивый человек – статный, сильный, буквальнонасыщенный позитивной энергией и добром, которые он с радостьюрасходовал на друзей. Казалось, человек, заряженный такимпотенциалом, должен жить ещё очень и очень долго. Но его земнаяжизнь оборвалась неожиданно для окружающих – он многое не успелзавершить, многое из задуманного так и осталось в планах.
Сфера его научных инетересов включала историю и археологиюкочевников Южного Приуралья в целом, однако, несомненно, главнымтрудом жизни В.П. Костюкова стало монументальное исследование«Улус Шибана Золотой Орды в XIII-XIV вв.», которое стало темой егокандидатской диссертации, а в 2010 году было выпущено в КазаниЦентром исследования золотоордынской цивилизации в знак памяти иуважения к этому выдающемуся учёному.
Владимир Петрович был человеком требовательным к себе, считалдля себя недопустимым вольное отношение к мелочам в ходеисточниковедческого анализа, и не приветствовал этого в работахколлег. Зато к нему всегда можно было обратиться за советом, заподсказкой в таком трудном деле, как инетрпретация и критикаисточника. Не секрет, что одной из главных проблем современнойархеологической науки является слабое знание археологами –практиками и вещеведами – материалов письменных источников. В тоже время, историки, которые глубоко изучают архивные материалы идокументы эпохи древности и средневековья, плохо владеюткомплексным анализом археологических материалов, слабо привлекаютих к исследованиям. Владимир Петрович был одним из немногих внашей науке, кто стремился сочетать в себе все лучшие качестваархеолога-полевика и скрупулёзность исследователя письменныхисточников. Он обладал редким талантом аналитика, мог увидеть вкажущемся на первый взгляд хаотичном наборе археологических фактовзакономерность, которой находил изящное объяснение в пассажах
авторов средневековых хроник. Несомненно, здесь играла роль и егоогромная эрудиция, замечательное знание письменных источников иархеологических материалов.
Владимир Петрович был искренне увлекающимся человеком, нечуждым авантюризма – ему было интересно заниматься наукой, каждаятема, которую он разрабатывал, захватывала его. Это видно и посамим научным проблемам, которые он выбирал для себя. Именно онпервым поставил под сомнение наличие большого половецкогокомпонента в составе населения Золотой Орды, указав на фактгеноцида половцев в момент монгольского нашествия, обратилвнимание на наличие буддистских черт в обряде ряда захороненийзолотоордынского времени в Поволжье, Приуралье и ЗападномКазахстане. Он смог, благодаря своей блестящей догадке, направитьряд молодых учёных на изучение вопроса о присутствии и ролибуддизма в Золотой Орде, что открывает совершенно неожиданныеперспективы в изучении не только духовной культуры Улуса Джучи, нои политической жизни этого государства. Интерпретация этих данныхможет во многом перевернуть современные представления о ЗолотойОрде. Он сам заложил теоретические и практические основы будущегоисследования, наметил основные направления в своей большой статье«Буддизм в культуре Золотой Орды». Владимира Петровича, кромевсего прочего, отличало умение не терять голову от азарта. Он умелне торопясь, спокойно, обстоятельно и пунктуально проработать всеобязательные элементы научного исследования. Надо сказать, что онникогда не позволял себе расслабляться – постоянно работал истремился к самосовершенствованию – был страстным библиофилом имеломаном, изучал иностранные языки и практиковался в переводе…
Владимир Петрович был хорошим человеком и у него было многодрузей. И сейчас его друзья и коллеги из разных городов нашейстраны решили издать некоторые свои работы под одной обложкой – всборнике, посвящённом его памяти. Более того, этот сборникполучился международным, поскольку формировался он на базеЗападно-Казахстанского областного центра истории и археологии вУральске, а редактировался и издавался в Астрахани, на базеАстраханского государственного университета.
К сожалению, всё, что мы можем сделать – продолжать теисследования, которые были начаты В.П. Костюковым. Было бызамечательно, если бы он смог продолжать работать вместе с нами.Давайте же будем помнить о нём и продолжать трудиться честно ибескорыстно, как он.
Д.В. Марыксин, Д.В. Васильев
Сборник памяти В.П. Костюкова
В.П.КОСТЮКОВ ЗНАЛ, КАКАЯ АРХЕОЛОГИЯ СЕЙЧАС НУЖНА
В.А.Иванов
В последнее время в археологии, как российской, так изарубежной, все чаще встает вопрос о том, а для чего же,собственно говоря, она, археология, сейчас нужна? Европейскиеколлеги вопрос этот ставят со всей прямотой, о чем, в частности,свидетельствуют материалы международного симпозиума, прошедшего вВаршаве в 2001 году и опубликованные в сборнике под красноречивымназванием «Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology inthe 21st century?» (Warsaw, 2001). Российские археологи в этомплане занимают достаточно скромную позицию и на своих симпозиумахв основном выступают с докладами из серии «новое в ….».1 В подобномже ключе комплектуются и издаются многочисленные тематическиесборники статей во главе с флагманом отечественной археологическойнауки – журналом «Российская археология».
А вопрос оказывается отнюдь не праздный: в условиях давнопрекратившегося целевого финансирования полевых археологическихизысканий единственной возможностью как-то пополнять источниковуюбазу российской археологии стали хоздоговора-тендеры инемногочисленные академические гранты. С помощью первых археологи«очищают» территории под будущие строительные площадки, а вторые,как правило, выделяются под исследования особо выдающихся ибогатых, в прямом и переносном смысле, памятников археологии.Хорошо это или плохо – покажет время. Сейчас же можно толькоконстатировать, что жесткие условия современного рыночного бытияпровели не менее жесткую селекцию археологического сознания имировосприятия и создали такие условия, когда каждому из насволей-неволей приходится отвечать на вопрос: что для нас важнее:мы в археологии или археология в нас?
Мне кажется, что столь внезапно ушедший из этого мира ВладимирПетрович Костюков всей своей жизнью и работой в науке четко иоднозначно ответил на этот вопрос. В.П.Костюков в археологию вошелкак-то негромко, без студенческого максимализма и аспирантскойэкстравагантности, но прочно и обстоятельно. Когда в начале 1990-хгодов мой старый и добрый друг и коллега еще со студенческих лет,ныне профессор Н.Б.Виноградов обратился ко мне, тогда еще«молодому» доктору наук, взять к себе в аспирантуру его ученика иколлегу Владимира Костюкова, охарактеризовав его как очень
1 Наглядный тому пример – абсолютное большинство докладов, прочитанных на XVIIIУральском археологическом совещинии в г.Уфе 12-16 октября 2010 г.
Сборник памяти В.П. Костюкова
серьезного и добросовестного исследователя, глубокоинтересующегося проблемами археологии средневековых кочевниковЮжного Урала, я, естественно, согласился, поскольку в нашей средене принято было сомневаться в словах друзей: раз Николай таксчитает, значит так оно и есть. Единственно, что явилось для менянеожиданностью, это то, что мой будущий аспирант был одноговозраста со мной, даже на четыре месяца постарше.
Своим ровным, дружелюбным отношением к людям, всегда спокойнымразговором с таким милым легким заиканием Петрович сразу же влюбилв себя всю археологическую братию Уфы. Я уже не говорю о том, чтоон просто уже много знал из того, над чем ему пришлось работать вплане написания диссертации.
Тему для кандидатской диссертации В.П.Костюкова мы определяликоллегиально: в середине 1990-х годов среди уфимских археологовобозначился повышенный интерес к проблемам археологиисредневековых кочевников Южного Урала, защищались кандидатскиедиссертации, строились грандиозные планы дальнейших разработокэтой темы (увы, оказавшиеся в итоге «пшиком»). Поэтому темуПетровичу выбрали такую, чтобы она максимально не пересекалась стемами уфимских коллег – «Памятники кочевников XIII-XIV ЮжногоЗауралья (к вопросу об этнокультурном составе Улуса Шибана)».Нужно сказать, что эта тема явилась плодом «коллективного разума»:в ее определении, кроме нас с Владимиром Петровичем, активноучаствовали уфимские археологи, занимавшиеся тогда средневековойкочевнической археологией Южного Приуралья. И предполагалось, чтодиссертант соберет весь имеющийся в наличии археологическийматериал по зауральским кочевникам эпохи Золотой Орды, обработаетего в соответствие с современными методами и введет в научныйоборот. Едва ли кто мог тогда предположить, что Петрович пойдетзначительно дальше заявленной темы.
Я не знаю, как он работал. В данном случае В.П.Костюков, какникто ни до него, ни после, воплотил в своей работе афоризм,высказанный в свое время крупным советским археологом-сарматоведомК.Ф.Смирновым автору этих строк1: «Володя, дело научногоруководителя - найти вам толковых рецензентов и в положенный сроквыпустить вас на защиту. А писать вы будете сам, ибо лучше васникто эту тему не знает. В том числе и я». И уже через два годапосле поступления в аспирантуру Петрович привез мне своюдиссертацию в законченном виде. И это было капитальноеисследование, в средневековой археологии Урало-Поволжья остающеесяединственным и по сей день, в котором автор провел блестящий
1 К.Ф.Смирнов был научным руководителем моей кандидатской диссертации.
Сборник памяти В.П. Костюкова
комплексный анализ (не декларируемый, как в большинствесовременных диссертаций, а именно – реальный) всех источников,относящихся и к археологии, и к истории Улуса Шибана. Это былопервое, да и пока остающееся единственным, в археологии эпохисредневековья региона историко-археологическое исследование,построенное на глубоком источниковедческом анализеархеологического и нарративного материала. Естественно, работаВ.П.Костюкова была единогласно принята и одобрена Советом позащите диссертаций при Центре этнологических исследований УНЦ РАНв 1997 г. Сейчас с ней можно ознакомиться, благодаря радениюЦентра золотоордынских исследований Института истории АН РТ подруководством И.М.Миргалеева (Костюков, 2010).
Последнее фото В.П.Костюкова, сделанное мною 17 марта 2009 г. в г.Казани во время работы Международной научной конференции«Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды(XIII-XV вв.)».
На снимке - И.Л.Измайлов и В.П.Костюков.Из коллег-археологов тогда мало кто понял, что в лице
«новоиспеченного» кандидата исторических наук от археологииВ.П.Костюкова региональная историческая наука получилавеликолепного исследователя-источниковеда, по сути выводящегоархеологию эпохи средневековья на новый аналитический уровень.
И вот здесь опять хотелось бы обратиться к вопросу о том, комуи какая археология сейчас нужна? Если просмотреть аннотации кнашим монографиям (а именно они, в первую очередь, являются
Сборник памяти В.П. Костюкова
результатом наших размышлений над получаемым в процессе раскопокматериалом), то выясняется, что практически все они адресованы«специалистам-археологам, студентам исторических факультетов,учителям, аспирантам и всем, интересующимся историей и культуройУральского региона». Очень редко авторы в своей аннотации пишутто, что адекватно отражает цель, смысл и содержание их работы. Вкачестве примера могу привести монографию Н.С.Савельева«Месягутовская лесостепь в эпоху раннего железа» (Уфа, 2007) иколлективную монографию В.В.Овсянникова, Н.С.Савельева,И.М.Акбулатова и В.Н.Васильева «Шиповский могильник в лесостепномПриуралье» (Уфа, 2007), которые авторы аннотируют именно так,каковыми они и являются – сугубо специальной публикациейархеологического материала с конкретной территории и конкретногопамятника, рассчитанной исключительно на понимающего смысл изначение этих материалов специалиста, причем – довольно узкого.Без каких-либо экивоков в сторону «заинтересованного», но,естественно, археологически неподготовленного читателя. То есть,положа руку на сердце, наши монографии – это пространныепубликации археологических артефактов. Хотя, по определению,монография, это– научный труд, углубленно разрабатывающий однутему, ограниченный круг вопросов. (Словарь иностранных слов.М.,1988. С.321). Но для того, чтобы артефакт стал историческимисточником, он должен пройти через процедуру источниковедческогоанализа. А она сложна и требует неспешного и системного подхода.Но, увы, мы в своих археологических изысканиях чаще всего«проскакиваем» этот наиважнейший этап исследования и от отчетногоописания материала (артефактов) сразу же переходим к ихисторической (этноисторической, социально-исторической)интерпретации. В итоге из-под наших «перьев» выходят труды,интересные очень узкому кругу специалистов-археологов. Впрофессиональном смысле это важно, в социальном – «не более того».
В этой связи вспомним еще один афоризм: «Что за наука, котораяпо самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство,которого произведениями могут наслаждаться только немногиеспециалисты? Ведь надо же помнить, что не люди существуют длянауки и искусства, а что наука и искусство вытекали изестественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшатьеё всевозможными средствами» (Д. Писарев).
Мне кажется, что В.П.Костюков это прекрасно понимал, хотя я неприпомню, чтобы мы когда-нибудь обсуждали с ним этот вопрос. Нообратившись к списку его «после диссертационных» работ, мы находимв них все составляющие научного источниковедения: археологического
Сборник памяти В.П. Костюкова
(например, Костюков, 1998; 2002; Костюков, Никулина, 2003) иисторического (Костюков, 1999; 2004 и др.) источниковедения,позволяющего автору превращать археологический артефакт висторический источник и органично вписывать его в своиисторические построения (яркий пример: Костюков, 2006; 2009).
Я не вижу смысла заниматься здесь рецензированием указанных идругих работ исследователя. Однако считаю необходимым высказатьсвое общее впечатление об исследовательском стиле и подходеВ.П.Костюкова к интересующим его проблемам. Археологам он давалпример, КАК нужно работать с археологическими артефактами, чтобысделать их понятными и доступными для восприятия не археологами.Историкам из его работ могут узнать, ЧТО дает археология для болееконкретного понимания, осмысления, а в ряде случаев, и уточнениясодержащейся в письменных источниках информации.
В этом плане, я, бывший номинально научным руководителемкандидатской диссертации В.П.Костюкова, считаю его своим учителемв деле «историизации» археологии. Он знал, что нужно делать длятого, чтобы (несколько перефразируя К.А.Тимирязева) «наука(археология) не оставалась под спудом, а распространялась изуниверситета во все стороны, чтобы она могла светить и тем, ктобредет по темной дороге невежества. Избранники, занимающиесянаукой, должны смотреть на знание, как на доверенное им сокровище,составляющее собственность всего народа».
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Костюков В.П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII-XIV вв. Казань, 2010. Костюков В.П. О хронологической позиции поминальных оградок Южного Зауралья //Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. (вопросыхронологии). Самара, 1998.Костюков В.П. Когда и кем на Южном Урале оставлены «древнетюркские поминальныеоградки» // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Челябинск, 2002.Костюков В.П., Никулина Е.В. Песчанка-5 – средневековый памятник с угорскимичертами в Южном Зауралье // Человек в пространстве древних культур. Челябинск,2003.Костюков В.П. Кыпчаки и Золотая Орда // XIV Уральское археологическое совещание.Тезисы докладов. Челябинск, 1999.Костюков В.П. О кыпчаках в Джучидском государстве // Вопросы истории иархеологии Западного Казахстана. Вып.3. Уральск, 2004. Костюков В.П. Была ли Золотая Орда «Кипчакским ханством»? // Тюркологическийсборник. 2005. Тюркские народы России и Великой Степи. М., 2006.Костюков В.П. Буддизм в культуре Золотой Орды // Тюркологический сборник 2007-2008. История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. М., 2009.
ПОГРЕБАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ С СЫРЦОВОЙ ОГРАДКОЙ ИЗ МОГИЛЬНИКА АКСАЙ –I ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Г. Блохин, А.Н. Дьяченко
В июле 2004 г. экспедиция Волгоградского государственногоуниверситета проводила раскопки курганного могильника Аксай-I,располагавшегося у с. Аксай Октябрьского района Волгоградскойобласти.
Могильник располагался на левом низком участке поймы р.Есауловский Аксай (левый приток Дона). Между могильной группой ир. Есауловский Аксай находится заболоченное русло р. Россошь. Кзападу от могильной группы располагается обширный лиман, поросшийкамышом.
В 1997 г. было раскопано 9 курганов (№№ 1 – 9), материалкоторых относился к эпохе бронзы и раннему железному веку.Объектами раскопок 2004 г. были насыпи 11, 12, 13, 14. Трипоследних – сарматские курганы. Интерес представляет всхолмлениепод № 11 с нестандартным обрядом погребения (умерший расчленен) ивозведенной вокруг могильной ямы квадратной конструкцией изсырцовых кирпичей.
Исследуемый объект представлял собой четко выраженноевсхолмление (рис. 1). Высота холма по нивелировочным данным – 0,84м; диаметр по линии С-Ю – 18 м, по линии З-В – 20 м. У севернойполы объекта прослеживалась овальная западина размером 8,7 х 4,5 м(глубина от 0 – 0,94 м). Вторая западина, также овальной формыразмером 6,8 х 4,1 м находилась у северо-восточной полы холма(глубина от 0 – 1,1 м). С востока объект был ограничен еще однойнебольшой западиной, имевшей также овальную форму размером 4,7 х3,5 м (глубина от 0 – 0,95 м).
В процессе раскопок во всех секторах объекта на глубине 0,4-0,45м от 0 встречались обломки сырцового кирпича сероватого цвета.После зачистки пола раскопа на глубине 0,47-0,55м от 0 вцентральной части холма обнаружена кладка сырцового кирпича,представлявшая собой двойную оградку, возведенную вокруг могильнойямы (рис. 1, 2). В плане, сырцовая оградка имела подквадратнуюформу, сторонами ориентирована по линиям ССЗ-ЮЮВ и ВСВ-ЗЮЗ.Размеры внешнего периметра – 6,8 х 6,5 м; внутреннего – 4,8 х 4,8м. Оградка сложена из серых и темно-серых сырцовых кирпичей.Основания всех стен лежали на уровне погребенной почвы. Сырцовыекирпичи, в основном, прямоугольной формы, были уложены плашмя внесколько рядов. Связующим материалом служил глиняный раствор.Определенного стандарта в форме и размерах кирпичей незафиксировано, преобладали прямоугольные блоки форматом 30 х 20,
40 х 30, 50 х 30, 60 х 40 см. Толщина кирпичей варьировалась впределах 7-8 см.
В отдельных местах сохранилось 4-5 рядов кладки. Верхние слоикладки были разрушены, видимо, в результате распашки иестественных почвообразующих процессов. Высота сохранившейся частисырцовой конструкции по профилям бровок составляет 35-40 см.Ширина внешней и внутренней стенок сооружения варьируется от 40 до50 см. Какой-либо, точно выдержанной системы кладки зафиксироватьне удалось, но при этом, достаточно четко установлено, чтостроители пытались соблюсти рядную перевязку швов.
За пределами сооружения, к юго-западу от него на уровнематерика был выявлен ровик, имевший овальную форму размером 9,0 х3,2 м и заглубленный в материк на 7-8 см.
В северо-восточном секторе раскопа за пределами оградкирасполагались 2 хозяйственные ямы, также выявленные на уровнематерика.
Яма № 1 имела узкую овальную форму, продольной осьюориентирована по линии СВ-ЮЗ (рис. 1, 4). Длина ямы – 1,24 м,ширина в средней части – 0,5 м, глубина – 0,9 м. Заполнение –темно-серый гумусированный суглинок. Каких либо находок на дне ямыи в заполнении не обнаружено. Назначение ямы не установлено.
Яма № 2 имела широкую овальную форму, продольной осьюориентирована по линии С – Ю (рис. 1, 4). Параметры ямы по верху:длина – 3,5 м, ширина в средней части – 2,0 м. На глубине 0,65 мот края в южной стороне ямы была обнаружена ступенька шириной до0,8 м. Дно в северной части ямы было выявлено на глубине 1,25 м.Размеры ямы по дну – 2,8 х 2,0 м. В центральной части на глубине0,9 м обнаружены сырцовые кирпичи и их фрагменты. Кирпичи лежали водин слой, не перекрывая друг друга. Размеры самых крупныхэкземпляров – 30 х 25 х 8 см. По всей видимости, функционально,яма была связана с процессом формовки сырцовых кирпичей и послевозведения оградки была засыпана вместе с неиспользованнымизаготовками (?).
В процессе раскопок насыпи были обнаружены следующиепредметы:
А. На расстоянии 6,3 м на ЮЮВ от ЦР на глубине 0,59 м от 0обнаружен обломок трубчатой кости животного (МРС ?).
Б. На расстоянии 5,5 м на ЗЮЗ от ЦР на глубине 0,73 м от 0обнаружено копыто жеребенка.
В. На расстоянии 5,3 м на ЮЮЗ от ЦР на глубине 0,66 м от 0найден фрагмент ребра домашнего животного.
Г. На расстоянии 1,9 м на ВЮВ от ЦР на глубине 0,37 м от 0обнаружен фрагмент лопатки овцы.
Д. На расстоянии 3,7 м на ВЮВ от ЦР на глубине 0,41 м от 0зафиксированы ребра овцы.
Е. На расстоянии 5,3 м на ЗЮЗ от ЦР на глубине 1,06 м от 0 (вноре грызуна, заглубленной в материк) найдены 2 мелких фрагменталепной керамики с обильной примесью крупного песка в коричневатомтесте (рис. 3, 1). Толщина черепка – 0,6 см.
Ж. На расстоянии 0,9 м к ЮЮЗ от ЦР на глубине 0,42 м от 0обнаружен обломок трубчатой кости животного (МРС ?).
З. На расстоянии 1,8 м на ВЮВ от ЦР на глубине 0,5 м от 0зафиксирована кость овцы.
И. На расстоянии 0,5 м к СВ от ЦР над могильной ямой, наглубине 0,8 м от 0 обнаружен фрагмент костяной колчанной (?)накладки размером 2,8 х 1,5 см, толщиной 0,15 см (рис. 3, 2).
К. На расстоянии 1,9 м на ЮВ от ЦР на глубине 0,81 м от 0обнаружен небольшой фрагмент сильно коррозированного железногопредмета (гвоздь?).
Кроме того, внутри кирпичного сооружения, к югу от погребенияна глубине 0,72 м (фактически, на погребенной почве) зачищенокострище (слой мелких угольков и золы) овальной формы 1,1 х 0,8 м.Прокал почвы под кострищем незначительный (до 1 см), что говорит онепродолжительном его горении.
Очевидно, что кости домашних животных, обнаруженные в насыпи,а также кострище имеют непосредственное отношение к погребальномуритуалу, являясь, по всей видимости, элементами тризны.
Внутри ограды находилось одно погребение, располагавшееся вцентральной части сырцового сооружения (рис. 1, 4).
Погребение № 1. Могильная яма имела удлиненно-прямоугольнуюформу с сильно скругленными углами. Продольной осью онаориентирована по линии ВСВ-ЗЮЗ. Размеры ямы по верху – 2,3 х 0,9м. В верхних слоях заполнения встречались мелкие угольки. Околозападной стенки на глубине 0,1 м от УПП обнаружен небольшойфрагмент трубчатой кости овцы. Также в заполнении ямы у северной изападной стенок, на глубине 0,55 м от УПП встречены обломкисырцовых кирпичей. К низу яма несколько сузилась. Параметры подну: длина – 2,1 м, ширина в средней части – 0,8 м, глубина от УПП– 1,45 м.
На дне могильной ямы расчищен скелет молодого мужчины 25-30лет1. Погребенный был расчленен: от туловища отделены череп и ноги.Грудная клетка, руки и таз лежали в сочленении. Верхняя частькостяка оказалась смещенной от продольной оси могильной ямы к ЮЗ,позвоночным столбом ориентирована по линии ЗЮЗ - ВСВ (шейный отделпозвоночника направлен в юго-западную сторону). Руки согнуты влоктях под прямым углом; правое предплечье находилось на тазе,1 Антропологические определения выполнены Е.В. Перервой
запястье левой располагалось под левым крылом таза. Кости правойноги, лежащие в сочленении в вытянутом положении, находились подгрудной клеткой. Левая нога, слабо согнутая в колени, лежалапоперек оси позвоночника около таза. Под бедренной костью левойноги обнаружен череп человека, лежащий на левом виске, лицевойчастью обращенный на ЮВ. Нижняя челюсть находилась на плечевойкости левой руки.
1. Около правого плеча на дне ямы найдена серебряная монета.Еще 3 серебряные монеты были обнаружены вместе, на дне ямы, возлебедренной кости правой ноги. Одна из монет, найденная у правогоплеча – хана Джанибека, чеканена в Сарай ал-Джедиде (рис. 3, 4 а).Год выпуска не читается, но тип относится к широкораспространенным в 40-е гг. XIV в. Другая монета – хана Узбека ссуннитским символом веры (рис. 3, 4 б). Место и год чеканки несохранились, но тип относится к широко распространенномусарайскому чекану 734 и 737 гг. х. Две другие монеты – ханаКульны, чеканенные в Гюлистане. Одна выпущена в 760 г.х. (рис. 3, 4в), а другая – в 761 г.х. (рис. 3, 4 г).
2. Под костями таза около черепа собраны фрагменты серебрянойвисочной (?) подвески, выполненной из тонкой изогнутой проволоки смаленькой желобчатой петелькой на конце (рис. 3, 3). Диаметрсечения – 0,2 см. Форма подвески полностью не восстановлена.
Нумизматический комплекс погребения позволяет датировать еговременем не ранее 761 г. х. (1359-1360 гг.), скорее всего, впределах одного десятилетия.
Совершенно очевидно, что нарушение анатомической целостностискелета, в данном случае, не может быть связано с деятельностьюграбителей. Об этом свидетельствуют такие факты, как целостность,ненарушенность могильного сооружения, сохранность достаточнопривлекательного могильного инвентаря (серебряных монет). Скореевсего, речь должна идти об обряде ритуального обезвреживанияпогребенного. Расчленение погребенного, судя по всему, проводилосьпосредством рассечения тела острорежущим инструментом по суставам.При этом, по наблюдениям антропологов, никаких следов на суставныхплощадках и костях обнаружено не было, что может свидетельствоватьоб осуществлении данной операции, людей хорошо разбиравшихся ванатомии костной системы (Балабанова, Перерва, 2006, С. 268, 273).Судя по всему, после расчленения трупа, останки человека, были непросто сброшены в могильную яму, происходила их раскладка всоответствии с неким ритуалом. Вначале были размещены правая ногаи голова погребенного, затем останки туловища, причем особоевнимание обращалось на расположение рук (они симметрично согнуты влоктях). После этого, в могилу были помещены левая нога и нижняячелюсть погребенного. Обращает на себя внимание, хотя и не нашло у
нас объяснение и тот факт, что размеры и форма могильной ямывыдержаны в пропорциях более подходящие для размещенияанатомически целого тела умершего в вытянутом положении.
Специфика данного погребения, кроме всего прочего, ставитпроблему более тщательной фиксации и интерпретации золотоордынскихкомплексов, трактуемых, как «ограбленные» или «разрушенныеграбителями». Полное или неполное нарушение анатомическойцелостности скелета, смещение или отсутствие отдельных костейскелета, зачастую, однозначно связывается с деятельностьюграбителей. Достаточно отметить, что например, в статье Е.П.Мыськова, посвященной погребальным сырцовым сооружениям могильникаМаляевка VI, в трех из четырех описываемых конструкцийзафиксированы ограбленные погребения (Мыськов, 2003, С 217-219,Рис. 1-4). В статье В.В. Дворниченко и Э.Д. Зиливинской, гдерассматриваются погребальные оградки золотоордынского времени, двакомплекса из трех трактованы как ограбленные (Дворниченко,Зиливинская, 2005, С. 281-283, Рис. 1-8). Между тем, следуетвысказать предположение, что не у всех из этих комплексов,нарушение целостности скелета, находится в безусловной связи сдеятельностью грабителей. Иначе, трудно объяснить наличие,например, в погребении кургана 5 могильника Кривая Лука средикостей погребенного, костей, которые перемещались якобыграбителями, одиннадцати серебряных монет. Кроме монет, здесь же,находились костяные орнаментированные накладки колчана, железныепряжки, наконечники стрел, нож, пинцет, обломки различных железныхпредметов, костяная рукоять ножа, пластина и обойма, бусы(Дворниченко, Зиливинская, 2005, С. 282). Вряд ли грабители необратили внимание на достаточно привлекательный могильныйинвентарь.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Балабанова М.А., Перерва Е.В. Новые антропологические данные к изучениюпогребальных обрядов древнего и средневекового населения северной части Волго-Донского междуречья // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 3.Волгоград, 2006.Дворниченко В.В., Зиливинская Э.Д. Средневековые погребальные сооружения измогильника Кривая Лука в Астраханской области // НАВ. Вып. 7. Волгоград, 2005.Дьяченко А.Н. Отчет о проведении археологических исследований у с. Аксай вОктябрьском районе Волгоградской области в 2004 г. // Архив Волгоградскогогосударственного университета, 2005, б/н.Мыськов Е.П. Погребальные сооружения с кирпичными оградами могильника МаляевкаVI у северо-западного пригорода Царевского городища // НАВ. Вып. 6. Волгоград,2003.
Рис. 2. Общий вид сырцовой оградки насыпи № 11 могильника Аксай-I
Рис. 3. Инвентарь комплекса: 1 – фрагмент лепной керамики; 2 –фрагмент костяной накладки; 3 – фрагмент серебряной подвески; 4 –
серебряные монеты
СУФИЗМИ ИСЛАМИЗАЦИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Д.В. Васильев
Историки, этнографы и археологи, изучающие культурноенаследие Золотой Орды, часто обращаются к вопросу – каким образоммусульманская религия смогла за короткий исторический периодзавоевать идеологическое господство в этом государстве и вытеснитьдоминировавший среди населения степей до конца XIII века тюрко-монгольский шаманизм? На наш взгляд, завоевание господстваидеологического шло вслед за завоеванием мусульманамиполитического господства в Золотой Орде. Не секрет, что ислам вэтом государстве был введён официально и насильственным образомлишь в 1312 году ханом Узбеком. При этом хану пришлосьпреодолевать организованное сопротивление сторонников «старойверы». Однако, проникновение ислама в Золотую Орду началосьнамного раньше – ещё с момента её образования, поэтому связыватьисламизацию лишь с волевыми решениями ханской администрации былобы ошибочно. Мусульманизация Улуса Джучи – процесс многообразный,у ислама в Золотой Орде были и сторонники, и противники, онпроникал сюда различными путями и при помощи различных сил. Мы быхотели рассмотреть влияние на становление ислама в Орде лишь однойтакой силы – суфийских братств.
Надо сказать, что ещё В.В. Бартольд связывал успехипроникновения ислама в степь с домонгольского времени, в первуюочередь, с активной деятельностью суфийских орденов и сколоссальным культурным давлением мусульманизированных стран настепные регионы (Бартольд, 1968, С. 118-120).
«Суфизм» или «ат-тасаввуф» – это мистико-аскетическое течениев исламе. Название его происходит от слова «суф» – «шерсть»,поскольку грубое шерстяное одеяние издавна считалось обычныматрибутом отшельника-аскета, «божьего человека», мистика. Ислам,проповедуемый суфизмом, имел определённую специфику. Как известно,на территории Орды существовало несколько течений ислама. Наиболеевлиятельным из них был суннитский толк ханифитского мазхаба(Тизенгаузен, 1884, С. 279-280), который и поныне преобладает вПоволжье, Северном Причерноморье, Средней Азии и Казахстане.Помимо этого, существовали ещё в Орде шафиизм (по сообщению Ибн-Баттуты о шафиитской мечети в Сарае) и мутазилитство (в Хорезме)(Бартольд, 1968, С. 120). Известно также о маликитском мазхабе вОрде, проникшем туда из Египта, и о шиизме, проникшем в Орду изАзербайджана (Ислам…, 1991, С. 156, 273, 295).
Господствующее положение ханифитского мазхаба в Золотой Ордеобъясняется огромным значением, которое имели среднеазиатскиеобласти, а также Волжская Болгария для становления золотоордынскойкультуры в целом. В XIII-XIV веках происходит восстановлениеразрушенной монгольским нашествием культуры Хорезма. Здесь идётсоздание множества религиозных учреждений, строятся величественныемечети, минареты, мазары над могилами мусульманских авторитетов,создаются суфийские общины и для них выделяются вакфы. Суфизмпроцветает и активно влияет на культуру и идеологию Золотой Орды.
Именно на XIII – XIV века приходится расцвет мистическогонаправления в мире ислама. Как и христианские мистики-исихасты,последователи суфизма стремились к постижению истины не черезобрядовое действие, а через поиски богообщения, главнымстремлением суфия являлось стремление к «божественномуоткровению», то есть к такому состоянию, когда душа человеканапрямую общается с Богом. Учение суфиев не было единым, онораспространялось в среде последователей различных способовпостижения «божественной истины», которым их учили наставники –шейхи или пиры (Ислам …, 1991, С. 225-231). Существовало нескольконаправлений в суфизме. Баязид Бистамский, например, былпредставителем направления, проповедовавшего мистическоеопьянение. Он первый говорил о полном исчезновении («фана»)личности человека, стремящегося к соединению с Богом. Для всехсуфиев целью был мистический экстаз, при котором человек перестаётсуществовать отдельно от Бога и ощущать своё тело. Экстаздостигался различными средствами, от молчаливого созерцания исамоуглубления до громких криков и бурных телодвижений. Уже в XIвеке в Персии были пляшущие «дервиши» (персидское слово,соответствующее арабскому «факир»). Формально оставаясь на почвеКорана и довольствуясь аллегорическим толкованием его слов, суфиив действительности стояли значительно ближе к домусульманскимучениям. Представление суфиев о божестве и средствах сближения сним более всего напоминают представления последних античныхфилософов, неоплатоников и пифагорейцев. Замечаются также чертысходства с еврейской каббалой на Западе и с буддизмом и вообщеиндийским отшельничеством на Востоке. Главные подвижникстановились в глазах народа святыми («вали», во множественномчисле «аулия», у тюркоязычных народов употребляется и какединственное число) и чудотворцами. Жизнеописания таких вали имеюттот же характер, что и христианские жития святых (Бартольд, 1966,С. 115). Обители суфиев как подвижников появились в Египте тольково второй половине XII века. Значительно раньше обители эти –«ханаки» – упоминаются в Азии. Почитание суфиев было весьмавелико. Зачастую они организовывали целые военно-духовные ордена,
особенно это проявилось в Северной Африке, где их ханаки, рабатыи завийи (букв. «угол, келья») охраняли населённые пункты играницы государств наподобие казачьих станиц на юге России. Вбиографиях известных суфиев обыкновенно говорится об обращении имив ислам большого числа иноверцев; суфии отправлялись проповедоватьислам в степь, к тюркам, и всегда пользовались среди тюрок гораздобольшим успехом, чем представители книжного богословия.Проповедники-суфии говорили в степи не о священной войне и райскихнаслаждениях, а о грехе и адских муках; европейскиепутешественники в Средней Азии и Центральной Африке одинаково,независимо друг от друга, вынесли впечатление, что рассказы об адебольше способствуют распространению ислама. Но в этом отношенииислам не приносил ничего нового; такие же рассказы тюрки слышалиот проповедников буддизма, манихейства и христианства; между тем,проповедь ислама имела успех и там, где тюрки ознакомились с однойиз этих религий (Бартольд, 1968, С. 68).
Одним из виднейших шейхов Средней Азии явился поэт-суфийХоджа Ахмед Ясеви. Ахмед, получивший от тюрок прозвание «отецЯсеви» (Ата Ясеви), имел, по-видимому, большое влияние нараспространение ислама и мусульманского мистицизма. Егостихотворения в мистическом духе (например, его поэма «Диванехикмат»), написанные на тюрки, получили широкую популярность, и досих пор им подражают среднеазиатские народные поэты. К сожалению,эти стихи, именно вследствие своей популярности, не дошли до нас всвоём первоначальном виде; многочисленные переписчики изменялиязык подлинника в духе своего времени, делали и другие вставки(Бартольд, 1968, С. 118). Ахмеду Ясеви принадлежит особая роль всоздании так называемого «тюркского» мистического пути познанияАллаха. Орден ясевийа, созданный им оказал огромное влияние нанароды Средней Азии, а его учение распространилось, благодарякупцам в Поволжье и Туркестане. Главной целью «Диване хикмат» былообъяснение основных положений суфизма на языке, доступном народныммассам. Поэма являлась воистину священной книгой для большинстваповолжских и среднеазиатских мусульман. Здесь в самых простых ипонятных выражениях раскрывалась сущность четырёх этапов тарикаясевийа – шариата, тариката, марифата и хакиката, последовательноепрохождение которых позволяло добиться высшей благодати – увидетьлицо Бога (Сибгатуллина, 1995, С. 84-87).
В Средней Азии прославился также Баха ад-дин Накшбенд (1318-1389 гг.), живший в Бухаре и положивший начало широко известномуордену накшбендийа. Для накшбендиев на первом месте стоит строгоесоблюдение предписаний ислама (шариат) как необходимое условие длявступления на путь (тарикат) к истине (хакикат), полное обладаниекоторой доступно лишь для немногих избранных. Кроме того, известен
орден кубравийа, основанный хорезмийцем Наджмеддином Кубра (1145-1221 гг.), погибшим во время монгольского нашествия. Благодарядеятельности орденов ясевийа, кубравийа и накшбендийа ислам всёбольше распространялся на кочевую степь. Таким образом, в СреднейАзии под влиянием Запада сложилась и утвердилась правоверная формадервишизма (Бартольд, 1966, С. 117).
Выделим одну особенность суфизма-дервишизма: достижение«божественного озарения» считалось возможным лишь под руководствомнаставника. Для того, чтобы пройти путь самосовершенствования,новичок-послушник (мюрид) вступал в братство или орден (сильсила)под начало шейха (пира, ишана, муршида). После прохожденияопределённых испытаний мюрид нередко принимался в братство,отрекался от земных благ и становился нищенствующим аскетом –дервишем (факиром). Но он всю жизнь должен был подчиняться волесвоего шейха. У наиболее влиятельных и могущественных шейхов моглобыть до нескольких десятков тысяч мюридов (Малов, Малышев,Ракушин, 1998, С. 112). Одержимые религиозным фанатизмом дервиши имюриды – миряне представляли собой серьёзную политическую силу ибыли послушным орудием в руках шейха. Последователи суфийскихшейхов возводили свою духовную родословную к мусульманским святым,покровителям их братств, поэтому они могли вести себя достаточновольно со светской властью, нормами шариата, законами. Показноебезразличие к мирским делам, крайняя бедность (зачастую – тожепоказная), аскетизм и одержимость вызывали сочувствие и суеверныйстрах в народе, поскольку дервиши считались «дуана» – юродивыми, адоказательствами их святости являлись «пророчества» и «чудеса».
Вступив в союз с умеренным мистицизмом, создав культ пророкови святых, значительно развив учение Корана о загробном суде,представители официальной догматики, по-видимому, вполнеудовлетворили религиозное чувство простого народа.
Насколько влиятельны были суфии в Орде с самого начала еёсуществования, можно судить по многочисленным свидетельствамисточников. У Эддзехеби, Ибн-Халдуна и Элькалькашанди содержатсяпохожие друг на друга версии принятия ислама ханом Берке. Вот,например, что пишет Ибн-Халдун: «...он принял ислам от ШемседдинаЭльбахерзи, ученика из числа последователей Наджмеддина Кубра, ...Эльбахерзи жил в Бухаре и послал к Берке предложение принятьислам. Он (Берке) сделался мусульманином и отправил к нему грамотус предоставлением полной свободы делать в прочих его владенияхвсё, что пожелает. Берке отправился в путь для свидания с ним, ноон (Эльбахерзи) не позволил ему войти к нему до тех пор, пока егоне попросили об этом его приближённые. Они выхлопотали для Беркепозволение (войти); он вошёл, снова повторил обет ислама, и шейх
обязал его открыто проповедовать его (ислам)» (Тизенгаузен, 1884,С. 377-378).
По Ибн-Баттуте, наставником Узбека был один из сейидов, Абдал-Хамид. Есть рассказ, по которому Узбека обращал в ислам и далему имя Султан Мухаммед Узбек-хан туркестанский шейх Сейид-Ата(его собственное имя было Ахмед), ученик похороненного близТашкента Зенги-Ата; это будто произошло в 720 году хиджры, в годкурицы (1321 г.). Хан Узбек становится мюридом шейха. При этомрассказывается легенда, как святой потом увёл народ Узбек-хана вМавераннахр, где он по имени хана стал называться узбеками. В.В.Бартольд считал эту легенду маловероятной (Бартольд, 1968, С.142). Однако, как считает А.И. Ракушин, нельзя исключитьопределённой собирательности образа святого как образа суфийскогошейха, одного из сподвижников Узбека (Малов, Малышев, Ракушин,1998, С.114). В пользу этого говорят не только общие рассужденияИбндукмака о том, что хан Узбек «почитал факиров, обращалсямилостиво с ними, посещал шейхов и благодетельствовал им», но ивполне конкретные свидетельства Ибн Баттуты об известных суфийскихподвижниках, почтительно называемых в Золотой Орде «ата» – «отец».Более того, известно, что одного из видных духовных мусульманскихавторитетов Золотой Орды, имевшего почётное звание «сейид», чтоозначает «потомок пророка», хан Узбек в знак своей милости называл«ата» (Тизенгаузен, 1884, С. 301, 329). Среднеазиатские шейхиоказывали влияние на золотоордынских ханов и после принятия имиислама. В 1360-х гг. В Сарае правил некоторое время Азиз-хан (намонетах «Азиз-шейх»); хан вёл развратный образ жизни, за чтоподвергся упрёкам другого Сейид-Ата, именно сейида Махмуда Ясеви,потомка Ахмеда Ясеви. Хан раскаялся, послушался сейида, выдал занего свою дочь, но через три года вернулся к прежнему образу жизнии был убит (Бартольд, 1968, С. 142).
Во время правления ханов Узбека и Джанибека, которыепроводили исламизаторсую политику, значение суфизма резковозрастает, активность суфийских орденов также растёт. В восточнойчасти Улуса Джучи – Кок Орде – в середине XIV века благодарясуфийским шейхам Отрара, Саурана. Дженда и Барчкенда ислампроникает в кочевья кыпчаков и канглов (Тизенгаузен, 1941, С.129). В башкирских степях ислам в эти годы проповедовалсятуркменским шейхом Хусейн-беком, последователем тарика ясеви.Успехи миссионерской деятельности Хусейн-бека признавал дажехристианский монах Иоганка Венгр, который писал: «Сарацины же,рыскающие поблизости, нападают на них и стремятся совратитьновообращённых из татар и других, а иногда отвращают от верылюдей, которых некому научить христианскому закону. Сарацины, укоторых свой Магометов закон, имеют некую секту, братьев которой
зовут фалькариями (факирами); они носят обнажённые мечи, чтобытотчас истребить тех, кто говорит против веры» (Аннинский, 1940,С. 81). Вклад шейха Хусейн-бека в дело исламизации башкирскихплемён был по достоинству оценен и золотоордынскими ханами. Послесмерти Хусейн-бека хан Джанибек даёт распоряжение возвести мазарна могиле святого-суфия. Очевидно, этим мазаром является мавзолейу пос. Чишмы недалеко от Уфы, который связывается с именем Хусейн-бека, умершего в 1242/43 году (Петраш, 1981, С. 63). Об активномпроникновении мусульманской религии в башкирскую средусвидетельствует ярко выраженная тенденция уменьшения в XIII-XIVвеках на территории Башкирии количества курганных захороненийязыческого типа и увеличение числа грунтовых могильников, гдеумерших укладывали в соответствии с канонами ислама (Мажитов,Султанова, 1994, С. 262-266).
Главными форпостами ислама в кочевой степи становятся такназываемые ханака (от персидского «ханагах» – странноприимный дом,обитель). Они представляли собой религиозно-культовое учреждение,являвшееся одновременно обителью странствующих дервишей,резиденцией шейха, а также благотворительным учреждением, гделюбой мусульманин мог получить кров и пищу (Ислам…, 1991, С. 272).Ибн Баттута побывал в одной из хорезмийских ханака и писал:«...Турабек, жена эмира, устроила для меня пир, на которыйсобрались правоведы и знатнейшие люди народа, в ските, который онапостроила и в котором (раздаются) яства приезжающим и уезжающим»(Тизенгаузен. 1884, С. 312-313). Крупные ханака имели в феодальнойсобственности большой земельный надел с прикреплёнными к немузависимыми крестьянами и рабами. Поэтому в ханака могли бытьсосредоточены огромные материальные средства, которые позволялишейхам, также, как и в Средней Азии, проводить свою политику,отчасти независимую от центрального правительства. Многие ханакипользовались покровительством и защитой ханов. Так, Вассафсообщает о расправе хана Узбека над двумя грабителями,посягнувшими на имущество ханаки в окрестностях могилы Пир-Хусейнав Азербайджане (Тизенгаузен, 1941, С. 64). Известны ханаки и поархеологическим источникам. Так, например, здание, похожее наханака, было раскопано недалеко от развалин мечети на Селитренномгородище (Фёдоров-Давыдов, 1994, С. 69).
По письменным источникам ханаки или завийи известны во многихгородах Орды. Ибн Баттута, например, описывает своё посещениеханаки в Маджарах. «Мы остановились там в ските благочестивого,религиозного, престарелого шейха Мухаммеда Эльбатаихи, (родом) изБатаиха Иракского. Он был преемником шейха Ахмеда Эррефан, дабудет с ним благоволение Аллаха! В ските около 70 факироварабских, персидских, тюркских и румских, женатых и холостых.
Живут они подаяниями. Жители этой страны питают большое доверие кфакирам и каждую ночь приводят в скит лошадей, коров и овец.Султан и хатуни ходят посещать шейха и получают от негоблагословения» (Тизенгаузен, 1884, С. 287). Суфийские обителистроились обычно возле могил каких-либо местных святых – аулия,поэтому привлекали к себе паломников и больных, жаждущихизлечения. Они становились центром формирующегося культамусульманского святого и тем самым оказывали влияние натрадиционные верования кочевавших в округе номадов, органичновплетая в них постулаты и требования ислама. Поскольку ханакистроились, в основном, на территориях, окружённых кочевым миром,то кочевники составляли основную часть их «паствы». Отсюда испецифические особенности «степного» ислама, который формировалсяво многом именно здесь, в ханаках и завийах – допущение «громкого»зикра, допущение тюркского языка в церемониях, допущение женщин кучастию в церемониях, особые способы жертвоприношения скота и т.д.(Касымова, 1991, С. 223). Принятие в Золотой Орде ислама положилоначало длительному процессу вытеснения новой верой различныхрелигиозных культов, существовавших у кочевников Дешт-и-Кыпчак.Главным противником ислама здесь выступает тюрко-монгольскийшаманизм. Духовные лица и представители светской власти,насаждавшие ислам в кочевой степи, были вынуждены либо силойпровести в жизнь свои идеи, либо трансформировать старыеверования, придав им мусульманскую догматическую форму.«Перегибать палку» в деле насильственной исламизации и искоренениястарых культов было опасно, поскольку это могло привести ксоциальным взрывам и новым столкновениям на религиозной почве.Однако, как уже отмечалось, ислам - очень «пластичная» религия,впитывающая в себя местные верования, неуступчивая впринципиальных основах веры, но лояльная по отношению к тем старымверованиям, которые могут вплестись в общую структуру культа идополнить её.
Суфиям, как святым людям, было дозволено многое из того, чтосчиталось предосудительным для любого правоверного. В силу этогосуфизм проявил способность впитывать самые разные домусульманскиетрадиции, в том числе связанные с тюрко-монгольским шаманством.Состояние зикра-радения, при помощи которого суфии стремилисьприблизиться к общению с богом, близко к тем экстатическимсостояниям, в которые впадают шаманы во время камланий. Этот фактобеспечил лёгкость восприятия кочевниками суфийских учений какчего-то близкого и давно знакомого. Но, тем не менее, именносуфизм стал тем катализатором, который подтолкнул процессобращения в ислам огромных масс кочевников.
Способность суфийского учения «впитывать» в себя элементыдоисламских культов, популярные среди населения, позволиласохранить многие из них вплоть до настоящего времени. Преждевсего, опора на авторитет духовного лица – основателя ордена илиподвижника – позволила суфиям включить в мусульманский культпочитание святых мест, которые существовали до принятия ислама.Только теперь они стали рассматриваться в новом свете – в качествемогил святых или мест, связанных с их деятельностью. Как отмечалВ.Н. Басилов, почитание святых стало тем каналом, через который вислам проникали верования и культы других религий (Басилов, 1967,С. 3). Им достаточно подробно описан культ святых мест,сложившийся на территории Туркмении. Он, кстати, говорит, кто могстать «святым» – шахид, (то есть мученик, погибший за веру), ишан,шейх, пир, ахун (человек с высшим духовным образованием) (Басилов,1967, С. 40-46). Очень часто бывало такое, что место, почитавшеесяв доисламском культе – дерево, необычная особенность рельефа,просто место древнего святилища – продолжало почитаться принявшимиислам местными жителями. Так, В.В. Бартольд связываетвозникновение «святого места» рядом с цитаделью Бухары ссуществованием на его месте в доисламское время зороастрийскогохрама (Бартольд, 1964, С. 472).
В сохранившихся среди тюркоязычных народов остаткахшаманизма мы наблюдаем срастание доисламских культов с культомсвятых при посредничестве суфизма. Многие шаманы-баксы считаются«святыми» и могут повелевать джиннами. В.Н. Басилов пишет, чтоодним из самых сильных шаманов был Джахангир-ишан, который такжебыл наставником для молодых шаманов (Басилов, 1986, С. 95). Нарелигиозный авторитет этого шамана указывает его титул – ишан,который, кстати, является синонимом суфийского титула «шейх».Лёгкости восприятия суфизма шаманистским населением степи в XIII –XIV вв. объясняется, во многом, схожестью духовных практик шаманаи суфия, впадающих в «божественный экстаз» («шаманская болезнь»).И в наши дни зачастую шамана-баксы благословляют на занятиешаманством духовные лица (Тайжанов, Исмаилов, 1986, С. 121).
Авторитет суфийских шейхов сохраняется и после распадаЗолотой Орды. Они продолжают пользоваться заметным влиянием вКазанском, Астраханском, Крымском и Узбекском ханствах.Мусульманские духовные лица, опиравшиеся на помощь государственнойвласти, оказали существенное воздействие на становление в ЗолотойОрде феодального общественного сознания, письменности, литературыи культуры в исламской религиозной форме.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV веков о татарах и Восточной Европе. // Исторический архив. Т.3 - М.-Л., 1940Бартольд В.В. Двадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. //Соч. Т. 5 - М., 1968Бартольд В.В. Ислам. //Соч., Т.4 - М., 1966Бартольд В.В. Места домусульманского культа в Бухаре и её окрестностях. // Соч.,Т. 2, М., 1964Басилов В.Н. Пережитки доисламских верований в мусульманском культе святых. (На материалах Туркмении). Дисс. канд. ист. Наук. М., 1967Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991Касымова З.И. Истоки, социальная сущность и причины распространения суфизма // Из истории суфизма: источники, социальная практика. Ташкент, 1991Мажитов Н., Султанова А. История Башкортостана с древнейших времён до XVI века. Уфа, 1994Малов Н.М., Малышев А.Б., Ракушин А.И. Религия в Золотой Орде. Саратов, 1998Петраш Ю.Г. Тень средневековья. Алма-Ата, 1981Сибгатуллина А.Т. Суфийские тарика среди тюркских народов. //Сборник тезисов региональной научной конференции "Проблемы взаимодействия национальных культур".Часть 1. Астрахань, 1995. С. 84-87Тайжанов К., Исмаилов Х. Особенности доисламских верований у узбеков-карамуртов // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т.1. СПб., 1884Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т.2. М.-Л., 1941Фёдоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994
ГЕЛИОЦЕНТРИЗМ БЫЛ ИЗВЕСТЕН В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ ЗАДОЛГО ДО КОПЕРНИКА
Л.Л.Галкин
В 1989 г. в статье «Астрономические знания в улусе Джучи» япопытался подытожить сведения о мировоззренческих взглядах взолотоордынской культуре. Поскольку об астрономии взолотоордынских письменных источниках почти нет обстоятельныхсведений, пришлось обратиться к нумизматическому материалу - ксимволике монетных выпусков к Новому году. Вкратце напомню сутьвопроса.
В Золотой Орде существовала традиция вести летоисчисление вдвух системах: мусульманской по хиджре и по тюркской, то естьпо12-летнему животному циклу (60-летний китайский цикл никогда неприменялся).
Все государственные документы золотоордынских ханов с принятияими ислама датируются обязательно по хиджре, и также обязательнона документе присутствует название тюркского года 12-летнегоживотного цикла, в котором это событие происходит.
Эта двойная система датировки была принята и в ХулагуидскомИране. Все датировки событий даются у Рашид ад Дина в двух видах:называется год хиджры и год 12-летнего животного цикла .
В Иране эта традиция доживает до этнографического времени.Так, в Музее ковров Тегерана экспонируется ковер, на которомпредставлены две системы летоисчисления вместе (Рис 1, 1)
В Ташкенте в XVIII веке в русле этой традиции была, например,отчеканена бронзовая монета изображением символа созвездия Рыб нааверсе, а на реверсе была изображена Собака, поэтому для обывателяне составляло труда определить год выпуска этой монеты. Этисимволы означали, что она бита к новому году хиджры, начинающимсяпо солнечному Зодиаку под знаком созвездия Рыб и по циклическомукалендарю в год Собаки (Рис. 2, 1-2).
Традиция выпуска монет к Новому году имеет многовековуюисторию. Она существовала как в Улусе Джучи, так и в Улусе Хулагу.Например, в Золотой Орде было отчеканено боле 20 выпусков монет сознаками Зодиака, под которыми начинался Новый год Хиджры, истолько же монетных выпусков с изображениями животных 12-летнегоживотного цикла, в год которого начинался мусульманский год.
Как и во многих современных ему государствах, в Улусе Джучивелись астрономические наблюдения и процветала астрологическаяпрактика. В Старом Крыму, например, была обнаружена могилаастронома XIV века (Акчокраклы, 1927). К сожалению, артефактов,свидетельствующих об астрономической деятельности в Золотой Орде,
известно немного, но они есть, и каждый такой артефакт бесценен. ВНовом Сарае Г.А. Федоровым-Давыдовым был найден фрагментастролябии (Фёдоров-Давыдов, 1966. Рис. 8). В Национальном музееРеспублики Татарстан хранится бронзовое зеркало XIV века, наобратной стороне которого изображены фигуры солнечного Зодиака(фрагмент). В том же музее хранится фрагмент блюда с изображениемзнака созвездия Персея, держащего в руке голову Медузы (Рис. 2, 3).Этот фрагмент свидетельствует о том, что в Улусе Джучи былизнакомы и с лунным Зодиаком. Последний широко применялся вастрологических прогнозах. Созвездие Персея было одним из значимыхсозвездий лунного Зодиака, которым оперировали астрологи.
Несомненно имя иранского астронома Насира ад-Дина ат-Туси,придворного астрономах ильхана Хулагу, было известнозолотоордынским астрономам так же, как и его грандиозная изнаменитая обсерватория в Мараге.
Вполне логично предположить, что придворный астрономмогущественного золотоордынского хана Джанибека (1341 - 1357)Камал ад-Дин ат-Туркмани мог просить своего господина о постройкев одной из столиц Улуса Джучи подобной обсерватории. Он могобосновать эту просьбу астрологическими целями как это сделал всвое время ат-Туси. Он убедил хана Хулагу хитроумным способом внеобходимости постройки дорогостоящей обсерватории. Ночью, когдалагерь воинов крепко спал, с горы был спущен большой медный таз.Шум от его падения произвел панический переполох среди воинов. Ат-Туси объяснил хану, что воины не знают причину шума и грохота,поэтому волнуются, а мы знаем причину, потому остаемся спокойны.Так и со звездами. Если мы будем знать приговор звезд, мы будемзнать, как нам поступать (Мамедбейли, 1961). Такова легенда. Нечтоподобное содержится в современной формуле «Предупрежден - значитвооружен». Видимо при дворе этого хана действовала какая-тоастрономическая обсерватория. Об этом можно косвенно судить наосновании того, что на монетах этого времени не без влиянииастрологической практики появляются изображения знаков Зодиака.Однако ни одной астрономической обсерватории в золотоордынскихгородах пока не найдено. Убежден, не найдено не потому, что их тамнет, а потому что их археологический поиск просто не производился.Парадоксально, но ни разу такая задача перед золотоордынскойархеологией не стояла и не ставилась
Трудно предположить, что при обилии разнообразныхастрономических строений существовавших в тот период на БлижнемВостоке (Фёдоров-Давыдов, 1969. С. 17-18), в Улусе Джучи, имевшимтесные связи с этим регионом, отказались от какой-либо попыткипостроить сооружения, предназначенных для астрономических илиастрологических целей. Простейшим подобным астрономическим пунктом
мог быть обсерваторный колодец. Например, в центре холла медресеКиршехир в Турции был устроен наблюдательный колодец (Aydin Seyli,1960. P. 254).
Cегодня я хочу исправить ошибку, допущенную мною в 1967 г приработах на раскопе № 5 Селитренного городища. Тогда я полагал, чтоведу раскопки печи для обжига кирпича. Памятник расположен наПесчаном бугре, довольно высоко от его подножья Он имел формуколодца диаметром 2 м глубиной около 4м от современной дневнойповерхности.
Колодец был сложен из сырцового кирпича. После его сооружениявнутри был разведен огонь, и стенки колодца по периметру приобрелиструктуру жженого кирпича, но только на половину толщины сырца.Заполнение колодца составляли песок и фрагменты полуобожженногосырцового кирпича (Рис. 1,2) Постепенно мое представление оназначении этого археологического объекта по ряду причинизменилось Во-первых, никаких следов топочной и обжигательнойкамеры не было обнаружено. Не было найдено и отходов производства.Следовательно, говорить о производственной деятельности на этомпамятнике нет оснований. Во-вторых, не отвечал он требованиютакого сооружения, как колодец, предназначенный для снабжениянаселения водой. Слишком водопроницаемые стенки из полуобожженногосырцового кирпича не могли держать воду в колодце. Золотоордынцывозводили колодцы из жженого кирпича и делали это добротно.Прекрасный пример тому - колодец на сарайчиковском городище(Западный Казахстан). В-третьих, во многих городах БлижнегоВостока, еще раз подчеркну это, подобные колодцы служилиастрономическим целям. В этих простейших обсерваториях велинаблюдения за неподвижными звездами. В–четвертых, в 2000 г наПесчаном бугре проводил раскопки А. Голод. Им было вскрытопомещение. которое жилым назвать нельзя. Это было квадратное вплане здание. Оно сохранилось до уровня пола. На полу лежалиизразцовые плиты, рухнувшие со стен. Судя по положению плит insitu, они являлись элементами декора внутреннего убранства этогоздания. Плиты представляют собой многочисленные повторышестиконечной звезды. Такой декор характерен для киосков,изображения которых можно неоднократно встретить на иранскихминиатюрах XIV-XV вв. В таких «киосках» происходили беседы ученых,в том числе и астрономов
Нахождение на Селитренном городище на Песчаном бугре близкодруг от друга астрономического колодца и «киоска» для ученыхзанятий является любопытным свидетельством астрономическихизысканий на довольно высоком уровне для джучидской научной мысли.В свое время, оценивая астрономические знания в Золотой Орде, я
пришел к выводу, что они стояли на уровне современных иммировоззренческих представлений Ближнего Востока.
Но сегодня оценка мировоззренческих представлений джучидскихинтеллектуалов должна быть поднята на более значительную высоту. Ивот почему.
В 2005 г. московским издательством «Наталис» была опубликованакнига «Поэзия Золотой Орды». Переводчик Равиль Бухараев не толькопревосходно перевел золотоордынских поэтов, но и снабдил сборниквполне добротным научным предисловием. Здесь, в предисловии, онпервым обратил внимание на очень яркое и образное лирическоесравнение по поводу переживаний героев поэмы в трагический моментих жизни. Поэт Сайф-и Сараи (1321 - 1396), пишет о герое своейпоемы:
Сухейля в цепях мимо сада вели, Душа Гульдурсун словно взмыла с земли.Узнала любви притяженье душа,Землей вокруг Солнца круженье верша (Поэзия…, 2005.
С.155).
Далее автор поэмы пишет о себе:
В год Хиджры семьсот девяносто шестойСвой труд завершил он молитвой святой (Поэзия…,
2005. С.160)
То есть, почти за 150 лет до Коперника здесь в Золотой Ордезнали, что Земля вращается вокруг Солнца! И это не научныйтрактат, не ученый диспут. Это слова не астронома, а образноемышление поэта, основанное на прочно укоренившихся представлениях.Откуда они, эти взгляды на мироздание, если все крупнейшиеастрономы того времени мыслили категориями Аристотеля и Платона,что Земля является ЦЕНТРОМ ВСЕЛЕННОЙ и все вращается вокруг нее?
Встает неизбежный вопрос: «Какое участие принималзолотоордынские астрономы в создании ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫМИРА задолго до Коперника?» И, если принимали, то где, когда икак? Каковы были их технические возможности? А отсюда - есть липерспективы у золотоордынской археастрономии?
Но в Улусе Джучи могли заимствовать эти взгляды и из иныхкультур. И если да, то где, когда и у кого? Проблема стоит того,чтобы серьезно заняться ее решением.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Акчокраклы О. Старо-крымские и огузские надписи XIII-XIV вв. Симферополь, 1927.
Галкин Л.Л. Астрономические знания Улусе Джучи // Историко-астрономическиеисследования. Вып.19. М., 1989.Галкин Л.Л. Монеты к Новому году // Вокруг света. №12, 1990. С. 40-41Рашид ад-Дин. Сборник Летописей. Том 1, книга 2. М.-Л., 1952.Рожанская М.М., Матвиевская Г.П., Лютер И.О. Насир ад-Дин ат-Туси и его труды поматематике и астрономии. М.,1999. Мамедбейли Г.Д. Основатель Марагинской обсерватории Насир эд-дин Туси. Баку,1961.Фёдоров-Давыдов Г.А. Новый Сарай по раскопкам 1963-1964 гг. // Советскаяархеология. 1966, №2.Фёдоров-Давыдов Г.А. Элементы иранской кульутры в культуре городов Золотой Орды.// Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана. М.,1969. Aydin Sayile The observatory In Islam. Ankara, 1960. Поэзия Золотой Орды. М., 2005.
1 Рис.1. 1- иранский ковер XVIII-XIX вв. Экспозиция Музея ковров в
Тегеране.2 - Астрономический колодец. План и профиль.
1 2 3
Рис. 2. Ташкентская монета XVIII в. 1 - датировка по хиджре (знакЗодиака Рыбы)
2 - датировка по 12 летнему животному циклу (год Собаки).3 - Фрагмент блюда с изображением знака созвездия Персея лунного
Зодиака
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ ИЗ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
С.Ю. Гуцалов
Необходимое авторское предисловие.Я не имею прямого отношения к древностям Золотой Орды, изысканиям в
области которой посвятил свою жизнь Владимир Петрович Костюков. Однако,испытывая чувство глубокого уважения к этому человека и исследователю, япосчитал возможным опубликовать в настоящем сборнике материалы поистории и культуре средневековья, тем более, что эта эпоха была затронута вработах моего так рано ушедшего из жизни коллеги и друга.
В конце 80-х годов ушедшего столетия археологическойэкспедицией Актюбинского педагогического института им. К. Жубановав могильнике Восточно-Курайлинский I, было открыто погребение, неполучившее сразу точной историко-культурной атрибуции, ввидуограниченной информативности погребального комплекса. Накопленныйза последнее время на территории Среднего Поволжья и болееотдаленных территорий археологический материал позволяет провестианализ исследуемого погребения.
Курганный некрополь Восточно-Курайлинский I, находился в 10км к северо-западу от г. Актюбинска, на склоне увала правогоберега Илека, в 0,5 км к северу от русла. В южной части могильникарасполагался курган 11 (рис. 1), на восточной периферии которого в5 м к востоку и в 1 м к югу от условного центра кургана,обнаружено погребение 1. В яме подпрямоугольной формы,ориентированной с северо-запада на юго-восток, размерами 0,2-0,4х0,9 м, в 12 см от поверхности насыпи, было совершенопогребение ребенка1. Скелет лежал вытянуто на спине, головой насеверо-запад. Руки были разведены под тупым углом в локтях,образуя, тем самым, ромб. Кисти рук лежали на тазе. Ноги вытянутыпрямо, кисти ног обращены друг к другу. Череп был слегка повернутлицевой частью к северу (рис. 2, 1). Сразу за черепом, впритык ккороткой стенке стоял черноглиняный лепной сосуд (рис. 2, 2). Тестохорошо отмученное с небольшой примесью кальцитов, в изломерозового цвета. Тулово шаровидное диаметром 16,5 см, с короткимворонковидным венчиком диаметром 12,8 см. Дно плоское, диаметром10 см, покрыто заглаженными травой параллельными круговымиуглублениями. Высота сосуда 14,9 см. На переходе от горловины ктулову шейка выделена углубленной каннелюрой. Ниже внешняяповерхность сосуда украшена горизонтальными желобками,
1 Скелет принадлежал ребенку, так как черепные швы совсем не срослись.
нанесенными, скорее всего, палочкой. В нижней половине –поверхность заглажена. По плечику нанесен волнообразный зигзаг.
Определить культурно-хронологическую позицию данногопогребения позволяет находка в нем сосуда, обладающегоспецифическими признаками, которые позволяют ему найти оченьблизкие аналогии. Находки подобных сосудов известны и средипраболгарских погребальных и поселенческих памятников СеверногоКавказа. В частности, они здесь встречены в Крымском могильнике.При этом их характеризует светло-серый или светло-коричневый цвети обязательное лощение (Савченко, 1986, С. 77; рис. 6, 6, 13). Частынаходки таких сосудов в материалах Донской лесостепи. Так,например, близкие по форме и орнаменту горшки представлены средидревностей салтово-маяцкой культуры на Дмитриевских городище(Плетнева, 1989, Рис. 28, 1-4) и могильнике (Там же, Рис. 70-79).Известны они и в погребениях Маяцкого могильника VIII-IX вв.(Флеров, 1993, Рис. 65). Наиболее же близка курайлинской находкепо форме и орнаменту керамика, представленная в материалахМандровского могильника на Верхнем Дону (Сарапулкин, Зеленский,2001, Рис. 1, 1-4; 2, 1-4). Тулово их, за исключением придоннойчасти, покрывает сплошной резной орнамент, а по плечикам отдельныхнанесена двух или четырехрядная волна.
Показательно, что в последнем могильнике сосуды происходят изсалтовских погребений, совершенных в простых ямах (Там же, С.225). Примерно такая же связь рассматриваемых сосудов спогребальным обрядом прослеживается и в остальных, вышеприведенныхслучаях. Так, например, в Маяцком могильнике анализируемые сосудывстречаются и в катакомбах, которые там господствуют, и в простыхямах, где, кстати, покойники укладывались головой на северо-запад(Флеров, 1993, Рис. 43 А; 44 А). Также и в Дмитриевском могильникеямные захоронения были впущены в материк на глубину 0,3-0,6 м. Приэтом некоторые покойники располагались на спине головой на северо-запад (Плетнева, 1989, С. 255; Рис. 115, 2). А в Крымскоммогильнике на Северном Кавказе для погребенных характерен ямныйобряд с господством западной ориентировки, при этом, с частымотклонением головой на север (Савченко, 1986, С. 75).
Таким образом, есть все основания относить погребение изкургана 11 могильника Восточно-Курайлинский I, к праболгарскимдревностям VIII-IX вв. Трудно определить причины появления этогокомплекса в верховьях Илека. Для ответа на данный вопроснеобходимы дополнительные материалы.
Другой комплекс эпохи средневековья был случайно обнаружен впесках в среднем течении р. Уил А.В. Бурлаковым, шофёромпредприятия «Госстандарт» в г. Актюбинске. По его словам, послегрозы в июне 1994 года на дюне в изгибе р. Уила, в 3 км к юго-
востоку от пос. Саралжин были сделаны находки, происходящие изпогребений, выше которых были позже воздвигнуты мазары из кирпича-сырца, ныне почти полностью развеянные.
У вершины дюны, на восточном её склоне, метрах в 10 отмазаров встречено два человеческих скелета. Возле одного,вытянутого на спине, головой на юго-запад инвентаря не обнаружено.Второе же погребение, располагавшееся в 10 м к югу, принадлежаловзрослому человеку, лежавшему на спине, головой на запад, свытянутыми вдоль туловища руками. За черепом в землю был вбитжелезный штырь с широким кольцом и пряжкой (Рис. 3, 5). Деревяннаячасть этого предмета, принадлежавшая кольцу, не сохранилась. В 2-3м к юго-западу от штыря лежали в определённом порядке костискелета лошади, вероятно, относящиеся к данному погребению. Возлештыря найдено железное колечко диаметром 2,3 см (Рис. 2, 3) ибронзовая плошечка с железной окалиной на одной из сторон. Высотаеё 3,7 см, диаметр внутренней 3,9 см, внешний – 6,2 см (Рис. 3, 4).Справа от таза скелета до колена в узком берестяном колчаненайдено два железных наконечника стрел: один черешковый слопаточкообразным жалом (рис. 3, 2), второй трёхрогий с обломаннымоснованием (Рис. 3, 1).
На основе инвентаря последнего погребения, несмотря на егоскудность, достаточно четко можно определить его культурно-хронологический срез. Железные наконечники стрел, относящиеся ктипам В IX (срезни в виде вытянутой лопаточки со слегказакругленной верхней ударной гранью) и В XIII (фигурные) (Федоров-Давыдов, 1966, Рис. 3, 9) были достаточно широко распространены вXIII-XIV вв. в степях Восточной Европы (Федоров-Давыдов, 1966, С.28) и на Южном Урале (Иванов, 1987, С. 184). В этот же период нарассматриваемой территории встречаются и бронзовые чаши сжелезными дужками, свернутые или выкованные из листа бронзы.Настоящий предмет относится к типу В I (усечено-конической формы)и характерен для XIV в. (Федоров-Давыдов, 1966, С. 87). Железноеколечко, найденное рядом со скелетом на дюне под Саралжином,скорее всего является височным кольцом и точной хронологическойпривязки не имеет. Аналогии железному штырю с кольцом, ксожалению, не нашлись. Но вышеназванные находки позволяют относитьпогребение к XIII-XIV вв.
Элементы погребального обряда, прослеженные при обнаруженииданного комплекса не противоречат дате, так как они присущизахоронениям номадов Южного Приуралья указанного времени. Вчастности, западная ориентировка была широко распространены ввосточноевропейских степях в XI-XIV вв. (Плетнева, 1981, С. 218;Костюков, 2005, Рис. 3). В этот период истории у номадов ЮжногоУрала сохраняется традиция совершения сопровождающего захоронения
«чучела» или полного скелета коня (Мажитов, 1981, С. 223;Костюков, 2005; Бисембаев, Мергалиев, 2005 и др.). Не вписываетсяв общераспространенную традицию только такая особенность ритуала,как прикрепление туши ритуального коня к земной поверхности припомощи штыря. Однако, в целом, рассматриваемый комплекс характеренкультурному кругу кочевников Южного Приуралья золотоордынскойэпохи.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Бисембаев А.А., Мергалиев Р.С. Средневековое погребение в окрестностях с. НоваяКазанка // Вопросы археологии Западного Казахстана. – Вып. 2. – Актобе, 2005.Иванов В.А. Вооружение средневековых кочевников Южного Урала и Приуралья (VII-XIV вв.) // Военное дело средневекового населения Северной Азии. – Новосибирск,1987.Костюков В.П. Одиночный курган у «Третьего плеса»: средневековое погребениешамана? // Вопросы археологии Западного Казахстана. – Вып. 2. – Актобе, 2005.Мажитов Н.А. Южный Урал XII-XIV вв. // Археология СССР. Степи Евразии в эпохусредневековья. – М., 1981.Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы // Археология СССР. Степи Евразии в эпохусредневековья. – М., 1981.Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье (Дмитриевский археологическийкомплекс). – М., 1989.Савченко Е.И. Крымский могильник // Археологические открытия на новостройках.Древности Северного Кавказа (Материалы работ Северокавказской экспедиции). Вып.1. – М., 1986.Сарапулкин В.А., Зеленский С.В. Керамика праболгарского могильника у с. Мандрово// Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2. – Липецк, 2001.Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынскихханов. – М., 1966.Флеров В.С. Погребальные обряды на севере Хазарского каганата. – Волгоград,1993.
Рис. 1. План могильника Восточно-Курайлинский I.
Рис. 2. Погребение 1 кургана 11 могильника Восточно-КурайлинскийI. 1 – план и разрез погребения; 2 – глиняный сосуд.
Э.Д. Зиливинская, С.У. Билялов, Ж.Т. Сыдыкова
При описании нижнего течения реки Шаша (Сырдарьи)средневековый арабский историк ал-Идриси XI в. упоминал НовуюГузию. Новой Гузией именовался город Янгикент (Жанкент, Джанкент),располагавшийся в нижнем течении реки Сырдарьи. В средневековыхарабских и персидских письменных источниках Джанкент упоминаетсяпод несколькими названиями, которые в переводе означают «новыйгород». На тюркских языках город назывался Янгикент (янги – новый,кент – поселение, город); арабское его название Ал-Карьят ал-Хадиса, ал-Мадина ал-джадида (карьят, мадинатун – город, хадисун,джадидун – новый); по персидски он именовался Дих-и-нау (дих –селение, нау – новый) (Бектаев, 2001, С. 180, 234; Бартольд, 2002,С. 61). Современное название памятника - Жанкент (в русскойтранскрипции Джанкент) происходит от тюркского «Янгикент». «Жан»,измененная форма прилагательного «жана», переводится, так же как и«янги» – новый (Курманкулов и др., 2006, С 29). Возникновение этихназваний, по мнению К.М. Байпакова, связано с захватом огузамиполитической гегемонии в присырдарьинских степях (Байпаков, 2007,С. 52).
Выбор Новой Гузии в качестве политического центра огузскойдержавы был обусловлен многими обстоятельствами: это и выгодноегеографическое расположение Янгикента на стыке с крупнымиземледельческими оазисами Казахстана и Средней Азии, и то, чтоНовая Гузия служила коридором, соединявшим огузские степи сХорезмом, Мавереннахром и Хорасаном. Янгикент лежал на важномкараванном пути через кимакские степи в долину Сарысу, Ишима иНуры. Дорога соединялась с торговыми путями, ведшими в Сыгнак и наЮжный Урал (Агаджанов, 1969, С. 134).
Одним из первых письменных источников, в котором упоминаетсягородище Джанкент, является сочинение арабского историка Ибн-Русте«Китаб ал-а’алак ан-Нафиса», написанное в X в. Автор, описываянижнее течение Джейхуна (Амударьи), пишет: «… на западном егоберегу – горы, называемые Сиякух, на восточном – заросли,переплетающихся между собой деревьев; через них почти невозможнопройти или проехать, по дорожке, по которой ходят дикие кабаны, и(по дороге) к северному концу берега, ездит царь населенияназываемого Новое селение» (МИТТ, С. 150).
Ал-Масуди, арабский историк и географ, в своем сочинений«Китаб мурудж аз-захаб», написанном в 947 г., сообщает о Новомгороде (ал-Медина ал-Джадида), которые живут мусульмане (МИТТ, С.166). В «Худуд ал Элам» (т.н. Аноним Туманского, конец X в.)говорится о гузском городе - Дех-и-Нау (Новый Город), в которомзимой живет князь гузов (МИТТ, С. 217).
Персидский географ Ибн Хаукал в книге «Китаб ал-месалик ва-л-мемалик» пишет о реке Шаша, которая проходит в фарсахе от НовогоСеления и впадает в Хорезмское озеро (Аральское море) в двух дняхпути от него, и по ней во время мира и перемирия возилипродовольствие в Новое Селение. «В Новом Селении живут мусульмане,- писал Ибн Хаукал, - и вместе с тем – оно столица государствагузов. Вблизи от него (находится) Дженд и Хора, в обоих живутмусульмане, а власть принадлежит гузам. Самое большое из трех мест– Новое Селение, оно находится в 10 днях пути от Хорезма и в 20днях пути от Фараба» (МИТТ, С. 184). Город Дженд, упоминаемый ИбнХаукалем, был отождествлен С.П. Толстовым с развалинамисовременной Жан-калы, расположенной на берегах Жаныдарьи. Вопрос олокализации Хоры (Хувара, Джувара) до сих пор не решаетсяоднозначно. К.М. Байпаков, раньше предположительно помещал Хорувблизи мавзолея Хоркут-Ата (Байпаков, 1986, С. 28). Но в последнихсвоих публикациях К. М. Байпаков высказал мнение о том, что Хорасоответствует одному из «болотных городищ» либо Кескен Куюк-кале,либо Куюк-кале (Байпаков, 2007, С. 52). Ал-Макдиси пишет о трехгородах, лежащих на берегу реки Чача. По его сообщению эти города,Дженд, Харэ (Хварэ), Дих-и-Нау, расположены от Хорезма в 10переходах, от Параба в 20 переходах, а князь гузов зимой находитсяв городе Дих-и-Нау (МИТТ, С. 217).
В письменных источниках, написанных в XIV в. Рашид ад-Дином иДжувейни, есть сведения о существовании Джанкента во времямонгольского нашествия. В «Сборнике летописей» Рашид ад-Динасохранился «Рассказ о походе царевича Джочи на Дженд и Янгикент иоб их завоевании». В нем говорится, что после взятия Джендамонгольские войска двинулись в сторону Янгикента, и, завоевав его,посадили там (своего) правителя. Об этом событии повествует иДжувейни, но в его сведении Янгикент встречается под названиемШехркент. Результаты археологических изысканий, проводимых втечение последних нескольких лет, показали, что городище Джанкентдоживает до первой половины X в., слои более позднего времени нанем не обнаружены. С Янгикентом, существовавшим в XIII в. изавоеванным монгольскими войсками по Рашид ад-Дину, скорее всего,можно соотнести городище, расположенное 600 м к востоку отДжанкента, называемое местными жителями Мынтобе.
Городище Джанкент расположено в 1,5 км от с. УркендеуКазалинского района. Памятник имеет "Т" - образную форму,вытянутую с востока на запад, со значительным расширением ввосточной половине. Размер городища согласно инструментальнойсъемке 2005 г., 415 х 230 м (в восточной части – 320 м) (Аржанцеваи др., 2010, С. 7). Стены построены из пахсы. Они хорошосохранились лишь в восточной части. Вдоль них видны следы башен,расположенных друг от друга на расстоянии 25 - 40 м. Воротанаходятся по центру восточной и западной стен. Посерединевосточной стены находится хорошо различимое предвратное сооружениев виде полукруглого выступа стены около 15 м длиной (с юга насевер), с воротами перпендикулярными стене, на северном конце.Выступ фланкирован двумя выносными башнями. Северо-западный уголгорода занимает цитадель в виде возвышения квадратной формы,размером 100 х 100 м. Городище разделяет на две части главнаяулица, идущая с запада на восток параллельно внешним стенам. Похарактеру рельефа визуально выделяются плотно застроенный северныйучасток городища и значительно менее застроенный, ровный инизинный южный участок. В северо-восточном секторе городищапрослежено пристроенная к северной стене прямоугольная конструкцияразмерами 60 х 70 м и высотой около 3-4 м. К северной стене свнешней стороны примыкает огражденная невысокими валамиполукруглая в плане территория.
Первые археологические работы на городище Джанкент провел в1867 г. П.Л. Лерх, член Русского Императорского АрхеологическогоОбщества. Он составил план памятника, описал его укрепления (вал,ров, стены) и оросительные каналы вокруг городища. В результатеорганизованного им исследования окрестностей города был найденпозднесредневековый могильник XIV-XV вв. (Лерх, 1870, С. 2-7).
В 1946 г памятник посетила летная группа Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (ХАЭЭ). В ходе этой экспедиции былапроведена аэрофотосъемка и собран подъемный материал. В дальнейшемэти данные были опубликованы в различных изданиях (Толстов, 1947,С. 57-62; он же, 1948, С 211; он же, 1962, С. 198-200). Полученныйкерамический материал позволил говорить С.П. Толстову о том, чтогородище непрерывно существовало с античного времени (с началанашей эры) до X – XI вв. (Толстов, 1947, С. 63). На основанииписьменных источников исследователь указывал, что на последнемэтапе жизни (X – XI вв.) город стал резиденцией «царя Огузов»(Толстов, 1947, С. 56; он же, 1948, С. 246; он же, 1962, С. 198).
В обобщающей работе по средневековым городам Средней Азии О.Г.Большаков вслед за С.П. Толстовым называет Янгикент «резиденциейогузского ябгу» (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, С. 192).Однако, автор, обратив внимание на четкость и неискаженностьпланировки, высказал предположение о том, что город сооруженединовременно и является сравнительно молодым (Беленицкий,Бентович, Большаков, 1973, С. 193). Предложенная С.П. Толстовымдатировка памятника длительное время оставалась без изменения ибыла лишь откорректирована в работах Л.М. Левиной, полагавшей, чтопамятник доживает до XIV в (Левина, 1971, С 77; Рапопорт, Неразик,Левина, 2000, С.191).
В 2005 г. начались раскопки городища Джанкент. Их проводитсовместная экспедиция Кызылординского Государственногоуниверситета им. Коркыт-Ата, Института этнологии и антропологииим. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН и Института археологии им.А.Х.Маргулана МОН РК. Впервые была проведена подробнаяинструментальная съемка плана городища при помощи электронноготахеометра. В различных частях памятника для изучения стратиграфиибыло заложено несколько шурфов. Анализ стратиграфическихгоризонтов позволил выделить три периода обживания даннойтерритории. Обнаруженный керамический материал оказался однороднымна протяжении всех периодов (Аржанцева и др., 2010, С.44-45).
В северо-восточной части городища ведутся исследованиягородской застройки Джанкента. На плане Джанкента и нааэрофотоснимках, сделанных в 1946 г. Хорезмской экспедицией,хорошо видно, что наиболее застроенной была именно северная частьгородища. В то время на снимках, сделанных с самолета ещеотчетливо различались кварталы города и даже стены отдельныхзданий и помещений в них. Раскоп № 1 был заложен в 2005 г. наобширном холме овальной формы, имеющем размеры 35 х 30 м. Холм былизрыт многочисленными грабительскими ямами различных размеров иглубины. Возле этих ям лежали обломки хумов. Раскоп разбит вдольсеверо-западного крутого склона холма, за которым отчетливопросматривается значительное понижение, вероятно, соответствующееулице, разделяющей городские кварталы.
За четыре года исследований площадь раскопа достигла 336 кв. ми выявилась планировка многокомнатного здания, которое являлосьчастью квартала города. Здание, перекрытое слоем разрушения ввиде плотных и рыхлых завалов сырцового кирпича и наноснымпылеватым слоем, существовало довольно долго. Основания стен егопока не расчищены, так как они находятся на значительной глубине.В этом сооружении можно выделить несколько строительныхгоризонтов. В настоящее время исследуется горизонт, относящийся кнаиболее позднему периоду существования городища. Следы огня,обгорелые балки и прокаленные куски глиняной обмазки потолкасвидетельствуют о том, что оно могло погибнуть в результатепожара. Стены постройки были сложены из сырцового кирпича, размерыкоторого составляли 32-34 х 22-23 х 6 см. Капитальные стены имелитолщину от 60-65 см до 80-85 см. Некоторые внутренние перегородкибыли тоньше – всего 35-50 см. Крыша постройки, скорее всего, былаплоской. В большинстве комнат на полу, под завалами сырцовых стеннайдены остатки деревянных жердей и глиняных блоков с отпечаткамистеблей камыша, собранных в пучки. Подобные перекрытия помещений,когда на деревянные жерди кладутся вязанки камыша и обмазываютсяглиной, распространены в Казахстане и некоторых частях СреднейАзии и в настоящее время.
Здание было почти точно ориентировано по сторонам света. Оноимело вытянутую в меридиональном направлении форму (рис.1). Ширинаего составляла около 18 м, длина пока неизвестна, но очевидно, чтоона была не менее 30 м. Планировка постройки довольно простая, но,в тоже время очень четкая и регулярная. Меридиональная стена делитее на две части шириной 6,5 – 7,5 м – западная и 10-10,5 м –восточная. Каждая часть состоит из ряда пристроенных друг к другустандартных секций, внутренняя планировка которых почти идентичнаи различается лишь в деталях. Секции восточной стороны состоят изпрямоугольных в плане жилых помещений длиной 6,0 – 6,4 м и шириной3,7- 4,6 м, которые скользящим вдоль южной стены проходом черезузкий коридор соединяются с улицей или двором. Другой проход,скользящий вдоль северной стены, соединяет комнату с небольшимхозяйственным помещением, которое пристроено к восточной стене. Внастоящее время полностью вскрыто три такие секции. Жилищасходного плана, датируемые X в., исследованы на Куйрук-тобе, нотам планировка их не столь единообразна и они не пристроены друг кдругу в ряд (Байпаков, 1986, С. 25, 26; Хмельницкий, 1992, С. 275,276). Длинное здание, состоящее из цепочки одинаковых секцийраскопано Хорезмской экспедицией в усадьбе 16 В (XII в.) в оазисеКават-кала (Вактурская, Вишневская, 1959, С. 162-167). Каждаясекция состояла из жилой комнаты с лежанкой-суфой и очагом,которая скользящим проходом соединялась с входной лоджией.Пространство, примыкающее к проходу в лоджии, было застроеносуфой. Такая планировка в большей степени напоминает секциизападной части жилого комплекса. В Кават-калинском оазисе зданиенаходилось внутри большой усадьбы и предположительно было населенослугами или воинами с семьями (Хмельницкий, 1997, С. 117, 118).Кто населял исследуемую постройку в Джанкенте, предположить покаеще сложно.
Самым северным в восточном ряду было жилое помещение 1размерами 6,0-6,1 х 3,6 м. Вдоль южной и западной его стен быласооружена глинобитная лежанка – суфа Г-образной формы, котораяимела ширину 80-90 см и высоту около 40 см. Вертикальные стенки ееи горизонтальная поверхность были покрыты слоем глинянойштукатурки в несколько слоев. Подпорная стенка южной суфы у еевосточного края поворачивает на север и тем самым создаетсястенка-экран, которая отгораживает пространство комнаты отхолодного воздуха, который мог проникнуть из коридора,соединенного с улицей и образует при входе небольшую прихожую.Длина этого экрана 60 см, прослеженная толщина 40 см. Северныйторец стенки был покрыт глиняной обмазкой с оттиснутым на нейрельефом в виде геометрического орнамента. Под этим слоем былобнаружен еще один слой орнаментированной штукатурки с рельефомдругого вида. Пол помещения 1 был глинобитным. Он неоднократноподвергался ремонту. Было прослежено 6 слоев глиняной обмазкиобщей толщиной 5 см. В середине пола находился очаг прямоугольнойформы 1,5 х 1,0 м. Он был ограничен бортиком высотой 10 см изпоставленных на торец сырцовых кирпичей покрытых глиняной обмазкойв несколько слоев. В восточной части пространства, огороженногостенками, была сделана яма прямоугольной формы размерами 80 х 60см и глубиной 25 см. На дне ямы стоял керамический сосуд сшироким, сильно отогнутым венчиком (сунак). Встроенные в открытыйочаг сосуды находились и в других комнатах. Они служили длясохранения углей в очаге. Еще один небольшой очажок находился всеверо-восточном углу комнаты.
Помещение 1 соединялось с небольшим коридорчиком (пом. 9)шириной 90 см и длиной 3,4 м. Через него можно было попасть водвор. Хозяйственное помещение 8, пристроенное к восточной стене уее северного конца, было квадратным в плане и небольшим – 2,3 х2,3 м. В нем был найден развал большого сосуда – хума. Хум былслеплен вручную из плохо промешанного теста с добавлением шамота.Черепок его имел пористую структуру, что позволяет утверждать, чтососуд служил для хранения сухих сыпучих продуктов, например,зерна.
К югу от помещения 1 находилось помещение 2 с примыкающими кнему комнатами. Это обширное (6,4-6,5 м х 3,7 м ) помещение такжеимело прямоугольную фому и было вытянуто вдоль широтной оси здания(рис. 1, 2). Суфа в этой комнате была сложена вдоль северной,западной и южной стен, то есть она имела П-образную форму. Ширинаразличных отрезков суфы колебалась от 110 до 75 см, высотасоставляла 38-40 см. Восточный торец северного отрезка суфы былоблицован вертикально поставленными крупными обломками гончарногохума. Впоследствии эта часть суфы была продлена в восточномнаправлении на 1,0 м. В этой ее части из поставленных на торецсырцовых кирпичей была сделана загородка размерами 58 х 64 см,которая, вероятно, образовывала короб для хранения продуктов. Внего был вставлен хум.
К северо-восточному углу южного отрезка суфы была пристроенамассивная стенка или, скорее, тумба из сырца размерами 60 х 60 см.Назначением ее являлось также защита комнаты от сквозняков,которые могли проникнуть через коридор с улицы. В результате юго-восточный угол помещения был отделен, и здесь образовывалсянебольшой (1,2 х 0,8 м) тамбур. На северном торце этой тумбы такжебыла обнаружена глиняная штукатурка со следами оттиснутогорельефа.
Пол в помещении 2 был вымощен сырцовым кирпичом размерами 25 х25 см. Впоследствии кирпичная вымостка сверху была покрытаглиняной обмазкой в 2 слоя. В центре пола находился очагпрямоугольной формы. Он был вытянут в широтном направлении и имелразмеры 180 х 90 см. Восточная, северная и южная его стенкисложены из сырцовых кирпичей, поставленных на торец и обмазаныглиной. Восточная стенка очага сделана из кирпичей, положенныхплоско. Внутри этого пространства, ближе к его восточной стенке,находилась площадка из прокаленной до красного цвета глины. Приперепланировке помещения на западную часть очага была поставленастенка из сырцовых кирпичей длиной 1,7 м, которая имеланаправление север-юг. Эта стенка, скорее всего, также служилаэкраном, отгораживающим центральную часть комнаты. Очаг после еевозведения, вероятно, не функционировал. Проходы шириной 80 см ввосточной стене помещения 2 соединяли его с коридором (пом. 11размерами 1,2 х 2,2 м) и кладовкой (пом. 10 размерами 3,1 х 1,8-2,0 м).
Еще южнее находилось жилое помещение 3. Как и остальные, онобыло вытянуто в широтном направлении (рис. 3). Размеры его 6,0 х4,0 м. Интерьер помещения 3 почти полностью совпадает с таковым впомещении 1. Здесь также сооружена Г-образная суфа, примыкающая кзападной и южной стенам. Ширина ее 1,0 м, высота – 34 см. юго-восточный угол южной суфы оформлен пристроенной к ней тумбойразмерами 70 х 60 см, которая служит для оформления выхода изкомнаты. На западной и северной вертикальных поверхностях тумбыпрослежена глиняная штукатурка с рельефным орнаментом. Глинобитныйпол комнаты насчитывает 6-7 слоев обмазки. В центре поларасположен прямоугольный открытый очаг размерами 2,05 х 0,9-1,0 м.Бортики его сделаны из поставленных на торец сырцов и оштукатуреныглиной. В 1,2 м от западной стенки очага на дне его плоско пложенысырцовые кирпичи, которые образуют перемычку шириной 20 см. Насеверном конце ее находился сырцовый кирпич, поставленныйвертикально, с небольшим наклоном к наружному краю печи. Такой жекирпич был поставлен у южного конца стенки, но он не сохранился.Вместе они составляли подставку для установки котла или другогососуда над огнем. К востоку от этой стенки, у ее северного конца,сохранилась часть оформления очага. Здесь были плоско положены двефигурные детали из сырца, которые представляли своего родатрилистники, средний больший лист которых имел округло-заостреннуюформу, а два боковых были округлыми. Фигурной частью детали былиобращены к востоку. Подобное оформление омел очаг, раскопанный в2007 г. в жилище на цитадели Джанкента (Ахатов, Смагулов, 2008, С.218). Южный конец стенки не имел такого декора. В этой частизагородка образовывала как бы еще одну камеру очага, размерами 45х 45 см. К западу от стенки с подставкой в дно очага былвмонтирован венчик хумчи диаметром 30 см.
Проход вдоль южной стены соединял помещение 3 с коридором(пом. 12), длина которого составляла 3,4 х 0,8 м. Проход вдольсеверной стены вел в хозяйственное помещение 13 размерами 3,2 х2,6 м. На его глинобитном полу были найдены развалы двух хумов –лепного и гончарного. Лепной хум, стенки которого имели плохойобжиг и рыхлую пористую структуру, был предназначен для хранениязерна. В гончарном хуме с плотными твердыми стенками могли держатьжидкости.
В западной части здания жилые комнаты были обращены входами назапад. Скользящие вдоль южной стены проходы вели на улицу. Здесьне было длинных узких коридоров и дополнительных кладовок. Снаружик западной стене были сделаны какие-то пристройки в виде суф илинебольших хозяйственных клетей. В западной половине дома внастоящее время расчищено два жилых помещения. Помещение 5примыкало к помещению 1. По оси север-юг оно было длиной 4,6 м,по оси запад-восток – 6,0 м. В помещении 5 была расчищена П-образная суфа, которая шла вдоль северной, восточной и южной стен.Ширина северной суфы 75 см, восточной – 112 см, южной – 90 см.Высота суфы 20-25 см. В северо-западном углу комнаты примерно наполовину высоты в пол были вкопаны два хума (рис. 5). Для ихустановки в западной стене была сделана ниша. Хумы имели широкий,слегка отогнутый венчик с утолщением, под которым находилсяналепной валик, орнаментированный вертикальными насечками. Наодном сосуде под венчиком был сделан налеп в виде стилизованныхрогов барана. Тулово покрыто «расчесами». Тесто рыхлое, пористое,обжиг плохой. Скорее всего, эти хумы предназначены для хранениясыпучих продуктов.
Пол в помещении был глинобитным. В центре пола находился очагпрямоугольной формы размерами 1,0 м х 0,85-0,9 м. Он вытянут пооси запад-восток. Очаг имел конструкцию, аналогичную очагам вдругих помещениях данного жилого комплекса. Пространство его былоограничено сырцовыми кирпичами, поставленными на ребро. В центреочага был вкопан сосуд, заполненный золой. Внутри очага быланайдена керамическая подставка с головами баранов. Поверхность еебыла орнаментирована прочерченным волютообразным орнаментом ивдавлениями, сделанными треугольной в сечении палочкой. Так кактесто изделия было рыхлым, а обжиг плохой, подставка сильнораскрошилась. Еще один фрагмент этой подставки (голова барана) былнайден в западной части помещения. У западной стенки очага, почтивплотную к нему на полу лежал красноглиняный гончарный кувшин сцилиндрическим горлом со слегка отогнутым профилированнымвенчиком. Тулово в нижней части коническое, в верхней – раздутое.Поверхность сосуда покрыта красным ангобом и залощена. Под ручкойна тулове процарапаны граффити в виде тамги.
В западной части помещения находилась стенка высотой 30 см итолщиной в один кирпич, которая отходила от западной стены навосток. Стенка имела коленчатую форму. Общая протяженность еесоставляла 1,5 м. Эта стенка, назначение которой не совсемпонятно, была построена во втором строительном периода. После тогокак она была разобрана, под ней в полу была обнаружена сливная ямаумывальника-тошнау первого периода (рис. 6). Водопоглощающийколодец тошнау был сделан из большого хума с диаметром горла 50см. Хум был обращен венчиком кверху, дно, вероятно, было отбито,как это обычно делается при устройстве тошнау. На уровне полавокруг колодца сделана вымостка из обожженных кирпичей общимиразмерами 1,8 х 1,5 м, которая примыкала к западной стене поцентру. Непосредственно горло хума окружала фигурная выкладка ввиде восьмилучевой звезды, сложенная из специально выпиленных изкирпича элементов. Для того, чтобы вода при мытье рук не попадалана стену, вертикальная поверхность ее также была облицованаобожженными кирпичами. Кирпичи были поставлены вертикально наребро и косо на угол. При этом косо поставленные кирпичичередовались с треугольными половинками кирпичей, распиленных подиагонали. Высота облицовки 45 см, длина – 1,4 м.
При расчистке помещения 5 в завале рухнувших стен былинайдены части обмазки стены, с оттиснутым орнаментом. Орнаментсостоял из двух, вписанных один в другой кругов, пространствомежду которыми заполнено выпуклыми полусферами, и растительнымипобегами. Штукатурка носила следы краски красного цвета. Наповерхности суфы и пола были обнаружены развалы двух хумовбольшого размера (рис. 4). Один из этих хумов имел широкое горло идве небольшие вертикальные ручки, которые крепились одним концом квенчику, а другим к плечикам сразу под горлом. У нижнего концаручек на тулове сосуда были сделаны налепы в виде колец,охватывающих их. Это явное подражание металлическим сосудам.Посредине между ручками в верхней части тулова хума, сразу подплечиками были сделаны налепы в виде крестов. Еще один целый хумменьших размеров обнаружен в северо-восточной части комнаты. Онлежал наклонно, причем горло его находилось ниже, чем дно.Возможно, при разрушении здания хум упал с плоской крышипомещения.
Скользящий проход шириной 1,0 м соединял помещение 5непосредственно с улицей или двором. Снаружи к западной стенекомнаты была сделана небольшая пристройка, вероятно,хозяйственного назначения.
К югу от помещения 5 располагалось помещение 6, которое такжебыло жилым. Оно было трапециевидным в плане. По оси север-юг длинаего составляла 6,0 м. В северной части оно имело ширину 4,4 м, а вюжной – 3,6 м. Суфа шириной 1,0 м и высотой 50 см была сложенавдоль северной и западной стен комнаты. Юго-западный угол еезападного отрезка, как и в помещениях восточной части, былоформлен пристроенной тумбой размерами 60 х 70 см. По центрукомнаты в глинобитном полу ее был сооружен прямоугольный очаг(рис. 7). Он имел такую же конструкцию, как и в других комнатах:узкий бортик окружал пространство пола размерами 1,7 х 1,1 м.Почти вплотную к южной стенке очага была сделана подставка длякотла. На ряд сырцов, положенных плоско на расстоянии 40 см другот друга два кирпича были поставлены вертикально с небольшимнаклоном наружу. С северной стороны вплотную к этой конструкциибыла приставлена керамическая очажная подставка в видестилизованного изображения барана с двумя головами. Длина ее 45см, высота – 40 см. Поверхность этой фигурки покрыта оттиснутыморнаментом в виде геометрических узоров и растительных побегов.Аналогичное скульптурное изображение было найдено при раскопкахцитадели Джанкента в 2007 г. (Ахатов, Смагулов, 2008, С. 218, 219;Они же, 2009, С. 213), известны такие фигурки на Кескен-Куюк-калеи на других памятниках (Левина, 1996, С. 359). Считается, чтоподобные очажные подставки служат не столько утилитарным целям,сколько являются культовыми предметами. Очаги, снабженные такимифигурками, превращаются в своеобразный алтарь и выполняют функциидомашнего святилища. Керамические алтари различных форм былишироко распространены в античности и раннем средневековье вомногих городах, расположенных на Сырдарье и в прилегающих регионах(Смагулов, 2004).
Кроме открытого очага в помещении 6 находился тандыр (печь длявыпечки лепешек), который был пристроен к восточной стенепомещения ближе к ее южному концу. Для его установки была сделаназагородка из поставленных на ребро сырцов. Размеры ее 90 х 60 см.Внутри этой загородки тандыр был по периметру обложен крупнымиобломками гончарного хума. Тандыр представлял собой керамическийсосуд цилиндрической формы из рыхлого, плохо обожженного теста.Диаметр его 56 см, в высоту он сохранился на 48 см. Внешняяповерхность его была шероховатой, покрытой «расчесами». У днатандыра в стенке было сделано отверстие диаметром 10 см, откоторого наружу отходил цилиндрический отросток длиной 8 см. Этоустройство служило, вероятно, как поддувало для увеличения тяги впечи.
Помещение 6 имело проход наружу, который был сделан вдольюжной стены. Ширина его 0,9 м. К западной стене комнаты снаружибыла пристроена прямоугольная (3,0 х 0,6 м) суфа, которая служиладля каких-то хозяйственных целей.
К востоку от помещения 6, между ним и помещениями 2 и 3,находилось узкое, вытянутое в меридиональном направлении помещение7 (рис. 8). Длина его составляла 5,8 м, ширина в северной части1,7 м, в южной – 2,2 м. Восточная, северная и южная его стены идутс самого низа, они являются продолжением стен сооружения первогостроительного горизонта. Стена, отделяющая его от помещения 6построена, позднее, она стоит на слое сырцового завала и сложенане в перевязку с южной и северной стенами. Вероятно, поэтому онабыла поставлена не параллельно, и обе комнаты, которые онаразделяет, получили трапециевидную форму. В помещении 7 не былообнаружено никаких следов плотного глинобитного пола. Заполнениеего сверху до низу состояло из плотного завала обломков сырцовыхкирпичей. В этом завале был расчищен хум, стоящий косо, горломвниз, как будто бы он упал откуда-то сверху. Такой же завалпродолжается и ниже уровня пола в помещении 6. Создаетсявпечатление, что помещение 7 не использовалось. При постройкездания в самом позднем периоде часть обширного помещения,оставшегося от первоначальной планировки, была перегорожена.Восточное помещение 7 было забито строительным мусором изамуровано, а в западном помещении 6 была устроена жилая комната.Насколько правомерно такое предположение будет видно в результатедальнейших раскопок, когда будет исследована планировкапервоначального здания.
Исследуемый комплекс, несомненно, был жилым. Об этомсвидетельствуют предметы, найденные при его раскопках. В основном– это бытовая керамика, лепная и гончарная. Кроме тарных сосудов –хумов, остатки которых найдены в больших количествах, в помещенияхвстречаются кувшины, кружки, крышки с прорезным орнаментом, богатоорнаментированные светильники (рис. 9). Интересен небольшойсосудик с узким горлышком, в дне которого тонкой палочкой былосделано множество отверстий. Возможно, это аналог современнойсолонки или перечницы. Находки пряслиц говорят о занятии местныхженщин ткачеством. Предметы из металла, инструменты и украшениявстречаются крайне редко, да и керамики не слишком много посравнению с другими синхронными по времени памятниками. Наиболеевыдающейся находкой можно назвать две костяные накладки, одинконец которых имел зооморфное завершение. Одна накладкадекорирована головой барса, повернутой в профиль направо, надругой – головы двух барсов повернуты друг к другу. У основанияшеи животных вырезаны пальметки. Бедность памятника вещевымматериалом может свидетельствовать о том, что население покинулогород не внезапно, в результате какого-то набега или другойкатастрофы. Жители постепенно покидали город, унося с собойбольшую часть необходимых вещей. А произошло это, скорее всего в50-60-е гг. X в., так как именно этим временем датируетсябольшинство монет (фельсов Саманидов), происходящих из верхнегослоя городища.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии. Ашхабад, 1969.Аржанцева И.А., Зиливинская Э.Д., М.С. Караманова, Рузанова С.А., УткельбаевК.З., Сыдыкова Ж.Т., Билалов С.У. Сводный отчет об археологических работах нагородище Джанкент в 2005-2007, 2009 г. Кызылорда, 2010.Ахатов Г.А., Смагулов Т.Н. Археологические работы на цитадели ДревнегоЖанкента //Археологиялык зерттеулер жайлы есеп. Алматы, 2008.Ахатов Г.А., Смагулов Т.Н. Археологические исследования городища Жанкент//Археологиялык зерттеулер жайлы есеп. Алматы, 2009.Байпаков К. М. Огузы, туркмены и сельджуки в городах Жетысу и Южного Казахстана.// Известия НАН РК . 2007. № 1. Байпаков К.М. Средневековая городская культура южного Казахстана и Семиречья (6– начало 13 вв.). Алма-Ата, 1986.Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.,2002. Бектаев К. Казахско-русский словарь. Алматы.2001. Вактурская Н.Н., Вишневская О.А. Памятники Хорезма эпохи Великих Хорезмшахов (12– начало 13 в.) // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1954-1959 гг.Москва, 1959.Курманкулов Ж. К., Аржанцева И. А., Зиливинская Э. Д., Рузанова С. А.Археологические работы на городище Жанкент (предварительные итоги). // Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии. Актобе, 2006.
Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в I тыс. н.э.// ТХАЭЭ. Т. VII.М., 1971. Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья в I тыс. до н. э. – Iтыс. н. э. Москва, 1996.Лерх П. Л. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 году. СПб., 1870.Материалы по истории туркмен и Туркмении Т. 1. М. – Л. , 1938.Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М – Л., 1952. Рапопорт Ю А., Неразик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. Образыдревнего Приаралья. М., 2000.Смагулов Е.А. «Шашлычницы» Алтын-Тобе // Известия НАН РК, сер общ. наук. Алматы,2004. Вып. 1.Толстов С.П. Города гузов // СЭ, 1947. № 3. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.–Л., 1948. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962.Хмельницкий С. Между арабами и тюрками. Архитектура Средней Азии Хмельницкий С. Между Саманидами и монголами. Архитектура Средней Азии XI-началаXIII вв. Ч. II. Берлин-Рига, 1997.
Рис. 8. Общий вид раскопа, вид с Ю.
Рис. 9. Керамика из жилого комплекса Джанкента: 1-3 – кружки; 4-6 – крышки; 7-9 – светильники.
ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.В. Кутуков, С.Ю. Акимовский, С.Ю. Скисов
В 2010 году было обнаружено неизвестное золотоордынскоепоселение. Оно расположено в 4-х км к северу от пос. Лиман навершине и склоне бэровского бугра. Бугор имеет протяжённость более3км. С севера к бугру примыкает цепочка ильменей, ныне обсохших, ав древности бывших проточным руслом.
Само поселение протянулось вдоль бэровского бугра на 700метров. В наиболее широкой части оно достигает 200 метров.Современная дневная поверхность памятника это остатки культурногослоя, насыщенного разнообразным материалом, относящимся кзолотоордынскому времени (фрагменты керамических изделий,ордынская плинфа и т.д.). Поселение сильно потревожено недавнимиграбительскими раскопками.
Керамический материал, обнаруженный на поселении типичен дляаналогичных памятников XIV века. По фрагментам определеныследующие типы изделий: 1) красноглиняная неполивная керамика:хум, хумчи, афтобы, водоносные кувшины, кухонная и столоваяпосуда; 2) поливная керамика: фрагменты пиалы из кашина сультрамариновой и голубой поливой, фрагменты красноглиняного блюдас жёлто-коричневой поливой по белому ангобу, фрагментыкрасноглиняного блюда с зелёной поливой, декорированного тёмнымиотводками. Фрагменты неполивной керамики декорированы линейныморнаментом и орнаментом «бегущая волна». Все подобные изделия иформы хорошо известны по керамическому комплексу Селитренногогородища и других ордынских памятников Нижней Волги.Золотоордынская плинфа имеет стандартный размер.
Из выкидов грабительских ям были собраны фрагменты чугунныхкотлов, относящиеся к, не менее чем, трём экземплярам. Качестволитья весьма грубое, с плохо обработанными швами.
На поселении так же были найдены:- Округлая каменная тёрка с двумя рабочими плоскостями; - Два костяных «конька»; - Бронзовая ременная накладка с петлёй;- Три свинцовых прясла; - Бронзовая верхняя обойма рукоятки ножа; - Осколок металлического зеркала; На памятнике нами собраны 24 монеты. Несколько монет
предоставил владелец чабанской точки, расположенной на этом бугре.Серебро
1. Токтогу, Сарай ал-Махруса, 710 г.х.
2. Узбек, Сарай ал-Махруса, 722 г.х.3. Джанибек, Сарай ал-Джедид, 747 г.х.4. Абдаллах, Азак, 764 г.х.
Медь1. Звезда, уналты пул данг, Сарай, 72 (?) г.х. 1экз.2. Сокол, Сарай, 726 г. х 3экз3. Тамга дома Бату, Узбек, Крым, б. г . 1 экз.4. Барс влево, кутлуг булсун... , Сарай, б .г. (30-е гг.)
2 экз.5. Лев\солнце, высочайшее повеление, Сарай, б. г. (30-гг.)
1 экз.6. Уналты пул данг, Сарай, 731г. х.
1экз.7. Лев\ полусолнце, высочайшее повеление, б. г. ( кон.30-х
гг) 3 экз.8. Двуглавый орёл, Сарай ал-Джедид, б.г. (40-е) 5
экз.9. Цветочная розетка, Сарай ал-Джедид, б.г. (50-е гг.)
2 экз.10. Хызр, Сарай ал-Джедид, 762 г. х.
3 экз.11. Азиз-шейх, Сарай ал-Джедид, 767 г. х.
1экз.12. Улджай-Тимур, Сарай ал-Джедид, 768 г.х.
1экз.
Отметим находку крымского пула с тамгой дома Бату. Такиемонеты чеканились в Крыму в первое десятилетие правления Узбек-хана. Они обыкновенны для монетных комплексов Причерноморья, но напамятниках Астраханской области ещё зафиксированы не были.Относительно редким для Нижнего Поволжья является также азакскийданг Абдаллаха. Три пула Хыр-хана были найдены в виде мини-клада:слипшийся столбик монет, без следов оболочки.
Часть монетного материала из грабительских раскопок с этогопоселения стала доступна А.В. Пачкалову и им опубликована. По егоинформации, помимо монет найденных нами, на поселенииприсутствовали пулы Кильдибека, Хаир-Пулада, Абдаллаха, в томчисле пулы Абдаллаха азакского чекана. Есть также 6 экземпляровновосарайской цветочной розетки с надчеканкой Маджар.
Эти монетные комплексы позволяют достаточно надёжно установитьхронологические границы памятника. Поселение возникло в самомначале правления Узбек-хана, и непрерывно существовало напротяжении пятидесяти лет. Младшими в комплексе являются монетыАзиз-шейха и Улджай-тимура, т.е. поселение было оставлено в самомначале 70-х годов (до 1374 года).
Исходя из географического расположения поселения и наличия всоставе монетного комплекса крымских, маджарских и азакских монетможно предположить участие его населения в системе караванныхдорог связывавших Нижнее Поволжье с Причерноморьем и СевернымКавказом. Исчезновение поселения пришлось как раз на время развалазолотоордынской экономики и сокращения торговли в «замятню».
Обнаружение этого поселения имеет прямое отношение к вопросу окаспийской трансгрессии XIII-XIV веков и её влиянии назолотоордынские памятники в дельте Волги. Во многих исследованияхисходят из того, что пик трансгрессии, с уровнем -18 метровпришёлся на 30-40 годы XIV века, или шире – на первую половину XIVвека. Лиманское поселение достоверно существовало весь этот периоди из всех известных на сегодня золотоордынских памятников являетсянаиболее близким к морю. Нами были неоднократно произведены замерывысот на памятнике по альтиметру прибора GPS. Получены такиерезультаты: гребень бэровского бугра в районе поселения -17, -18м; культурный слой на уровне наибольшей протяжённости вдоль бугра-19, -20 метров; низ культурного слоя вдоль ильменя -22, -23метра.
Лиманское поселение, существовавшее в 1320-1360-х годах, неподвергалось затоплению Каспийским морем, соответственно не былизатоплены другие золотоордынские памятники, имеющие аналогичныевысотные отметки.
ЛУК И СТРЕЛЫ В СОСТАВЕ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВООРУЖЕНИЯ: ВОПРОСЫИЗУЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ СРЕДСТВ
А.К. Кушкумбаев
В современной археологии евразийских степей древности исредневековья в последние десятилетия сформировался специальныйподраздел, который занимается непосредственно изучением военнойистории по остаткам материальной культуры получивший особоеназвание «военная археология». В рамках этой подотраслиархеологической науки особенно интенсивно в последние годыразвивается такое ее направление как «археологическоеоружиеведение»1. Оружиеведческие работы по исследованию кочевыхсообществ на территории Евразии, изданные в бывшем СССР – второйполовины XX и современной России – начала XXI века, несомненно,достигли весомых научных результатов по осмыслению ранеенакопленных и введению в научный оборот новых материальныхартефактов военной культуры номадов. Изготовление оружия в кочевомобществе все более совершенствовалось и прогрессировало и, по всейвероятности, достигало пика своего развития в эпохуцентрализованных кочевых империй в различных частях евразийскогоконтинента. Приоритетное место в изысканиях специалистов занимаетручное метательное оружие – лук и стрелы.
Лидирующие позиции этого вида метательных средств у монголов,также как и других народов Центральной Азии (шире Евразии) можнообъяснить тем, что они находили самое широкое применение на охоте– втором важнейшим хозяйственном занятии, а также особенностямипрактикования конно-лучной тактики дальнего боя. Кочевникиотдавали предпочтение на войне такому эффективному оружию как луки стрелы, также из-за своей естественной среды обитания – степные,лесостепные, горно-таежные зоны, в которых можно было подобратьнеобходимый древесный материал и сырье для их изготовления2.Домашний скот мог давать в изобилии некоторые значимыевещественные составляющие (кости, рог, волосы, кожа) метательногооружия. Тем самым, естественно-природный фактор вкупе сосложившимся кочевым типом хозяйства стал материально-техническойбазой производства предметов вооружения номадов. Помимо отмеченныхобстоятельств следует указать также на огромную роль военных иполитических контактов, установленных торгово-экономических1 Об этих понятиях см.: (Герасимов, 2005, С. 4). 2 Более века назад известный немецкий этнограф Б. Адлер, занимавшийся изучениемлуков и стрел североазиатских народов, отмечал, что «для закрепления исоединения отдельных частей луков и стрел у разных народов пользовались мочалой,жилами, шелком, нитками и корой… все эти материалы обусловлены главным образомдоступностью их» (Адлер, 1903, С. 182).
отношений и связей с соседними и отдаленными странами, в ходекоторых закономерно проходил интенсивный обмен оружием итехнологиями. Создание военно-технической «индустрии» собственногопоточного изготовления боевого вооружения, безусловно, основанноена привлечении как своих (степных), так и иноземных мастеров-оружейников существенно «оплодотворило» имеющиеся ремесленныетрадиции, способствовало творческому взаимообогащению достигнутыхрезультатов и полученных инноваций в оружейном деле.
ЛукиВ XIII-XIV вв. монгольский лук, как следует из средневекового
глоссария «Муккадимат ал-Адаб», назывался «numun»1 илииспользовался его тюркский эквивалент «yai»2. Основные части лука:рукоять – «numuni bari’ūr» («yai tutgasï» – тюрк.), внутренняяповерхность лука – «eligen» («baγrï»), концы лука – «qičir» («γulaγï»).В целом деревянная часть лука – «numunu modun» («yai yïγačï») (Поппе,1938, С. 261), т.е. кибить. Лук и сопутствующие ему стрелы (вместеили раздельно) постоянно фигурируют в синхронных письменных,изобразительных источниках средневековых авторов и более позднихфольклорных материалах тюрко-монгольских кочевых народов. Один изпервых кто сделал относительно раннюю «классификацию» монгольскогокомплекса боевых средств был сунский дипломат Пэн Да-я посетившийставку Угэдэй-каана в 1233-1234 гг.: «Если перейти к самомуглавному из их (видов вооружения), то лук со стрелами будет напервом месте» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 62). Эти данныеподтверждают и другие источники. Монголы, «оружие же все поменьшей мере должны иметь такое: два или три лука, или по меньшеймере один хороший» (Плано Карпини, 1957, С. 50). Матфей Парижскийособо обратил внимание на то, что монголы умеют воевать различныморужием, «но предпочтение отдают лукам и метко, с большимискусством из них стреляют» (Матузова, 1979, С. 150, 175).
Письменные данные редко сообщают об основных материальныхэлементах и некоторых особенностях монгольских луков. Посообщениям китайских послов «(черные татары) имеют также луки изрогов архаров (пластины из рога прикрепляются к навершиям(луков))» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 61). Примечательно, чтоздесь говорится о роговых пластинах, крепившихся к концам лука,что не исключает и других конструктивных сложносоставных вариантоворужия дистанционного боя. 1 В кратком монгольском словаре, приведенном в сочинении Киракоса Гандзакеци лук— ныму (Киракос, 1976, С. 173), что, безусловно, подтверждает его монгольскоеназвание.2 yai – производное древнетюркского Ja (Древнетюркский словарь, 1969, С. 221). Визвестном средневековом словаре тюркских наречий Махмуда Кашгари значение лукапередана в форме йā (Махмуд, 2005, С. 903; в языке тюркских мамлюков Египта луктакже назывался – йа см.: Курышжанов, 1970, С. 118).
Отдельные детали и предметы вооружения, относящиеся к оружиюдальнего боя устойчиво фиксируются в сопроводительном инвентарепогребенных, датируемых золотоордынским временем. Как правило,археологи выявляют специально изготовленные костяные (режероговые) накладки (или пластины), наложенные на кибить луков. Ихколичество, размеры, конфигурация зависели от функциональныхособенностей и размеров лука, материального оформления в своюочередь зависящих от физических качеств стрелка. Нередко взначительном количестве находят железные и костяные наконечникистрел различной формы, а также остатки (детали) берестяныхколчанов. Плохо сохраняющиеся деревянные древки стрел взахоронениях встречаются очень редко. Вместе с тем, интересуемыйоружейный набор иногда существенно пополняется уникальнымислучайными находками ориентировочно, определяемыми золотоордынской(или монгольской) эпохой в евразийских степях и смежныхтерриториях.
Монгольское вооружение дистанционного боя развитогосредневековья и золотоордынское в частности уже неоднократностановилось объектом исследовательского интереса. К этой теме ужеобращались такие специалисты как С.В. Киселев и Н.Я. Мерперт(Киселев, Мерперт, 1965), А.Ф. Медведев (Медведев, 1966а, 1966б),Г.А. Федоров-Давыдов (Федоров-Давыдов, 1966; 1981), В.А. Иванов(Иванов, 1987), В.Ф. Немеров (Немеров, 1987), Ю.С. Худяков(Худяков, 1985, 1991, 1993, 1997), М.В. Горелик (Горелик, 2002),И.А. Воронцов (Воронцов, 2006) и др.
По данным исследования Г.А. Федоров-Давыдова среди погребенийпоздних (золотоордынских) кочевников простые по конструкции лукине фиксируются1 (Федоров-Давыдов, 1966, С. 25). Тем самым, исходяиз сохранившихся костяных накладок позднекочевнические луки можноотнести к сложным (или точнее сложносоставным)2. Г.А. Федоров-
1 В одном из погребений Ляпинской балки присутствовал очень сильнофрагментированный лук, от которого «сохранился лишь деревянный тлен». А.В.Евглевский и В.К. Кульбака из-за отсутствия металлических и костяных деталейсчитают, что данный лук был простым (Евглевский, Кульбака, 2003, С. 365, 385.Рис. 5, 16). Это, конечно, допускает использование золотоордынскими кочевникамии простых луков, но, тем не менее, трудно определить его распространенность какбоевого оружия в рассматриваемое время. 2 История сложносоставного лука прослеживается на протяжении несколькихтысячелетий. Во второй половине II-I тыс. до н. э. на территории Монголии, ЮжнойСибири, Восточного Туркестана, Казахстана на петроглифах эпохи бронзы и раннегожелеза стали появляться изображения типичного сложносоставного лука «с кибитью,имеющей загнутые концы, выгнутые плечи и вогнутую середину» (Худяков, 1993, С.107). Как показали последние исследования, древнее население Центральной Азии(Монголия) – т.н. культуры «плиточных могил», «херексуров», «оленных камней»эпохи поздней бронзы II тыс. до н.э. стало пользоваться сложносоставными лукамис концевыми накладками (Насан-Очир, 2008, С. 10, 12, 19). В Китае эпохи Инь и
Давыдов срединные накладки кибити лука делит на пять типов:овальные (I), дуговидные (II), трапециевидные (III), овальные свырезом (IV), прямоугольные (V). Последний тип имеет аналоги и надругих территориях. В поселении Дальверзин (Восточная Фергана),хронологически определяемой по монетам XIV в., Ю.А. Заднепровскимобнаружен обломок прямоугольной костяной срединной накладки налук, имевшей сужение к верху, длиной сохранившейся части 5 см ишириной 2,8 см (Заднепровский, 1975, С. 277. Рис. 2, г). Срединныеовальные накладки найдены на памятнике Верхне-Рубежный-I, к.2, п.1(Гуренко, Ситников, Скворцов, Сурков, 1994, С. 48-50). Поколичеству находок в золотоордынских погребениях преобладаютпервые два типа – овальные (имеющие аналоги в Сибири, Семиречье,салтовской культуре) и дуговидные (аналоги – Новгород, Саркел,Сибирь, Старая Ладога и др.) (Федоров-Давыдов, 1966, С. 25. Рис.3, 6). Помимо вышеуказанных, отмечены фронтальные срединныенакладки, найденные ранее как в Сибири, так и в Новгороде(Медведев, 1959, С. 140. Рис. 8. 4,5,6; С. 142. Рис. 10. 5),крепившиеся, судя по всему с двух боков рукояти и с внутреннейстороны, обращенной к лучнику. В общей сложности их количествомогло достигать 4-х и, по-видимому, зависело от конструктивныхособенностей кибити лука. Концевые накладки относятся к двумтипам: I тип – в форме прямоугольной пластины с вырезом, II тип –треугольная пластина с вырезом (аналог – из материалов Саркела)(Федоров-Давыдов, 1966, С. 25-26. Рис. 3, 8). Из обследованных В.А.Ивановым и В.А. Кригером погребений на Южном Урале в десятинайдены костяные накладки на лук, имеющие определенноесоответствие с типологией, предложенной Г.А. Федоровым-Давыдовым.К разряду часто встречающихся относятся: срединные овальной формыс закругленными концами; единичные экземпляры – концевые свырезами для тетивы, фронтальные в виде двухлопастного весла(Иванов, Кригер, 1988, С. 13. Рис. 7, 8, 9; Рис. 2, 9, 10; см. такжеБисембаев, 2003, С. 97). По форме последние, безусловно, идентичныфронтальным срединным накладкам, выявленным у золотоордынскихкочевников (см. (Федоров-Давыдов, 1966, С. 26. Рис. 2, 7)). Изматериалов кочевнического погребения у сел. НовоселицкоеСтавропольского края известны 4 фрагмента костяных пластин ссегментовидным сечением. С внешней стороны поверхностьзашлифована, с обратной «плоская, слегка вогнутая, имеет следыгрубой обработки в виде косой сетки» или «нарезных полос», чтоЧжоу в последней четверти II тыс. до н.э. отмечены рисунки (иньские гадательныенадписи) сложного лука сигмовидной формы, предположительно достигавшие в длину120-150 см (Варенов, 1989, С. 30; Горелик, 1993, С. 69; Литвинский, 2002, С.217-218). Уже в этот период проходившая эволюция луков, как на Дальнем Востоке,так и в центральноазиатских степях была тесно связана между собой.
дает возможность считать данные пластины накладками на лук,«приклеивавшиеся к деревянной основе». Одна из них по форме –вырезу в центральной части (обеспечивающей упругость при сгибе),определяется как накладка на рукояти лука. В этом и другихзахоронениях северокавказских кочевников, по мнению Е.И.Нарожного, постоянно встречаются костяные накладки (сегментовиднойформы) на луки (Нарожный, 2005, С. 105-109. Рис. 45), уверенноотносимые им к золотоордынскому периоду. В ходе работыархеологической экспедиции Волгоградского государственногоуниверситета в Краснодарском крае в курганной группе «Южный-84»выявлены четыре концевые костяные накладки на лук (Блохин,Дьяченко, Скрипкин, 2003, С. 190, 207. Рис. 8, 12). При всейсложности этнокультурной атрибуции и этнохронологическойидентификации (найденные артефакты датируются XII-XIV вв.) можносказать, что северокавказские накладки несколько отличаются оттипа концевых накладок, показанной Г.А. Федоровым-Давыдовым иболее сближаются с графической формой представленной М.В.Гореликом (Горелик, 2002, С. 60. Рис. 1а). Концевая и центральнаянакладка встречена в кургане у «Третьего Плеса», причем внутренняяповерхность первой была покрыта нарезными продольными линиями(Костюков, 2007, С. 147. Рис. 3, 23).
Пожалуй, единственный лук, который может быть более или менеереконструирован, встретился в погребальном комплексе на р.Молочной в захоронении знатного кочевника, хронологическипринадлежавшем раннему золотоордынскому времени. Среди вещей,сопровождавших умершего, лежали хорошо сохранившиеся деталисложносоставного лука: два конца (сделаны из ясеня), два плеча (изклена), центральной части с костяной накладкой. На концевых частяхрасполагались два углубления для тетивы, нижний конец имел длину26 см. Нижнее плечо лука – длиной 36 см, шириной – 2,5 см. Отверхнего плеча имеется только фрагмент шириной 3,6 см. Центральнуючасть составляла планка: длина – 27 см, ширина 2,5 см, укрепленнаякостяной пластиной длиной 26,5 см, шириной 2 см. «Все части, кромеконцов для тетивы, сужались с обеих сторон и соединялись междусобой внакладку. Концы для тетивы имели ровные косые срезы длясоединения с суженными концами плечиков. Места стыковок всехчастей укреплялись с обеих сторон узкими тонкими планочками (липа– А.К.), что хорошо видно по одному из концов нижнего плеча.Поверхность составных частей лука была покрыта грубыми глубокимирасчесами и оклеена берестой. Исключение составляла центральнаячасть костяной накладки, но концы ее с внешней стороны также имелиспециальную обработку, по границам которой можно судить, какаячасть накладки оставалось открытой» (Рассамакин, 2003, С. 216,227. Рис. 6).
Другой сложносоставной лук, с хорошо сохранившийся деревяннойосновой, был извлечен из погребения воина-черкеса XIII-XIV в. к. 1Белореченского могильника. М.В. Горелик считает, что лукисеверокавказского воинства этой эпохи «вполне сопоставимы с лукамидругих регионов Золотой Орды». Этот лук был склеен «из пяти частей– рукояти, двух предварительно изогнутых плеч и двух рогов.Внешняя сторона плеч оклеивается вареными сухожилиями на рыбьемклее, внутренняя – роговыми подзорами. Рукоять и рога оклеиваютсякостяными накладками. Луки монгольской эпохи отличаютсяспецифической формы костяными накладками на внутреннюю сторонурукояти. Они имели форму двустороннего весла, прием расширения,приходившиеся на начало плеч, отогнуты вперед. Этот прием позволяллуку быть всегда вынутым в сторону, противоположную тетиве, чтомеханически обеспечивало его рефлективность. Она еще болееусиливалась за счет того, что готовое древко лука перед пуском егов дело около года выдерживалось связанным в кольцо» (Горелик,2008, С. 165).
Особенности форм концевых накладок были обусловлены структуройкибити (размеры, конструкция, материал) так и практическимиспособами натяжения тетивы на концах лука. Ближайшие исходныеобразцы луков, применявшиеся золотоордынскими кочевниками, следуетискать, по всей вероятности, в Центральной Азии и Сибири.
В середине 60-х гг. ХХ в. А.А. Гаврилова, опираясь наюжносибирские материалы, по количеству и форме накладок,представила четыре стадии развития сложного лука. Именно напоследних стадиях, у поздних кочевников, прослеживается уменьшениеразмеров роговых накладок, связанные с уменьшением размеров лука,определившие затем изменение их формы. Луки этого периода имелимассивные вкладыши: «одним срединным, врезанным в кибить, и вредких случаях одним концевым, вставленным в расщеплённый конецкибити». Наличие таких вкладышей объясняется тем, что ониврезались в основу кибити лука и сидели прочнее, чем роговыенакладки (Гаврилова, 1965, С. 87-88. Рис. 13, 13; табл. XXXI, 81)).Дальнейшие исследования археологов, в частности, Д.Г. Савиновапозволили не только уточнить, но и определить существенныеизменения в устройстве лука, произошедшие в начале II тыс. н.э. иконкретизировать эволюционную линию его развития. Для этогопериода характерно распространение луков «с одной, в лучшем случаес двумя накладками, из которых одна (крупная срединная, с четковыраженными лопаткообразными концами) находилась на внутреннейстороне кибити, а другая (концевая, подтреугольная в сечении, свырезом для тетивы) крепилась на внешней ее стороне, постепенносужаясь к месту верхнего изгиба плеча». С этим временем связываютпоявление луков т.н. «монгольского типа», по конструкции
отличавшимися от бытовавших древнетюркских, но, элементы котороготесно связаны с последними (Савинов, 1981, С. 155-156). Вмонгольский период наибольшую известность получает вариантсложносоставного лука с одной фронтальной массивной «веслообразнойроговой накладкой» дополняемой деревянными вкладышами (илинадставками) на концах кибити (Савинов, 1981, С. 162. Рис. 6, 4,Рис. 7; Немеров, 1987, С. 214. Рис. 2, 1, 2). Луки этого типаотносительно быстро распространились на территории Евразии.
В двух фундаментальных работах Ю.С. Худякова (1991, 1997),посвященных комплексу вооружения кочевников Южной Сибири иЦентральной Азии специальному анализу подвергнуты сложносоставныелуки «монгольского типа». Исходя из количества и местоположениянакладок, выделены следующие типы: (I) со срединной фронтальнойнакладкой, (II) со срединной фронтальной и плечевой фронтальнойнакладками, (III) с концевым вкладышем, (IV) с концевым вкладышем,плечевыми и срединной фронтальной накладками. Наиболее частовстречающимися являются типы I и II, чуть реже IV и в единственномэкземпляре тип III (Худяков, 1991, С. 99-102. Рис. 49-51).Исследователь приходит к выводу, что у монголов XI-XII вв.«бытовало два основных типа лука: со срединными фронтальными иплечевыми фронтальными накладками» и в этот период они начинаютраспространятся на всей центрально-азиатской территории, что нашлопроявление в направлении «унификации общераспространенных типов вовсем историко-культурном регионе». Одновременно им отмечено, что у«монголов в XIII-XIV вв. н.э. безусловно преобладали луки сосрединными фронтальными накладками». В целом это положениеподтверждается археологическими раскопками последнего времени сосмежных территорий. Из материалов курганного могильника ТелеутскийВзвоз-I к.14 в лесостепном Алтае, относимых к XIII-XIV вв.известна срединная тыльная накладка «весловидной формы» длиной16,2 см и шириной в средней части 2,2 см (Тишкин, Горбунов,Казаков, 2002, С. 60, 85. Рис. 61, 5). Думается данная накладкавполне соответствует типу 1 или 2 (срединная фронтальная накладка)по Ю.С. Худякову (Худяков, 1991, С. 99-100. Рис. 49, 50) илиявляется его модификацией. Вместе с тем монголы располагали идругими типами луков, у которых имелись плечевые накладки иконцевые вкладыши», которые просуществовали до этнографическизафиксированной современности, поэтому, «процесс технологическогоусовершенствования луков в кочевой среде в монгольское времянельзя считать завершенным», – обоснованно отмечает Ю.С. Худяков(Худяков, 1991, С. 103-104).
Как показывают последние исследования на крайних северо-восточных пределах Улуса Джучи – в районе степного и лесостепногоАлтая кочевники имели на вооружении луки как с концевой и
срединной фронтальной накладкой, так и «с одной срединнойфронтальной роговой накладкой и расширяющимися концами» (Худяков,2009, С. 173. Рис. 1, 1, 2). Их ранее появление здесь вполнезакономерно и связано с распространением монгольских завоеваний ирасселением центрально-азиатских номадов.
Таким образом, в начале II тыс. до н.э. совершился переход кновой, наиболее апробированной и функционально-эффективной формелука, в конструкции которой ведущим становится тип «с одной«веслообразной» срединной фронтальной накладкой», именуемый влитературе «монгольским». В ходе эволюции сложносоставных луковпроисходит отбор оптимальных моделей из уже существующих типов.Эти новации, носящие принципиальный характер, опирающиеся нагибкость и упругость материала – кости, коснулись технологииизготовления лука, в котором стали использоваться плечевыефронтальные накладки, позволившие усилить рефлекторные свойстваплечей кибити. Это дало возможность увеличить упругость самоголука до необходимой силы натяжения. Закономерно, что улучшениеконструкции лука (сокращение размера кибити, усиление плечей)подняло результативность стрельбы по цели. В то же время«произошедшие изменения в военном деле, связанные синтенсификацией конного боя, позволили сократить количествокостяных деталей на кибити до одной срединной фронтальнойнакладки». Эти изменения связаны с уменьшением расстояния полетастрел с одновременной интенсификацией конного боя и усилениемскорострельности стрельбы, что и предопределило преобладание луковсо срединной фронтальной накладкой, отличавшейся надежностью винтенсивном бою. В период монгольских завоеваний данный тип лукаполучил самое широкое распространение на просторах Евразии(Худяков, 1993; Худяков, 1997, С. 121-123; Горбунов, 2006, С. 22,24-25).
По М.В. Горелику, монголы обладали двумя типами сложносоставныхрефлексивных (или сигмовидных1) луков: (1) «китайско-центрально-азиатский». Для него характерны прямая рукоять, округлыевыступающие плечи, длинные прямые или чуть изогнутые рога длиной в120-140 см; (2) «ближневосточный» («ирано-тюркский») имел слабовыступающие, крутые округлые плечи и короткие слабо (иногдасильно) изогнутые рога, достигавшие в длину 80-110 см. Лукисклеивались в своей основе из 2-3-х кусков (планок) дерева, «слоясухожилий, наклеенных в натянутом состоянии с наружной стороныплечей, двух тонких роговых полос, подклеенных к плечам свнутренней стороны, изогнутой костяной пластины с расширяющимисякак лопата концами, которую приклеивали у внутренней стороне1 При спущенной тетиве, плечи таких луков изгибались в противоположную(обратную) сторону.
рукояти и примыкающим участкам плеч, иногда пары продолговатыхкостяных пластин, клеящихся к боковым сторонам рукояти». Крометого, к рогам луков первого типа с двух боков клеились две пары«костяных длинных пластин с вырезами для тетивы». Для другого типарога лука снабжались костяной пластиной-наклейкой имевшей выемкидля тетивы и клеившейся к дереву сверху. Поверхность плечей лукаобклеивалась берестой или тонкой кожей с расписанными узорами ипокрывалось лаком для предохранения от сырости (Горелик, 2002, С.18, 60. Рисунки).
Специалиста, изготавливающего луки, монголы называли «numuči»(тюрк. эквивалент – «yaičï») (Поппе, 1938, С. 261). Между тем каждыйвоин-кочевник мог сделать стрелковое оружие сам. Так, монгольские«мужчины, – сообщает Рубрук, – делают луки и стрелы» (Рубрук,1957, С. 99). В одном из разделов «Жизнеописания знаменитых» Юаньши, отец Бучжира – некто Нюрге из рода татар «обладал храбростью исилой, был прекрасным наездником и стрелком, умел делать луки истрелы ... (Чингисхан) увидел, что он держит в руках оченькрасивый лук со стрелами, и спросил кто их сделал. (Нюрге) ответилтак: «Подданный сам сделал их» («Жизнеописания знаменитых», 2009,С. 243). Возможно, этот Нюрге был сам тем мастером – numuči,делающим луки и стрелы и этот факт привлек внимание и попал вофициальную династийную хронику.
Размеры лука, указанные М.В. Гореликом, в целом подтверждаютсяархеологическими находками. Длина лука (в натянутом положении М-образной формы) со спущенной тетивой из могильника Зугамара-1 нар. Хилок доходила до 120 см (Немеров, 1987, С. 214). Находкасложносоставного лука, поверхность которого была обшита берестой,имела три накладки – одну срединную и две концевые и при спущеннойтетиве достигала в длину 150 см (Козюменко, Беспалый, Раев, 2001,С. 195). Такой лук можно отнести к большому боевому луку. Длясравнения можно отметить, что длина лука на Руси, средневековыхарабов, персов варьировалась в пределах 140-180 см, а стрелыдостигали половины длины кибити лука, т.е. 75-90 см (Медведев,1966б, С. 52). Видимо, как общая длина монгольских относительномалых по размерам луков в «3 чи» дана в сочинении Пэн Дая и СюйТина (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 61). В XIII в. «чи» составлялприблизительно 32 см, т.е. длина лука по сведениям этих авторовсоставляла 96 см или около метра. Луки для предохранения отповреждении хранили в налучьях – саадаках, прикрепленных к поясуслева. Монгольские воины саадак обычно носили в диагональномположении (наискосок) или в другой удобной манере.
Такая важнейшая деталь лука как тетива (шнур, веревка) имелаключевое значение при натягивании жестких (упругих) плечей идолжна была отвечать необходимым качествам: прочность, достаточная
эластичность, адаптированность к погодным условиям. Тетива köbči,köbčin – монг. или kiriš 1(тюрк.) (Поппе, 1938, С. 219) лука делаласьв форме комбинированных съемных петлей, что давало возможностьудобно одевать и снимать их с концов и продлевало срок ееэксплуатации. Кроме того, двухпетельную тетиву можно было снятьпри не рабочем состоянии и дольше сохранить тем самым натяжнуюсилу как тетивы, так и лука (Медведев, 1966б, С. 16, 18).Материалом для тетивы монгольских луков («номоной оохор» по В.Ф.Немерову) служили тонкие крученые кожаные ремни из бычьей шкурыили плетеные овечьи кишки (Немеров, 1987, С. 215), кроме тогоприменялись и шелковые нити. Тетива восточных луков состояла из 5-6 сплетенных нитей, полученных из овечьей шерсти, перетянутойшелковыми нитями (Бехайм, 1995, С. 284). Длина тетивы зависела отпараметров лука. В «Сокровенном сказании» говорится о«длиннотетивных луках» (Сокровенное сказание, 1990, § 105, С. 37),что подразумевает большие по размерам луки.
Регулярные торговые, военные, экономические отношения,существовавшие у Золотой Орды с другими государствами, обусловилипостоянный обмен военно-техническими достижениями с соседними иотдаленными странами. Только через военно-дипломатические каналы вУлус Джучи проникало не малое количество высококачественногоближневосточного оружия, в том числе и всевозможные ручныеметательные средства. Из арабских источников известно, чтоегипетские султаны постоянно отправляли со своими посольствами вЗолотую Орду различные ценные подарки, в числе которых:«дамаскские луки с кольцом и шелковыми тетивами; луки для метания(небольших) ядер со своими тетивами … стрелы удивительной отделкив кожаных футлярах»; «луки для метания нефти» и т.д. Причем «все всвоем (должном) количестве» (Абд аз-Захир, 2005, С. 73; Калавун,2005, С. 79; Байбарс, 2005, С. 90, 94). Влияние Востока отразилосьи на военной терминологии. Так, арабские стрелы стали называть«‛arabīn sumuni qadasun» – древко арабской стрелы (Поппе, 1938, С.392). Подобным образом и золотоордынское оружие могло попадать вдругие средневековые государства. По Ибн Биби Бату (Саин-хан)«пожаловал» сельджукскому султану в числе прочих подарков «колчан,футляр для него» (Ибн Биби, 2006, С. 65).
На территории Северного Кавказа и причерноморской зоне находятбольшое количество различных типов наконечников стрел – болтовбронебойного назначения от арбалетов (самострелов), относимых кXIII-XV вв. (Сальников, 2003, С. 157-158. Рис. 1; Зажигалов, 2004,С. 45-47. Рис. 1), обнаруженные как в позднекочевнических
1 В тюркских языках kiriš – тетива (Древнетюркский словарь, 1969, С. 309). В«Диван лугат ат-Турк» тетива – «кириш» (Махмуд, 2005, С. 352; см. также:Курышжанов, 1970, С. 146).
захоронениях, так и в черте золотоордынского города Азака.Западное происхождение арбалетных болтов не вызывает сомнений, нокак они попали в регион? А.В. Сальников связывает распространениеарбалетного набора в Крыму и Приазовье с европейскими(итальянскими – Венеция, Генуя) контингентами войск, служивших врегионе. Через них племена горцев Кавказа могли познакомиться сарбалетным вооружением. Отряды горских народов (черкесы) иитальянские наемники участвовали в военных кампанияхзолотоордынских властителей, в частности, Мамая (Сальников, 2003,С. 158-159; Сальников, 2007, С. 28). Арбалетный набор болтов,обнаруженный киевскими археологами вблизи с. Половецкое, возможно,проник вместе с отрядами литовского князя Витовта во времяпротивостояния его с Золотой Ордой в конце XIV – начале XV в.(Зажигалов, 2004, С. 47). Вместе с тем одно из египетскихпосольств во главе с эмиром Фарис ад-дином Акушем ал-Мас‘уди иШарифом ‘Имад ад-дином ал-Хашими направленное к Берке сопровождало«большое число стрельцов … да людей, вооруженных самострелами»(Абд аз-Захир, 2005, С. 74). Не исключено, что и на вооружениизолотоордынских пеших воинов из числа наемников – представителейоседлых народов было такое оружие как арбалеты1. Имели ли онизначительное распространение сказать сложно.
Наконечники стрелЗакономерно, что в погребениях кочевников, стационарных
культурных слоях (жилища, поселения, городищи) развитогосредневековья традиционно из воинского набора более разнообразнопредставлены наконечники стрел. На похоронах богатых монголовсреди сопроводительных вещей в источниках, со слов очевидцев,сообщается о луке и колчане со стрелами (Ц. де Бридиа, 2002, С.119).
Метательный снаряд – стрела по-монгольски называлась sumun2 (oq3
– тюрк.) (Поппе, 1938, С. 327). В «Сокровенном сказании» можнонайти различные названия монгольских стрел. Чжамуха, обращаясь кмолодому Тэмучжину и Тоорил (Ван)-хану перечисляя свое личноевооружение упоминает стрелы «с зарубинами» (Сокровенное сказание,1 Французский востоковед Жан-Поль Ру пишет об участии «французских стрелков,вооруженных арбалетами, в монгольских армиях» (Ру, Ж-П, 2005, С. 62), но безссылок на источники.2У Киракоса Гандзакеци монгольская стрела – сыму, сокращенный вариант написания(или произношения?) (Киракос, 1976, С. 173). В монгольском военно-историческомсловаре приведены некоторые названия стрел: «тумер булсуу» – стрела с железнымнаконечником, «джебэ» – «бронебойная стрела, «гходоли» – «тупая костяная стрелаили стрела свистунка, «учума» – стрела (?), «дагху-ту йор ийан» – стрела из рогаоленя, свистунка (Артак). 3 В древнетюркском языке «OQ» – отсюда oq jačï – лучник, стрелок (Древнетюркскийсловарь, 1969, С. 368-369; ук – Махмуд, 2005, С. 76; оқ – Курышжанов, 1970, С.175).
1990, § 106, С. 37-38). По всей вероятности здесь имеется ввидукакие-то особые зарубки, ставившиеся на древке стрелы. В юности помонгольскому обычаю побратимства (анда) Чжамуха и Тэмучжинобменялись ценными подарками: Чжамуха дал Тэмучжину «свистун-стрелу-йори», а тот в свою очередь отдарил его «детской стрелой-годоли скипарисовым лобком» (Сокровенное сказание, 1990, § 116, С. 42, см.также: § 77, С. 25). Назначая своих дружинников-разведчиковЧингиз-хан сравнил их с «дальними стрелами-хоорцах да ближними –одора!» » (Сокровенное сказание, 1990, § 124, С. 47). Чжамухахарактеризуя боевой арсенал младшего брата Чингиз-хана – богатыряХасара выделяет «стрелу анхуа», будто бы могла нанизывать «десяток-другой» людей (скорее всего в такой форме выражены ее бронебойныекачества). Другая стрела «кейбур-ветряница» по всей вероятностиобладала свойствами быстро вращаться при дальнем полете(Сокровенное сказание, 1990, § 195, С. 90). Давний противник домакият-борджигинов меркитский Тохтоа-беки был поражен в бою смонголами «метательной стрелой – шибайн1-сумун» (Сокровенноесказание, 1990, § 198, С. 93). От руки тысячника Чжурчедая«стрелой-учумах» получил ранение в лицо сын кераитского хана –Сангум (Сокровенное сказание, 1990, § 208, С. 104).
Монгольское вооружение своими особенностями сразу привлекловнимание современников – их военных противников. Так, «их стрелы,– подчеркивает Фома Сплитский, – длиннее наших на четыре пальца, сжелезными, костяными и роговыми сильно заостренными наконечниками.Основание стрел настолько узкое, что едва ли подходит к тетивенаших луков» (Фома Сплитский, 1997, С. 114). Таким образом,монголы использовали в бою стрелы как с железными, так и костянымихорошо отточенными лезвиями наконечников. Особо стоит обратитьвнимание на то, что автор говорит об узком основании стрел,подразумевая здесь ушко древка. О разнообразии стрел монголовсообщают и другие источники. «Есть у них (монголов. – А.К.) также идругие стрелы для стреляния птиц, зверей и безоружных людей, в трипальца ширины… и другие разнообразные стрелы для стреляния птиц изверей», – констатирует Плано Карпини (Плано Карпини, 1957, С.51). Если обратиться к другим показаниям, то, например, китайские
1 Возможно, что слово «шибайн» по происхождению связано с понятием «šiba’ūn» или«šiba’ūnu» – птица, птичья (Поппе, 1938, С. 332, 447), т.е. монголы сравнивалиили связывали данный тип стрел со стремительным полетом птицы. Этот термин(правда в сокращенной форме) встречается в восточных источниках и позднее.Хафиз-и Таныш, автор «Шараф-наме-йи шахи», в XVI в. писал, что «взявшись рукойза стрелы и луки, они (казахи – А.К.) показали высокое мастерство в стрельбе излука (шиба)» (Шараф-наме-йи шахи, 1969, С. 281). О чем именно здесь идет речь несовсем понятно: то ли о луке, называемом «шиба» или мастерстве (техника)стрельбы из лука?
авторы выделяют следующую специфическую сторону: «Есть еще стрелы(у монголов – А.К.) из верблюжьих костей и стрелы с длинными иплоскими (похожими на) иглы наконечниками» (Пэн Да-я, Сюй Тин,2009, С. 61). В последнем случае речь идет о бронебойных(боеголовковые) острых наконечниках, обладающих достаточнойубойной силой. Возможно, об одном из таких наконечниковназывавшихся «тона» (тунэ) оснащенным тремя очень острыми остриямиговорится в «Джами ат-таварих» (Рашид ад-Дин, Т. III, 1946, С.187). К числу сигнальных стрел относились стрелы без наконечников.Лица, пересекавшие условную границу ханского шатра, при попытке кбегству подвергались обстрелу стрелами без железного наконечникагвардейской стражей (Плано Карпини, 1957, С. 75). По-видимому,здесь речь идет о стрелах с деревянной (тупой?) головкой. Вофициальной хронике династии Юань приведен случай использованиядеревянных наконечников в отношении нарушителей из числакомандного состава монгольской армии как средство подающегопредупредительный сигнал. «Всякого тысячника, который нарушитранее принятые решения темника, того потом расстрелять стрелами сдеревянными наконечниками» (Юань ши, 2005, С. 485). Здесь можнопонимать так, что речь идет о наказании командиров. По вновьуточненному переводу: «любых тысячников и темников, которые будутв передних рядах, то стрелять в них стрелами с деревянныминаконечниками вослед» («Основные записи», 2009, С. 169). Изкомментария к этому эпизоду следует, что «данный пассаж сообщает одействиях, которые следует предпринять, когда высшие военачальникиоказываются в передних рядах сражающихся монгольских войск.Стрельба деревянными стрелами тут скорее не наказание, а способсигнализации (или предотвращения опасных действий) тысячникам итемникам, попавшим в неположенное им место в ходе боя» («Основныезаписи», 2009, С. 273).
В своих путевых заметках И. Барбаро сообщает ценную информациюо стрелах золотоордынских татар. Из его рассказа видно, что утатар было три вида стрел: во-первых, собственно, боевые стрелыдля лука; во-вторых, охотничьи короткие «стрелы толщиной в палец,изогнутые и без оперения» применявшиеся против высоко летящихкрупных птиц и которые во время полета изменяли свою траекторию.Эти сведения следует признать уникальными; в-третьих, спортивные«стрелы с железной частью в виде полумесяца с острыми краями»,предназначавшиеся для перерезывания веревки, за которуюподвешивали серебряную чашку (Барбаро, 1971, С. 147, 148). Большоеколичество различных типов метательных стрел, встречающихся приисследовании археологических объектов (раскопки) изучаемоговремени, а также случайные находки позволяют считать, что этихспециальных названий было десятки (если не сотни).
Упоминается в синхронном этому времени монгольско-тюркскомсловаре такое словосочетание как «belge qarbuqu sumun» – стрела длястрельбы в цель или, например, круглый наконечник стрелы –«moγulčaq bašaq» («yumrї bašaq» – тюрк.) (Поппе, 1938, С. 116, 238).У Махмуда Кашгари «башак» – «наконечник стрелы, острие копья»(Махмуд Кашгари, 2005, С. 358). Не трудно заметить, что вопределенном контексте для обозначения понятия «наконечник стрелы»и в монгольском и тюркском варианте применен термин «bašaq», хотяотдельно это слово переводится как «колос».
Классификация наконечников стрел, найденных в монгольскойстолице Чингизидов – Каракоруме была проведена в 60-х годах XX в.С.В. Киселевым и Н.Я. Мерпертом. Согласно их изысканиям определено6 типов монгольских стрел: 5 – плоские, 1 – трехгранные, 1 –линзовидные (Киселев, Мерперт, 1965, С. 192-203). Как видно, здесьпо типам преобладают плоские наконечники.
В специальной статье и комплексной работе, посвященной ручнымметательным средствам раннего и развитого средневековья, вышедшейв 1966 году, А.Ф. Медведев практически полностью использовалсведения указанных выше авторов при разработке собственногоклассификационного построения (Медведев, 1966а, С. 50-60; 1966б, С.169. Рис. 34). При этом стоит обратить внимание на то, что привсех достоинствах этой очень полезной (во всех отношениях)оружиеведческой работы и довольно разнообразном привлекаемомматериале (более 6 тыс. наконечников стрел!) он интерпретирует этиданные, подает их в обобщенном виде, в том числе и стрелковыйарсенал кочевников южнорусских степей. Предложенная А.Ф.Медведевым классификация наконечников стрел1, по его словам, «непретендует на исчерпывающую полноту ввиду того, что автор не имелвозможности лично ознакомиться с коллекциями наконечников,хранящихся в музеях многих городов, да и едва ли возможно охватитьвесь этот огромный материал, разбросанный по многочисленнымцентральным и местным музеям»2 (Медведев, 1966б, С. 55).Исследователь в основу своего классификационного принципараспределения железных наконечников стрел восточно-европейскогорегиона, положил форму насада, в соответствии с которым он делитих на два отдела: втульчатые и черешковые. Причем последние имелиболее значительное распространение как среди древнерусских, так и1 Неизвестный автор арабского трактата, написанном около 1500 г. н.э. является,видимо, одним из первых в оружиеведении, представившем типологию наконечниковстрел. Деление на типы он строит по признаку поперечного сечения пера и выделяет5 типов: треугольные, квадратные, круглые, удлиненные, притупленные (подобныеколпачку, закругленные?) (Arab archery, 1945, Р. 107).2 Автор настоящей работы, не будучи археологом, также не ставит задачу охватитьвсе пространство, укладывающееся в территориальные пределы золотоордынскойимперии.
других (в том числе и кочевнических) древностей. По острию илипоперечному сечению пера вся совокупность собранных имнаконечников стрел была подразделена на три группы: трехлопастные,плоские и граненые (бронебойные). Изученные группы наконечниковстрел делятся в свою очередь по форме пера (острия) на типы(Медведев, 1966б, С. 54-55). Оружиевед выявил 106 типовнаконечников стрел: втульчатые (железные) – 11, черешковые(железные и стальные) – 95. Самой многочисленной группойнаконечников стрел изучаемого периода составили плоскиечерешковые. Костяные наконечники стрел, включая втульчатые ичерешковые, насчитывают 8 типов, также характерных для кочевниковНижнего Поволжья. Среди них, выделены: пулевидные конические,томары (биконические, трехгранные, «тупые») (Медведев, 1966б, С.56-89).
В ходе работ на многослойном могильнике Пшиш 1 на территорииАдыгеи 47 захоронений, были отнесены к золотоордынскому периоду. Впогребении 60 был найден один наконечник, отличающийся большимиразмерами и относившийся к типу ромбические крупные, выделенномуА.Ф. Медведевым в тип 49 (Носкова, 2005, Рис. 2, 18). Данный «типсовершенно нехарактерен для древней Руси. Он был занесен вВосточную Европу во время монгольского нашествия в первой половинеXIII в. Такие наконечники распространились с середины XIII в.только на юге России и применялись для стрельбы по конямпротивника до начала XV в. Единичные экземпляры их встречаются наразрушенных монголами русских поселениях, куда они попали,несомненно, во время нашествия», – заметил А.В. Медведев(Медведев, 1966б, С. 69. Рис. 35, 45).
На территории Восточной Европы достаточно много встречаетсянаконечников стрел так или иначе связанных с монгольскимизавоеваниями. К таким относятся, например, т.н. «килевидные»наконечники (по номенклатуре А.Ф. Медведева тип 38), общееколичество находок превышает более 700 экз. Особенно широкоераспространение имели типы 38-3 найденные как в кубанскихкурганах, так и «на древнерусских городищах, разрушенных монголамив 1237-1241 гг.». Другой тип 38-4 автор относит «к периоду послемонгольского нашествия (вторая половина XIII–XIV вв.). Неисключено, что этот вариант занесен на Русь монголами. Это темболее вероятно, что в Каракоруме — столице Монголии в XIII–XIV вв.– подобные стрелы были среди типичнейших монгольских… Такиенаконечники обычны и на древнерусских городищах, разрушенныхмонголами» (Медведев, 1966б, С. 64. Рис. 25, 16; Рис. 28, 15, 16,18; Рис. 34, 15-17).
Присутствие монгольского (центрально-азиатского) оружейногокомплекса четко прослеживается на множестве сохранившихся
археологических материалах Золотаревского памятника,расположенного в Пензенской области. Городище принадлежалосредневековым буртасам и погибло, очевидно, в результатемонгольского нашествия 1237 г. на Восточную Европу. НаЗолотаревском поселении извлечено 441 экз. наконечников стрел. Порезультатам проведенных исследований специалисты пришли к выводу,что из них «70 типично монгольских наконечников стрел» илиприблизительно «третья часть из них связана с монгольскимнашествием» (Белорыбкин, 2001, С. 134, 185). Все наконечники стрелчерешковые. Из группы трехлопастных выделяются листовидныйнаконечник с уступами пера, найденный впервые и не имеющийаналогов, отличающийся присутствием в своей конструкции «полостивнутри корпуса», позволяющий «при полете издавать свист»(Белорыбкин, 2001, С. 117. Рис. 74, 12; см. также: Медведев, 1966б,С. 58). Из плоских, следует обратить внимание на килевидные (тип38-3 по А.Ф. Медведеву1), широко распространенные в XIII-XIV вв. иобнаруженные на месте древнерусских городищ, разгромленныхмонголами и булгарских памятниках (Белорыбкин, 2001, С. 117. Рис.74, 13; см. также Медведев, 1966б, С. 64). В группе ромбовидных «срасширением в верхней половине длины пера» и «с прямыми сторонамии вогнутыми плечиками» (тип 51), другой вариант «с прямыми сторо-нами и плечиками и наибольшим расширением в верхней половине длиныпера» (тип 52-2), отнесенные к одному типу, бытовавшие как вВосточной Европе, так и в Сибири. К традиционному типу стрел,употреблявшихся степными кочевниками с IX по XIII вв., относятсяромбовидные наконечники с широким острием (тип 53) (Белорыбкин,2001, С. 121-122. Рис. 75, 5-9; Рис. 76, 4; см. также Медведев,1966б, С. 69, 70). Заметное количество типов пришло в регион вместес монгольскими завоеваниями. Так, в группе срезней с узкойвытянутой лопаточкой и расширяющимся острием выделены дваварианта: с тупоугольным (тип 67) и уплощенным (тип 58) острием.Первый вариант, с высокой долей вероятности, появился в ВосточнойЕвропе с монголами в первой половине XIII в. Все наконечники спрямоугольным сечением имеют упор для древка (Белорыбкин, 2001, С.122-123. Рис. 76, 14, 15; Рис. 76, 4; Медведев, 1966б, С. 69, 70).Сектровидные крупные срезни в двух вариантах (тип 68, тип 69 –джучидские срезни) до монголов были неизвестны, и пришли смонголами с востока и были распространены в XIII-XIV вв.Веслообразные наконечники (тип 66) также в восточно-европейскиерайоны занесены монголами (Белорыбкин, 2001, С. 124. Рис. 77, 2-6;Медведев, 1966б, С. 75-76). Пламевидные, с расширением в верхнейили средней трети длины пера (тип 71-2). Один из экземпляров имелметаллический свистунок с одним отверстием (Белорыбкин, 2001, С.1 Далее в круглых скобках типы приведены по классификации А.Ф. Медведева.
127. Рис. 78, 2- 4; Медведев, 1966б, С. 77), что явно указывает наего восточное происхождение. Известны и бронебойные наконечники «ввиде кинжальчиков ромбического сечения с перехватом» (тип 97),представленные вариантом «с вогнутыми плечиками и цилиндрическимоснованием пера», распространившиеся с монголами в XIII-XIV вв. вПоволжье и на Кубани. Долотовидные (тип 100), «с равномернымсужением к острию», которые сильно сближаются с сибирскими ицентрально-азиатскими аналогами (Белорыбкин, 2001, С. 133. Рис.79, 18, 23; Медведев, 1966б, С. 85). Сильное влияние, а самоеглавное, распространение, монгольских наконечников стрел (типы,варианты) просматривается и на других территориях, вошедших всостав Монгольской империи и Золотой Орды.
Подобные типы наконечников обнаружены в степном Прикубанье вкурганной группе I «Дмитриевская» - 1982, к. 1, п.2. Из шестинаконечников стрел один отнесен к «килевидному» типу 38-41, другойромбовидный с расширением в нижней части пера, соотнесен с типом41-2, третий – ромбовидный, с широким острием имеет сходство стипом 53. У остальных наконечники стрел были обломаны. В этой жегруппе к. 4 п.1 в гробовище погребенного воина между бедреннымикостями около колен находились железные черешковые стрелы вколичестве семи экземпляров. Три наконечника с плоским сечениемсоответствуют в типологии А.Ф. Медведева следующим вариантам:ромбовидный, имеет расширение в нижней части пера – тип 41-2,двурогий срезень – тип 60-3, лавролистный, сближаемый с типом 63.Другие четыре наконечника являются бронебойными: два килевидныесплющенные – тип 81, «два – узкие шиловидные или пирамидальныеромбического сечения с перехватом типа 95». В раскопках к. 4. п.2. данной курганной группы на кистях руки покойного обнаруженысемь железных бронебойных черешковых стрел, из которых пять,внешне напоминают «кинжальчики» типа 97. Один имеет листовиднуюформу, сближаемую с типом 63 и последний в виде узкого шиловидногоквадратного сечения типа 95 (Блохин, Дьяченко, Скрипкин, 2003, С.186. Рис. 3, 6; С. 188. Рис. 5, 4; Рис. 6, 5). По мнению А.Ф.Медведева бронебойные наконечники в виде кинжальчиков (тип 97-4 «свогнутыми плечиками и цилиндрическим основанием пера» и 97-5 «спером остролистной формы») получают широкое распространение всвязи с монгольскими нашествиями XIII – XIV вв. «почтиисключительно в Поволжье и на Кубани, на подвластных Золотой Ордеземлях» (Медведев, 1966б, С. 85). Из одиночного кургана «Северный»-1981, п. 1 извлечено семь сохранившихся черешков железных стрел соследами сильного окисления. По форме пера они определяются как«срезни с тупоугольным острием» (Блохин, Дьяченко, Скрипкин, 2003,1 В этом и следующих трех абзацах типология наконечников приведена всоответствии с номенклатурой А.Ф. Медведева.
С. 184. Рис. 2, 8). Возможно, в классификации А.Ф. Медведева онсоответствует срезням «в виде узкой вытянутой лопаточки», одной изразновидностей которых являются с «тупоугольным острием». Домонголов на Руси и в Восточной Европе этот тип наконечников былнеизвестен, и появляется «в большом количестве… на всех русскихпоселениях южной полосы, разрушенных монголами», а затемраспространяется в XIII–XIV вв. на территории Восточной Европы.Автор относит их к стандартным монгольским наконечникам, наиболеечасто используемых в самой Монголии XIII–XIV вв. Поэтому «такиенаконечники чрезвычайно широко были распространены взолотоордынский период в Поволжье и на юге России у кочевых иоседлых народов, подвластных Золотой Орде. Они встречаются здесьпочти в каждом погребении XIII–XIV вв.» (Медведев, 1966б, С. 76).
Как видим, археологический материал этого региона такоезаключение подтверждает. В позднекочевнических воинских комплексахна Кубани привлекает курганная группа «Южный-84» к. 2, п.1., вкотором находились 14 железных черешковых наконечников стрел.Четыре бронебойных с узким пирамидальным квадратным и ромбовиднымсечением сближаемые с типами 90 или 95. К типу 95 относятся такжедва бронебойных с узким квадратным сечением и перехватомнаконечника. Интересны три бронебойных пулевидных круглого сечениянаконечника типа 102. В захоронении отмечен один плоский двурогийсрезень с упором – тип 60-3. Один наконечник толстый линзовидногосечения с тупоугольным острием. Остальные 3 наконечникапредставлены единичными экземплярами разных форм бронебойныхнаконечников: ланцетовидный ромбического сечения – тип 78-2,килевидный, сплющенный, близок типу 81, пирамидальный трехгранный– тип 76-2 (Блохин, Дьяченко, Скрипкин, 2003, С. 190. Рис. 8, 11).Плоский двурогий срезень с упором имеет сильное сходство с типом 6(по классификации Ю.С. Худякова) – вильчатые, относимые Ю.С.Худяковым к группе плоских наконечников, распространенной вприбайкальско-забайкальской зоне и Монголии в XI-XIV вв. (Худяков,1991, С. 110. Рис. 55, 1). В курганной группе «Кривуша-84» к.1.п.1. наряду с другими предметами вооружения как около правогоколена погребенного обнаружено 13 железных черешковых стрел. Изних три бронебойные узкие пирамидальные – тип 95. Следующие тритипа «бронебойные шиловидные квадратного сечения с простым упором»– тип 90. По две пары бронебойных наконечника: ланцетовидные,приближающиеся к типу 77-3, пулевидные круглого сечения типа 102.Один бронебойный килевидный, близкий к типу 81 и один плоскийтреугольный – тип 37. От одного наконечника остался только обломок(Блохин, Дьяченко, Скрипкин, 2003, С. 191. Рис. 9, 9).
Кубанские находки железных наконечников стрел можно представитьв форме таблицы
Таблица № 1
Группа Тип (подтип)
Кол-во
Период Место
Плоские, черешковые
37 1 XII-XIVвв.
Кург. группа «Кривуша-84» к.1., п.1.
Плоские, черешковые
38-4 1 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.1., п.2
Плоские, черешковые
53 1 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.1., п.2
Плоские, черешковые
60-3 2 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.4., п.1.Кург. группа «Южный-84» к.2., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
78-2 1 XII-XIVвв.
Кург. группа «Южный-84» к.2., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
97 5 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская»к. 4., п. 2.
Плоские, черешковые
41-2, 2 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.1., п.2; к.4., п.1.
Плоские, черешковые
63 2 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.4., п.1; к.4., п. 2.
Граненые (бронебойные) черешковые
81 3 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.4., п.1. Кург. группа «Южный-84» к.2., п.1.Кург. группа «Кривуша-84» к.1., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
90 7 XII-XIVвв.
Кург. группа «Южный-84» к.2., п.1.Кург. группа «Кривуша-84» к.1., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
95 8 XII-XIVвв.
Кург. группа I «Дмитриевская» к.4., п.1; к.4., п. 2.Кург. группа «Южный-84»
к.2., п.1.Кург. группа «Кривуша-84» к.1., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
76-2 1 XII-XIVвв.
Кург. группа «Южный-84» к.2., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
77-3 2 XII-XIVвв.
Кург. группа «Кривуша-84» к.1., п.1.
Граненые (бронебойные) черешковые
102 5 XII-XIVвв.
Кург. группа «Южный-84» к.2., п.1.Кург. группа «Кривуша-84» к.1., п.1.
В таблицу не вошли сведения о плохо сохранившихся наконечникахи об одном наконечнике «толстого линзовидного сечения ступоугольным острием», обнаруженном в курганной группе «Южный-84»к. 2., п.1, т.к. авторы публикации, видимо, не нашли егосоответствия в типологии А.Ф. Медведева (Блохин, Дьяченко,Скрипкин, 2003, С. 190. Рис. 8, 11). Между тем линзовидныенаконечники известны в материалах кочевых культур восточныхрегионов Евразии XI-XII вв.: захоронение панцирного воина изГобийского Алтая (Худяков, Цэвээндорж, 1988, С. 25), у центрально-азиатских уйгуров, ундугунской культуре, кыпчаков (Худяков, 1997,С. 81-82, 96, 109), монголоязычных племен Забайкалья XIII-XIV вв.(Худяков, 1991, С. 114). Это дает, потенциально, основаниепредполагать восточное происхождение данного типа наконечниковстрел, привнесенных в регион «монгольскими» номадами.
В ходе обследования погребений золотоордынской знати вкурганной группе «Высокая гора» южной части Воронежской области к.2 в могильной яме деревянной конструкции лежал колчан с шестьючерешковыми наконечниками стрел. Три из них из-за плохойсохранности реконструируются по форме «как шиловидные илипирамидальные квадратного, ромбического и треугольного сечения»(близкие типу 95 – по классификации А.Ф. Медведева) и признаютсякак бронебойные. Остальные охарактеризованы так: 1) остролистныйнаконечник, приближаемый к типу 61, но отличающийся формой черенка2) ромбовидный наконечник (тип 52), кунжутолистный наконечник (тип72). Почти все наконечники датируются широкой хронологией с VIII-XIV вв. за исключением кунжутолистного - XIII-XIV вв. (Кравец,Березуцкий, Бойков, 2000, С. 116-118. Рис. 4, 7-12). Как видно изкубанских курганов и материалов из Воронежской области среди
наконечников превалируют бронебойные черешковые варианты, средикоторых ведущими были типы 95 и 90.
В работе Г.А. Федорова-Давыдова железные наконечники стрелгруппируются на отделы по поперечному сечению и делятся на типы поформе: А) трехлопастные, представлены I типом – в форме широкихтреугольных лопастей (имеют аналоги на территории Восточной Европыи Сибири периода раннего средневековья)1. Б) четырехгранные,состоят из 5 типов: I – бипирамидальные, вытянутые (СтараяРязань), II – бипирамидальные, с короткой верхней частью(Новгород), III – бипирамидальные, с короткой нижней частью(культура волжских болгар VIII—IX вв.), IV – пирамидальные,вытянутые, V – пирамидальные, с дуговидными гранями. В) плоские –наиболее массовые, включающие 15 типов: I – листовидные (Саркел –Белая Вежа), II – ланцетовидные, III – ромбические (Старая Рязань,Саркел), IV – ромбические, с удлиненной нижней частью (Колодяжин,Плеснеск, Венгрия IX-X вв.), V – ромбические, с вогнутыми нижними инесколько выгнутыми верхними ударными гранями (Саркел, Новгород,Старая Рязань, смоленские городища XII-XIII вв.), VI – жаловидные,треугольные (предмонгольские русские памятники, Северный Кавказ,венгерские комплексы IX-X вв.), VII – срезни в виде треугольника,VIII – в виде лопаточки с округлой нижней частью и ровно срезаннойверхней (Новгород, сибирские памятники), IX – срезни в видевытянутой лопаточки со слегка закругленной верхней ударной гранью(Монголия, южнорусские городища периода завоевания, Старая Рязань,Новгород, Гродно, мордовские могильники), X – срезни, с ударнойвогнутой гранью, XI – срезни но, с короткими, сходящимися подтупым углом, верхними ударными гранями (Казахстан, сибирскиемогильники XIII-XIV вв., русские городища, разрушенные монголами вXIII в.), XII – в виде лопаточки с раздвоенным широким концом(Новгород XIII-XIV вв., Саркел) XIII – фигурные (Северный КавказXIV в., Новый Сарай, Старая Рязань, Сибирь раннего средневековья),XIV – треугольные, с жаловидными отростками внизу, XV – с широкойлопастью, срезанной под острым углом сверху, и округлым краемснизу (Федоров-Давыдов, 1966, С. 25-29, 26. Рис. 3, 9). Поматериалам погребения Дальверзин в Средней Азии Ю.А. Заднепровскийособо отметил соответствие найденного им железного плоскогонаконечника стрелы с черешком с типом В IX (срезни), поклассификации Г.А. Федорова-Давыдова и его сходство с формой иразмерами находок не только Восточной Европы, но и казахстанскихкурганов монгольского времени (Заднепровский, 1975, С. 277. Рис.2, а). Плоские срезни (тип В IX-XIII) обнаружены в Ново-Кумакском
1 Далее в скобках указаны сходные типы наконечников стрел (по Г.А. Федорову-Давыдову) встречающиеся хронологически ранее или параллельно в различныхрегионах и культурах. Знаком , соответственно, не имеющие аналогов.
могильнике золотоордынского времени, имеющие различия по формеострия: с выступом, фигурное, круглое, треугольное (Кригер, 1983,С. 178, 180).
Из общего количества показанных типов наконечников у Г.А.Федорова-Давыдова нет аналогов 7 типов: отдел Б – пирамидальные,вытянутые – Б IV, пирамидальные, с дуговидными гранями – Б V,отдел В – ланцетовидные – В II, срезни в виде треугольника – ВVII, срезни, с ударной вогнутой гранью – В Х, треугольные – В XIV,с широкой лопастью – В XV. Их отсутствие следует, скорее всего,объяснить недостаточной изученностью археологических памятниковтого времени. Среди четырехгранных наиболее часто встречающиесятипы – Б II (10 экз.), Б III (9 экз.). У плоских наконечниковчисленно преобладают ромбические – В III (99 экз.), далее идутромбические, с удлиненной нижней частью – В IV (89 экз.),листовидные – В I (45 экз.), срезни – В XI (41 экз.), срезни -«лопаточки» – В IX (25 экз.), ромбические («удлиненные»?) – В V(16 экз.), фигурные – В XIII (11 экз.) и т.д.
Как отмечает Г.А. Федоров-Давыдов, наконечники, сделанные изкости, имеют очень широкое распространение, поэтому «приводитьаналогии им не имеет смысла». Но, тем не менее, он выделил 4 типакостяных наконечников стрел: I – «пулевидные», II – четырехгранныес внутренней втулкой, III – трехгранные с плоским черешком и IV –с листовидным пером и плоским черешком (Федоров-Давыдов, 1966, С.29. Рис. 3, 10).
По данным исследования В.А. Иванова и В.А. Кригера опиравшихсяна предшествующий опыт Г.А. Федорова-Давыдова1 из 43 погребенийизвлечено «65 поддающихся типологии наконечников», большинство изкоторых сближаются с отделом В – плоские черешковые. К отделу Бавторы относят всего 1 наконечник с трехгранным в сечении пером –Б I (Иванов, Кригер, 1988, С. 11, 31. Рис. 7, 2). Археологическийкомплекс (Базар-тобе 1, к.8., п.1), где был найден этотнаконечник, датируется ими XII-XIII вв. Можно ли этот материалсвязывать только с кыпчаками домонгольского времени, сказатьтрудно. Остальные наконечники по данным исследователейсоответствуют номенклатуре Г.А. Федорова-Давыдова и хронологическисовпадают с господством монголов в евразийских степях XIII-XIV вв.
1 «Практически весь полученный за последние годы (имеется в виду 70-80е гг.ХХ в. – А.К.) материал по вооружению кыпчаков Приуралья вписывается втипологию, разработанную Г.А. Федоровым-Давыдовым для средневековых кочевниковВосточной Европы», – констатирует В.А. Иванов (Иванов, 1987, С. 183).Казахстанский материал, извлеченный из позднекочевнических погребений, этоподтверждает. Так, из 37 наконечников стрел на территории Западного Казахстанаи соответствуют следующим типам В III, В IV, В V, В VII, В IX, В Х (Бисембаев,2003, С. 96-97).
Из этого классификационного ряда зарегистрированы следующие: B III– плоские, листовидной формы, B IV – плоские, ромбической формы, BV – плоские, треугольной формы, максимальная ширина приходится наоснование пера, B VI – двурогие (охотничьи) стрелы, В VII –треугольной формы (треугольник, перевернутым основанием вверх), BVIII – прямоугольной формы, но сужающиеся к основанию, B IX – ввиде вытянутой лопаточки с закругленной верхней ударной гранью, ВХ – сходные с предыдущим типом, но ударная грань слегка вогнута, BXI – вытянутая лопаточка, заканчивающаяся двумя короткими ударнымигранями, сходящимися под тупым углом, В ХII – похожий напредыдущий, но ударная грань имеет треугольный вырез, B XIII –фигурный, с небольшим пером, ударная грань имеет треугольныйвыступ, B XVI – полукруглой формы, с небольшим пером, прямой иливогнутой ударной гранью. Кроме того, выявлены наконечники, неимеющие аналогов в классификации Г.А. Федорова-Давыдова. Тип Г I –с коротким, круглым в сечении пером конусовидной формы, Г II –аналогичные указанному, но с длинным пером. Только в пятипогребениях обнаружены костяные наконечники стрел, из которых 2экз. отнесены к втульчатым – тип Г, круглым в сечении, пулевиднойформы, черешковые, листовидной формы, ромбического сечения – типIV, черешковый с треугольной, ромбического сечения головкой – V(Иванов, Кригер, 1988, С. 11-12).
Причем стоит, видимо, обратить внимание на то, что в южно-уральских памятниках поздних кочевников часто встречается тип BXI. В южно-уральском регионе в ходе археологических раскопок вКарталинском районе Челябинской области могильника Каменный Амбар-3, к.1 выявлен один плоский наконечника стрелы – ассиметрично-ромбический срезень с упором и короткими ударными гранями,идентифицируемый по типу В XI. В к. 8 Могильник Система-1, всостав погребального инвентаря входили 6 наконечников стрел,вложенных в колчан, от которых сохранились железные наконечники состатками древков на черешках. Из них 5 стрел черешковые с упором,с укороченными ударными гранями можно отнести к типу В XI. В этомже комплексе к. 12 обнаружены 2 железных черешковых наконечникастрел. Верхняя часть одного наконечника обломана. Второй – болеемассивный – представляет собой вытянутую лопаточку с короткимисходящимися под тупым углом ударными гранями – тип В XI. Первый,обломанный наконечник, очевидно, тоже принадлежит к типу В XI(Костюков, 1987, С. 21; Костюков, 1989, С. 21, 35).
В.Ф. Немеров осуществил на археологическом материале ВосточногоЗабайкалья XII-XIV вв. типологию железных наконечников стрел,разделенные им «по форме насада на отделы, по форме сечения перана группы, по форме пера с учетом форм лезвия, плечиков и шейки –на типы». Первая группа – плоские наконечники (самая
многочисленная) состоит из 10 типов. Из них 6 являются срезнями: 1тип – «в виде расширяющейся лопаточки с выпуклым лезвием», 2 тип –«в виде расширяющейся лопаточки с подтреугольным лезвием», 3 тип –секторовидные с выпуклым лезвием, 4 тип – «пламевидные», 5 тип –кунжутолистные, 6 тип - двурогие в виде расширяющейся лопаточки.Далее 2 – ланцетовидные (с удлиненной шейкой и с короткой шейкой),1 – листовидный, 1 – пятиугольный. Вторая группа – четырехгранныенаконечники, представлена 1 типом – листовидный (с удлиненнойшейкой). Третья группа – трехлопастные наконечники, состоит из 2типов: 1 – листовидные (с узкими дугообразными лопастями), 2 –кунжутолистные (с приостренным жальцем). Всего, таким образом,учтено 13 типов наконечников, большинство из которых плоские.Абсолютное преобладание плоских наконечников стрел в монгольскомвооружении, справедливо связывается с увеличением частотностистрельбы и сокращением дистанции боя. Плоские наконечники стрел,по своей конструкции были предназначены для нанесения широких ранпо незащищенному противнику с помощью горизонтального лезвия, сусилением порезов через острые грани. Видимо, весьмарезультативно, такие стрелы применялись как при стрельбе полошадям, штурме городских укреплений, так и по пешим воинам. Междутем, отличительная черта трехлопастных наконечников стрел – болеелучшие баллистические свойства, т.е. они обладали большейустойчивостью во время полета и при соприкосновении с поражаемымобъектом оставляли «болезненные рваные раны», что достигалось засчет большой величины лопастей и остроугольной формы лезвия(Немеров, 1987, С. 216-218).
Из 38 погребений грунтового могильника Ляпинская балка вСеверо-Восточном Приазовье, надежно относимых к золотоордынскомувремени в одном из погребений обнаружен бронебойный наконечникстрелы: п. 7 – «железный пламевидной формы, круглый в сечении.Длина пера – 3 см, черешка – 3 см» (Евглевский, Кульбака, 2003, С.364, 385. Рис. 5, 2). Плоский пламевидный наконечник лежал вколчане из кургана у «Третьего Плеса» (Костюков, 2007, С. 146.Рис. 3, 1). Трудно судить по приведенным в работах рисунках о егофункциональной принадлежности или найти параллели в существующихтипологиях.
Наиболее подробно классификационная модель монгольскихнаконечников стрел центральноазиатско-сибирского ареалаинтересуемого периода изложена в работах Ю.С. Худякова. На основеразработанного и успешно примененного метода типолого-хронологических матриц монгольских железных и костяныхнаконечников стрел ему удалось систематизировать солидныйисточниковый материал. Следует признать, что именно его методикаоружиеведческого исследования археологических артефактов считается
одной из известных на современном этапе научных знаний1. Анализнаконечников стрел проводился по четко определяемым критериям инаиболее существенным детальным показателям. По материалуизготовления подразделялся на два класса – железные и костяные.Класс железных наконечников по способу насада соотносился с однимотделом – черешковые. Исходя из сечения пера, вся совокупностьнаконечников делилась на группы, а по форме пера – на конкретныетипы. Установленная номенклатура наконечников стрел средневековыхмонголов имеет упорядоченный вид. Железные наконечники стрелраспределены по 7 группам. I группа – трехлопастные, имеют в своемсоставе 2 типа: 1. удлиненно-шестиугольные (1 экз.), 2. овально-крылатые (2 экз.). II группа – плоские наконечники состоят из 18типов (самые многочисленные): 1. ассиметрично-ромбические (128экз.), 2. томары (29 экз.), 3. пентаграммные (4 экз.), 4.боеголовковые (43 экз.), 5. срезни (2 экз.), 6. вильчатые (13экз.), 7 секторные (54 экз.), 8. овально-крылатые (38 экз.), 9.полуовальные (2 экз.), 10. удлиненно-ромбические (8 экз.), 11.двояковогнутые томары (5 экз.), 12. овально-ступенчатые (6 экз.),13. шипастые томары (1 экз.), 14. эллипсовидные (6 экз.), 15.боеголовковые томары (3 экз.), 16. удлинено-шестиугольные (3экз.), 17. вытянуто-пятиугольные (1 экз.), 18. вытянуто-пятиугольные, шипастые (1 экз.). III группа – линзовидныенаконечники. 1 тип – боеголовковые (4 экз.). IV группа –трехгранные в 2-х типах: 1. удлиненно-треугольные, 2.
1 Существующие типологии стрел и их критический разбор суммированы в работе К.А.Руденко (Руденко, 2003, С. 60-72). Автор пришел к выводу, что«этнотерриториальные различия комплексов вооружения, включающих дистанционноеоружие и особенности хозяйственно-культурной деятельности населения, обусловиливариации и индивидуализацию изделий до такой степени, что создание универсальныхучетных схем вряд ли будет возможно и в будущем» (Руденко, 2003, С. 63).Наиболее последняя типология наконечников стрел в сибирском оружиеведениеприведена в комплексной работе Л.А. Боброва и Ю.С. Худякова по вооружениюкочевников Центральной Азии и Южной Сибири позднего средневековья и новоговремени. Исследователи выявили 3 группы: Группа 1 (наконечники стрел с плоскимсечением пера – 6 типов); Группа 2 (наконечники стрел с четырехгранным в сечениипером – 2 типа); Группа 3 (двухлопастные наконечники – 1 тип). Итого 9 типов(Бобров, Худяков, 2008). Вместе с тем в современной исследовательской литературеимеется серьезная критика применяемых типологий (А.Ф. Медведева, Ю.С. Худякова)наконечников стрел (Коробейников, Митюков, 2007, С. 71-74). Авторы последнегоисследования предлагают «изучать и типологизировать стрелы с точки зрения ихназначения. Иными словами, в основу классификации следует положить тоттехнический результат, ради достижения которого все эти стрелы былииспользованы» (Коробейников, Митюков, 2007, С. 112). Возможно, они и правы, т.к.стрелы имеют одно прямое – боевое назначение. Следует признать, что пока всовременной военной археологии нет единых принципов критерия определения исоответствующей единой типологической схемы наконечников стрел, которую можнобыло бы приложить к интересуемому периоду.
боеголовковые. V группа – четырехгранные наконечники из 3-х типов:1. удлиненно-треугольные (6 экз.), 2. боеголовковые (3 экз.), 3.томары (3 экз.). VI группа – ромбические наконечники имеют 2 типа:1. боеголовковые (2 экз.), 2. томары (1 экз.). VII группа –прямоугольные наконечники, также 2 типа: 1. томары (1 экз.), 2.боеголовковые томары (1 экз.). Костяные наконечники монгольскихстрел состоят из двух отделов: втульчатых и черешковых. Втульчатыенаконечники представлены одной группой – круглые наконечникиодного типа – удлиненно-треугольные (3 экз.). Более многочисленнычерешковые наконечники. I группа – трехгранные 5-ти типов: 1.ассиметрично-ромбические (2 экз.), 2. удлинено-шестиугольные (1экз.), 3. боеголовковые (3 экз.), 4. удлиненно-ромбические (4экз.), 5. вытянуто-пятиугольные (2 экз.). II группа –четырехгранные наконечники также 5-ти типов: 1. ассиметрично-ромбические (1 экз.), 2. удлиненно-ромбические (6 экз.), 3.боеголовковые (6 экз.), 4. удлиненно-шестиугольные (1 экз.), 5.вытянуто-пятиугольные (4 экз.). III группа – линзовидныенаконечники содержат 2 типа: 1. вытянуто-пятиугольные (1 экз.), 2.эллипсовидные (1 экз.). IV группа – шестигранные наконечники,одного типа – удлиненно-ромбические (1 экз.). V группа –трапециевидные наконечники, также одно типа – удлиненно-ромбические (1 экз.) (Худяков, 1991, С. 104-117. Рис. 53-62, 65).
Таким образом, по такому показателю как форма пера выделеносреди железных наконечников 30 типов, а среди костяных 15. Темсамым типологически разнообразные железные наконечники в два разапревышают количество костяных типов. Если исходить из своднойтаблицы монгольских железных наконечников стрел, приведенной вработе, то половина изученных типов (15 из 30 или 50 %), увереннодатируется XIII – XIV вв., а другая часть имеет более широкийхронологический диапазон – XI-XIV вв. В отношении костяныхнаконечников ситуация несколько иная. Из 15 выявленных типов – 10(66 %) отнесены к XIII-XIV вв., остальные 5 к XI-XIV вв.
Специальный анализ стрел монголоязычных кочевников показалувеличение количества плоских наконечников в начале – середине IIтыс. н.э. и уменьшение числа типов и доли трехлопастных стрел ипочти полное исчезновение двухлопастных. Среди бронебойных стрелнаиболее распространенными становятся формы узких четырехгранныхнаконечников с остроугольным острием, а также прямоугольные иромбические с тупым острием. Наиболее часто встречающимися формамисреди плоских наконечников стрел становятся ассиметрично-ромбические, секторные, боеголовковые, овально-крылатые и томары,которые распространяются не только на территории проживаниямонгольских племен, но и перенимаются соседними тюркоязычныминародами как в западной части Центральной Азии, так и далее
проникают в евразийские степи. В этот период такое «всеобщееперевооружение» – замена трехлопастных стрел плоскими уцентрально-азиатских кочевников объясняется не только переходом кгосподству во внутренних районах Срединной Азии монголоязычныхнародов, но и качественными изменениями в военно-технической сфереи тактике. Заметная популярность плоских наконечников былаобусловлена сравнительной простотой в их изготовлении и болееконкурентоспособной по сравнению с трехлопастными полетнойскоростью за счет понижения общего веса стрелы. В этой связиповышается скорострельность, но сокращается дальнобойность лука ирасстояние полета выпускаемых стрел. В сравнении с XI-XII вв. вимперский период XIII-XIV вв. монгольские стрелы претерпелиопределенные модификации. Идет сокращение количества и типовтрехлопастных стрел и их употребление сохраняется преимущественнов северных и северо-восточных пределах (лесо-таежная зона)региона. Одновременно наблюдается существенное возрастаниечисленности и функциональной роли в боезапасе монгольских лучниковплоских стрел. Именно на этот хронологический отрезок временивыпадает рост находок различных типов стрел. При статичностиконфигурации пера, в то же время, зримо меняются размеры стрел.Увеличивается доля широколопастных массивных наконечников схарактерными после соприкосновения с ними широкими ранами объектапоражения. Группы и типы бронебойных стрел становятся болееразнообразными, но при этом сохраняются (выделяются) наиболееоптимальные формы наконечников (боеголовковые, удлинено-треугольные и томары). В то же время находки реальных бронебойныхобразцов стрел в сравнении с большим набором типов и конкретныхэкземпляров плоских наконечников в памятниках монгольской культурыдовольно редки. Изучение монгольских бронебойных наконечниковстрел показывает, что противники монголов в степях ЦентральнойАзии (те же кочевники) не использовали мощную броневую защиту.Соответственно такое преобладающее применение плоских наконечниковпри метании стрел по вражеским воинам и его лошадям допускаетвысказать мнение о слабой защищенности этих воинов тяжелымоборонительным доспехом. Поэтому здесь не наблюдаетсяфорсированная выработка оптимальных образцов метательных снарядовэффективно пробивающих броню неприятеля. В пользу этого говориттакже широкое использование костяных наконечников стрел и при этомидет возрастание числа их типов в два раза (в XI-XII вв. – 7,XIII-XIV вв. – 14) (Худяков, 1991, С. 122-125. Рис. 64, 67).Вместе с тем, с точки зрения отдельных современных исследователей,некоторые типы наконечников, например, двурогие срезни, вопрекимнению большинства специалистов – оружиеведов следует отнести к
бронебойным метательным снарядам обладающих высоким проникающимсвойством (Коробейников, Митюков, 2007, С. 122-124).
Характерные варианты некоторых типов центрально-азиатскихнаконечников стрел прослеживаются в золотоордынских памятникахЮжного Урала. Некоторые аналоги плоских наконечников стрел можнонайти в к. 11 (2 экз.) и к. 8 (1 экз.) могильника Система-1. Тактри черешковых наконечника с упором и слабо расширяющиеся кконцам, выделенными в виде треугольника, в одном варианте спритупленной вершиной (Костюков, 1989, С. 31) следует отнести потипологии Ю.С. Худякова к плоским боеголовковым тип 4 (Худяков,1991, С. 108. Рис. 57, 6, Рис. 58, 5, Рис. 59, 4, 5, 7, Рис. 60, 4,7). Три стрелы в колчане из погребения на р. Молочной,различавшиеся по размерам и форме были ассиметрично-ромбические(тип 1) (Рассамакин, 2003, С. 215. Рис. 4, 5-7). В п. 19 Ляпинскойбалки из Приазовья найден железный наконечник стрелы,«бронебойного типа, ромбический в сечении. Длина пера – 3,5 см,сохранившаяся часть черешка – 1,5 см», характерный дляпозднезолотоордынского периода (Евглевский, Кульбака, 2003, С.365, 385. Рис. 4, 11). В кургане у «Третьего Плеса» из 3-х плоскихассиметрично-ромбических наконечников с упором два имели длинныеударные грани, «сходящиеся под острым углом», а третий – формулопаточки «с прямой или слегка округленной ударной гранью» Данныенаконечники вполне соответствуют типу 1 плоские, ассиметрично-ромбические по Ю.С. Худякову. Некоторое сходство по форме можнонаблюдать у наконечников «в виде лопаточки с раздвоенным концом»(«вильчатые» тип 6 по Ю.С. Худякову), а также с «длинным узкимпером прямоугольной формы» возможно отдаленно напоминающие т.н.прямоугольные наконечники группа VII тип 2 – боеголовковые томарыиз классификации этого же автора (Костюков, 2007, С. 146. Рис. 3,2-4, 7,8).
В крайней восточной части Улуса Джучи – лесостепном Алтае винвентаре курганного могильника Телеутский Взвоз-I отмечены 2 типажелезных наконечников стрел, соответствующие классификации Ю.С.Худякова. Первый тип – два ассиметрично-ромбических«однолопастных» наконечников с упором из к. 6. Второй тип – одинсрезень со скошенным на одну сторону острием и расширением однойстороны и линзовидным поперечным сечением пера из к.12. Третий типпредставляет собой «шестигранный наконечник килевидной формы»,шестиугольным поперечным сечением пера и круглым черешком,найденный в единственном экземпляре в к. 14 (Тишкин, Горбунов,Казаков, 2002, С. 87-88. Рис. 4, 1, 2, 3). Недалеко от поселенияОстровное 3 Мамонтовского района Алтайского края, хронологическиотносящегося к золотоордынскому времени нашли один «бронебойный»,другой ассиметрично-ромбический с остроугольным острием наконечник
(Иванов, 1999, С. 151. Рис. 1, 8, 9), имеющие близкие аналоги втипологии Ю.С. Худякова (Худяков, 1991, Рис. 62, 10, 18; Рис. 61,1-3). Золотоордынские воины алтайского региона использовалиразнообразные группы стрел: ассиметрично-ромбические, удлиненно-ромбические, овально-крылатые, боеголовковые, секторные,полуовальные, вильчатые формы, томары (Худяков, 1997, С. 121-123;Худяков, 2009, С. 173-174. Рис. 1, 2-9). Для пробития панцирныхпластин и кольчужных колец использовали трехгранные и ромбическиенаконечники «с удлиненно-ромбическим и боеголовковым пером,шестигранные наконечники с вытянуто-пятиугольным пером» (Худяков,2009, С. 174. Рис. 1, 10, 11). В раскопках средневекового городищаБозок вблизи столицы Казахстана – Астана, в погребениях, инвентарькоторых датируется монгольским временем, попадаются плоскиежелезные наконечники стрел: ассиметрично-ромбический – тип 1,боеголовковые – тип 4, секторные – тип 7 (Акишев, Вафоломеев,2008, С. 52. Рис. 7, 2 и иллюстрац.). По-видимому, закономерно, чтоотдаленные восточные пределы Золотой Орды, примыкающие к алтайско-сибирскому району, находят близкое сходство именно в предметахвооружения дальнего боя с центрально-азиатскими «эталонами».
Стандартные наконечники стрел центрально-азиатскогопроисхождения, датируемые концом XIII - началом XIV вв. извлеченыиз курганных погребений в районе Мингечаура АзербайджанскойРеспублики, обследованных еще в 40-50-е гг. прошлого века.Появление золотоордынского оружейного комплекта в Закавказьесвязано с затяжными вооруженными конфликтами между Золотой Ордой игосударством иранских Ильханов, происходившими как раз в этотпериод. В одном из колчанных наборов сохранились железныечерешковые наконечники стрел разной конфигурации: трехлопастные,трехгранные треугольные, плоские долотообразные, вытянуто-треугольные (шилообразные), плоские треугольные. Автор статьисчитает, что они полностью совпадают с наборами наконечников стрелиз золотоордынского могильника «Олень-Колодезь» (Ефимов, 1999) и вцелом характерны для монгольских погребений из Центральной Азии,Сибири, Северного Кавказа и Крыма. Особенно интересны два «плоскихдолотообразных наконечника», длиной 11 и 12 см (Ахмедов, 2009, С.163-164. Рис. 3, 7, 8).
В условиях нехватки основного запаса железных наконечниковстрел в боекомплект лучников включались, по-видимому, стрелы скостяными наконечниками трехгранной, четырехгранной, пятигранной,шестигранной формой пера, предназначенные для поражениянезащищенного доспехом противника (Худяков, 2009, С. 174. Рис. 1,13, 14).
В источниках упоминаются т.н. «свистящие» стрелы. Об особых«поющих стрелах»1 монголов пишут китайские очевидцы Пэн Да-я и СюйТин (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 61). По приказу Мункэ-каана былиизготовлены «две стрелы (bousiones), головки которых былисеребряные и полные отверстий, так что, когда их пускали, онисвистели, как флейты» (Рубрук, 1957, С. 141). В дореволюционнойисториографии в течение двух полевых сезонов 1896-1897 гг. вБелореченских курганах XIV-XV вв. на юге России Н.И. Веселовскийнашел среди большого количества наконечников стрел «один с полымвнутри костяным шариком, немного удлиненным и имеющим с бокупросверленное небольшое отверстие... Шарик помещался на стержне,как раз за железным наконечником» (Веселовский, 1909, С. 160).Среди археологических находок такие стрелы не являются сейчасредкостью. Многие исследователи давно указывают, что некоторыеплоские и трехлопастные наконечники (среди последних - тип 2 поВ.Ф. Немерову) имеют характерные полые костяные шарики свистункибочонковидной или биконической формы «с двумя полярнорасположенными овальными резными отверстиями», сделанные на насадестрелы. Габариты свистунки зависели от размера наконечника.Стрелы, снабженные свистунками, создавали во время движенияшумовой устрашающий эффект или же, возможно, способствовали болеелучшему закреплению наконечника на древке стрелы, управляя ееполетом. «Свистящие стрелы», по всей вероятности, предназначалисьдля доставки снаряда наполненного горючим материалом илизакрепленной паклей при поджоге крепостных сооружений (Немеров,1987, С. 218-219). Подобная костяная свистунка бочонковидной формынайдена и на Алтае (Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, С. 88. Рис.4, 5). Костяные шарики-свистунки без отверстий или с узкимотверстием надевались ассимметрично-ромбические, овально-крылатые,удлиненно-ромбические формы наконечников стрел и имея прекраснуюскорость уступали в дальности и точности стрельбы трехлопастнымстрелам (Худяков, 2009, С. 173-174). На черешках монгольскихтрехлопастных и плоских стрел имелись костяные свистункибиконической формы с округлыми, овальными и прямоугольнымиотверстиями (в последнем случае они располагались перпендикулярнодлине наконечника) или иногда без них просто цилиндрические. Повсей вероятности свистунки крепились к черешкам массивныхнаконечников стрел. Техническая характеристика устройствамонгольских «свистящих стрел» позволяет считать, что свистункивыполняли функцию муфты и тем самым, не допуская раскалывания
1 Переводчик дает разъяснение, что «в тексте 鳴 鳴 мин-ди, букв. «поющийнаконечник», термин известен в Китае с давних времен, так назывались свистящиестрелы с полым наконечником, использовавшиеся для подачи сигналов в бою или наохоте» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 98).
торца древка стрелы (Худяков, 1991, С. 124-125). Встречаютсянаконечники такой формы и в южно-уральских памятникахзолотоордынского времени. В к.1. могильника Каменный Амбар-3 средидругих находок обнаружены два наконечника пламевидной формы, одиниз которых был оснащен «костяной свистулькой». Его длина 8,6 см.Длина черешка 4,9 см. Свистулька крупная биконическая с двумяузкими прямоугольными прорезями. В части отверстия свистульки,примыкающей к упору наконечника, вырезана канавка шириной 1,5 мм иглубиной 1 мм, служившая, очевидно, для закрепления свистульки надревке стрелы. Диаметр древка, судя по внутреннему диаметрусвистульки – 0,7 см (Костюков, 1987, С. 21). На одном из черешковнаконечника стрелы из захоронения у «Третьего Плеса» былазакреплена небольшая костяная биконическая муфта, не имевшаяпрорезей (Костюков, 2007, С. 147. Рис. 3, 6).
Похожие варианты наконечников пламевидного типа были найдены вЗабайкалье, определяемые как «пламевидные срезни» (Немеров, 1987,С. 216, Рис. 3, 1, 2, 4), которые как в вышеприведенном случаеснабжались или нет свистунками биконической формы. Такие свистункиполучают известность и на других территориях, подвластных УлусуДжучи. Плохо сохранившийся (фрагментированный) обломок наконечникастрелы длиной 2,0 см найден в погребении воина-кочевника у сел.Новоселицкое на Ставрополье, который «был вставлен в костянуюнасадку» - свистунок, представляющую собой костяную насадкубиконической формы, «с продольным и сквозным отверстием» сзашлифованной внешней поверхностью. Е.И. Нарожный особоподчеркивает, что такая находка (насадка на наконечники стрел)является редкостью для Северного Кавказа и более характерна дляцентрально-азиатских кочевников средневековья, которые в ходечингизидских завоеваний «разнесли» такие образцы по ВосточнойЕвропе и Северному Кавказу (Нарожный, 2005, С. 110-111. Рис. 45,15). Хотя визуально, смеем заменить, размеры и конструкциясеверокавказской свистунки несколько отличалась от восточныханалогов. Свистунки (муфты) применялись некоторыми народами Сибирив качестве утяжелителя стрелы, чтобы увеличить дальность полетастрелы и ее проникающие возможности. Кроме того, как считает В.Г.Кищенко, опираясь на мнение медиков-хирургов, при ранении функциясвистунки сводилась к выполнению роли «расширителя, активноускоряющего потерю крови раненых» (Кищенко, 2003, С. 138). «Поющиестрелы», издающие пронзительный «вой», по всей вероятности,использовались как на охоте, так и в бою как сигналы-командывоеначальников, подающие направление (в военной ситуациигрупповой) стрельбы.
В связи со всем вышеизложенным полностью принять мнение И.А.Воронцова, который считает, что «большинство типов наконечников
стрел, активно использовавшиеся кочевниками Нижнего Поволжья домонгольской экспансии, и далее играли доминирующую роль воснащении» вооруженных сил Золотой Орды (Воронцов, 2006, С. 17-18)довольно трудно. Монгольские военные вторжения 30-40-х гг. XIII в.в юго-восточной Европе привели к серьезному передвижениюкыпчакских номадов на другие территории. К тому же наступающиемонгольские войска совершили серию масштабных военных «зачисток»именно в Нижнем Поволжье, что даже привело к заметной гибели иуходу местного кочевого населения этого района. Об этом сообщаютмногие письменные источники. Рост находок предметов вооружениядистанционного боя с различных территорий Улуса Джучи говорит озаметном проникновении в западные регионы оружейных стандартов свостока вместе с миграцией населения центрально-азиатскогопроисхождения. Сказанное, конечно, не позволяет думать, чтодомонгольские традиции производства вооружения вообще исчезлипосле окончания в середине XIII в. активных монгольскихзавоеваний. Учитывая конгломеративный (многокомпонентный)этнокультурный состав джучидских улусов можно предварительносчитать, что и набор оружия, применяемый воинами Золотой Орды, былдостаточно синкретичным и сложным и четко выделить доминированиетолько «местных» типов вооружения над «пришлыми» не представляетсяпока возможным. Для обоснования такого вывода необходимо, на нашвзгляд, изучение оружия во всех регионах, которые ранее входили всостав золотоордынского государства. В этой связи более правомерноможно говорить не только о нивелировании или унификации отдельныхпредметов вооружения в золотоордынское время (конечно, оно имеломесто), но и о регионализации оружейного комплекса, связанного сместными особенностями.
Нам подробно неизвестно как происходила техническая процедураизготовления монгольских стрел. Плано Карпини в одном из разделовдает такую рекомендацию: «острия стрел (имеется в виду наконечники– А.К.) для лука или баллисты должны, как у Татар, когда онигорячие, закаляться в воде, смешанной с солью, чтобы они имелисилу пронзить их оружие» (Плано Карпини, 1957, С. 62). Процессковки наконечников и в первую очередь их боеспособность подонесению этого автора тесно увязывается с закаливанием заготовокв соляном растворе. Более чем вероятно, что существовали и другиеспособы заготовки различных типов наконечников, усиливавшихпроникающий эффект и увеличивавших их боеспособность.
Острие (лезвие) и края (ударные грани) стрелы в зависимости отконфигурации наконечника затачивались специальным бруском –напильником, который назывался «qa’ūra(į)» (Поппе, 1938, С. 444) или«хурэ» и обычно лежал в колчане. Письменные источники этоподтверждают. По сведениям Иоанна Плано Карпини монгольские
«железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих стороннаподобие обоюдоострого меча; и они всегда носят при колчаненапильники для изощрения стрел» (Плано Карпини, 1957, С. 51).Достигнутая таким способом острота усиливало проникающую(пробивную, режущую) способность стрелы.
Отношение к метательному оружию у кочевников было бережным.После боя наконечники стрел собирались победившей стороной. В этойсвязи, Чингиз-хан, по словам Лубсан Данзана, дал такое наставлениесвоим близким: «Аранай Хасар, Дахай, Сухэй и Чахуркан пустьвчетвером будут собирающими далеко (летящие стрелы), собирающимиблизко (падающие стрелы)» (Лубсан Данзан, 1973, С. 137).
Древки стрелДовольно редко в погребениях кочевников Золотой Орды попадаются
более или менее сохранившиеся древки стрел – стержневая несущаячасть боевого снаряда оружия дальнего боя. В погребении кочевойзнати Золотой Орды курганной группы «Высокая гора» в к. 2 найденконец древка стрелы «с характерным утолщением и глубиной выреза»для тетивы (Кравец, Березуцкий, Бойков, 2000, С. 117-118. Рис. 4,13), отнесенный по этим признакам к XIII-XIV вв.
У монголов «тонкооструганное дерево используется в качестведревков стрел» 1, – подчеркивают свидетели тогдашнего кочевого бытамонгольской степи (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 61). Средневековыемонголы называли мастера делающего стрелы - «sumuči» («oqčї» –тюрк.) (Поппе, 1938, С. 327). В § 29 своего сочинения И. Барбаро,пишет о «лавке мастера по выделке стрел» из города Тана, в которойон находился (Барбаро, 1971, С. 147). Работа по изготовлению стрел
1 Как показывают специальные исследования, в изготовлении древка употреблялосьдерево с прямыми слоями. После специальной обработки (шлифовки?) его поверхностьдолжна была стать круглой и гладкой. Для древков использовались различные породыдеревьев: тополь, береза, сосна, кедр, ель, ива, ясень и т.д. При подготовкесырья (полуфабрикатов) для древков предпочтение отдавалось деревьям, обладающимсоответствующими качествами (береза, сосна, ель). Деревья старались рубитьпоздней осенью, «чтобы волокна содержали минимальное количество влаги». Поэтнографическим данным у народов Сибири древко «изготовлялось не из прутьев, аиз специально подготовленных чурочек. В зоне наконечника, примерно на расстоянии5 см от него, древки были обклеены тонкими полосками бересты. Длина их древкаблизка к этнографическим образцам и колебалась в пределах 60—70 мм. От тщательноподобранных и просушенных бревнышек прямослойной древесины откалывали длинныечурки, первоначально значительно превышающие толщину будущего древка. Затем ихобстругивали ножом. Затем в торце заготовки делали неглубокое отверстие, вкоторое забивали черешок наконечника, после чего посредством соструга древкодоводили до нужных размеров и форм. Далее следовала окончательная отделка:выскабливание и выглаживание древка с помощью костяного ножевого струга —полуцилиндрика с серией косых прорезей для лезвия ножа» (Соловьев, 1987, С. 30;Соловьев, 2003, С. 19; Кищенко, 2003, С. 132-133). Такая (или близкая к ней)технология производства древков, вполне возможно применялась и кочевыми народамиразвитого средневековья.
требовало от производителя стрел необходимых знаний, достаточнойквалификации, опыта. В этой отрасли военного производствасуществовала и своя специализация. В период перманентных военныхкампаний монголов представители военного ремесленничествазахваченных стран привлекались завоевателями для производствавооружения1. В то же время для кочевого быта номадов былохарактерно изготовление стрел самими воинами. Эта сторона жизниотражена в путевых записках и отчетах лиц, посещавших ставкичингизидских правителей. Монгольские «мужчины ничего вовсе неделают, за исключением стрел» (Плано Карпини, 1957, С. 36), –деликатно заметил Плано Карпини. В статье В.Ф. Немероваотмечается, что при изготовлении древка стрелы «модон эшэ»(производное от монг. «modun» — дерево (Поппе, 1938, С. 237)монголы и другие центрально-азиатские народы «использовали росшийпо берегам рек и озер кустарник, преимущественно иву», а такжеможжевельник и березу. Фрагменты монгольских древок из ВосточногоЗабайкалья (п.2 у с. Кункур, п. 6 могильника Малая Кулунда долиныр. Онон) «представляли собой точеные, округлые в сечении ци-линдрические деревянные стержни, чуть сужающиеся при подходе кушку, диаметром 0,8 см» (Немеров, 1987, С. 219). Из монгольскихпогребений Прибайкалья (Ольхон) известны два обломка древков стрел(33,5 и 47 см), сделанные из березы. В забайкальском захоронениина горе Окошки сохранившиеся древки стрел длиной 40-60 см были«оклеены тонким слоем бересты» и имели на концах арочный вырез –ушко для закрепления на тетиве (Худяков, 1991, С. 125-126. Рис.68, 1, 2, 3, 4, 5). В «Сказании об Идиге» также говорится о тугойберезовой ветки, из которой была выстругана стрела (Жирмунский).Тем самым это дает возможность считать, что древки стрел делалисьи из ветвей деревьев. О казахских стрелах из березы сообщаетпозднее и Рузбихан (Рузбихан, 1976, С. 128). По свидетельствуПлано Карпини у монголов «железные наконечники имеют острый хвостдлиною в один палец (черешок – А.К.), который вставляется в дерево»(Плано Карпини, 1957, С. 51). Наконечники стрел крепились к древку1 В Ипатьевской летописи под 1259 г. говорится, что Даниил Галицкий сталсозывать в свой «градец мал» (Холм) всяких ремесленников и поселенцев, вчастности мастеров, бежавших из татарского плена: «и мастере всяции бежаху исТатар, седелницы, и лучници, и тульници, и кузнеце железу и меди и сребру»(ПСРЛ, Т. II, 1871, С. 558). Также как и «у многих народов Востока выделкойстрел часто занимались сами воины или охотники, но нет сомнения, чтосуществовали и специалисты-ремесленники. В писцовых новгородских книгах XVI в.упоминаются стрельники. Они занимались изготовлением железных наконечниковстрел, но не исключено, что в Новгороде и вообще в древней Руси существовали истрельники-деревообделочники, делавшие древки для стрел. В конце XVI в. вписцовых книгах есть упоминания о стрельниках из других городов, например Казании Свияжска» (Медведев, 1966б, С. 49).
двумя способами: во-первых, их вбивали черешком в ствол, нерасщепляя самого древка, обматывая далее крепкими нитями(сухожилиями), во-вторых, заранее «расщепив, стягивали трещинуплотно уложенной нитью и берестой, предварительно покрыв ееклейким составом», что и подтверждается археологическим материалом(Немеров, 1987, С. 219). Существенной особенностью монгольскихстрел было то, что древко ближе к наконечнику было чуть толще, чтопридавало дополнительную тяжесть (массивность) при ударе(поражении) и позволяло пробить тяжелые доспехи противника. Нижняячасть древка также чуть расширялась, где делалась зарубка стрелы –«honi» (Поппе, 1938, С. 186, 404), нужная для закрепления древка натетиве.
Большое значение в подготовке стрелы имело оперение по-монгольски – «sumuni hödün» («oq yüngi» – тюрк.) (Поппе, 1938, С.327), как известно являющегося стабилизатором устойчивого полетавыпущенного снаряда и содействуя попаданию в цель. «Привязанныеорлиные (перья) служат в качестве оперения стрел» (Пэн Да-я, СюйТин, 2009, С. 61). Само перо называлось «ödün» (Поппе, 1938, С.443). У монголов XII–XIII вв. для оперения стрел, судя поисточникам, применяли перья орла, а также коршуна, гуся, тетерева,дятла (Немеров, 1987, С. 219). На Руси и Востоке для оперениястрел лучшими считались перья орла, грифа, сокола (Медведев, 1966б,С. 51). По определению Б.Ф. Адлера монголы, тюрки и племенаСеверной Азии составляли одну сибирскую группу, для которойхарактерно плотная форма оперенья с тремя ил четырьмя рядамиперьев (Адлер, 1903, С. 187; Анучин, 1887, С. 43), но для монголовизучаемого времени более характерно было двухрядное перо. Иногдаоперение красили в яркие тона – желтый, синий, красный.
Раскрашенные стрелы (древки) фактически редкая находка впогребениях монгольского времени, но, тем не менее, это неисключает бытование такого обычая у монголов и золотоордынскихкочевников. Такая традиция зафиксирована в кургане у «ТретьегоПлеса» из Челябинской области. Древки стрел около наконечника былиобвиты по спирали тонкими берестяными полосами шириной 0,3-0,4 см,что очень сильно сближает их с центрально-азиатскими традициямиставить опознавательную метку (Костюков, 2007, С. 147, 153). Вописании Лубсан Данзана у Чингиз-хана были красные стрелы,расписанные киноварью и хранившиеся в золотом колчане (ЛубсанДанзан, 1973, С. 121-122). В золотоордынском погребении могильника«Олень-Колодезь» Кащеевка 2/1 отмечено древко стрелы, обвитоетонкой лентой до 1 см в форме тонко позолоченной фольги (Ефимов,1999, С. 101).
Не менее важен вопрос о длине стрел. Плано Карпини даетследующие примерные размеры стрел монголов: «длина их стрел
составляет два фута, одну ладонь и два пальца» (Плано Карпини,1957, С. 51). В специальной литературе, посвященной этой теме,определены несколько факторов, влияющих на параметры стрелы: длинаи тип лука, сила и антропологические данные лучника (длина рук),функциональное назначение. В этой связи «длина стрелы былаиндивидуальна для каждого стрелка» (Кищенко, 2003, С. 133). Изисследования А.Ф. Медведева известно, что стрелы кочевников XIII—XIV вв. имели длину 85 см (Медведев, 1966б, С. 52). По изысканиямВ.Ф. Немерова длина монгольских стрел изучаемого им региона «непревышала 70–80 см» (Немеров, 1987, С. 219). В.П. Костюковотмечает, что длина стрел из колчана из кургана у «Третьего Плеса»в длину достигала 80 см (Костюков, 2007, С. 146). Учитываявышеобозначенные факторы, следует сказать, что длина стрелызависела от размера лука, т.е. она должна была составлять не менееполовины длины кибити и индивидуальных возможностей самого стрелкаи могла колебаться в среднем от 70 до 90 см.
КолчаныСоставной частью стрелкового комплекса вооружения был
специальный футляр – колчан для стрел, имевший несколько названий1
– «qobdu» («keš» - тюрк.), «qor»2 или «qorumsa (q)» (Поппе, 1938, С.299, 445). Типичное ношение воинского снаряжения номадовзафиксировал, в частности, такой очевидец монгольского вторжения вЦентральную Европу как Фома Сплитский: у монголов «колчаны и лукиприкреплены по-военному к поясу» (Фома Сплитский, 1997, С. 114).
Материалом для изготовления колчанов служили береста, дерево икожа. В «Сокровенном сказании» речь идет о берестяном колчане(сайдак) (Сокровенное сказание, 1990, § 230, С. 115-116). Обычнокочевнический колчан представлял собой свёрнутый из берестыцилиндр с деревянным дном. Колчаны иногда красили в различныецвета и украшали с внешней стороны костяными накладками.Двухслойные берестяные кочевнические колчаны имели расширениевнизу около дна и наверху у горловины. В таких колчанах днище, какправило, делалось округлым, к которому крепился металлическийкрючок с ремешком, закреплявший колчан «при быстрой верховойезде». Дно колчанов варьировалось в пределах 12-15 см. Кроме того,костяные петли могли прикрепляться к двум ремням-полосамохватывавшем колчан у горловины и дна. В среднем размеры восточно-европейских колчанов доходили до 60-70 см, в которых свободно1 По В.И. Далю в старорусском языке использовалось несколько понятий дляобозначения колчана: «Джида - малый колчан, для трех только стрел» (Даль, Т. 1,1999, С. 434); «колчан - влагалище, кобура для стрел, туло, для лука» (Даль, Т.2, 1999, С. 143); «туло и тул м. колчан, закрываемая от непогоды трубка, в коейхранятся стрелы» (Даль, Т. 4, 1999, С. 442). 2 М.В. Горелик называет монгольский колчан «хот-сумун», а «комплект для стрельбы»одним термином «хор» (Горелик, 2002, С. 18-19).
помещались стрелы длиной 70-90 см, ложившиеся оперением вверх, чтопозволяло сохранить перья от повреждений (Медведев, 1966б, С. 20-21; Малиновская, 1974, С. 134).
Ввиду плохой сохранности колчанов от них в погребенияхкочевников остались кольца, крючки, петли, накладные пластины,сделанные из железа, кости, остатки кожи, днищ и горловин,деревянный или железный проволочный каркас. Сшитые колчаныскреплялись по сторонам специальной железной оковкой или длиннымикостяными накладками, в которых делались специальные отверстия,через которые прошивались края. Особенно часто попадаются широкиекостяные накладки «орнаментированные резьбой и гравировкой»,аналоги которым есть в Сибири, Барбашинском могильнике (Мордовия),городище Верхний Джулат (Северный Кавказ), но встречаются длинныеузкие костяные пластины, накладываемые на края колчана и покрытыеорнаментом. Обычно их клеили, пришивали или заклепывали к внешнейповерхности колчана. Характерной деталью колчанов были костяныепетли. Через петли «продевался шнур или ремень для ношения колчаначерез плечо». Костяные петли прикреплялись к ремням, облегавшимколчан. На костяных петлях для усиления соединения с ремнем делалинасечку. Г.А. Федоров-Давыдов провел классификацию костяных петлейот колчана золотоордынских кочевников по принципу: отделы –количество больших отверстий, типы – форма. Им выделено три отделаА, Б, В. Самой многочисленной оказался первый отдел – А, в которыйвошли 7 типов, второй отдел Б – 2 типа и третий отдел В – 1 тип(Федоров-Давыдов, 1966, С. 29-31. Рис. 4).
Н.В. Малиновская провела специальный анализ 84 колчанов,украшенных орнаментированными резными обкладками, и пришла квыводу, что они появились в степях в XIII-XIV вв. вместе смонголами и имели широкое хождение у всех кочевых племен натерритории от Днестра до Центрального Казахстана. Костяныеколчанные накладки являются произведениями высокого искусства1
золотоордынских мастеров, сочетавших различные технические истилистические приемы резьбы. Изящные и сложные орнаментальныекомпозиции обкладок колчанов принадлежали представителям кочевойзнати, но в то же время и рядовые легковооруженные воины-кочевникистарались украсить свое оружие. По ее предположению костяныеобкладки колчанов производились в золотоордынских городах Поволжьяи Приднестровья (Малиновская, 1974, С. 135-169). С последнимутверждением согласиться можно частично. В кочевой степизолотоордынского периода работали мастера-колчанщики, по-монгольски «qobduči» или «kešči» (тюрк.) (Поппе, 1938, С. 299),
1 О традиции талантливо украшать восточные колчаны различными красивыми узорамиписал еще в конце XIX в. В. Бехайм (Бехайм, 1995, С. 285-286).
которые, непосредственно занимались изготовлением колчанов,украшая их орнаментированными накладками.
Берестяные колчаны, что интересно встречены в Ново-Кумакскоммогильнике как в девяти мужских, так и двух женских погребениях.«У шести колчанов длина 60-65 см, ширина верха – 7-10 см, нижнегокрая – 20 см. У других четырех колчанов длина 35, 45, 74, 90 см»(Кригер, 1983, С. 181). Все это можно трактовать как участиеженщин в боевых действиях.
В южноуральских погребениях кочевников выявлена большаяколлекция – 33 берестяных колчана. Данные колчаны имеликонусовидную форму в длину от 35 до 90 см. Примечательной сторонойколчанов было то, что верхняя часть конуса была «в два раза ужедонной (в среднем 10 х 20 см)». К колчану с помощью ремнейприкреплялись железные или костяные петли. По мнению большинстваисследователей, колчан подвешивали к седлу или поясу железнымикрючками, снабженными широкими плоскими щитками прямоугольной илиовальной формы. На некоторых щитках просматриваются 3-4 сквозныеотверстия, служившие креплением крючка к ремню. Некоторые колчаныукрашены костяными накладками с «покрытым резным геометрическим ирастительным орнаментом» (Иванов, Кригер, 1988, С. 13. Рис. 2, 3,10, 1, 2, 3; Рис. 14, 39).
Знатного воина из погребения на р. Молочной сопровождалдеревянный колчан с расширением в нижней части (береза) длиной 70см, шириной основания – 20 см, «ширина верхней части, гдерасположен карман – 10 см», а сам карман, сделанный «в видеовального выреза, составляет 6-7 см». Колчан был сделан изнескольких частей: сам футляр (из тополя), выдолбленный из кускадерева с выпуклой поверхностью и прямыми бортами, на торцы которых«была наложена тонкая плашка с поперечно идущими волокнами,образовавшая заднюю, плоскую стенку футляра» (Рассамакин, 2003, С.215, 222. Рис. 4, 4). В п. 7 из могильника Ляпинская балкаобнаружен берестяной колчан, с расширением наверху. «Длина колчана– 66 см, ширина в верхней части – 20 см, в нижней – 11 см. Внижней и средней частях – железные оковки». Предположительно онбыл изготовлен из двух слоев бересты с деревянным или берестянымднищем, а внутри колчана по всей длине ставилась деревяннаяпланка, к которой крепились два железных кольца, через которыеколчан подвешивался «к поясу или через плечо на перекидном ремне».Исходя из местоположения колчана на правой ноге, его носили направой стороне (Евглевский, Кульбака, 2003, С. 365, 385. Рис. 5,15).
По мнению М.В. Горелика у монголов было два типа колчанов.Первый – плоский1, прямоугольной формы, который шился из кожи иукрашался нашивками, аппликациями, узорными металлическими икостяными накладками. Второй – наиболее известный в евразийскихстепях, представлял собой узкий длинный футляр, в котором стрелылежали наконечниками вверх. К числу особенностей монгольскихколчанов исследователь относит наличие «устье-кармана с крышкойсбоку». Такой «карман делали расширяющимся вверху, с верхомокруглой, веерообразной формы». Колчан такого типа делали избересты, в основе которого были деревянные рейки или железныепрутья. Такой каркас или береста обтягивались кожей, покрывавшийся«костяными пластинами с гравированным узором, представлявшим чистомонгольское искусство орнамента». Элитные монгольские колчаныукрашались изделиями из серебра и золота. Колчан с помощьюремешков, продетых через костяные или деревянные петли в верхнейчасти, подвешивали с правой стороны (Горелик, 2002, С. 18-19).Форма и декор монгольских колчанов обоих типов перенялисеверокавказские черкесы (Горелик, 2008, С. 167).
На правой стороне у бедренной кости погребенного юноши измингечаурского кургана находился колчанный крюк и трапециевидныйберестяный колчан, по форме характерный для стрелкового снаряжениямонгольских воинов XIII-XIV вв., подвешиваемый сбоку к поясу(Ахмедов, 2009, С. 163-164). Крючок-застежка, как верно заметилМ.В. Горелик, скорее всего, использовался для регулирования общейдлины футляра с помощью пряжки, соединявшей две части ремня(Горелик, 2009, С. 454).
Колчаны носили как с правой, так и с левой стороны, т.к. впогребениях их находят с обеих сторон. На восточных миниатюрахколчаны и налучья показаны подвешенными как с правой, так и слевой стороны. Лук, лежавший в налучье, и колчан крепился к поясуособыми кольцами. Если кольцо было помещено в центральной частиобратной стороны налучья, пояс пропускали через него, такимобразом, чтобы налучье было подвешено не вертикально, а наискосок,что было удобно во время верховой езды. Колчан носился на длинномпоясе через правое плечо, и располагался так, чтобы он закрывалправую часть и плечо, с упором в локте (Moaven, 1970, Р. 131).
На центрально-азиатском материале Ю.С. Худяков выявил однугруппу колчанов – «с цилиндрическим приемником», а среди нихвыделяет два их типа: 1 тип – с горизонтально срезанным верхом (7экз.) и 2 тип – с карманом (1 экз.). В колчанах первого типастрелы, в соответствии со сложившейся традицией монгольского
1 О наличии такого колчана у кочевников предполагал еще А.Ф. Медведев,относивший их к третьему типу в своей классификации, от которых ведутпроисхождение «русские плоские колчаны» (Медведев, 1966б, С. 21).
времени ложились наконечниками вверх. В то же время они моглиложиться в колчанах как в верх, так и вниз или в разные стороны,что «связано с различным назначением и традицией». Колчаныукрашались орнаментированными накладками. В колчанах с карманомстрелы лежали «наконечниками вниз, ушками вверх» (Худяков, 1991,С. 126-128, Рис. 69, 70).
Колчаны, с т.н. «ровным верхом» найдены в могильнике ТелеутскийВзвоз-I, к. 10, 11, 12, 14. Футляр был сделан «из двухвертикальных полос бересты, свернутых и сшитых (склеенных) стыльной стороны». Колчаны такого типа имели трапециевидную форму,с общей длиной 76-86 см, шириной дна 17 см, шириной устья 12 см(Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, С. 88-89. Рис. 4, 6). Если ихсравнить с указанными выше находками колчанов на основнойзолотоордынской территории, то по размерам они чуть больше всреднем на 15 см. У алтайских кочевников золотоордынского временибыли в ходу колчаны с цилиндрическим приемником двух типов: 1)«колчаны с горизонтально срезанным верхом» с расширяющимся к днищуприемником, сшивавшимся из полотнищ и специально обрабатывалисьберестой. В целях укрепления у горловины и нижней части приемникадополнительно накладывался слой бересты; 2) колчан с карманом,найденный на Алтае, имел укрепление в виде деревянной рамки,зауженную горловину и расширение в днище берестяного приемника. Вколчанах обоего типа стрелы ложились оперением вниз инаконечниками вверх (Худяков, 2009, С. 174-175. Рис. 1, 12).
Интересен также вопрос о количестве стрел в колчане1. Пописьменным известиям монголы обладали тремя большими колчанами«полных стрелами» или на каждого воина в сражении приходилось по«тридцать маленьких – метать и тридцать больших с железнымиширокими наконечниками» (Плано Карпини, 1957, С. 50; Марко Поло,1990, С. 193). Боезапас стрел в продолжительном бою активнопополнялся оруженосцами, служившими в обозе. Тем самым, в каждомколчане стрелка могло быть в среднем 30 стрел. Это подтверждаетсямногими источниками2. Причем такая традиция, иметь 30 стрел в одномколчане у кочевников сохранилась вплоть до нового времени. В то же1 В позднекочевнических захоронениях в колчанах, как правило, лежало 3-5 стрел,иногда чуть больше. Обычный набор от 1 до 7 стрел фиксируется в берестяныхколчанах кочевников Западного Казахстана (Бисембаев, 2003, С. 97). В одиночномкургане у «Третьего Плеса» с территории Карталинского района Челябинской областив колчане находилось 8 стрел: 5 имели направление к устью, а 3 – к днищу(Костюков, 2006, С. 146. Рис. 3, 1-8). 2 У половцев в колчане лежало 30-40 стрел (Юрченко, 2003, С. 400), в войскеТимура, выступившем в поход на Дешт-и Кыпчак, у каждого бойца должно было быть30 стрел (Абр-ар-Раззак Самарканди, 2006, С. 364). Даже в XVII-XVIII вв.крымско-татарский лучник был снабжен в среднем 20 стрелами (Боплан, 1901, С.20), башкирский воин выезжал в набег с 30 стрелами (Кэстль, 1998, С. 45).Следовательно, стандартный набор кочевнического лука вмещал 25-30 стрел.
время в литературе отмечается, что в колчане стрел моглоуместиться и больше 30 штук.
В монгольской юрте – гэр воины вешали колчан строго на западной(правой), т.е. мужской стороне (Рубрук, 1957, С. 93). До входа вюрту гости должны лук и стрелы отложить в сторону, т.е.запрещалось входить в дом с оружием. При входе в шатер кзолотоордынскому властителю Берке египетские послы былипредупреждены о принятом в его ставке дворцовом церемониале. Вэтих правилах говорилось, что нельзя оставлять лук «ни в сайдаке,ни натянутым», не вкладывать стрел в колчан (Абд аз-Захир, 2005,С. 75). Гонец, прибывший в ставку Тенгиз-Буги, и принесший весть осмерти Бердибек-хана в Сарае, прежде чем войти в юрту «положил наповозку лук свой и стрелы» (Чингиз-наме, 1992, С. 110).
Весь стрелковый комплекс боевых средств (лук, стрелы, колчан)назывался «qor» или «хор», по-тюркски саадак (позднее перешедший врусский язык в форме сайдак, сагайдак), а воины – вооруженныелуками и стрелами – «q(x)orci», в восточных источниках – хорчи,курчи1.
Техника использования и тактика примененияМетательным оружием кочевники (монголы и тюрки) владели
превосходно. Как известно, в сражениях монголы «всего больше…пускают в дело лук, потому что ловкие стрелки» (Марко Поло, 1990,С. 81). Матфей Парижский, пораженный их военной тактикой в своейхронике, характеризует монгольских воинов как «удивительныхлучников» (Матузова, 1979, С. 138, 161). Меткость стрельбымонгольских стрелков отмечают и другие параллельные источники. Вевропейском походе в бою с венграми «пущенные прямо в цельсмертоносные татарские стрелы разили наверняка. И не было такогопанциря, щита или шлема, который не был бы пробит ударом татарскойруки»2 (Фома Сплитский, 1997, С. 111). Интересно в приведенном1 Подробно о происхождении и эволюции этого термина в примечании 6 1-го тома,кн. 1. «Джами ат-таварих» (Рашид ад-Дин, Т.1. Кн.1, 1952, С. 157-158).2 По результатам современных экспериментов известно, что «стальной наконечникстрелы, выпущенной из современного лука с силой натяжения в 35 килограммов с 75метров, пробил кольчугу из дамасской стали и проник в манекен на глубину 20сантиметров» (Соловьев, 2003, С. 19). «Уже сегодня внимание историка привлекаетисторическая проблематика баллистики цели, а именно способность стрел пробиватьзащитное вооружение, или их бронепробиваемость. По нашему мнению, применительнок стрелам, под бронепробиваемостью стрелы (или ее наконечника) следует пониматьспособность преодолевать защитное вооружение и проникать в защищаемое(заброневое) пространство, внедряясь в живую ткань на глубину, достаточную длянанесения организму воина летальных повреждений, или для производстваостанавливающего действия. Вопрос о глубине такого проникновения остаетсядискуссионным: в одних случаях достаточным считается проникновение в тело всего
пассаже то, что такое защитное наголовье как шлемы простреливалисьнасквозь стрелой1. Такой поражающий эффект мог быть достигнут вмомент, когда стрела достигала максимальной скорости полета.Скорее всего, бронебойные качества, сила движения и точностьпопадания выпущенных стрел была высокой и достаточной дляпреодоления защитного слоя, состоявшего не только из брони, но иодежды, скрытой под доспехом. Что касается панцирей и щитов, товероятность их пробития монгольскими бронебойными железными(стальными) наконечниками было весьма вероятным. В книге«Ветроград историй стран Востока», написанной в 1307 г. армянскийисторик Гайтон обрисовал монгольскую тактику следующим образом: «Сними очень опасно начинать бой, так как даже в небольших стычках сними так много убитых и раненых, как у других народов в большихсражениях. Это является следствием их ловкости в стрельбе из лука,так как их стрелы пробивают почти все виды защитных средств ипанцири... В сражениях в случае неудачи отступают они ворганизованном порядке; преследовать, однако, их очень опасно, таккак они поворачивают назад и умеют стрелять во время бегства иранят бойцов и лошадей. Как только видят они, что противник припреследовании рассеялся и его ряды пришли в беспорядок,поворачивают они опять против него и таким образом достигаютпобеды» (Strakosch-Grassman, 1893, S. 27). О существовании стрел,способных пробить металлический доспех повествует и устнаяпоэтическая традиция кочевников: «Пуская стрелу, что кольчугупробьет, я знал, что врагу она гибель несет», – восклицаетДоспамбет-жырау (Поэты пяти веков, 1993, С. 38). Как показываютэти многочисленные факты, монгольские стрелы (бронебойного типа)эффективно проламывали оборонительный костюм противника, видимо,не только с близкого расстояния (50-60 м), но и на дистанции более100 м и представляли серьезную угрозу живой силе врага. Даже если
наконечника, в других – проникновение на глубину нескольких «калибров» (т.е.миделей?). По мнению криминалистов-баллистиков «для нанесения проникающегоранения на глубину, обеспечивающую поражение жизненно важных органов, «стрелы»должны обладать кинетической энергией не менее 15 Дж», а стрелы, имеющие массу вдиапазоне 15–40 г, будут обладать кинетической энергией на границе поражения,если их скорость не менее 45–25 м/с. С другой стороны, на практике смертельной(вследствие инфекции) иногда может быть и небольшая царапина, произведеннаястрелой; видимо, недаром, одно из старейших средневековых руководств по стрельбеиз лука было названо Toxophilus. Тем не менее, археологические свидетельстваговорят нам, что для достижения технического результата, то есть пробивая доспехи входя в заброневое пространство, стрела должна обладать энергией в десяткиджоулей», – считают исследователи баллистики стрел (Коробейников, Митюков, 2007,С. 104-105).1 Для поражения металлического шлема, автор арабского трактата о луках,рекомендует применять треугольные длинные наконечники с коротким цилиндрическимдревком стрел (Arab archery, 1945, Р. 107).
попадание стрелы не заканчивалась летальным исходом, тотяжелораненый стрелой воин надолго мог быть выведен из строя,теряя тем самым свою боеспособность на некоторое время1.
Золотоордынские войска начинали битву с интенсивного и крайнеплотного обстрела противника из луков. В сражении под Брянском 2апреля 1310 г. изгнанный с княжения своими противниками брянскийкнязь Василий подступил к стенам города с сильной татарской ратью.В разыгравшейся жестокой сече «заступишася на бой, и помрачишастрелы татарския воздух, и бысть яко дождь», т.е. «сомрачилистрелы татарские воздух, и были как дождь». Брянцы не смоглипротивостоять крепкому татарскому натиску, и, бросив воинскиестяги, стали спасаться бегством (Астайкин, 1996, С. 484; Татищев,2005, С. 64). Воины хана Токтамыша, в 1382 г. во время осадыМосквы, в завязавшейся перестрелке подавили обороняющихся горожансвоей скорострельностью2, а также лучшим умением стрелять из луков.«Татарове же пакы поидоша к городу, гражане же пустиша на них постреле, они же паче своими стрелами стреляху на град, аки дождь 3 умноженъ зело, не дадуще ни прозрети, и мнози на градныхъзаборолах стояху и от стрел падаху язвени, и одолевахуть бо стрелыТатарские паче, нежели градские: бяхуть бо у них стрелци гораздивелми, ови от нихъ стояще стреляху, а инии скоро рыщуще, изущенисуще, а друзии от них на конех скоро ездяще, на обе руце, напереди назад, скоро, улучно без прогреха стреляху», – пишет русскийлетописец (ПСРЛ, Т. VIII, 1859, С. 44; ПСРЛ, Т. XI, 1897, С. 81).Из этого пассажа видно, что золотоордынцы стреляли из луков быстрона «обе руки» (т.е. от правой или левой руки), почти безошибочнопоражая, вперед и назад. Средневековые изображения стреляющихмонгольских воинов, показывают натяжения тетивы луков и пуск стрелот обеих рук, что подразумевает необходимую сноровку и тренировку.Ибн Арабшах, дает следующую оценку воинскому сословию Дашт-иКыпчака XIV в.: «Воины ее – (превосходные) стрелки» или «эти людисамые отборные и меткие стрелки; мета тели их не дают промахов и стреляют лучше Со‘алей. Когда они натянут тетивы, то и попадут в
1 Как считает В.Ф. Немеров, монголы обрабатывали ядом («хорон») железныенаконечники и активно применяли их в бою. Яд был двух видов: 1) простой яд(«хорон») растительного происхождения, 2) такой вид яда как «могайн хорон»,получаемый от гадюк (Немеров, 1987, С. 219). Такие факты в источниках есть. В«Великой хронике» Матфея Парижского говорится, что монгольское «наступательноеоружие (сделано) из железа и напоено ядом» (Матузова, 1979, С. 152).2 В этой связи в «Бабур-наме» цитируются стихотворение Саади из поэмы«Гулистан»: «Не давай врагу натянуть тетиву лука, пока сам можешь пуститьстрелу» (Бабур, 1992, С. 117). 3 Также и сибирские татары встретили отряд Ермака «пу-//стиша тмочисленнострел», т.е. множество стрел (Есиповская летопись, 2005, С. 193).
жилы, и когда доискиваются нужного, то и достигают цели, сидит ли онанеподвижно или летает» (Арабшах, 2005, С. 333, 336).
Опытный стрелок за минуту выпускал 10-12 стрел (Медведев,1966б, С. 34), а европейский лучник делал за это время всего шесть-семь выстрелов (Бехайм, 1995, С. 288, Функен, 2002, С. 120-122).По сведениям авторитетного британского оружиеведа Э. Окшоттасредневековый английский лучник эпохи Столетней войны выпускалтолько пять стрел в минуту, а арбалетчик всего одну, так, что побыстроте английский большой лук можно сравнить с арбалетом или каксовременную винтовку и мушкет (Oakeshott, 1960, Р. 297). Такаяскорострельность стрельбы из лука подтверждается специальнойпрактикой современных экспериментов. Таким образом, монголы почастоте выстрелов из лука в два раза могли превосходить своихевропейских противников. Выигрывая в быстроте стрельбы собственныхлучников, монгольские военачальники определяли тот темп и тутактическую боевую программу вооруженного противостояния, котораябыла им выгодна. Причем они результативно контролировали ирегулировали весь тактико-технический процесс от начала и доконца, что говорит о высоком квалифицированном и эффективномвоенно-тактическом менеджменте управления ходом боя.
В открытом полевом бою крайне важно было задавить своей огневоймощью контр обстрел со стороны неприятеля, в полном смысле«закидать его стрелами», что могло быть достигнуто правильноорганизованной серией массовых залповых выстрелов1 из луков. Болееманевренные монгольские конники с такой задачей, как следует изисточников, справлялись, преодолевая оказанное сопротивление.Выстроенные в специальном общем построении (полукольцо, дуга или«подкова», составляя несколько линий) мобильные подразделениялучников, с применением подвижной тактики (сменяя другу друга,перегруппировываясь на местности), расстреливали боезапас стрел посигналу своих командиров. Использовали также такой порядокдвижения отрядов как «хоровод» («карусель») или «танец по кругу»,двигаясь кольцеобразным строем и метая стрелы заранееотрепетированным приемом. Стрелы, осыпая ряды противника, летелипреимущественно по определенно заданной траектории – полудугой ипопадали во вражеских солдат и их коней как сверху2, т.е. почти по
1 К 1277 г. в английском войске начал действовал отряд лучников на постояннойоснове, сражавшийся отдельно от копейщиков(Oakeshott, 1960, Р. 296). Впервые вЗападной Европе в правлении английского короля Эдварда I (по прозвищу«Длинноногий») только в 1280 г. отряды, вооруженные луком были собраны в большиеподразделения и созданы специальные отряды лучников для применения залповыхвыстрелов (Функен, 2002, С. 116). 2 Еще в XVII в. Г.Л. де Боплан отмечал, что крымские татары осыпали противникатучей стрел, которые летели сверху на головы – «дугообразно» (Боплан, 1901, С.24). Такой обстрел действовал в психологическом отношении угнетающе на врага,
вертикали (или под углом 70º-80º), а также одновременно стрельбавелась и по горизонтали. Если только пять тысяч лучников каждый заминуту выпускали по 10 стрел, то их общее количество достигало всреднем 50 тысяч за этот интервал времени, а за несколько минут напротивника падало десятки (или сотни?) тысяч стрел! Об этомкрасочно сообщает Марко Поло (Марко Поло, 1990, С. 92, 194, 197,202, 212). Один средневековый очевидец образно уподобил этукартину боя так:
Первым за жертвой отправился лук, Испустил кровожадную стрелу. С двух сторон в воздухе стрелы, словно тучи, Смертный час безжалостно обрушил ливень стрел. Не милосердствуя вошла снаружи Стрела в грудь в поисках сердца От страха при виде стрелы несчастья Желчь становилась стрелой для печени
(Фатх-наме, 1969, С. 76).
В крупных решающих битвах количество стрелков, естественно,возрастало в несколько раз. Можно себе представить частоту иконцентрированность выпущенных стрел!
Воздух одело покрывало из орлиных перьев (Фатх-наме, 1969, С. 88).
Густота летящих стрел была настолько кучной, а количествоубитых и раненых при этом столь значительна, сопровождавшаясянередко массовой паникой воинских рядов, что противник не могоперативно организовать ответный удар, что вынуждало его отступитьили ретироваться с места боя. Были и другие варианты ведениясражения. В случае если враг упорно держался выбранной диспозиции,монгольские военачальники переносили мощный целенаправленныйлучно-стрелковый «огонь» по флангам заставляя задние или передниешеренги неприятельских воинов отойти вглубь и нарушить собственноебоевое построение, а затем методичным бронированным (плотным)ударом своей латной кавалерии, вооруженной длинным древковым
парализуя его волю к сопротивлению.
оружием громили обычно заметно поредевшие крылья или центр. Вслучае занятия вражеским войском оборонительной позиции нанезащищенной естественными рубежами местности монголы старалисьобойти его фланги своими легковооруженными отрядами и обстреливалисо всех возможных сторон, приближаясь к нему на расстоянии от 50до 100 м.
Показательно, что при применении т.н. массированногонастильного обстрела на значительном расстоянии выпускали стрелы сотносительно малым размером наконечника, а при «хороводе» (конныеподразделения скакали «по кругу слева направо») пользовались болеекрупными наконечниками стрел. В ходе этого движения стрелки моглиметнуть по неприятелю две стрелы «причем вторую – из самой лучшейпозиции – влево назад», которые точно попадали по цели, т.к.расстояние между противоборствующими сторонами было коротким – 20-30 м. Усилению эффекта поражения (заметные потери) способствовалиименно крупные наконечники стрел (Горелик, 2008, С. 166).
Кроме того, монголы эффективно проводили, «чтобы сокрушитьпротивника», сложные комбинированные атаки, в которой участвовалиодновременно спешенные лучники1, защищенные специальноподготовленными щитами (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 62) и конныестрелки. Тогда в XIII в. противники монголов искали вариантытактического ответа по противодействию – предохранению и созданиюадекватного защитного вооружения, способных нейтрализоватьгубительное воздействие их «смертоносных» стрел. В бою противтатар, советует в этой связи, Плано Карпини нужно иметь «двойныелаты, так как стрелы их нелегко пронзают их, шлем и другое оружиедля защиты тела и коня от оружия и стрел их. А если некоторые невооружены так хорошо, как мы сказали, то они должны идти сзадидругих, как делают Татары, и стрелять в них из луков или баллист»(Плано Карпини, 1957, С. 62). Здесь налицо стремление перенятьцентрально-азиатскую тактику дистанционной стрельбы пеших и конныхстрелков из глубины построения войска. Этот пример важен тем, чтонаглядно показывает преимущество монгольских тактических схем1 В комментарии к этому сюжету Р.П. Храпачевский отметил: «Ведение сражениямонголами в пешем порядке, в основном именно для стрелкового боя, требовавшегоповышенной точности и дальности стрельбы, зафиксировано и в других источниках.Например, в жизнеописании Мухали в Юань ши сказано: «Мухали глубокой ночью вывелвойска и двинулся с огромной скоростью. (Они) встретили (войско Чжанчжи) навостоке уезда Шэньшуй-сянь, зажали с двух сторон и ударили по нему. (Мухали)выделил из подчиненных ему войск половину, ссадил с коней и отправил сражатьсяпешими. (Он) отобрал несколько тысяч лучших стрелков и приказал (им): «Пехотинцыразбойников без лат, быстро расстреляйте их!». Тогда подчиненные (Мухали)всадники и (спешенные) воины одновременно друг с другом двинулись и нанеслитяжелое поражение ему (войску Чжанчжи)» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 98). Такуютактику сочетания пеших стрелков и конных частей войска дальневосточныхгосударств применяли еще в сяньбийскую эпоху (Бобров, Худяков, 2005, С. 109).
ведения боевых действий с упором на ручные метательные средства,которые пытался усвоить их потенциальный военный оппонент.
Интересны практиковавшиеся способы и приемы стрельбы из лука.Как правило, лук натягивался до груди (метание стрелы от груди,плеча) или тетива доходила до уха (за ухо). Применялись обаварианта. Об этом свидетельствуют восточные миниатюры,изображающие монгольских воинов-лучников. В анналах Уэйверлейскогомонастыря монголы охарактеризованы как «отличные лучники», скоторыми «никто не сравнится», а «луки они натягивают болеемощные, чем тюрки» (Матузова, 1979, С. 175). Сравнение монгольскихлуков с «тюркскими» (восточными или венгерскими?) достаточнопоказательно, т.е. автор тем самым хотел наглядно пояснить болеесильные возможности метательных средств завоевателей. Для тогочтобы сильно натянуть лук следовало приложить не только силу, но иобладать тренированными пальцами и руками. По некоторым данным,чтобы натянуть монгольский сложносоставной лук было необходимо неменее 160 фунтов натяжения1, а дистанция поражения могла составлять200-300 шагов (Вернадский, 1999, С. 118). Дальность полетамонгольских стрел доходило до 300 м и более (Chambers, 1979, P.57). По мнению А.С. Соловьева сила натяжения монгольских луковбыла свыше 60 кг (Соловьев, 2003, С. 19). М.В. Горелик определилсилу натяжения луков монгольской эпохи в 40-80 кг, а выпущеннаястрела пробивала кольчугу «на расстоянии до 100 м» (Горелик, 2008,С. 165). Собственно сила натяжения для каждого экземпляра лукаявлялась индивидуальной. Некоторые, персонально изготовленные лукибыло очень трудно натянуть. Например, по приказу Мункэ-каанасделали «самый тугой лук, который едва могли натянуть двачеловека» (Рубрук, 1957, С. 141). Это позволяет считать, чтонекоторые типы луков были достаточно индивидуализированнымпредметом оружия, предназначенным для конкретного пользователя2.
1 По «Мэн-да бэй-лу» «(Усилие, требующееся для натягивания тетивы) лука,непременно бывает свыше одной (единицы) ши». 1 ши – китайская мера объема приЦзинь соответствовала приблизительно 66,41 л (Мэн-да бэй-лу, 1975, С. 78).Мощность средневековых сложносоставных луков составляла в пределах 40-80 кг(Медведев, 1966б, С. 32). Монгольские луки были эффективными в полевом бою, ноуступали арбалетам по силе натяжения, которые все более совершенствовались. Длясравнения дуга китайского арбалета с ложей длиной около метра XI в. имела силунатяжения 132 кг (Шокарев, 2001, С. 41). Недаром в средневековой Европе арбалетназывали вероломным оружием трусов. Преимущество кочевнических луков, какотмечено в литературе, было связано с лучшей скорострельностью в маневренномсражении в сравнении с арбалетами. Из последнего можно было произвести толькоодин или в лучшем случае два выстрела в минуту. 2 Существует мнение, что луки не относятся к категории серийного оружия, т.к.каждый экземпляр мог обладать только ему присущими свойствами (Соловьев, 1987,С. 30; Соловьев, 2003, С. 18). Однако в условиях военного времени, даже всредние века, не исключено, что существовало специализированное поточное
Как следует из арабского трактата о луках и лучниках, наиболееоптимальной дистанцией стрельбы было расстояние в 125 локтей (60м), а предельной считалась 300 локтей (144-156 м) (Arab archery,1945, Р. 77). Сюй Тин наблюдал со стороны как каан Угэдэй вышел изсвоего шатра «просто пострелять из луков. Владетель татар личновыстрелил 4-5 стрел, дальность (стрельбы) вышла в 200 шагов. Такпостреляв, (они) закончили» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 73). Нарасстояние до двухсот шагов (в среднем до 100-150 м)1 опытныйметатель стрел мог действенно поразить крупную неподвижную илидвигающуюся мишень, но не обязательно с летальным исходом. Этомогло быть ранение различной степени.
О физической технике стрельбы по-монгольски более подробноосвещают китайские очевидцы. «Поскольку (в седле они)поворачиваются налево и переворачиваются направо (с такойскоростью) как будто крылья ветряной мельницы, то могут,повернувшись налево, стрелять направо, (причем) не только туда –целятся еще и назад. Что касается их стрельбы в пешем положении,то они становятся широко раздвинув ноги2, делают широкий шаг иизгибаются в пояснице, полусогнув ноги. Потому (они) обладаютспособностью пробивать панцирь (своей стрельбой из лука)» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 58). Примечательно, что возможность стрелойпрошить защитный доспех, связывается с налаженной методикойстрельбы.
К особенностям конно-лучного боя надо отнести также то, что приверховой езде монгольские всадники «стоят на носках (в стременах),а не сидят, поэтому основная сила у них находится в икрах, а вбедрах (ее) почти нет совсем. (Они) быстры как идущий смерч имогучи как давящая гора» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 58). Такимобразом, наездник практически «стоял в седле», имея твердую опорув стременах и получая соответствующий баланс в момент спускатетивы. Кавалеристы стреляли из луков на ходу тогда, когда лошадьотрывалась копытами от земли. Это давало ключевой момент(фактически во времени это миг) для прицельной и точной стрельбыпо цели. Совершенно ясно, что монголы располагали возможностьюстрелять из луков при наступлении как вперед, так и назад приотходе, чего обычно не практиковали их противники. Соответственно
производство луков и стрел, ориентированное на массового потребителя, какимявлялись мобилизованные в ускоренном порядке не имевшие собственного вооружениярекруты. 1 Рене Груссе в своей известной книге использовал сведения, согласно которыммонголы поражали противника на 200 и даже 400 м (Grousset, 1965, P. 277; Груссе,2005, С. 243). Возможность метания стрелы на такое расстояние вполне возможна,но поражающий эффект будет не столь высоким. 2 В комментарии к источнику сказано: «В тексте 鳴 鳴 鳴 鳴 ба-цзы ли-цзяо, букв.«ставить ноги в виде знака 鳴» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 96).
монгольские стрельцы могли вести обстрел неприятеля на полномскаку коня по всем направлениям.
Не исключено, что монголы могли использовать различные способыстрельбы из лука, в частности, такой который описал Иоанн Нейгофф:«Собираясь натянуть лук, берут его несколько на откос в левуюруку, кладут тетиву за агатовое кольцо на большой палец правойруки, которого передний сустав загибают вперед, сохраняют его вэтом положении в помощью среднего сустава указательного пальца,прижатого к нему, и натягивают тетиву до тех пор, пока левая рукавытянется, а правая подойдет к уху; наметив свою цель, отнимаютуказательный палец от большого, и ту же минуту тетивасоскальзывает с агатового кольца и кидает стрелу со значительнойсилой» (цит. по: (Соловьев, 2003, С. 160)). Из выделенных еще вконце XIX в. американским исследователем Е.С. Морзом пяти способовнатягивания лука один, т.н. «монгольский», был свойствененвосточным народам и кочевому населению евразийских степей(монголы, тюрки). «При этом способе тетива натягивается большимпальцем, а указательный палец только помогает первому, нажимая нанего сверху. Большой палец при этом просовывается концом междууказательным и средним, как в известном сложении пальцев – дляотвращения дурного глаза, а стрела держится в глубине вырезкимежду большим и указательным пальцами. Такое держание стрелысодействует ее отклонению влево, поэтому при монгольском способестрелы помещаются вправо от лука» (Анучин, 1887, С. 35). Такойспособ натяжения тетивы с помощью большого пальца сохранялся укочевников Дашт-и Кыпчака в XVI в. (см.: Рузбихан, 1976, С. 75).При стрельбе лук, как правило, держался в вертикальном положении влевой руке чуть с наклоном налево. Правой рукой лучник доставалстрелу из колчана и натягивал тетиву, а стрела проходила черезбольшой палец левой руки, т.е. принимала стрелу, но находиласьвыше руки. Существенное значение придавалось высоте / градусулука. Если мишень находилась в отдалении и была необходимостьметнуть стрелу на большую дистанцию, то лук держался ввысокоподнятом положении. Одним из объективных факторов, влиявшихна успешное применение лука, становились погодные условия. Вовремя спуска тетивы стрелки старались встать в такую позицию,чтобы полету стрелы сопутствовало движение ветра, а солнце неслепило глаза. Это было одни из решающих обстоятельств верной ирезультативной стрельбы. Успешное попадание и дальность полетастрелы зависели также и от других условий: силы лука (гибкость,упругость), способа надевания тетивы на кибить лука, качестватетивы, стрелы, позы стрелка (положение корпуса ног и головы),положение рук на кибити (хват) и тетиве (захват), наконец, опыта имастерства самого воина-лучника. При натягивании тетиву старались
оттянуть до полной длины стрелы. «Когда тетиву натянув до конца,стрелою сражал я чужого стрельца», – заявляет Доспамбет-жырау(Поэты пяти веков, 1993, С. 38). Стрелу спускали свободно безизлишнего напряжения – плавно. «Если, сильно натянув, резкоспустишь тетиву, – говорит даштский поэт XV – начала XVI вв.Шалкииз-жырау, – то согнется, сломается березовая стрела»(Магауин, 1970, С. 50). Прицеливание осуществлялось черезвизирование правым или левым глазом наконечника стрелы. Правильновыбранный прицел, также как и глазомер, особенно при одиночнойстрельбе, имел решающее значение. Умение и отработанная техникавладения луком были залогом успешной стрельбы: «Если натянешь тылук тугой и стрелы умело в путь пошлешь, любую цель пробьешь дажеберезовою стрелой» (Поэты пяти веков, 1993, С. 48). Сами монголыобычно носили длинную нижнюю рубашку, сделанную из шелка. Стреламогла проникнуть через броню и застрять в теле вместе с шелком,что могло увеличить зону ранения. В данном случае стрелу можнобыло безопасно удалить из раны (Chambers, 1979, P. 55-56). В целяхобороны за спину закидывали круглый щит, чтобы воспользоваться импри необходимости как средством индивидуальной защиты.
Дополнительным элементом для удобного натягивания лука быликольца из кости или металла (см. например, Греков, Якубовский,1950, Рис. 4). Эта традиция пришла к монголам и в Золотую Орду изстран Востока. В целом к предохранительным приспособлениям лучникаотносятся не только кольца, но и щитки для запястья, перчатки,напалечники или «наперстки». Кольца (костяные, роговые, каменные,бронзовые) предохраняли указательный палец правой руки отповреждений при натягивании и спуске тетивы и применялись широкона Востоке, но на Руси они были не знакомы. В восточно-европейскихстепях и на Северном Кавказе «лучные» кольца, как отмечаютпоследние археологические исследования, стали популярны в XIII-XIVвв. после монгольских вторжений. На территории золотоордынскогоПоволжья, в землях волжских булгар неоднократно находили костяныеи бронзовые защитные кольца (Медведев, 1966б, С. 25-26; сводканаходок колец на территории Золотой Орды см.: Волков, 2003, С.154). Такое хорошо сохранившееся кольцо, например, имеется взахоронении воина золотоордынского времени, в курганной группе«Высокая гора» Воронежской области, которое было сделано изстворки раковины, возможно, одетое при погребении на оперениестрелы (Кравец, Березуцкий, Бойков, 2000, С. 116. Рис. 4, 14). Впозднесредневековом могильнике на р. Пшиш в Адыгее в женскомпогребении (?) обнаружено костяное кольцо для стрельбы из лука, новместе с тем известно, что данная деталь обычно относится кмужскому воинскому набору (Носкова, 2005, Рис. 3, 18). В болеепоздних восточных источниках упоминаются кольца для натягивания
тетивы т.н. «царских луков»: «Повсюду (Мухаммед Шайбани-хан) сцарским луком в руке появляется, крепко натянув тетиву кольцом,надетым на большой палец» (Фатх-наме, 1969, С. 75). Тетивавосточных луков «цеплялась кольцом со специальным выступом и на-тягивалась большим пальцем правой руки. Это кольцо в соответствиис возможностями владельца изготавливалось из бычьего рога, сло-новой кости, серебра или золота и украшалось драгоценными камнями»(Бехайм, 1995, С. 283). Как считает, И.В. Волков, кольца для лукапопали к монголам из Китая, и эта страна может считаться родинойтакого изобретения, т.к. самые ранние находки нефритового кольцаиз погребения царицы Фу Хао относятся к XIII-XII вв. до н.э. эпохиИнь (Волков, 2003, С. 155. Рис. 1; более подробно см.: Варенов,1989, С. 30-33).
Монголы, как и другие кочевники евразийских степей, высокоценили людей, обладавших искусством стрельбы из лука, которыхназывали мэргэн. Дед Мэнгусара1 (Мункасар-нойона) – «Чоа былисключительным стрелком и наездником, государь (Чингиз-хан – А.К.)очень его любил и дал звание как мэргену. По-китайски (мэрген)значит «тот, кто лучший из отлично стреляющих из лука». Государьоднажды повстречался с разбойниками и назревало сражение.Случилось так, что к ним подлетели две утки и государь повелел Чоавыстрелить по ним. Тот спросил: «Стрелять в их селезня? Или в ту,что самка?». Государь сказал: «В селезня». Чоа пустил одну(стрелу) и этот селезень упал. Разбойники наблюдали (за этим)издалека, а разглядев, испугались и сказали так: «Если таквеликолепно стреляют по летящим птицам, то невозможно будет дажеубежать, если (будут стрелять) по людям!». И, не став сражаться,ушли» («Жизнеописания знаменитых», 2009, С. 234, 243). Взавершающей войне монголов с непокоренными меркитами был захваченв плен младший сын Токтоа-беки Култукан-мэргэн, известный умением«хорошо и метко» пускать стрелы. Джучи, наслышанный «о меткостиего стрельбы, то, поставивши мишень, приказал ему пустить (в нее)стрелу. (Култукан-мэргэн), выстрелив, попал в цель, а вслед пустилдругую, попал в (самую) зарубку, где оперенье первой стрелы, ирасколол (ее)». Джучи это понравилось, и он попросил отца оставитьего в живых, но получил категоричный отказ и выдающийся меркитскиймэргэн был казнен (Рашид ад-Дин, Т.1. Кн.1, 1952, С. 116). Рашид ад-Дин в своем сочинении приводит много таких рассказов2, видимо,1 Во времена правления Мункэ (1251-1259 гг.) был верховным судьей – яргучиМонгольской империи. 2 У Нэкуна-тайши – старшего брата Есугэй-бахадура – был сын Кучар «стрелок,метавший стрелы очень далеко, высоко и метко, и стал он известен и знаменитблагодаря этому свойству. Он так далеко метал (стрелы), что монголы еговосхваляли за это и сложили (поговорку) – «стрела Кучара уносится так, чтостановится невидимой» (Рашид ад-Дин, Т.1. кн.2, 1952, С. 47). Как-то Газан-хан
услышанных от самих монголов. Кочевники Дашт-и Кыпчака наделяливоина, мастерски владеющего луком, особым прозвищем – «алб-атғучы»– богатырь-стрелок, так, у чингизида Кара-Ногая – сына Мангутаявторым его именем «было Алп-Атгучу-бахадур, т.е. Великий-стрелок-богатырь» (Чингиз-наме, 1992, С. 108, 135, 137, 156).
Монгольские кочевники учили детей стрелять из лука с первых летжизни, прививая навыки управления конем и владения лукомодновременно. По словам Пэн Да-я: «Что касается их (черных татар)стрельбы с коня, то (они еще) в младенческую пору привязываютсянакрепко к спине коня. И так (они) следуют с матерью повсюду. В 3года (их) привязывают веревкой к (луке) седла, так что рукам естьза что держаться, и (пускают) толпой нестись во весь опор. В 4-5лет (им) дают держать маленький лук и короткие стрелы, вместе скоторыми они и растут» (Пэн Да-я, Сюй Тин, 2009, С. 57-58). Тутможно вспомнить детство Тэмучжина и Чжамухи, описанное в«Сокровенном сказании», которые стреляли из детских луков –алангир, стрелами годоли.
В Золотой Орде устраивались специальные состязания для стрелковиз лука. «К деревянной балке, положенной горизонтально на двадеревянных столба (это устройство похоже на виселицу), привешиваютна тонкой бечевке серебряную чашу. Состязающиеся на приз стрелкиимеют стрелы с железной частью в виде полумесяца с острыми краями.Всадники скачут с луками на своих конях под эту виселицу и, едватолько минуют ее, — причем лошадь продолжает нестись в том женаправлении, — оборачиваются назад и стреляют в бечевку; тот, кто,срезав ее, сбросит чашу, выигрывает приз» (Барбаро, 1971, С. 155-156). Именно такие спортивные соревнования становилисьрезультативным тренингом для воинов, «натягивающих лук».
Традиционно, лук и стрелы в системе золотоордынского вооружениязанимали ведущее значение благодаря ряду своих преимуществ,связанных, в первую очередь, с ведением боя на дальнем расстоянии,
«погнался за дикой козой. Он метнул стрелу и показалось так, что стрела непопала в нее. Вдруг коза упала. Толпа окольных людей (ее) осмотрела и(оказалось, что) стрелой ей было причинено девять ран. Все люди это воочиюнаблюдали и поняли, каким образом эти девять ран произошли. Стрела была такая,которую монголы называют «тона» (тунэ). У ее наконечника имеется три весьмаострых острия. Когда коза была в воздухе и четыре ноги ее сошлись вместе,стрела, попав во все четыре и ранив (их), прошла дальше, попала в пах, брюхо игрудь, и каждое острие ее нанесло рану вдоль. Затем (стрела) попала в шею игорло и нанесла еще две раны, так что по определении таким образом виднелосьдевять ран» (Рашид ад-Дин, Т. III, 1946, С. 187). Сын Миран-шаха (сын Тимура) –Абу Бакр «был настолько силен, что когда однажды он стрелял из турецкого лука всошник плуга, железо прошло через него, тогда как сошник остался в нем»(Шильтбергер, 1984, С. 33).
сравнительно простой конструкцией и необходимой технико-материальной базой в его изготовлении. Какие конкретно популярныетипы луков существовали у золотоордынских кочевников сказатьсложно, т.к. их военная культура была по всей вероятностинастолько многокомпонентной, что в ней параллельно сосуществовалиразличные оружейные, технологические традиции выделки луков,оставшиеся от предшествующего (кыпчакского) периода, так ипривнесенные с востока центрально-азиатскими номадами, а такжезаимствованиями образцов вооружения из арсенала местных народов иблизлежащих стран. Широкий спектр наконечников стрел,представленных разнообразными типами – преимущественно плоскимидавал золотоордынским лучникам возможность успешно применять весьнакопленный военный арсенал. Профессиональное владение луком иконно-мобильная тактика кочевников стали заметным преимуществом входе боевых действий. Вместе с тем, следует заметить, что ручноеметательное оружие золотоордынских номадов не располагалаэволюционным потенциалом для дальнейшей военно-техническоймодернизации, и со временем по «огневой» мощи и результативностипостепенно уступало более эффективному огнестрельному оружию.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
(Абд аз-Захир) «Из сочинения Ибн ‘Абд аз-Захира» // История Казахстана варабских источниках. (СМИЗО Т. I). Т. 1. Алматы, 2005. (‘Абд ар-Раззак Самарканди) «Из «Места восхода двух счастливых звезд и местаслияния двух морей» сочинения ‘Абд ар-Раззака Самарканди» // История Казахстанав персидских источниках. (СМИЗО Т. II). Т. IV. Алматы, 2006.Адлер Б.Ф. Луки и стрелы Северной Азии // РАЖ. 1903. № 3-4.Акишев К.А., Варфоломеев В.В. Жилища городища Бозок // Бозок в панорамесредневековых культур Евразии: Мат-лы межд. полевого семинара. Астана, 2008. Анучин Д.Н. Лук и стрелы. Археолого-этнографический очерк. М., 1887.(Арабшах) «Из сочинения Ибн ‘Арабшаха» // История Казахстана в арабскихисточниках. (СМИЗО Т. I). Т. 1. Алматы, 2005.Артак Малик-зода Монгольский военно-исторический словарь //http://xlegio.enjoy.ru/pubs/mongol_voco/mongol_voco.htmАстайкин А.А. Летописи о вторжениях на Русь: 1223-1480 гг. // Мир Льва Гумилева.Арабески истории. Вып. 3-4. В 2-х томах. Т. I. М., 1996.Ахмедов С.А. Погребения монгольских воинов из Мингечаура и защитный вал Абага-хана как неизученный аспект истории войн Золотой Орды и государства Ильханов //Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Вып. 2. Казань, 2009. Бабур-наме. Записки Бабура. Пер. М. Салье. 2-е изд., дораб. Ташкент, 1992.(Байбарс) «Из летописи Рукн-ад-Дина Байбарса» // История Казахстана в арабскихисточниках. (СМИЗО Т. I). Т. 1. Алматы, 2005.Барбаро И. Путешествие в Тану и Персию // Барбаро и Контарини о России: Кистории итало-русских связей в XV в. Л., 1971.Белорыбкин Г.Н. Золотаревское поселение. СПб., 2001.Бехайм В. Энциклопедия оружия. СПб., 1995.Бисембаев А.А. Погребальный обряд кочевников средневековья Западного Казахстана(VIII-XVIII вв.). Рук. дисс. канд. ист. наук. Алматы, 2000.
Блохин В.Г., Дьяченко А.Н., Скрипкин А.С. Средневековые рыцари Кубани // МИАК.Сб. науч. тр. Краснодар, 2003. Бобров Л.А. Худяков Ю.С. Военное дело сяньбийских государств Северного Китая IV-V вв. н.э. // Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху: сборникнаучных трудов. Новосибирск, 2005.Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии иЮжной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV- перваяполовина XVIII вв.). СПб., 2008.Боплан Г.Л. Описание Украины // Гийом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России. Пер. В.Г. Ляскоронского. Киев,1901. Варенов А.В. Древнекитайский комплекс вооружения эпохи развитой бронзы: Учеб.пособие. Новосибирск, 1989. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Пер. с англ. Е.П. Беренштейна, Б.Л. Губмана,О.В. Строгановой. Тверь; М., 1999.Веселовский Н.И. Свистящие стрелы // ИИАК. Вып. 30. СПб., 1909.Волков И.В. О происхождении «монгольского» способа стрельбы из лука // МИАСК.Вып. 2. Армавир, 2003. Воронцов И.А. Организация военного дела Золотой Орды (по материалам НижнегоПоволжья). Автореф. дисс. … к.и.н. Волгоград, 2006.Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.,1965.Герасимов Ю.В. Оружиеведение в отечественной археологии: история и механизмыформирования научного направления. Автореф. дисс. … к.и.н. Омск, 2005.Горбунов В.В. Военное дело средневекового населения Алтая (III-XIV вв. н.э.).Автореф. дисс. … д.и.н. Барнаул, 2006.Горелик М.В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н.э.). М., 1993.Горелик М.В. Армии монголо-татар X-XIV веков. Воинское искусство, снаряжение,оружие. М., 2002.Горелик М.В. Черкесские воины Золотой Орды (по археологическим данным) //Вестник института гуманитарных исследований правительства КБР и КБНЦ РАН. Вып.15. Нальчик, 2008. Горелик М.В. Монгольский костюм в XIII-XIV веках: традиции имперской культуры //Золотоордынское наследие. Сб. статей. Вып. 1. Казань, 2009.Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950.Груссе Р. Империя степей. Аттила, Чингисхан, Тамерлан. Пер. с француз. ХамраеваХ.К. Т. 1. Алматы, 2005.Гуренко Л.В., Ситников А.В., Скворцов Н.Б., Сурков А.Г. Раскопки курганов упоселка Верхне-Рубежный // ДВДС. Волгоград, 1994. № 4.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. М., 1999.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. М., 1999.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М., 1999. Древнетюркский словарь. Л., 1969. Евглевский А.В., Кульбака В.К. Грунтовый могильник золотоордынского времениЛяпинская балка из Северо-Восточного Приазовья // Степи Европы в эпохусредневековья. Половецко-золотоордынское время. Сб. науч. раб. Т. 3. Донецк,2003. Есиповская летопись по Погодинскому списку. Сибирские летописи // Русскиелетописи и официальные материалы XVI – первой трети XVII в. о народахКазахстана. Т. 2. Алматы, 2005.Ефимов К.Ю. Золотоордынское погребение из могильника «Олень-Колодезь» // ДА.1999. № 3-4.
«Жизнеописания знаменитых» // Золотая Орда в источниках. Кит. и монг. источники.Пер. с кит., состав., ввод. статья и коммен. Р.П. Храпачевского. Т. III. М.,2009.Жирмунский В.М. Сказание об Идиге // Половецкая луна, № 3/ 7 / 93 //http://turkolog.narod.ruЗаднепровский Ю.А. Кочевническое погребение XIII - XIV вв. в Фергане // СА.1975. № 4.Зажигалов О.В. Арбалетний набiр з с. Половецьке Київської областi //Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Киев.; Судак, 2004.(Ибн Биби) «Из сокращенной редакции «Сельджук-наме» Ибн Биби» // ИсторияКазахстана в персидских источниках. (СМИЗО Т. II). Т. IV. Алматы, 2006.Иванов В.А. Вооружение средневековых кочевников Южного Урала и Приуралья (VII—XIV вв.) // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск, 1987.Иванов В.А., Кригер В.А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII – XIV вв.). М., 1988.Иванов Г.Е. Погребение золотоордынского времени с поселения Островное 3 //Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. Х. Барнаул,1999. (Калавун) «Из биографии султана ал-Малика ал-Мансура Калавуна» // ИсторияКазахстана в арабских источниках. (СМИЗО Т. I). Т. 1. Алматы, 2005.Киракос Гандзакеци. История Армении. Пер. с древнеар., пред. и коммент. Л.А.Ханларян. М., 1976.Киселев С.В., Мерперт Н.Я. Железные и чугунные изделия Каракорума //Древнемонгольские города. М., 1965. Кищенко В.Г. Стрелы древних и средневековых культура Евразии: реконструкция //Степи Европы в эпоху средневековья. Половецко-золотоордынское время. Сб. науч.раб. Т. 3. Донецк, 2003.Козюменко Е.В., Беспалый Е.И., Беспалый Г.Е., Раев Б.А. Раскопки курганногомогильника «Кавказский-2» // Археологические исследования на новостройкахКраснодарского края. Вып. 1. Краснодар, 2001.Коробейников А.В., Митюков Н.В. Баллистика стрел по данным археологии: введениев проблемную область. Ижевск, 2007.Костюков В.П. Отчет о полевых археологических исследованиях в Карталинскомрайоне Челябинской области в 1987 г. Челябинск, 1987.Костюков В.П. Отчет о полевых археологических исследованиях в Карталинскомрайоне Челябинской области в 1988 г. Челябинск, 1989.Костюков В.П. Одиночный курган у «Третьего Плеса» (К проблеме конфессиональнойидентификации погребальных памятников кочевников Золотой Орды) // История икультура Улуса Джучи. Казань, 2007.Кравец В.В., Березуцкий В.Д., Бойков А.А. Погребение кочевой знатизолотоордынского времени в курганной группе «Высокая гора» на юге Воронежскойобласти // ДА. 2000. № 3-4.Кригер В.А. Средневековые захоронения Ново-Кумакского могильника (Оренбургскаяобласть) // СА. 1983. № 3.Курышжанов А.К. Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятникаXIII в. – «Тюркско-арабского словаря». Алма-Ата, 1970.Кэстль Д. Дневник путешествия в году 1736-м из Оренбурга к Абулхаиру, хануКиргиз-Кайсацкой Орды. / Пер. с нем. В. Штаркенберга, В. Скорого. Алматы, 1998.Литвинский Б.А. Заметки о древнейших луках на Востоке // ПетербургскийРериховский сборник: Вып. V. СПб., 2002. Лубсан Данзан. Алтан Тобчи. («Золотое сказание»). Пер. с монг., введ. коммен. иприлож. Н.П. Шастиной. М., 1973.
Магауин М.М. Кобыз и копье. Повествование о казахских акынах и жырау XV-XVIIIвеков. Алма-Ата, 1970. Малиновская Н.В. Колчаны XIII-XIV вв. с костяными орнаментированными обкладкамина территории евразийских степей // Города Поволжья в средние века. М., 1974.(Марко Поло) Книга Марко Поло. Алма-Ата, 1990.Матузова В.И. Английские средневековые источники. М., 1979. Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Пер., предислов. и коммент. З.-А. М.Ауэзовой. Алматы, 2005.Медведев А.Ф. Оружие Новгорода Великого // МИА СССР. № 65. Труды Новгородскойархеологической экспедиции. М., 1959. Медведев А.Ф. Татаро-монгольские наконечники стрел в Восточной Европе // СА.1966 а. № 2.Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв.САИ. Вып. Е 1-36. М., 1966 б.Мэн-да Бэй-лу («Полное описание монголо-татар») / Пер. с кит., введ., коммен. иприлож. Н.Ц. Мункуева. М., 1975.Нарожный Е.И. Средневековые кочевники Северного Кавказа (некоторые дискуссионныепроблемы этнокультурного взаимодействия эпохи Золотой Орды). Армавир, 2005.Насан-Очир Э.-О. Военное дело древних кочевников Монголии (II тыс. до н.э. - IIIвек до н.э.). Автореф. дисс. … к.и.н. Новосибирск, 2008.Немеров В.Ф. Воинское снаряжение и оружие монгольского воина XIII-XIV вв. // СА.1987. № 2.Носкова Л.М. Средневековые погребения могильника на р. Пшиш в Адыгее. Пораскопкам 1986 и 1988 годов // Государственный музей Востока. Материальнаякультура Востока. Вып. 4. М., 2005.«Основные записи» (анналы правлений каанов) // Золотая Орда в источниках. Кит. имонг. источники. Пер. с кит., состав., ввод. статья и коммен. Р.П.Храпачевского. Т. III. М., 2009. (Плано Карпини) Джиованни дель Плано Карпини. «История монгалов» // Путешествиев восточные страны Плано Карпини и Рубрука. Пер. А.И. Малеина. М, 1957.ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. Изд. 2-ое. Т. II. СПб., 1871. ПСРЛ. Летопись по Воскресенскому списку (1354-1541 гг.). Т. VIII. СПб., 1859. ПСРЛ. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (1362-1424 гг.). Т. XI. СПб., 1897.Поппе Н.Н. Монгольский словарь Муккадимат ал-Адаб / Труды институтавостоковедения XIV. Ч. I-II. М.;Л., 1938. Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV- начала XX вв. Вст. ст., сост., биогр..спр. и прим. М.М. Магауина. Алма-Ата, 1993.Пэн Да-я, Сюй Тин «Хэй-да шилюэ (Краткие известия о черных татарах)»,комментированные и исследованные Ван Го-вэем // Золотая Орда в источниках. Кит.и монг. источники. Пер. с кит., состав., ввод. статья и коммен. Р.П.Храпачевского. Т. III. М., 2009. Рассамакин Ю.Я. Погребение знатного кочевника на реке Молочной: опытреконструкции вещевого комплекса // Степи Европы в эпоху средневековья.Половецко-золотоордынское время. Сб. науч. раб. Т. 3. Донецк, 2003.Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.1. М.-Л., 1952. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.2. М.-Л., 1952. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. III. М.-Л., 1946.Ру Ж-П. Чингис-хан и империя монголов. Пер. с фр. Л. Тарасенковой. М., 2005.(Рубрук) Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны // Путешествие ввосточные страны Плано Карпини и Рубрука. Пер. А.И. Малеина. М., 1957.Руденко К.А. Железные наконечники стрел VIII-XV вв. из Волжской Булгарии.Исследование и каталог. Казань, 2003.
(Рузбихан) Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Запискибухарского гостя) / Пер., предисл. и примеч. Р.П. Джалиловой. М., 1976.Савинов Д.Г. Новые материалы по истории сложного лука и некоторые вопросы егоэволюции в Южной Сибири // Военное дело древних племен Сибири и ЦентральнойАзии. Новосибирск, 1981.Сальников А.В. О времени появления арбалетов на Северном Кавказе (некоторыеаспекты интересующей проблемы) // МИАСК. Вып. 2. Армавир, 2003.Сальников А.В. Эволюция северокавказского воина XIII-XV вв. под влияниемцентральноазиатского и европейского военного дела. Автореф. … дисс. к.и.н.Ставрополь, 2008. «Сокровенное сказание монголов» Пер. Козина С.А. Улан-Удэ, 1990. Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири: Эпохасредневековья. Новосибирск, 1987. Соловьев А.И. Оружие и доспехи: Сибирское вооружение: от каменного века досредневековья. Новосибирск, 2003.Татищев В.Н. История Российская: (В 3 т.). Т. 3. М., 2005. Тишкин А.А., Горбунов В.В., Казаков А.А. Курганный могильник Телеутский Взвоз-I и культура Лесостепного Алтая в монгольское время. Барнаул, 2002.Фатх-наме // МИКХ. Алма-Ата, 1969.Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынскихханов. Археологические памятники. М., 1966.Федоров-Давыдов Г.А. Монгольское завоевание и Золотая Орда // Степи Евразии вэпоху средневековья. Археология СССР. М., 1981.Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. Пер., коммент. О.А.Акимовой. М., 1997.Функен Ф., Функен Л. Средние века. VIII-XV века: Доспехи и вооружение – Крепостии осадные машины – Рыцарские турниры и гербы. Пер. с фр. Н.П. Соколова. – М.,2002.Худяков Ю.С. Железные наконечники стрел из Монголии // Древние культурыМонголии. Новосибирск, 1985. Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Реконструкция комплекса вооружения панцирного воинаиз памятника Цогт-Хиргист-Хоолой в Гобийском Алтае // Проблемы военной историинародов Востока (бюллетень Комиссии по военной истории народов Востока). Вып. 1.М., 1988.Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего иразвитого средневековья. Новосибирск, 1991.Худяков Ю.С. Эволюция сложносоставного лука у кочевников Центральной Азии //Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1993. Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпохуразвитого средневековья. Новосибирск, 1997.Худяков Ю.С. Вооружение кочевого населения северо-восточных районов Золотой Орды// Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Вып. 2. Казань, 2009. (Чингиз-наме) Утемиш-хаджи. Чингиз-наме / Факсим., пер., транскр., текстолог.примеч., исслед. В.П. Юдина. Алма-Ата, 1992.Шараф-наме-йи шахи // МИКХ. Алма-Ата, 1969.Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 г. по 1427 г. Пер. состаронем. Ф.К. Бруна. Баку, 1984.Шокарев Ю.В. Луки и арбалеты. М., 2001.Юань ши (Официальная хроника династии Юань). Основные записи // Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М., 2005.Юрченко А.Г. Русские и половцы перед лицом монгольского вызова (1223 г.) //Тюркологический сборник 2002. Россия и тюркский мир. М., 2003.
Arab archery. An Arabic manuscript of about A.D. 1500 «A book on the excellenceof the bow & arrow» and the description thereof. Transl. and edit. By Nabih AminFaris and Robert Potter Elmer. Prinsceton.; N.J., 1945.Chambers J. Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe. New-York, 1979.Grousset R. L’ Empire des Steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan. Paris, 1965. Hystoria Tartarorum fratri C. de Bridia. «История тартар» брата Ц. де Бридиа //Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францискианскоймиссии 1245 года. СПб., 2002. Moaveu N. Arc, flecke, carquois // Etudes mongoles. cahier 1. 1970. Oakeshott E. The Archaeology of Weapons. Arms and Armour from Prehistory to theAge of Chivalry. Woodbridge, 1960.Strakosch-Grassman G. Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa in den Jahren1241 und 1242. Innsbruck, 1893.
КЕМ ОСТАВЛЕН КОМПЛЕКС МОКРИНСКИЙ I?
Д.В. Марыксин
Данная статья посвящена памяти столь рано ушедшего ВладимираПетровича Костюкова, который для меня являлся Учителем и самым строгимрецензентом. Он был одним из самых строгих и скрупулезных исследователейЗолотой Орды.
Сама статья посвящена исследованию комплекса Мокринский I, которыйсам Владимир Петрович считал «мечтой поэта».
В ходе работ, проводившихся экспедицией Уральскогопедагогического института им. А.С.Пушкина в 1974-75 гг. и Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии в 2008-2010гг. на археологическом комплексе Мокринский I в Жангалинскомрайоне Западно-Казахстанской области исследовано 32 кургана,содержащих 63 погребения, 56 из которых с полным основаниемследует датировать временем существования Золотой Орды. 7погребений являются безынвентарными, и при всей дискуссионностиподобных захоронений мы их также относим ко времени Золотой Орды(Марыксин, 2009, С. 161-166). Один из курганов представлял собойкирпичеобжигательную печь.
Головой на юг ориентированы – 27, на юго-восток – 14, на юго-запад – 12 погребенных. 7 погребенных ориентированы головой назапад. В трех случаях из-за ограбления погребений установитьориентировку не удалось. Погребения совершены в простыхподпрямоугольных ямах. Для идентификации черт погребального обрядаи вещевого материала была привлечена типология Г.А.Федорова-Давыдова. Подобные погребения отнесены к типу Ж 1 (костякчеловека, обращенного головой на юг, в простой яме, без костейконя). Подобный тип погребений известен в Нижнем Поднепровье иПоднепровье (Федоров-Давыдов, 1966, С. 151). Но нигде необнаружено столь крупной группы подобных погребений. В НижнемПоволжье обнаружено 53 погребенных, ориентированных головой на юг.Большинство их расположено на могильнике Маячный бугор (28случаев), на Селитренном городище (15 случаев), на Царевскомгородище (7 случаев), и по одному зохоронению – на могильникахВодянского городища, городища у пос. Комсомольский и наХамидиевском поселении (Васильев, 1993, С. 47; Васильев, 2009, С.60-61, 94, 114).
Важной особенностью погребений могильника Мокринский I иотличием от подобных погребений на Нижней Волге является наличиенадмогильных сооружений. Из 17 курганов, раскопанных в 1974-75 гг.5 представляют собой сырцовые оградки (Марыксин, 2009, С. 311-
321). По всей видимости, часть из 12 курганов также являласьсырцовыми оградками, но оградки небольшого размера и небольшойвысоты очень сильно разбита грейдером и полевыми дорогами. Из 15курганов, раскопанных в 2008-2010 гг. 12 являются сырцовымиоградками (Марыксин, 2009, С. 246-272). Сырцовые оградкипредставляют подпрямоугольные оградки, построенные из сырцовыхкирпичей размером в 0,4х0,2х0,1 м. Обычно стены сложены толщиной вполтора кирпича, в один-два слоя. Наличие подобных оградок говорито оседлом или полуоседлом характере хозяйствования и высокомсоциальном статусе погребенных. Об этом же говорит и погребальныминвентарь, обнаруженный в могильнике.
Погребальный инвентарь могильника Мокринский I представленгончарной керамикой, бронзовыми, серебряными или золотымипроволочными серьгами в виде знака вопроса, золотыми серьгамисложных форм, обломками ножей и пряжек, берестяными трубками,бокками, остатками кожи от обуви, остатками тканей от одежды,бусами, медными и серебряными монетами и мелкимиполиметаллическими украшениями, разнообразными по форме иисполнению. Предметы вооружения полностью отсутствуют.
В погребениях обнаружен богатый нумизматический материал. В22 захоронениях обнаружено 44 серебряных и медных монет.Серебряные монеты отчеканены в период правления ханов Узбека иДжанибека в 1320-1350-е гг. Основные места чеканки Сарай ал-Джедид, Сарай, Сарай ал-Махруса. Две монеты отчеканены при Токтахане в Сарай ал-Махруса в 710 г.х. (1310-1311 гг.). Монетырасполагались на тазовых костях, во рту, на шейных позвонках, вправой руке, возле правого виска, на правом бедре, под черепом,под правой голенью, пол локтями, на грудной клетке (Пачкалов,2009, С. 276-281; Пачкалов, Марыксин, 2009). Все монеты,обнаруженные в погребениях могильника, укладываются в 1310-50-егг. При всей дискуссионности хронологических построений на основенумизматического материала (Мыськов, 2002, С. 394-397) вызываетмного вопросов причины запустения некрополя в 1340-е гг, в периоднаивысшего расцвета Золотой Орды. Вполне возможно, что погребенияМокринского I связаны с Селитренным городищем и группой населения,занимавшей высокое социальное положение. Отсутствие позднихпогребений вполне могло быть следствием изменения маршрута ханскойставки и маршрутов других перекочевок1.
Вопрос о конфессиональной и этнической принадлежностипогребенных комплекса Мокринский I до сих пор остается открытым.Датировка могильника кыпчакским временем и какая-либо связьпогребенных с кыпчаками на наш взгляд является дискуссионной1 Автор выражает благодарность А.В.Пачкалову за консультацию по данному вопросу,а также за определения нумизматического материала.
(Бисембаев, 2003, С. 124). Гораздо более правильным следуетпризнать центральноазиатское прпоисхождение погребенных и ихвозможную буддистскую принадлежность (Костюков, 2009, С. 217). Вкачестве диагностирующих признаков буддистского влияния ВладимирПетрович считал «южную ориентировку» и «монеты (драгоценности) ворту» (Костюков, 2009, С. 228).
В качестве иллюстрации приведем материалы раскопок комплексаМокринский I 2010 года, которые во многом подтверждают выводыВладимира Петровича.
В 2010 году было раскопано три кургана (№ 30, 31, 32). Вданной публикации представлены материалы раскопок курганов № 30 и31.
Курган 30.Диаметр – 9х7,3 м, высота – 0,29 м. ыРасположен в центральной части комплекса. Курган находится в
14 м северо-западнее кургана 25, раскопанного в 2009 г. натерритории некрополя городища Жайык, в его юго-восточной части.Северная часть кургана сильно повреждена полевыми дорогами .
В насыпи кургана обнаружены следующие находки:1) в 1,2 м на З, 0,8 м на Ю на глубине 0,2 м обнаружено ребро
лошади1;2) в 1,3 м на З, 1 м на Ю на глубине 0,2 м обнаружен фрагмент
челюсти овцы;3) в 2,1 м на З, 2,3 м на Ю на глубине 0,3 м обнаружена
трубчатая кость;4) в бровке С-Ю, в 1,9 м на С, на глубине 0,2 м обнаружен
фрагмент железного гвоздя;5) в 1,7 м на С, 3,4 м на З на глубине 0,3 м обнаружены зубы
животного;6) в 2,8 м на С, 0,2 м на В на глубине 0,3 м обнаружен
фрагмент керамики;7) в 1,5 м на С, 3 м на З на глубине 0,2 м обнаружен фрагмент
керамики.На глубине 0,15-0,2 м выявилась сырцовая оградка размером
3,9х3,05 м.Оградка сильно разрушена, южная стенка сохранилась
фрагментарно. Толщина стенок оградки – 0,5 м. Оградка выложена изсырцового кирпича размером 0,4х0,2х0,1 м. Кирпич лежит в 1-2 слоя.
Погребение 1. Расположено внутри сырцовой оградки.Погребенный расположен в могильной яме размерами 0,8х2 м на
глубине 1 м от высшей точки кургана. 1 Археозоологические определения сделаны А.А.Джубановым, которому автор выражаетблагодарность
Погребенный расположен вытянуто на животе (?), ориентированголовой на юго-восток. Ноги вытянуты. Руки расположены вдольтуловища, но локоть правой руки слегка отставлен. Кисти обеих рукприжаты к тазовым костям. Позвоночник изогнут. Череп лежит налобовых костях (Рис. ). В могильной яме обнаружен следующий инвентарь:- между правой височной костью и западной стенкой могильной ямыобнаружено 6 позвонков овцы;- на шейных позвонках погребенного обнаружена серебряная монета.Узбек-хан: чекан Сарай ал-Махруса, 722 год хиджры.
Погребение 2.Расположено в 0,65 м восточнее погребения 1.Погребенный расположен в могильной яме размерами 2,25х0,7 м.
Погребение отделено от погребения 1 перегородкой шириной 0,6 м ивысотой 0,5 м. Погребенный расположен на глубине 1,1 м от высшейточки кургана.
Погребенный расположен вытянуто на спине, ориентированголовой на юго-восток. Левая рука прижата к туловищу, кистьнаходится под тазовыми костями. Правая рука расположена вытянуто,вдоль туловища, слегка отставлена.
Нижние конечности отставлены вправо, расположены параллельно.В могильной яме обнаружен следующий инвентарь:- между костями черепа (затылком) и южной стенкой ямы
обнаружены грудные позвонки козы и овцы;- под левой височной костью обнаружена бронзовая серьга в
виде знака вопроса;- под средним отделом позвоночника обнаружена серебряная
монета. Джанибек: чекан Сарай ал-Джедид;- между левым виском и западной стенкой обнаружены фрагменты
бересты (бокка ?).Курган 31.
Диаметр кургана – 12,3 х 8,5 м, высота – 0,5 м.Курган находится в центральной части комплекса, восточнее
кургана № 29, раскопанного в 2009 году. В насыпи кургана обнаружены следующие находки:1) в 2,2 м на З, 1,1 м на Ю, на глубине 0,2 м обнаружена
фаланга кисти руки человека;2) в 3,3 м на З, 0,4 м на Ю, на глубине 0,2 м обнаружен
фрагмент керамики;3) в 3,2 м на З, 1,9 м на Ю, на глубине 0,2 м (на юго-
восточном углу 1-й оградки) обнаружен фрагмент челюсти овцы;4) в 0,9 м на С, 3,1 м на В, на глубине 0,2 м обнаружен
фрагмент керамики;
5) в 3,4 м на Ю, 4,5 м на В на глубине 0,1 м обнаруженфрагмент керамики;
6) в 4,2 м на Ю, 4,3 м на В, на глубине 0,2 м обнаруженыправая и левая нижние челюсти коровы;
7) в 2,2 м на Ю, 4,7 м на В, на глубине 0,2 м обнаруженфрагмент керамики;
8) в 3,1 м на Ю, 4,2 м на В, на глубине 0,2 м обнаруженфрагмент керамики;
9) в 5,1 м на Ю, 4,2 м на В, на глубине 0,15 см обнаруженфрагмент левой нижней челюсти коровы;
10) в 5,4 м на З, 1,2 м на Ю, на глубине 0,1 м обнаруженафаланга и грудная кость животного;
11) в 4,5 м на Ю, в 0,3 м на В, на глубине 0,3 м обнаруженызубы ягненка;
12) в 0,6 м на Ю, 6 м на В, на глубине 0,25 м обнаруженфрагмент керамики;
13) в 4,9 м на В, 1,25 м на Ю, на глубине 0,35 м под юго-восточном углу оградки обнаружен фрагмент керамики;
14) в 4,5 м на В, 1,25 м на Ю, на глубине 0,35 м под оградкойобнаружен фрагмент берцовой кости овцы;
15) в 5 м на В, 3,3 м на Ю, на глубине 0,2 на оградкеобнаружено правое ребро коровы;
16) в 5,1 м на В, 2,8 м на Ю, на глубине 0,3 м под западнойстенкой оградки обнаружен фрагмент ребра лошади;
17) в 4,2 м на Ю, 0,3 м на В, на глубине 0,3 м обнаруженфрагмент керамики;
18) в 3,3 м на Ю, 1,4 м на З, на глубине 0,25 м на юго-восточном углу 2-й оградки обнаружен фрагмент левой нижней челюстикоровы;
В юго-восточном секторе обнаружена сырцовая оградка размером3,5х3 м. Толщина стен – 0,4 м. Она выполнена из сырцового кирпичаразмером 0,4х0,2х0,1 м. Кирпичи положены в один слой. Южная стенкаоградки частично разрушена, но она имеет приступок размером0,8х0,4 м.
В оградке, расположенной в юго-восточном секторе, обнаруженодва погребения.
Погребение 1. Расположено в могильной яме прямоугольной формы размерами
0,8х1,9х1,25 м, ориентированной по линии север-северо-восток – юг-юго-запад. Могильная яма перекрыта сырцовым кирпичом, положенным водин слой.
Погребенный расположен вытянуто на спине, ориентированголовой на юго-запад, череп погребенного повернут на левый висок.
Правая рука вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте икистью лежит на левом крыле таза. Ноги вытянуты на ширину плеч.
Над скелетом на всей длине расположены фрагменты истлевшейдревесины. На берцовых костях погребенного сохранились мелкиефрагменты кожаной обуви.
Погребальный инвентарь отсутствует.Погребение 2. Расположено в 0,65 м восточнее погребения 1 и отделено от
него перегородкой шириной 0,65-0,7 м. Могильная размерами1,8х0,8х1,4 м. ориентирована с небольшими отклонениями.
В заполнении могильной ямы обнаружены фрагменты тленадревесины.
Погребенный расположен вытянуто на животе (?), ориентированголовой на юг. Череп расположен на лицевых костях. Позвоночникискривлен. Левая рука согнута в локте, кисть расположена вблизитазовых костей. Правая рука расположена под тазовыми костями.Кости нижних конечностей расположены вытянуто, слегка отставленывлево.
Погребенный был расположен в деревянном гробу (раме ?),фрагменты которого в виде тлена сохранились по краям и поверхпогребенного.
В могильной яме обнаружен следующий инвентарь:- в юго-восточном углу расположено 2 грудных позвонка
взрослой овцы;- между левыми ребрами и тазовыми костями погребенного
обнаружен камень (песчаник серый мелкозернистый) представляетсобой морскую гальку. Размеры камня – 10х4,3-6х5,2-4,5 см. По всейвидимости, представлял собой точильный камень или зернотерку.
- во рту погребенного обнаружена серебряная монета. Джанибек:чекан Сарай ал-Джедида 752 года хиджры (1351-1352 гг.).
Погребение 3. Расположено в сырцовой оградке размерами 3х2 м. Оградка
выполнена из кирпича размером 0,4х0,2х0,1 м. Кирпич уложен в один-два слоя.
Погребенный расположен в могильной яме размерами 2,1х0,55х0,7м. Яма ориентирована по линии юго-запад – северо-восток.Погребенный расположен вытянуто на животе, ориентирован головой наюго-запад. Череп расположен на лицевых костях, слегка повернут направый висок, фрагментирован. Руки погребенного согнуты в локтях ирасположены под тазовыми костями. Ноги погребенного вытянуты наширину плеч.
Под погребенным обнаружен фрагмент жженого кирпича красногоцвета. Размеры фрагмента 7х9х4,8 см.
Погребальный инвентарь отсутствует.
Погребение 4.Расположено в сырцовой оградке размером 1,8х3,4 м. Оградка
выполнена из кирпича размером 0,4х0,2х0,1 м. Кирпич уложен в один-два слоя.
Погребенный расположен в могильной яме размерами 2х0,8х1,4 мв 1,5 м восточнее погребения 1.
Погребенный расположен вытянуто на спине. Ориентированголовой на юг, с небольшим отклонением к западу. Череп расположенна затылочных костях с небольшим поворотом на левый висок. Леваярука погребенного отставлена от тела, согнута в локте такимобразом, что лучевые кости расположены параллельно костяку. Праваярука расположена параллельно телу, но большая лучевая костьрасположена под правым крылом таза. Ноги погребенного расположенывытянуто, слегка сведены в коленях.
В могильной яме обнаружено множество нор грызунов, врезульаье чего фаланги конечностей были потревожены.
Погребенный находился в деревянной конструкции, о чемсвидетельствуют фрагменты дерева на костях. Конструкцияскреплялась гвоздями, фрагменты которых также обнаружены в дереве.
В засыпи могильной ямы обнаружены следующие кости:- в засыпи ямы, в 0,3 м от южной стенки, 0,4 м от восточной
стенки, на глубине 0,4 м обнаружен грудной позвонок овцы;- в засыпи ямы, в 0,1 м от южной стенки, 0,5 м от восточной,
на глубине 0,8 м обнаружен грудной позвонок овцы;- в засыпи ямы, в 0,6 м от южной стенки, 0,4 м от западной,
на глубине 0,5 м обнаружен правый задний метаподий коровы;- в засыпи ямы, в 0,3 м от южной стенки, 0,2 м от западной
стенки, на глубине 0,8 м обнаружено четыре фрагмента одногопозвонка ягненка овцы;
- между черепом и южной стенкой обнаружено 5 позвонков овцы;- между левым виском и западной стенкой ямы обнаружен грудной
позвонок овцы;В могильной яме обнаружены многочисленные гвозди по периметру
могильной ямы (между туловищем и правой плечевой костью, междутазом и левыми лучевыми костями, между нижними конечностями, атакже с их внешней стороны).
Погребальный инвентарь не обнаружен.Погребение 5.Расположено в сырцовой оградке размером 1,7х3,4 м. Оградка
выполнена из кирпича размером 0,4х0,2х0,1 м. Кирпич уложен в один-два слоя. Могильная яма заложенга сырцовым кирпичом, лежащимпараллельно длинным сторонам ямы.
Могильная яма прямоугольной формы размером 1,9х0,7х1,1 м. Взасыпи ямы, в 0,6 м от южной стенки и в 0,8 м от восточной стенки,
на глубине 0,4 м обнаружены кости овцы (левая плечевая, леваялучевая и левая локтевая), а также грудные позвонки цыпленкакурицы.
Погребенный расположен вытянуто на спине, головойориентирован на юг-юго-запад. Череп сильно фрагментирован,располагается на затылочных костях, с небольшим поворотом на левыйвисок. Руки погребенного вытянуты вдоль туловища. Кисть левой рукиприжата к тазовым костям. Кости правой руки слегка отставлены оттуловища. Ноги погребенного вытянуты по ширине плеч, слегкасведены в коленях внутрь. Ребра правой половины грудной клеткинаходятся не в анатомическом состоянии.
Между правым виском и восточной стенкой располагаетсяфрагмент грудинной части левого ребра коровы длиной 22 см.
В могильной яме обнаружен следующий инвентарь:- на берцовых костях обнаружены следы остатков кожаной обуви;- на груди обнаружено два фрагмента ткани;- под черепом погребенного обнаружены многочисленные
фрагменты ткани;- под черепом на фрагменте ткани обнаружена серебряная
монета. Джанибек: чекан Хорезма 744 год хиджры.- в области подбородка обнаружено 3 бусины;- под левой скулой черепа обнаружена ромбовидная подвеска
синего цвета (лазурит ?) размером 3х2,5 см (длина стороны ромба –2 см). Толщина подвески – 0,5 см. Подвеска имеет отверстиедиаметром 2 мм в верхней части. Это отверстие второчиногопроисхождения, так как сначала отверстие диаметром 2 мм было вверхней части торцевой стороны. На подвеске с двух сторон -подобие орнамента из параллельных полос.
По центру могильной ямы между костями правой руки ипозвоночником – остатки гнезда грызуна.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Бисембаев А.А. Археологические памятники кочевников средневековья ЗападногоКазахстана (VIII-XVIII вв.). Уральск, 2003Костюков В.П. Буддизм в культуре Золотой Орды // Тюркологический сборник 2007-2008: История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. С. 189-236 Марыксин Д.В. Погребения в сырцовых оградках Волго-Уральского междуречья (поматериалам Мокринского могильника) // Диалог городской и степной культур наевразийском пространстве: материалы IV Международной конференции, посвященнойпамяти профессора МГУ Г.А.Федорова-Давыдова, 30 сентября-3 октября 2008 года /Учреждение Рос. акад. наук Ин-т археологии, Азовский ист.-археол. и палеонтол.музей-заповедник; [отв. ред. А.А.Горбенко]. – Азов: [Изд-во Азовского музея-заповедника], 2009. С. 311-321 (Донские древности; Вып. 10).
Марыксин Д.В. Могильник эпохи Золотой Орды Мокринский I (по материалам работ2008 года) // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана, № 1/2009, С.246-272Марыксин Д.В. Мусульманские погребения могильника Мокринский I // Маргулановскиечтения – 2009: Мат-лы междунар. науч. конф. (22-25 апреля 2009 г.).Петропавловск, 2009. С. 161-166Мыськов Е.П. Яворская Л.В. Материалы к золотоордынской хронологии (попогребальным памятникам из окрестностей Царевского городища) // Материалы поархеологии Волго-Донских степей. – Вып. 1. – Волгоград, 2001. – С. 76-92 //Нижневолжский археологический вестник. Вып. 5. Волгоград, 2002. С. 394-397.Пачкалов А.В. Нумизматические находки в могильнике Мокринский I // Вопросыистории и археологии Западного Казахстана. № 1/2009. С. 287-281Пачкалов А.В., Марыксин Д.В. Монеты Золотой Орды (на территории Западно-Казахстанской области). Уральск, 2009.
Рис. 1. План комплекса Мокринский I.
Рис. 2. Комплекс Мокринский I. План кургана 30.
Рис. 3. Комплекс Мокринский I. Курган 30. План погребения 1.
Рис. 4. Комплекс Мокринский I. Курган 30. План погребения 2.
Рис. 5. Комплекс Мокринский I. План кургана 31.
Рис. 6. Комплекс Мокринский I. Курган 31. План погребения 1.
Рис. 7. Комплекс Мокринский I. Курган 31. План погребения 2.
Рис. 8. Комплекс Мокринский I. Курган 31. План погребения 3.
Рис. 9. Комплекс Мокринский I. Курган 31. Погребение 4. Дерево in situ.
Рис. 10. Комплекс Мокринский I. Курган 31. План погребения 4.
Рис. 11. Комплекс Мокринский I. Курган 31. План погребения 5.
Рис. 12. Комплекс Мокринский I. Инвентарь. 1 – береста (бокка ?), курган 30, погребение 2;
2 – серьга, курган 30, погребение 2; 3 – подвеска, курган 31, погребение 5;
4 – камень (точильный, зернотерка ?), курган 31, погребение 2; 5 – бусины, курган 31, погребение 5.
ХАНЫ МАХМУД-ХОДЖА И ХАДЖИ-МУХАММАД, ИЛИ «УЛУС ШИБАНА» В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XV ВЕКА
Д.Н. Маслюженко
В работах В.П.Костюкова были подробно разработаны основныепроблемы истории династии Шибанидов от ее основателя до событийВеликой Замятни. Представить сейчас без этих работ историю ЗолотойОрды XIII-XIV вв. фактически невозможно1. Одновременно с этимпоследующая история данной династии, особенно в первой четверти XVвека, остается белым пятном. В особенности это касается проблемырасширения территории Шибанидов на север и формирование затем наоснове их улуса первых прообразов Тюменского ханства. Разработкаданной темы связана со значительными лакунами в текстахисточников, характеризующих первые десять лет золотоордынскойистории после смерти Идигу, а также с проблемой сосуществованиясреди шибанидских правителей этого времени двух ханов с близкимиименами: Махмуд-Ходжи из старшего рода династии (Махмуд-Ходжа-ханб. Каанбек б. Ильбек б. Минг-Тимур-хан) и Хаджи-Мухаммад-хана измладшей ветви династии (Хаджи-Мухаммад-хан б Али-оглан б.Бекконди-оглан б. Минг-Тимур-хан) (генеалогия этих Чингизидовнедавно рассмотрена Ю.В.Селезневым, который, впрочем, ничегонового к известным фактам не добавил (Селезнев, 2009-а. С.127,207)). Отметим, что наличие двух ханов из династии Шибанидов этогопоколения не ставил од сомнения ни один из восточных хронистов.Так, например, Абу ал-Кадир иб Мухаммад-Амин писал, повторяяприведенную выше генеалогию, что Хаджи-Мухаммад был первым ханом,правившим в Искере, а Махмуд-Ходжа (без указания территории улуса)встречается в перечислении наиболее значительных правителей средиШибанидов рода (Абу ал-Кадир, 2005. С.275-276).
Еще первый исследователь данной проблемы М.Г.Сафаргалиев всвоей работе «Распад Золотой Орды» совместил этих правителей водного человека, заложив тем самым определенную историографическуютрадицию. Хотя сейчас общепризнанно, что эта были троюродные1 В 2003-2004 году В.П.Костюков оказал бесценную помощь автору этой работы приподготовке и защите кандидатской диссертации, в частности выступив одним изофициальных оппонентов. Его работы оказали значительное влияние на ту концепциюистории средневекового лесостепного Притоболья, которую я отстаивал. Несмотря навозникшие в последние годы разногласия, выразившиеся в частности в рецензии намою книгу, мы с В.П.Костюковым написали совместный очерк, посвященный Шибанидам,для «Исторической энциклопедии Сибири», выход которой в свет произошел буквальночерез две недели после трагического события (Костюков, Маслюженко, 2009. С.530).Мне очень жаль, что я не успел с ним встретиться на конференции по этническимвзаимодействиям в октябре 2009 года в Челябинске. Эта статья дань памятивеликого ученого и хорошего человека, у которого хватало времени побеседовать совсеми коллегами и чьих советов мне очень не хватает.
братья, правившие в одно время, мы до сих пор не всегда можемотличить, какие деяния в источниках кому из них соответствуют.Попытки А.Г.Гаева и Ж.М.Сабитова решить эту проблему не привели коднозначному результату. При этом возникает вопрос болеезначительного источниковедческого характера: различали ли этихправителей сами авторы хроник и летописей, или удаленностизападно-сибирской лесостепи от основных центров средневековогоисториописания приводила к тому, что авторы фиксировали лишьотдаленные отголоски событий. Следует также отметить, что висследовательской литературе по этому периоду присутствует такжеУлуг-Мухаммад, а с конца 1420-х гг. еще и Кичи-Мухаммад (оба издинастии Тука-Тимуридов). Обилие ханов с подобными именами, ачасто в источниках речь идет только об имени «Мухаммад», к тому жеактивно действующих на международной арене, приводит кдополнительным сложностям в трактовке событий.
Не претендуя на полноту раскрытия этой темы, нам бы хотелосьпредложить ряд замечаний, которые бы позволили продлить во времениту линию шибанидской истории, которую предлагал В.П.Костюков. Прирассмотрении данной темы принципиальным моментом, на наш взгляд,является то, что представитель младшей линии рода Хаджи-Мухаммад-хан является основателем всей сибирской правящей династии, котораясохраняла свою власть в Тюменском и Сибирском ханстве вплоть досмерти Кучума и борьбы его наследников за независимость от русскойвласти. Таким образом, определение принадлежности хана к той илииной ветви династии напрямую влияет на восприятие предпосылокформирования Тюменского ханства.
Очевидно, что для того чтобы разобраться в деятельности этихдвух ханов, необходимо, прежде всего, проанализировать имеющуюсяна эту тему историографию и использованную в ней источниковуюбазу. Предварительно отметим, что зачастую на основании одних итех же источников авторы приходят к абсолютно противоположнымвыводам. В результате анализ историографии должен позволить намвыявить наиболее спорные моменты авторских концепций.
Впервые эта проблема была поднята в уже упомянутой работеМ.Г.Сафаргалиева, вышедшей в свет в 1960 году, чья точка зрения нарассматриваемую проблему долгое время оставалась классической. Наосновании данных аль-Ташкенди и Кадыр Али-бея, он сделал вывод отом, что около 1420 года Идигу, разыскивавший нового Чингизида,который бы легитимизировал его статус, обратился к Хаджи-Мухаммад-оглану за помощью, и тот участвовал на стороне первого в битве свойсками хана Кадыр-Берди. В этой битве Идигу был убит, однакозавещал своим сыновьям поддержать нового ставленника. В результатев 1421 году Мансур помог оглану стать ханом (далее уточняется, чтоэто произошло в Сибири), а сам при нем занял пост беклярибека.
Автор отмечает, что аль-Ташкенди называет этого хана Махмуд-Ходжойи допустил, что на самом деле имеется в виду одно и тоже лицо изпотомков Шибана. Это допущение стало базовым, как мы увидим далее,для значительного числа исследователей.
В том же году развернулась борьба за Восточный Дешт-и Кыпчак(особенно за Приаралье и низовья Сыр-Дарьи с центром в Сыгнаке)Хаджи-Мухаммада с Борак-ханом, потомком Урус-хана, которая шла спеременным успехом. Признавая, что до того у Борака былистолкновения с Улуг-Мухаммадом, М.Г.Сафаргалиев на основанииданных Самарканди считал, что около 1425-1426 года Борак захватилорду Хаджи-Мухаммад-хана и заставил того отступить в Сибирь. Вконце 1427 года Борак, нанеся поражение Тимуридам, вернулся наСыр-Дарью и возможно пытался подчинить земли на севере, где вновьстолкнулся с Хаджи-Мухаммад-ханом и Мансуром. Автор отстаиваетточку зрения о том, что в ходе борьбы Борак убил Мансура, но вследующем году сам был убит Хаджи-Мухаммадом. В основе этой версиисобытий лежат сообщения Кадыр Али-бея, а также рассказыШильтбергера о гибели Борака в борьбе с Магомедом и Самарканди обаналогичном событии с участием султана Махмуда. М.Г.Сафаргалиев,вопреки мнению ряда комментаторов считает, что под упомянутымиименами никак не мог скрываться Улуг-Мухаммед, так как его властьне распространялась на восточные улусы, а, следовательно, это могбыть только Хаджи-Мухаммад. При этом автор считает, что данныеисточники в совокупности опровергают версию об одновременномубийстве Бораком как Мансура, так и его ставленника Хаджи-Мухаммад-хана.
После гибели Борака господство в степях перешло в от Тука-Тимуридов в руки Шибанидов, причем права Хаджи-Мухаммад-ханаоспаривал Джумадук, провозглашенный ханом в 1425 году, и позднееАбу-л-Хайр-хан (при поддержке внука Идигу Ваккаса). В прочем вюрте Джумадыка его непродуманная политика привела к ростусепаратизма и бегству недовольных к Хаджи-Мухаммад-хану. Около1428 году Джумадук был разгромлен, а его полководец его левогокрыла Абу-л-Хайр попал в плен к Хаджи-Мухаммаду. В 1429-1430 годахАбу-л-Хайр был провозглашен ханом в Чинги-Туре, после чегоразгромил в битве на Тоболе и убил своего ближайшего конкурента
Таким образом, М.Г.Сафаргалиев использовал все имеющиеся натот момент источники для создания непротиворечивой версии событий.Хаджи-Мухаммад у него действует в период с 1420 по 1430 (833)(Сафаргалиев, 1996. С.454-459). При этом он впервые высказываетверсию о том, что Хаджи-Мухаммад и Махмуд-Ходжа являются однимханом, который и разгромил Борака. Любопытно, что автор такжеотносит известный случая восстания Махмуда и Ахмада против Абу-л-Хайр-хана к сыновьям убитого им сибирского хана, а не Кичи-
Мухаммеда, которому самому было на тот момент не более 20 лет. Всеэти допущения неоднократно в дальнейшем используются висследовательской литературе (например, в 1 томе «Истории Сибири»(1968) Ибак-хан описывается именно как сын убитого Абу-л-Хайр-ханом Хаджи-Мухаммада (Бояршинова, Степанов, 1968. С.364)).
Уже в 1965 году Б.А.Ахмедов в классической работе «Государствокочевых узбеков» высказал альтернативную точку зрения на этисобытия, основанную, прежде всего, на «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани»Масуда бен Усмана Кухистани и близких к ней источникахШибанидского круга. Прежде всего, он отмечал, что борьба за властьв 1420-е гг. шла между Борак-ханом и Улуг-Мухаммадом, от руккоторого и погибает. По сути, это была ревизия той позиции порасстановке сил в Восточном Деште, от которой 8 лет назад пыталсяуйти М.Г.Сафаргалиев. Причем эта борьба шла не только за Узбекскийулус, но и распространялась на русские земли и Булгар. В этот жепериод на востоке Дешта земли были разделены между несколькимипредставителями династии Шибанидов. При этом Джумадукконтролировал земли к северу от Арала, между реками Сарысу и Эмба,непосредственно гранича с Мангытским юртом. Между Тоболом и Ишимомнаходились земли Махмуд-Ходжи, сына Каанбека, при этомрасположенная к северу Чинги-Тура была в руках буркутов. На рекеАтбасар, притоке Ишима, располагался юрт Мустафы-хана. Дальнейшиесобытия возвышения Абу-л-Хайр-хана описываются фактическиидентично у всех авторов. Однако, в отличие от М.Г.Сафаргалиева,Б.А.Ахмедов пишет о столкновении этого хана с Махмуд-Ходжой-ханомранней весной 834 (1430-31) года и убийстве последнего. Такимобразом, в работе Б.А.Ахмедова расширяется количество Шибанидов,участвующих в борьбе за власть в интересующие нас годы, и впервыеговорится об ином происхождении убитого в битве на Тоболе хана.При этом автор предполагает, что до объединения всего улуса Шибанапод властью Абу-л-Хайр-хана его предшественники находились вкакой-то зависимости от Тука-Тимуридов (Ахмедов, 1965. С.39-48).Также автор отстаивает точку зрения, что восставшие в первые годыпосле восшествия Абу-л-Хайр на престол Махмуд и Ахмад былисыновьями Кичи-Мухаммада (Ахмежов, 1965. С.51-52), в прочем вопросо генеалогии данных правителей, хотя и не менее дискуссионен, неявляется целью данной статьи. Хаджи-Мухаммад-хан также упомянутавтором, но только в контексте генеалогии его сына Ибак-хана вкачестве одного из неподчинившихся лидеру Узбекского государтсваЧингизида (Ахмедов, 1965. С.60).
В результате уже в 1960-х гг. сформировалось двеальтернативные точки зрения на события 1420-х гг., произошедшие вулусе Шибана. Большинство современных авторов, возможно неосознавая этого, относятся либо к первому, либо ко второму
направлению. Так, например, еще в 1988 году Б.-А.Б.Кочекаевподдержал точку зрения М.Г.Сафаргалиева о вражде Борака с Хаджи-Мухаммад-ханом, в результате которой ногаи и хан-Шибанид убилиБорака (Кочекаев, 1988. С.48).
Несколько позднее в 1992 году С.Г.Кляшторный и Т.И.Султанов всовместной работе «Казахстан. Летопись трех тысячелетий»практически полностью повторили версию Б.А.Ахмедова, использую приэтом как известные ему источники, так и рассказы Шильтбергера,Кадыр Али-бея и ряда других авторов, характерных для реконструкцииМ.Г.Сафаргалиева. Особенно это видно при перечислениисуществовавшего в 1420-х гг. распределения юртов между Шибанидамина территории Восточного Дешта, а также в описании обстоятельствразгрома и убийства Махмуд-Ходжи-хана Абу-л-хайром (Кляшторный,Султанов, 1992. С.217, 221). Вместе с тем, при описании предыдущихсобытий авторы отстаивали версию о вражде Борака с Улуг-Мухаммадом, в ходе которой первый и был убит. В прочем вдостаточно запутанном в этой части повествовании можно увидеть вкачестве убийц Борака и некоего не идентифицированного Мухаммад-хана, и даже Кучук-Мухаммада (Кляшторный, Султанов, 1992. С.204-210).
В последующие годы достаточно подробно эти события былирассмотрены А.Г.Нестеровым. В автореферате диссертации Хаджи-Мухаммад-хан упоминается как один из самостоятельных ханов издинастии Шибанидов, лишенный власти Абу-л-Хайр-ханом, чтообъясняет дальнейшую враждебность его потомков к узбекскимродственникам. Однако до этого он приходит к выводу, что послепереноса центра Узбекского ханства на юг было создано государствоСибирских Шибанидов со столицей в Чимги-туре, основателем которогобыл тот же Хаджи-Мухаммад. При этом автор считает, что сведения обэтом хане у Кадыр Али-бека не являются достоверными (Нестеров,1988. С.13). Исходя из этого, можно предположить, что А.Г.Нестеровне только идентифицирует двух интересующих нас ханов, как этоделал и М.Г.Сафаргалиев, но считает, что этот хан не был убит вбитве на реке Тобол и затем даже восстановил свою власть.
В более поздних работах А.Г.Нестеров повторяет принятоеБ.А.Ахмедовым делению юртов, поскольку именно эта версияраспределения Восточного Дешта между Шибанидами становитсяобщепринятой, но при этом Махмуд-Ходжа-хан далее не упоминается.При этом он считает (без ссылок на подтверждающие эту версиюисточники), что первым шибанидским правителем в Чимги-туре былотец Абу-л-Хайра Даулат-Шайх-оглан (конец XIV в. – 1426 г.).Однако, по нашему мнению, в отличие от иных Шибанидов этогопоколения он даже не упоминается с титулом хана, что само по себеуже вызывает сомнения в предлагаемой концепции. После его смерти
город переходит под управление буркутов, а его наследник былотправлен к Джумадуку. То есть для Абу-л-Хайра поход в Сибирь был,по сути, возвращением родового улуса. Кроме того, он еще разподтверждает ранее выказанную мысль о том, что Хаджи-Мухаммадначинает править в Чимги-Туре примерно с 1444 (или 1446) года, аоколо 1460 года престол переходит к его сыну Махмуду. В работе2002 года автор при этом ссылается на работу Масуда ибн УсманаКухистани, однако, забегая вперед, отметим, что нам не удалось вэтом источнике найти цитату, подтверждающую данное предположение.При этом А.Г.Нестеров отстаивает мысль о том, что уже Хаджи-Мухаммад-хан установил дипломатические отношения с московскимикнязьями Василием II и Иваном III, в подтверждение чего приводитхорошо известную фразу из письма его потомка Ибака Ивану III:«Отец мой стоит с твоим юртом в опришнину, и друг и брат был»(Нестеров, 2002.С.207; Нестеров, 2003.С.112-114). При этом онсчитает известного тюменского хана Ибрахима сыном Хаджи-Мухаммада,в то время как он является лишь внуком (Маслюженко, 2008. С.89). В том же 2002 году абсолютно оригинальную версиюрассматриваемых событий высказывает Г.Файзрахманов. Он считает,что до Ибак-хана все земли в Тюменском ханстве подчинялись ханамиз династии Тайбугидов, которых удалось подчинить только Узбеку иТохтамышу. Хаджи-Мухаммад-хан владел лишь престолом Синей Орды,при этом ему подчинялись лишь земли по Ишиму, а столицарасполагались в Кызыл-Туре. Сыновья этого хана Ахмед и Махмутексумели изгнать Абу-л-Хайр-хана из Сибири в 1428 году, где вдальнейшем правили независимо (Файзрахманов, 2002. С.128-129). Приэтом остается не ясным, на каких именно источниках основываетсяэта версия событий в улусе Шибана в 1420-х гг. Автору даннойстатьи уже приходилось высказываться против данной версиипреобладания Тайбугидов (Маслюженко, 2008. С.103 и далее)
Однако на этом выпущенные в 2002 году интересующие нас работыне завершились, поскольку в Нижнем Новгороде была выпущена работаА.Г.Гаева. Он предполагает, что после смерти Идигу около 822 годаханом был провозглашен Махмуд-Ходжа б.Каганбек и его правлениезаканчивается доминирование в борьбе за Сарай правителей издинастии Шибанидов (возможно он был сарайским ханом с 1428 по 1430г.). При этом автор использует уже упомянутое ранее сообщение АльТашкенди, рассказ Самарканди о борьбе и убийстве Борак-ханаСултан-Махмудом в 832 году и информацию Кухистани об убийстве Абу-л-Хайром данного правителя около 833 года. Возможно этот жеправитель (под именем царевича «Махмут-хози») совершил набег наГалич в 1428 (831-832) г. совместно с казанскими татарами, а,следовательно, правил в Булгаре, где в частности найдены егомонеты. Автор предполагает, что около 832 года именно Махмуд-
Ходжа-хан разбил Джумадука и Абу-л-Хайра, а через год сам погиб отруки последнего (Гаев, 2002. С.28-30). Таким образом, как иМ.Г.Сафаргалиев, автор приписывает действия обоих ханов одному, ноне Хаджи-Мухаммаду, а Махмуд-Ходже. При этом первый из нихупоминается только как отец Махмуда и Ахмада, разбитых в Икри-Тупе, благодаря чему узбекский лидер захватил «Саин стул».
В 2006 году частично эту проблему затронул в своейфундаментальной работе по истории Ногайской Орды В.В.Трепавлов. Вцелом он придерживается версии о восшествии на престол Хаджи-Мухаммад-хана в 1421 году, как ее впервые построил М.Г.Сафаргалиевна основании сообщения Кадыр Али-бека. Однако в дальнейшем Мансурстановится беклярибеком при Бораке, с которым они вместе совершаютпоход на Улуг-Мухаммада в 1426 году. Вскоре после этого между нимипроизошел разрыв и Мансур был убит. Согласно рассказу Кырыми, вдальнейшем сам Борак был убит родственниками Мансура при поддержкевойск Кучук-Мухаммад-хана. При обсуждении географии ВосточногоДешта В.В.Трепавлов предполагает, что в начале XV веки земли здесьнаходились во владении Пулада Шибанида, а затем его сыновейИбрахима и Араб-шаха. На наш взгляд, данное утверждение являетсяанахронизмом, поскольку Шибаниды Пулад и Араб-шах являютсяактивными участниками Великой Замятни в Золотой Орде. Если Араб-шах (Арапша русских источников) еще мог к этому времени остаться вживых, то его отец, очевидно, уже был мертв (подробнуюаргументацию см.: Маслюженко, 2008. С.65-66; Почекаев, 2010.С.147-154). Распределение земель в 1420-е гг. в целом повторяетсхему Б.А.Ахмедова, однако В.В.Трепавлов делает осторожноепредположение о возможной идентичности Махмуд-Ходжи-хана и Хаджи-Мухаммад-хана (Трепавлов, 2006. С.93-95).
Некоторые мысли по этому вопросу высказывал и Д.М.Исхаков, какв отдельных статьях, так и монографии 2006 года «Введение висторию Сибирского ханства». В трактовке деятельности этих хановон опирался на малоизвестную версию сочинения Утемиш-хаджи«Чингиз-наме», выдержки из которой были опубликованы А.-З. Валиди-Тоганом. Он впервые обратил внимание на то, что в этом источникеупоминается о хане Махмудек-Ходже, чьи владения находились междуИшимом и Тоболом. Этот хан «воевал с представителями эля Турапротив тюменей кунграт и салджигут». Независимо от этогоупоминается о разгроме Махмуд-Ходжи Абу-л-Хайр-ханом, а также отом, что Хаджи-Мухаммад-хан б. Али управлял значительнымитерриториями, включавшими башкир, Алатырь, мокши и город Болгар, атакже город Тура (Исхаков, 2006. С.55-57). При этом автор считает,что Махмудек-Ходжа, Хаджи-Мухаммад-хан (основатель Тюменскогоханства, правивший в нем с 1420/1 по 1428/9 или 1430 г.) и Абу-л-Хайр-хан были современниками (Исхаков, 2006. С.14, 17).
Предполагается, что на территории Государства кочевых узбековмогли находиться улусы потомков этого Хаджи-Мухаммад-хана, какзависимых от Абу-л-хайр-хана правителей. При этом допустимо, чтопосле откола от последнего в 1447 году Мангытского иля его лидерымогли провозгласить кого-то из Сибирских Шибанидов ханом (Исхаков,2006. С.131-132). Хотя Д.М.Исхаков и предлагает в отличие отпредыдущих исследователей четко отделят двух интересующих хановдруг от друга, но при этом их деятельность практически неанализируется, кроме цитирования Утемиш-хаджи по версии А.-З.Валиди-Тогана.
В 2008 году этот вопрос отчасти был затронут в небольшомочерке Н.Ф.Мухамедьярова. В частности автор (со ссылкой наУтемиша-Ходжи) указывает, что основателем Тюменского ханства былХаджи-Мухаммад, который правил приблизительно с 1420-1421 по 1430год. Одновременно с этим автор, описываю поход Абу-л-Хайра наТуру, пишет о его победе над Махмуд-Ходжой ханом (1429-1430 г.). Вдальнейшем приводится информация А.-З.Валиди-Тогана о ханеМахмудек-ходже как современнике Хаджи-Мухаммада (Мухамедьяров,2008. С.132-136). В целом автор вводит даже трех действующих хановсо схожими именами, хотя отметим, что в данном небольшом очеркеН.Ф.Мухамедьяров лишь отражает основные этапы становления ханстваи вопрос различий между интересующими нас правителей перед ним нестоял.
Уже в 2009 году данная проблема вновь была поднятаЖ.М.Сабитовым, в статье посвященной «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» какисторическому источнику. Прежде всего, автор статьи подвергаетсомнению традиционное деление Востчоного Дешта в 1420-х гг. поверсии Б.А.Ахмедова. В комментариях к известному договору Идигу сХаджи-Мухаммадом автор впервые обращает внимание на то, чтоМ.Г.Сафаргалиев смешал не только деятельность двух интересующихнас ханов, то и добавил к ним еще и Улуг-Мухаммада. Ж.М.Сабитовнастаивает на том, что большинство событий на востоке Дешта,упомянутых у Эль-Айни и Шильтбергера, в частности в контекстеборьбы Борака, Чекре и «Мухаммада», необходимо связывать именно сХаджи-Мухаммадом, убитым Бораком вместе с Мансуром около 1423года. После его смерти братья Мансура Гази и Науруз могли, помнению автора, провозгласить ханом Махмуд-Ходжу б. Каанбека (а неКичи-Мухаммеда, как это отмечал Кырыми), который и разбил Боракаоколо 1428/9 года, а в дальнейшем разделил Восточный Дешт сДжумадук-ханом. Далее Ж.М.Сабитов пишет о том, что именно Махмуд-Ходжа-хан мог быть лидером тех кочевых биев, которые восстали изатем убили Джумадука. Позднее около 1430 г. его военачальник Абу-л-Хайр на охоте убивает Махмуд-Ходжу, как об этом пишет Аль-Джанаби, пересказывая Эль-Ташкенди (справедливости ради, отметим,
что Ж.М.Сабитов в другой статье того же года пишет о том, что в1430 году этот хан был казнен Абу-л-Хайром (Сабитов, 2009-а.С.112)). Войско же собранное Абу-л-Хайром против Махмуд-ходжи-хана, в действительности действовало против сына Хаджи-Мухаммад-хана Махмудека (по мнению автора, Кухистани, не знакомы подробно систорией Дешта, мог смешать этих ханов). При этом этот поход могсостояться только после поражения Абу-л-Хайр-хана от калмыков, тоесть в 1458 г., что связано со значительной путаницей в хронологииу Кухистани, в результате которой событий оказались произвольнопереставлены (Сабитов, 2009-б. С.167-169; 176). Несмотря, наналичие рационального зерна в этих рассуждениях, мы считаем, чтохронология событий сибирской истории и в частности отождествлениеМахмуд-Ходжи и Махмудека не достаточно аргументированы, как мыпопытаемся показать в дальнейшем.
В том же году данный вопрос частично был затронутИ.Л.Измайловым, который, к сожалению, в силу специфики работы нессылается на источники информации. Он указывал, что после гибелиИдигу на западе улуса Джучи укрепился Улуг-Мухаммад, а в Кок-орденачалась борьба Чингизидов. В этих условиях улус Шибана возглавилХаджи-Мухаммад (1420-1430). При этом автор предположил, что данныйхан сражался с Идигу против Кадыр-Берди, а после смерти Идигу непризнал Улуг-Мухаммада, основав Сибирское (Тюменское) ханство. В1421 году он, как и Улуг-Мухаммад, был разбит Бораком и былвынужден подчиниться ему. Воспользовавшись поражением Борака отУлуг-Мухаммада в 1425-1426 гг., он также в 1427 г. поднялвосстание, чем способствовал поражению и гибели Борака вМогулистане. После этого он объединил все земли от туры до Тоболаи Ишима, а затем начал борьбу в Приаралье за объединение Кок-Ордыи даже разгромил в 1428-1429 гг. «мятежные войска» Джумадыка иказнил самого хана. Однако остальных мятежников он простил, чтопривело к их восстанию под руководством внука Идигу Ваккаса ипровозглашению ханом Абу-л-Хайра. В дальнейшем новый хан разгромилХаджи-Мухаммада и в 1430 г. казнил (Измайлов, 2009. С.724)
Наконец, последняя по времени работа 2010 года, где частичноупомянута интересующая нас тема, монография Р.Ю.Почекаева «ЦариОрдынские». Автор это работы считает, что вскоре после убийстваИдигу был провозглашен ханом Улуг-Мухаммад, захватив земли вВолжской Булгарии и Хаджи-Тархане (при этом в комментарияхотмечается, что ряд исследователей путают его с Кичи-Мухаммадом(Почекаев, 2010. С.341)). Одновременно с этим сыновья Идигуподдержали Хаджи-Мухаммад-хан из династии Шибанидов, с помощьюкоторого удержали часть бывшей Синей Орды, не предпринимаядальнейших попыток проникновения в Поволжье. В 1421-22 году Борак-хан, при поддержке перешедшего на его сторону Мансура и
самаркандского правителя Улугбека, разгромил Улуг-Махаммада иизгнал его из Поволжья. Только в 1426 году Улуг-Мухаммаду удалосьвернуть свои владения в Поволжье. После этого, а также поражения вМавераннахре, от Борака ушел Мансур, возможно вновь к Хаджи-Мухаммаду, однако вскоре мангытский бек был убит по приказуБорака. Ликцидация внутренних соперников позволила Борака вновьвторгнуться в Поволжье и в 1427 году объявить себя ханом ЗолотойОрды. Улуг-Мухаммад, опиравшийся на Крым, сумел окончательноразгромить Борака в 1428 году, что подтверждается информацией изписьма этого хана турецкому султану Мураду II, но при этом вписьме идет речь о том, что с Бораком был Мансур (Почекаев, 2010.С.340). По нашему мнению, это упоминание является анахронизмом иможет отражать более ранний разгром 1426 года. В 1428\9 году Боракбыл убит Гази и Наурузом, мстившим за Мансура. Р.Ю.Почекаевотмечает, что по сведениям И.Шильтбергера, Борак был убит«господином Мухаммадом», но непонятно, кто из ханов имелся приэтом в виду – Улуг-Мухаммад, Кичи-Мухаммад или Хаджи-Мухаммад.Обращает на себя внимание, что улус Борака во главе с егонаследниками перешел под контроль Шибанидов (Почекаев, 2010.С.197-202).
Даже этот небольшой обзор историографии показывает стользначительное число точек зрения, многие из которых осознанно илинеосознанно исходили из базовой оппозиции между М.Г.Сафаргалиевыми Б.А.Ахмедовым, что не специалисту разобраться в рассматриваемойпроблеме просто невозможно. По сути, некоторое переосмысление этихконцепций было предпринято исследователями в последние годы,однако предложенные версии, основывающиеся на одном и том же кругеисточников, привели к абсолютно различным результатам. При этомразница в трактовке событий зачастую опирается на серии допущений(как, например, на разнице в восприятии того, кто из «Мухаммадов»в качестве Сарайского правителя упоминается в источниках).Несмотря на это, нам бы хотелось предложить некоторые своизамечания. Ранее автор придерживался точки зрения, высказаннойМ.Г.Сафаргалиевым, об идентификации ханов Хаджи-Мухаммада иМахмуд-Ходжи и считал первого основателем не только тюменскойправящей династии Шибанидов, но и собственно самого Тюменскогоханства (Маслюженко, 2009. С.339-347). Однако, очевидно, что этаточка зрения требует уточнения.
Очевидно, что актуальность этой темы напрямую связана ситогами Великой Замятни для династии Шибанидов, их участием встепной политике периода правления Тохтамыша и Идигу, а также сосвоеобразной новой смутой в степях в 1420-х гг. Именно в последнийпериод сформировались предпосылки для появления большинствапостзолотоордынских государств. В тоже время в силу ограниченности
объема самой статьи мы вынуждены на ряде интересных моментовостановиться предельно кратко.
Одной из дискуссионных проблем, связанных с этой тематикой,является определение границ улусов Ордаиченидов, Шибанидов иТукатимуридов во второй половине XIV – начале XV века. Скореевсего, с учетом особенностей политики золотоордынских ханов впериод единства этого государства могло проводитьсяперераспределению улусов этих и других семей Джучидов, чтопозволяло держать их под контролем правящей династии Батуидов.Однако по мере децентрализации этого государства все эти семьистремились к стабилизации родовых улусов. В условиях кризисаОрдаиченидов непосредственно перед Великой Замятней можнопредположить, что часть их территории в Сибири постепеннопереходит под управление Шибанидов, политическое значение иавторитет которых в этот период растет (Почекаев, 2010. С.323-324;Маслюженко, 2008. С.62-71). Несмотря на всю важность сибирскихземель в пушной торговле, дававшей значительные прибыли, основныеинтересы потомков Шибана были увязаны с борьбой за Сарай.
Однако, можно согласиться с В.П.Костюковым в том, что«вследствие чрезвычайной разветвленности родов Шибана и Тука-Тимура, мозаичного расположения владений огланов одного линиджа,несовпадения актуальных интересов различных его ответвлений идругих причин вряд ли есть большие основания оценивать Шибанидов иТукатимуридов как сплоченные кланы, способные мобилизовать всесилы и средства для продвижения своего кандидата на сарайскийпрестол. Понятия клановой общности и клановой солидарности,разумеется, существовали, но не исключали ни ожесточеннойвнутриклановой борьбы, ни альянсов с группировками из другогоклана» (Костюков, 2009-б. С.42-43). В таком случае борьба за Сарайне мешала отдельным представителям Шибанидов распространять своювласть на сибирские территории, непосредственно примыкавшие куральским землям улуса Шибана. Особенно значительными эти подвижкимогли быть в период степных походов Тамерлана, в ходе которыхпредставители клана Шибанидов поддержали борьбу его соперникаТохтамыша за возрождение Золотой Орды. Шибаниды не тольконаходились в войсках последнего, но и должны были удерживатьсобственный родовой улус. Очевидно, что значительная стабильностьэтих земель и привела к тому, что сюда после очередного разгромаотступил сам Тохтамыш, который мог на этой северной перифериинакопить силы для новой борьбы (Миргалеев, 2003. С.147).
Отметим, что такой источник как «Книга побед» Шереф-ад-ДинаЙезди среди соратников Тохтамыша в борьбе с Тимуром упоминает Али-оглана, который, по мнению В.П.Костюкова, идентифицируется смладшим сыном Бекконди из династии Шибанидов (Костюков, 2009-б.
С.41; Золотая орда, 2003. С.348). Вместе с ним в войске находилсяИса, старший брат Идигу. Старший брат этого Али-оглана Хасан в1368 году был одним из претендентов на сарайский престол. ФигураАли для нас важна тем, что он является отцом Хаджи-Мухаммад-хана,который по «Муизз» был младшим из его четырех сыновей, родившихся«от одной матери, дочери Манкылая Мухаммел-ходжи», старшего эмираиз племени конграт (Золотая Орда, 2003. С.439). При этом дед(Ильбек) и отец (Каанбай) Махмуд-Ходжа-хана также былинепосредственными участниками борьбы за Сарай в период ВеликойЗамятни. По данным Утемиш-хаджи, именно к Каанбаю впервыеобратился Тохтамыш, начавший борьбу за Сарай и получивший от негофактический отказ (Утемиш-хаджи, 1992. С117). Таким образом,родители обоих интересующих нас ханов были непосредственно связаныкак с борьбой за Сарай, так и с самим Тохтамышем. С учетомдальнейшей подчиненности Сибири именно роду Бекконди можнопредположить, что Али-оглан мог быть одним из тех Джучидов, ктоосознанно или неосознанно спровоцировали отступление Тохтамыша вСибирь.
Все перечисленные выше авторы, кроме А.Г.Гаева, которыйсвязывает эти события с восшествием на престол Махмуд-Ходжи,согласны в одном: в причинах и обстоятельствах получения Хаджи-Мухаммадом титула хана. Они хорошо описаны Кадыр Али-беком, приэтом, на наш взгляд, его нельзя упрекать в недостоверности, покрайней мере, именно при описании данного клана Чингизидов. Ведь,если прав М.А.Усманов, в том, что Кадыр Али-бек был карачей вСибирском ханстве Кучума (Усманов, 1972. С.41 и далее), то ондолжен был быть хорошо знаком с генеалогией этих правителей,потомков Хаджи-Мухаммада. На наш взгляд, об этом же событии пишети Кырыми, который по неясной причине называет хана Кучук-Мухаммад(Кляшторный, Султанов, 1992. С.209-210). В данном случае мысогласимся с Ж.М.Сабитовым и Р.Ю.Почекаевым в том, что Кичи-Мухаммад стал ханом лишь после убийства Борака, то есть не ранее832 года (Почекаев, 2010. С.203; Сабитов, 2009-б. С.169). Причемна этот момент ему было чуть более 10 лет, то есть в 1420 году емубыло около 3 (подсчеты по Сафаргалиеву, 1996. С.208). Еще разотметим, что основная источниковедческая сложность реконструкциисобытий 1420-х гг. в том, что большинство персидских и арабскихисточников правителей как в Деште, так и в «Узбекской стране»называет просто Мухаммад, и, следовательно, значительная частьподобного рода реконструкций истории будут иметь значительную долюдопущений в рамках авторского видения. Сообщение Кадыр Али-бекавыгодно отличается тем, что четко называет имя оглана, ставшегоханом при Мансуре и при этом не требует хронологических натяжек свозрастом.
В ходе столкновений Идигу с Кадыр-Берди-ханом на реке Илек,притоке Яика, первый около 1420 года позвал к себе Хаджи-Мухаммад-оглана, сделав того предводителем войска. На наш взгляд,сомнительным здесь является расклад полномочий между интересующиминас лицами. Данное приглашение было спровоцировано тем, что Идигупостоянно имел при себе «марионеточных» ханов, в частностинаиболее известным примером этого является более или менеестабильный союз с Чекре с сибирского похода 1406 года, а такжедальнейшие отношения с его братьями. Очевидно, что лишь гибельпредставителей этого лояльного к Идигу клана в борьбе с Кадыр-Берди могла спровоцировать обращение к представителю другой ветвиДжучидов. Только новый Чингизид мог легитимизировать борьбу Идигус ханом из числа популярных потомков Тохтамыша. Все это, на нашвзгляд, и фиксируется в обещанном далее провозглашении Хаджи-Мухаммада ханом. Обращение именно к нему могло быть связано с тем,что брат и сподвижник Идигу Иса, будучи беклярибеком приТохтамыше, участвовал в сражениях вместе с отцом оглана Али, тоесть связи между будущими сибирскими династами и лидерами мангытовмогли сформироваться еще при Тохтамыше. Далее Кадыр Али-бек пишет,что после гибели Идигу в указанной битве его сын Мансур (возможно,выполняя соглашение отца) провозгласил Хаджи-Мухаммада ханом, асам стал при нем беком (Валиханов, 1984. С.231-232). Данная схемараспределения полномочий использовалась неоднократно наследникамиэтого хана в отношения с ногаями и точно фиксируется для еговнуков Ибака и Мамука, а возможно существовала и при иныхправителях Тюменского ханства.
В тоже время в переводе Ч.Ч.Валиханова есть еще одининтересный момент, связанный со встречей Идигу и Хаджи-Мухаммада иеще не привлекавший внимания исследователей. Первый спросил:«Откуда и куда идешь?», на что второй ответил «Я иду в народкуральский». Данный ответ особенно обращает на себя внимание,поскольку до того среди областей, подчиненных Бату, упоминается«немецкий курал» (Валиханов, 1984. С.230-231). Возникает вопрос отом, где находится это «народ куральский». Как известно, сообщенияо владениях Шибана и его наследников в области «Корел» такжеимеется еще в двух поздних по времени источниках (Утемиш-хаджи иАбу-л-Гази, причем возникает вопрос о самостоятельности второгосообщения). Данный топоним «корал, келар, курал» привел кзначительной дискуссии среди исследователей (см.подробнее:Костюков, 1998. С.213; Костюков, 2009-а. С.252-253; Маслюженко,2008. С.44-45). Большинство исследователей считают, что под нимследует видеть территорию некоей европейской страны (Венгрии?,Румынии?), управлявшуюся королями, однако высказывается иальтернативная точка зрения о том, что это территории на Урале
(возможно Волжская Булгария) (Арсланова, 2002. С.206). Этапроблема затрагивает и дискуссию об изначальной территории УлусаШибана, что выходит за пределы нашей темы. На наш взгляд, вевропейской интерпретации, при всей ее привлекательности,существуют два значительных недостатка. Во-первых, в европейскихисточниках, насколько нам известно, нет сообщений о монгольскихулусах в Венгрии. Во-вторых, сомнительно, чтобы в условиях степныхвойн 1420-х гг. оглан-Шибанид мог добраться до неких европейскихвладений. Кроме того, условно «уральская» (булгарская) точказрения позволяет проследить весьма любопытную преемственностьвласти или претензий на оную среди Шибанидов над Казанью, котораяв итоге заканчивается «требованиями» казанского престола Агалакоми его племянником Ак-Куртом у московских великих князей Ивана IIIи Василия III.
Возникает вопрос, в частности связанный с концепциейЖ.М.Сабитова, о том, принимал ли активное участие в степных войнахэтот оглан до своей встречи с Идигу. Предполагается, что под нимможно увидеть упомянутого у И.Шильтбергера «Мухаммада», которыймог участвовать в борьбе с Бораком и Чекре. Любопытно, что в главе«Каким образом сменялись владетели» только Чекре и этогоМухаммада, который «воссел на престол», из всех перечисленныхханов Шильтбергер называет «моим господином», то есть складываетсявпечатление, что в какой-то период он служил и тому, и другому(Шильтбергер, 1984. С.35-36). На наш взгляд, видеть под даннымханом интересующего нас основателя династии тюменских Шибанидоввряд ли возможно.
Во-первых, хронология событий у И.Шильтбергера весьмаприблизительно реконструируется только исходя из его возвращения вЕвропу в 1427 году и тех месяцев, сколько, по его мнению, правилиописанные им ханы. Причем в этой хронологии, воссозданной повоспоминаниям при возвращении в Европу, образуется значительныелакуны. Подсчет внутренней хронологии, несомненно, весьмаприблизительный, показывает, что от похода Идигу и Чекре в Сибирьдо смерти последнего прошло всего около 6 лет, после чегоШильтбергер и вернулся домой в 1427 году. Возникает вопрос о том,когда же состоялся поход Идигу и Чекре в Сибирь. Впервые,насколько нам известно, приход Шильтбергера в Орду датировал 1405годом именно М.Г.Сафаргалиев, считая, что это произошло передсовместным походом Идигу и Чекре на Тохтамыша, убитого в Тюмени в1406 году (Сафаргалиев, 1996. С.444), хотя автор при этом иоговаривался, что по нумизматическому материалу время правленияЧекре на территории Золотой Орды датируется не ранее 1414-1416годов. Однако эта базовая дата не верна, поскольку сам Шильтбергерпишет о том, что он отправился с Чекре через четыре года после
смерти сына Тамерлана Мираншаха (по мнению Р.Груссе, 20 апреля1408 г. (Груссе, 2004. С.206)), то есть не ранее 1412 года.Следовательно, сам поход датируется не ранее этого времени и непозднее 1413 года. В целом предлагаемая датировка соответствует иописываемым событиям, поскольку Чекре-оглан оказался в Деште впериод затяжной борьбы сыновей Тохтамыша Керим-Берди, Кепека иДжаббар-Берди.
В самом источнике обращает на себя внимание то, чтоШильтбергер, подробно описывающий смуту в Орде после этого похода,в ходе похода никаких битв не указывает, если не считать подтаковыми косвенные упоминания о подготовке к походу и фразы типа«после покорения Сибири…». Напротив он далее пишет о том, чтонаместник Сибири (должность, возможно, аналогичная упоминающимся висточниках судьям более раннего времени или хакимам, в частностииз буркутов, более позднего) прислал подарки (мужчину и женщину изместных дикарей). Ни о каких сражениях в ходе самого похода речине идет, как и не упоминается ни один правящий здесь хан, в томчисле Тохтамыш (Шильтбергер, 1984. С.34-35). Следует признать, чтопри подобной датировке похода остаются абсолютно не ясными причиныего необходимости для Идигу. Возможно, последний в данном случаеиспользовал факт наличия легитимного хана для восстановлениявласти Сарая над территориями Булгара и Сибири, которые с этоговремени очень часто будут упоминаться совместно. К тому же даннаяверсия свидетельствует в пользу мифологичности сюжета о якобыимевшем место быть правлении Чекре в Сибири в период с 1407 по1413 гг. (Похлебкин, 2000. С.152).
Все дальнейшие события с участием Чекре и некоего «Мухаммада»,воссоздаваемые по данному источнику, также находятся впротиворечии с традиционной хронологией. Очевидно, чтоиспользовать данный источник, созданный по воспоминаниям, дляреконструкции даже относительной хронологии золотоордынскойистории первой четверти XV века просто невозможно. При этом, есливерить Шильбергеру во всем, то мы сталкиваемся с любопытнойситуацией. Баварский солдат оказался на родине уже в 1427 году,хотя описывает смерть Борака (1428-1429 гг.), как произошедшую принем, при этом Чекре был убит в борьбе с Мухаммадом только послеуказанных выше событий. Данный вывод прямо противоречит иным, вособенности восточным, источникам и свидетельствует о том, чтоШильтбергер мог перепутать часть событий. Впрочем,источниковедческая критика данного источника и сравнение событий свосточными хрониками является темой отдельной работы.
Во-вторых, сомнительно, чтобы в дальнейшем Идигу обратилсяименно к тому Чингизиду, который убил наиболее стабильного из его«марионеточных ханов». В-третьих, согласно общепринятой точке
зрения, Хаджи-Мухаммад стал ханом только при Мансуре, исходя же израссказа баварского солдата, он был ханом уже за несколько лет доэтого. В тоже время следует согласиться и Р.Ю.Почекаевым в егосомнениях в том, чтобы этим ханом мог быть Улуг-Мухаммад(Почекаев, 2010. С.337). С учетом популярности этого имени висламизированной верхушке золотоордынской знати найти в условияхзатянувшейся борьбы татарской знати искомого Мухаммада непредставляется возможным. Ситуация затрудняется тем, что у Натанзии Гаффари среди активных участников событий 1410-х гг.действительно упоминается некий «Султан-Мухаммад» или «Мухаммад»,который при этом трактуется как сын Тохтамыша (Золотая Орда, 2003.с.317, 395), хотя и не известен в генеалогических перечнях. Приэтом согласно первому источнику Чекре был разгромлен именноСултан-Мухаммадом, что совпадает с данными Иоганна Шилтбергера.Отметим, что данный пассаж говорит о необходимости болееподробного рассмотрения степной междоусобицы 141-1420-х гг., в томчисле в установлении перечня участников и уточнения внутреннейхронологии событий.
В подтверждение версии Ж.М.Сабитова также приводится сообщениеиз летописи Бадр-ад-Дина ал-Айни, писавшего в Каире, о том, что «в824 году (1421) государем земель Дештских был Мухаммедхан, номежду ним и Боракханом и Беркеханом (вероятно Чекреханом)происходили смуты и войны, и дела не улаживались» (Золотая Орда,2003. С.234). На наш взгляд, сам факт борьбы Хаджи-Мухаммад-хан иБорак-хана из этого сообщения с определенной долей оговорок, окоторых ниже, может следовать, но допущение В.Г.Тиззенгаузена отом, что Берке и Чекре являются одним лицом достаточнопроизвольно. Хотя дата смерти Чекре точно неизвестна, очевидно,что она последовала не позднее 1416 г., что может подтверждаться имонетным материалом (Зайцев, 2004. С.28). Активное участие Чекре всобытиях именно этого периода подтверждается и данными осовместной деятельности «Чингиз-оглана» (Чекре?) с Идигу в 815году, в частности в слухах, которые, согласно Самарканди,распускали жители осажденного Хорезма при подходе войск Шахруха(Золотая Орда, 2003. С.377). Таким образом, Чекре, несомненно,сыграл активную роль в период между 1412-1416 гг., но его участиев дальнейших событиях весьма спорно. Одновременно с этим и участиеХаджи-Мухаммада в каких-либо событиях до его встречи с Идигу нарубеже 1419-1420 гг. пока не находит достаточных подтверждений висточниках, хотя и имеется ряд лиц с подобным именем.
Очевидно, что основная борьба после смерти Идигу развернуласьс 1420 года между Бораком и новым ханом по имени Мухаммад. Помимоприведенной выше информации ал-Айни в восточных источниках естьеще ряд интересных упоминаний у Самарканди, который наиболее
детально с точки зрения хронологии описывает эту борьбу,продолжавшуюся с переменным успехом несколько лет (Золотая Орда,2003. С.378-380). Впрочем борьба Хаджи-Мухаммад с Бораком, ккоторому, в том числе, ушел и Мансур, не одобрявший ханстваМухаммада, поскольку у того нет никаких достоинств, как об этомпишет Кырыми (Кляшторный, Султанов, 1992. С.210), хорошо описана висториографии и требует лишь нескольких уточнений. По всейвидимости, именно об этой борьбе в землях Дештских и Сарае и пишетуже упомянутый выше ал-Айни. Он указывает, если обобщить егосообщение, что в период между 1421-1425 гг. «была великаянеурядица… одержало там верх несколько лиц из рода ханского…каждый из них правил своим краем» (Золотая Орда, 2003. С.234). Этосообщение говорит о том, что Хаджи-Мухаммад на самом деле мограссматриваться как золотоордынский хан, продолжающий традициюборьбы Шибанидов за сарайский престол. Причем заострим внимание натом факте, что по данным ал-Айни «Мухаммад» стал ханом именнопосле гибели Идигу (Золотая Орда, 2003. С.234), что с точки зренияпоследовательности событий сближает эту информацию с приведеннымивыше данными Кадыр Али-бека.
Скорее всего, к этому периоду жизни хана относится и сообщениеУтемиш-хаджи, на которое обратил внимание Д.М.Исхаков, работая спроизведением А.-З.Валиди-Тогана. Валиди-Тоган называет ханамиТуры обоих интересующих нас Шибанидов, но уточняет, что Хаджи-Мухаммад б. Али был «великим падишахом» и захватил земли башкир,Алатырь, мокши, а также Булгаром. В его время у башкир и в Турепоявляются ногайские кочевья (Валиди-Тоган, 1994. С.24). При этомШ.Марджани также указывал на то, что этот хан был первым сибирскимправителем (Марджани, 2005. С.130).
Возможно, к каким-то отголоскам столь значительных владенийэтого хана и отсылал в упомянутом выше письме Ибак-хан. Однако,использовать приведенную цитату, так как это делает А.Г.Нестеров,не совсем корректно, поскольку под отцом там имеется в виду некий«Шыбал» (возможно, основатель династии Шибан) (История Казахстана,2005. С.43). Следовательно, в данном случае Ибак-хан отсылает не кконкретно своему отцу или деду, что становится не важным в этомконтексте, а в целом к неким длительным отношениям Шибанидов смосковскими князьями. Очевидно, что мотив древности оказалсявостребован именно в контексте претензий Ибака на золотоордынскоенаследие, «Саин стул». При этом точка зрения А.Г.Нестерова обустановлении личных дипломатических связей Хаджи-Мухаммедом смосковским князьями не подтверждается иными документами.Гипотетически, возможно, что земли Булгара и прилегающие к ним онмог непосредственно наследовать от Идигу, который захватил иудерживал их еще с Чекре (Почекаев, 2010. С.193).
Несомненно, информация ал-Айни может быть интерпретирована ипо-иному, в частности по той причине, что в ней, начиная с 1421 по1444 год идет речь о постоянном преимуществе в Сарае хана по имениМухаммад, что также повторяется и в сочинении Самарканди (ЗолотаяОрда, 2003. С.378 и далее). Однако отсылка этих авторов к одномуимени в реалиях того периода не означает еще одного хана. На нашвзгляд, существенным здесь является то, что 830 году (1426-1427) ктитулатуре этого хана у ал-Айни добавляется «государь Крыма»(Золотая Орда, 2003. С.235). Известно, что с Крымом был связанУлуг-Мухаммад, и можно предположить, что именно в этот период онвыходит на первое место в борьбе за Сарай, в том числе и Бораком,что и приводит к отступлению последнего обратно в Восточный Дешт.Поражение спровоцировало и дальнейшие события, в том числе борьбуза Сыгнак, последовавший отход Мансура обратно к Хаджи-Мухаммад-хану и их дальнейшее убийство Бораком. Можно согласиться сВ.В.Трепавловым, что это событие произошло около 1426 или 1427года (Трепавлов, 2002. С.94). Убийство Хаджи-Мухаммада, или точнееего «мученическая смерть» (?) также подтверждается еще однимпоздним автором – Хафиз-и Таныш Бухари. При этом указывается, чтоименно после его смерти правителем становится Абу-л-Хайр, однако,если перевод точен, речь здесь идет только о порядке правления, ане о логике смены власти (Хафиз-и Таныш Бухари, 1983. С.74). Уданного автора также упоминается интересующий нас второй династ суказанием его генеалогии, то есть автор четко отделяет этих двухханов.
Подводя итог, мы должны признать, что, если эти рассужденияверны, то Шибаниды оставались весьма весомым кланом в борьбе заСарай не только в период Великой Замятни, но и в более позднеевремя, а не только контролировали Восточный Дешт, как об этомпишет Р.Ю.Почекаев (Почекаев, 2010. С.197). Однако при этом авторвынужден также признать возможность своей ошибки, которую онсделал, повторяя концепцию М.Г.Сафаргалиева о тождественности двухханов Шибанидов. Очевидно, что Кадыр Али-бек указывает на фактубийства Хаджи-Мухаммада и дальнейшие события с ним не могут бытьсвязаны. Гипотетически весьма возможно, что после его смерти ханоммог быть провозглашен кто-то из его двух сыновей, но это уже темадля другой работы.
В этой связи и возникает вопрос о втором из шибанидскихдинастов – Махмуд-ходже. По данным Самарканди, Борак был убитнеким Султан-Махмуд (-огланом) в Моголистане (Золотая Орда, 2003.С.380-381). Это сообщение никак не может относиться к Улуг-Мухаммаду по двум причинам. Во-первых, по отношению к нему автор,по всей видимости, использовал имя Мухаммад-хана, а во-вторых –сомнительно, чтобы у сарайского правителя были возможности
отправить войска в Моголистан. Эти же рассуждения равно применимыи для Кичи-Мухаммада. С учетом, сообщения уже упомянутого Кырыми отом, что бывшие племена Мансура, переселенные на север ипритесняемые Бораком, стали переходить к Мухаммад-хану, а такжемангытским мирзам Гази и Наурузу, братьям Мансура (Кляшторный,Султанов, 1992. С.210). Накопив силы, они около 1428/9 года убилиБорака. На наш взгляд, с учетом сообщения Самарканди и длительныхсвязей мангытов с Шибанидами, в том числе связанным с кочеваниемна одной территории, этим ханом мог быть только Махмуд-Ходжа, вчем мы солидарны с Ж.М.Сабитовым (Сабитов, 2009-б. С.169).
Возникает вопрос о том, что нам известно об этом хане, кромеего происхождения, о котором мы писали выше. После указанныхсобытий Махмуд-Ходжа возможно попытался вмешаться в борьбу заСарай, что и привело к походу на русские земли и монетной эмиссиив Булгаре, о которых писал А.Г.Гаев. Возможно, помощь в этом емуоказали и ногаи. Однако отстоять свои интересы в Поволжье ему неудалось, и в результате этого он и оказался на юге ЗападнойСибири, между Ишимом и Тоболом, как об этом писал Б.А.Ахмедов.Нельзя не отметить, что его претензии на территории Булгара моглибыть связан не только с некоей системой наследования внутриШибанидов. А.-З.Валиди-Тоган на основании сообщения Утемиш-хаджипишет о том, что сын Ильбека Али-бай правил в Булгаре и Казани(Валиди-Тоган, 1994. С.23). В данном случае Али-бай выступаетбратом Каан-бая, отца Махмуд-ходжи. Следует признать, что этосообщения уникально, поскольку в известных нам источниках погенеалогии Шибанидов среди четырех сыновей Ильбека такого нет(например: МИКХ, 1969. С.348). В целом не затрагивая проблемуидентификации данного легендарного правителя, чрезвычайно важногодля казанской истории, отметим, что И.А.Мустакимов пришел наосновании этого сообщения к выводу о наличии шибанидскихправителей в XIV веке на этой территории (Мустакимов, 2009-а.С.186). Вывод этот, конечно, не бесспорен, но в совокупностиприведенных выше данных имеет право на существование. Обратимвнимание на мнение Ю.В.Селезнева, который считает, что нападения«Махмуд-Хози» на Галич в 1428-9 гг. были совершены царевичем,бывшим владетелем Булгарского улуса (Селезнев, 2009-б. С.142-143).Предположение о возможном отождествлении этого Махмуд-Хози сМахмуд-Ходжой Шибанидом было сделано Д.М.Исхаковым. При этомдействовал данный царевич совместно с Али-Бабой, которыйинтерпретируется как Али-бей (Исхаков, 2009. С.84, 90). Еслипредлагаемая данная логическая связь верна, то мы еще разсталкиваемся с вопросом о постоянных связях Шибанидов с Булгарскимулусом.
В целом интересы этого хана были чрезвычайно разбросаны втерриториальном плане. Это тем более хорошо заметно, если мывспомним, где находился юрт его отца. Не будем напоминать, что иего дед и отец приняли самое активное участие в Великой Замятне.Неоднократно цитировавшийся Утемиш-хаджи писал, что в началеборьбы за Сарай Тохтамыш обратился за помощью к Каанбаю, кочевьякоторого находились в географически не идентифицированнойместности «Кокедей-Иисбуга» (Утемиш-хаджи, 1992. С.117), причем,по мнению И.А.Мустакимова, эти земли, по данным «Таварих-игузида», относились к изначальным территориям Шибана (Мустакимов,2009-б. С.230). Однако за отказ в помощи Тохтамышу позднее онполучил кочевья на Тане (то есть Дону). Сам факт подобногоразброса Шибанидских кочевий в конце XIV века, ставит вопрос оправомерности использования знаменитого описания земель Шибана поданным Аб-л-Гази. Скорее всего, только в начале XV века даннаядинастия постепенно закрепляет за собой некие родовые территории,часть которых в Приуралье и Казахстане, несомненно, совпадает сболее ранними кочевьями основателя династии. До этого периодатерритории улуса Шибана (или, по крайней мере, отдельныхпредставителей рода) могла неоднократно перемещаться наполитической карте Золотой Орды.
Утемиш-хаджи в версии А.-З.Валиди-Тогана также указывает, чтоМахмуд-Ходжа совместно с элем Тура воевал с кунгратами исалджиутами (Валиди-Тоган, 1994. С.24), на что впервые обратилвнимание Д.М.Исхаков. Очевидно, что эль Тура это известная Чинги-Тура, то действия Махмуд-ходжи приурочены опять же к сибирскимтерриториям, причем, скорее всего, именно после победы надконгратами и салджиутами его авторитет должен был увеличиться. Вданном случае определенное соглашение с представителями эля Тураможет прослеживаться и в «Тарих-и Абу-л-хайр-хани». Ж.М.Сабитовпредположил, что лидером из числа Чингизидов при разгромеДжумадук-хана и Абу-л-Хайра был именно Махмуд-ходжа (Сабитов,2009-б. С.170; Гаев, 2002. С.26-27). Кухистани сообщает о том, чтона первом месте в числе лидеров войска был Кепек-ходжа-бий мангыт(скорее всего, буркут) и Умар-бий буркут (МИКХ, 1969. С.141).Отметим, что в данном источнике далее указывается на то, чтоименно буркуты в лице Адад-бека и Кибек-Ходжа-бия были правителямиЧинги-Туры и передали ее Абу-л-хайр-хану в 1430 году (МИКХ, 1969.С.144). При этом весьма импонирует точка зрения Ж.М.Сабитова отом, что именно Кепек-ходжа и Умар могут быть идентифицированы какТайбугиды (Сабитов, в печати1), ставшие союзниками (беклярибеками)
1 Автор благодарит Ж.М.Сабитова за любезно предоставленную возможностьиспользовать неопубликованные материалы и Р.Ю.Почекаева за помощь в работе надисториографическим разделом.
при Ибак-хане, причем Умар (или Мар Сибирских летописей) был убитханом. В этой точке зрении только один минус – это возникающиенатяжки с весьма преклонным возрастом Умара, в котором он женилсяна сестре Ибака. Как известно, вскоре после получения ханскоготитула в Чинги-Туре Абу-л-Хайр пошел в поход на Махмуд-Ходжу, вкотором его сопровождают и буркуты (возможно, Умар даже руководиллевым крылом войска) (МИКХ, 1969. С.391). В битве на Тоболепоследний был разгромлен и убит, что находит подтверждение и у ал-Дженнаби, писавшего, что Абу-л-Хайр-оглан изменил Махмуд-ходже-хану и убил его на охоте (МИКХ, 1969. С.146-148; Золотая Орда,2003. С.238). Фактор измены здесь может быть связан с некимиобязательствами, который взял на себя Абу-л-Хайр, попавший в пленпосле разгрома Джумадука к мангыту Сарыг-Шиману (МИКХ, 1969.С.142). На наш взгляд, разница между битвой и охотой в данномслучае не принципиальна, важен факт смерти Шибанида. При этом фактубийства именно этого хана Абу-л-Хайром указывается и уШ.Марджани, хотя предложенная у него датировка этого событиявесьма дискуссионна (Марджани, 2005. С.131).
Подводя итоги работы, следует признать, что концепциятождественности Хаджи-Мухамамада и Махмуд-Ходжи Шибанидов,предложенная М.Г.Сафаргалиевым, и связанная с этим реконструкциястепных событий в 1420-е годы не выдерживает проверки времени.Несомненно, что это два разных династа, первый из которых правил с1421 по 1426/7 год, а второй в период с 1428 по 1430 год.Одновременно с этим признание этой версии ставит вопрос о болеедлительных по времени попытках Шибанидов укрепиться в Сарае и овозможном наличии их кочевий не только на территории т.н. «улусаШибана». Однако в данном случае автор хотел лишь поставитьнекоторые на его взгляд спорные вопросы Шибанидской истории, апоиск ответа на них – это дело будущих исследований.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Абу ал-Кадир иб Мухаммад-Амин. Маджма ал-ансиб ва-л-амджар. Алматы, 2005.Арсланова А.А. Остались книги от былых времен… Персидские исторические сочинениямонгольского периода по истории народов Поволжья. Казань, 2002. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965.Бояршинова З.Я., Степанов Н.Н. Западная Сибирь в XIII-XVI вв. // История Сибири.Т.1. Л., 1968.Валиди-Тоган А.З. Башкорттарзын тарихы. Уфа, 1994. Валиханов Ч.Ч. Извлечения из Джами ат-таварих. Сборник летописей // Собраниесочинений. Т.1. Алма-Ата, 1984.Груссе Р. Империя степей. Аттила, Чингисхан, Тамерлан. Т.2. Алматы, 2005. Зайцев И.В. Астраханское ханство. М., 2004.Золотая Орда в источниках. Т.1. Арабские и персидские сочинения / Сост.Р.П.Храпачевский. М., 2003.
Гаев А.Г. Генеалогия и хронология Джучидов. К выяснению родословиянумизматически зафиксированных правителей улуса Джучи // Древности Поволжья идругих регионов. Вып. IV. Нумизматический сборник. Т.3. Нижний Новгород, 2002. Измайлов И.Л. Агония империи // История татар. С древнейших времен. Т.III. УлусДжучи (Золотая Орда) XIII- середина XV в. Казань, 2009. История Казахстана в русских источниках. Т.1. Посольские материалы Русскогогосударства (XV-XVII вв.). Алматы, 2005.Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 2006.Исхаков Д.М. Исторические очерки. Казань, 2009. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата,1992. Костюков В.П. Улус Шибана в XIII-XIV вв. (по письменным данным) // Проблемыистории, филологии, культуры. Вып. VI. М.-Магнитогорск, 1998.Костюков В.П. В защиту доброкачественности (О монографии Д.Н.Маслюженко«Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века») //Золотоордынская цивилизация. Вып.2. Казань, 2009-а.Костюков В.П. Шибаниды и Тукатимуриды во второй половине XIV века // ВестникЧелябинского государственного университета. 2009-б. № 28. Серия «История».Вып.34. Костюков В.П., Маслюженко Д.Н. Шибаниды // Историческая энциклопедия Сибири. Т.III. С-Я. Новосибирск, 2009. Кочекаев Б.-А.Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVII вв. Алма-Ата, 1988. Марджани Ш. Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара. Ч.1. Казань, 2005. Маслюженко Д.Н.Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века.Курган, 2008. Маслюженко Д.Н. Сибирская периферия золотоордынского пространства в 1420-1440-егг. // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. МатериалыIV Международной конференции, посвященной памяти Г.А.Федорова-Давыдова. Азов,2009. С.339-347.Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков (извлечения из персидских итюркских сочинений) / Сост. С.К. Ибрагимов и др. Алма-Ата, 1969.Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана. Казань, 2003.Мустакимов И.А. К вопросу об истории ногайского присутствия в Казанском юрте //Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. Казань, 2009. Мустакимов И.А. Владения Шибана и Абу-л-Хайр-хана по данным «Таварих-и гузида –Нусрат-наме» // Национальная история татар: теоретико-методологическое введение.Казань, 2009. Мухамедьяров Ш.Ф. Тюменское ханство // Очерки истории исламской цивилизации.Т.2. / под общей ред. Ю.М.Кобищанова. М., 2008. Нестеров А.Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири в XIV-XVIIвв.: археология и история. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1988. Нестеров А.Г. Династия сибирских Шейбанидов // Тюркские народы: Материалы VСибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск-Омск, 2002.Нестеров А.Г. Формирование государственности у тюркских народов Урала и ЗападнойСибири в XIV -XVI вв. // Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культурыевразийских народов. Материалы международной научно-практической конференции.М., 2003. Похлебкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствамив XIII-XVI вв. 1238-1598 (от битвы на р.Сить до покорения Сибири): Справочник.М., 2000.
Почекаев Р.Ю. Цари Ордынские. Биография ханов и правителей Золотой Орды. СПб.:Евразия, 2010. Сабитов Ж.М. Таварих-и гузида-йи насрат-нама как источник по генеалогии джучидов// Золотоордынская цивилизация. Вып.2. Казань, 2009-а. Сабитов Ж.М. Тарихи Абулхаир-хани как источник по истории ханства Абулхаир-хана // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2009-б. № 2. Сабитов Ж.М. Тайбугиды в ханстве Абулхаир-хана // Историческая география исоциокультурное развитие средневековых тюрко-татарских государств (XV – втораятреть XVIII вв.). Материалы международной конференции. Казань (в печати). Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. М.,1996.Селезнев Ю.В. Элита Золотой Орды. Казань, 2009-а. 232 с.Селезнев Ю.В. Особенности восприятия в русской письменной традиции русско-ордынских отношений в 1420-1460-х гг. // Средневековые тюрко-татарскиегосударства. Казань, 2009-б. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2002.Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. Казань, 1972.Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. Алма-Ата, 1992.Файзрахманов Г. История сибирских татар (с древнейших времен до начала XX века).Казань, 2002.Хафиз-и Таныш Бухари. Шараф-наме-йи шахи (Книга шахской славы). М., 1983.Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год.Баку, 1984.
ПОХОДЫ СИБИРСКИХ ШИБАНИДОВ НА КАЗАНЬ В КОНЦЕ XV В.
А.В. Парунин
Последними крупными внешнеполитическими мероприятиямиТюменского ханства в конце XV века явились военные походы наКазань с целью свержения ставленников Московского Великогокняжества, а также упрочения своего влияния в поволжском регионепутем поддержки «восточной» партии и претензий на казанскийпрестол. Походы хана Мамука и царевича Агалака представляли собойочередную попытку изменения расклада сил в системе международныхотношений тюрко-татарских государств, однако, очевидный раскол втюменско-ногайской коалиции, вызванный последующими неудачамиСибирских Шибанидов и очевидным нежеланием части элиты ногаевпортить отношения с Москвой, привели к провалу задуманного.Ногайская Орда, постепенно укреплявшая свои позиции в регионе,начала склоняться к отказу от союза и номинального верховенстваправящей элиты Тюменского ханства.
Прежде чем осветить подробности казанско-тюменскихпротиворечий, вкратце упомянем о базе нарративных источников. Ихсведения, позволяющие проследить международную политику Тюмени врассматриваемый период, весьма немногочисленны. Первые совместныепоходы тюменско-ногайских войск в начале 90-х годов XV в.фрагментарно раскрываются в дипломатической переписке ханов Казании Крыма с Иваном III; чуть более подробно рассматривается походхана Мамука в грамотах ногайского мурзы Мусы в Москву.
Наиболее подробно этапы походов Шибанидов, а такжепоследующего взятия Казани ногайско-тюменской коалицией отражены вНиконовской летописи. Отдельные факты, подтверждающие сведениявышеупомянутого источника, имеются в Вологодско-Пермской летописи,Разрядной книге, Летописце Федора Кирилловича Нормантского,Историческом и дипломатическом собрании дел между Москвой иКрымом. Важно отметить, что в вкупе с фрагментарностью, сведенияисточников достаточно противоречивы, что усложняет анализ ходавнешнеполитической активности Тюменского ханства в вышеуказанныйпериод.
Вместе с тем комплексный анализ известий русских источников ипамятников дипломатической переписки позволяет наиболее тщательнопроанализировать весь ход конфликтов представителей СибирскихШибанидов с Казанским ханством, вследствие чего в данной статьеиспользовано наибольшее количество письменных источников спривлечением косвенных данных. При написании статьи былииспользованы данные из двух публикаций Никоновской летописи,первая из которых была осуществлена в 1767-1792 гг., однако при
последующем издании в составе ПСРЛ были привлечены новые спискилетописного свода (Клосс, 1980, С. 7). Менее обширные, но важныеданные содержит Вологодско-Пермское летописание, особенно т.н.«краткие летописцы», опубликованные Б.Н.Клоссом в его статье идатируемые им концом XV века (Клосс, 1976, С. 264-265). Судя похарактеру сведений кратких летописцев (Клосс, 1976, С. 270), онине были включены в основной Вологодско-Пермский летописный свод,датируемый приблизительно серединой XVI века (ПСРЛ, Т. 26, 1959,С. 3-4). События, описываемые непосредственно в самой Вологодско-Пермской летописи до 1520 года, отражает список Оболенского,составленный, по мнению Б.М. Клосса, в 20-30-е гг. XVI в (Клосс,1980, С. 17). Однако проблемы источниковедения представляют собойотдельную тему исследования и не входят в задачи данной статьи.Большое количество используемых списков и относительная временнаяблизость к рассматриваемым событиям позволяет использоватьНиконовскую летопись в качестве основного источникарассматриваемых проблем.
Укрепив свои позиции в начале 1480-х гг., что прежде всегосвязано с разгромом Большой Орды, убийством хана Ахмада иустановлением дипломатических отношений с Московским Великимкняжеством, лидер Тюменского ханства Ибак сосредоточил в своихруках определенные политические механизмы, среди которых можноотметить номинальное господство над Ногайской Ордой (стоитподчеркнуть, что система взаимоотношений Ибака с ногаями,сложилась несколько раньше) и степень влияния на восточную партиюКазанского ханства (в последующем это влияние будет определяющим).В военных операциях тюменский хан использовал войско НогайскойОрды. Свержение казанского хана Алегама Москвой в 1487 году (ПСРЛ,Т. 12, 1901, С. 218-219; Летописец, 1781, С. 163-164), которогоподдерживали представители восточной партии Казани («Алказый, даКасым Сеит, да Бегиш, да Утеш») (Памятники…, 1884, С. 84;Файзрахманов, 2007, С. 124), привели к бегству ряда противниковнового хана Мухаммед-Амина в Тюмень и Ногайскую Орду.
Дополнительным источником информации может здесь выступатьодин из ранних кратких летописцев, получивших, как мы отмечаливыше, распространение еще до составления Вологодско-Пермскоголетописного свода, и содержащий следующие данные: «В лето 6995.Посылал князь великии на Казань воевод своих, князя ДанилаХолмьского, рать конная и судовая. И одолеша Казань и царя поималиАлягама со царицею и с матерью и с двема князи Чеботаевыми детьми.И велел их князь великий побити на Кучков, а царя Алягама заточитина Вологду» (Клосс, 1976, С. 270). По мнению Б.М. Клосса, данныйкраткий летописец был составлен в конце XV с некоторымипозднейшими приписками событий начала XVI вв (Клосс, 1976, С. 264-
266). Жестокая расправа с некоторыми сторонниками Алегама могласпособствовать оттоку казанских татар к ногаям и в Тюменскоеханство.
Вследствие этого события отношения Тюмени с Москвой сталинапряженными, о чем свидетельствуют переговоры осени 1489 года, накоторых Ибак хан через своего посла Чюмгура выдвинул требованиеотпустить хана Алегама (Памятники…, 1884, С. 84-87). В своюочередь, Москва потребовала выдать «Алегамовых людей». В концеконцов обоюдные претензии улажены не были: в итоге в Тюменскомханстве (начиная с 1487 года) стала формироваться своего рода«казанская оппозиция», которая сыграла немаловажную роль вдальнейших взаимоотношениях Тюменского и Казанского ханств впоследнее пятилетие XV века. На ногайско-московских переговорах воктябре 1490 года посол от ногайского мусы Ямгурчея констатировал:«Еще Алгазыя просишь: Алгазыя яз не видал, с Ибреимом с царем кТюмени поехал; от тех мест у Ибреима царя в Тюмени живет»(Памятники…, 1884, С. 94).
Выдвижение русского ставленника Мухаммед-Амина на казанскийпрестол способствовало ухудшению отношений Казани, Тюмени иногаев, о чем свидетельствуют источники: «…Ему (т.е. царю Менгли-Гирею - прим. авт.) поручено было объявить о самовольномотступлении от Орды царевича Салтагана; извинить Казанского царяМагмед-Аминя, что он не мог послать людей своих противзлобствующих на него царей, по причине приближения к землям егонекоторых Ногайских мурз….» (Историческое и дипломатическоесобрание…, 1864, С. 206). Можно констатировать факт, чтоконфронтация постепенно перетекает из политической в военнуюплоскость.
Отмечаются казанско-тюменско-ногайские противоречия и вдипломатической переписке. Посол великого князя Ивана III вграмоте к крымскому царю Менгли-Гирею констатировал следующее: «…ино сего лета (т.е. 1490 года) у Магмет-Аминя царя близко были егонедрузи Нагая, ино за тем Магмед-Аминевы царевы люди под Ордою небыли» (Памятники…, 1884, С. 98). Не менее интересно сообщение вграмоте Мухаммед-Амина Ивану III: «…Божиим изволением, на отцасвоего месте царем ся есми учинил: Ивак, да Мамук, да Муса, даЯмгурчей еже лет на меня войною приходят» (Памятники…, 1884, С.146).
Таким образом, дипломатические переговоры о выдаче бывшегоказанского хана на рубеже 80-90-х гг. XV века перетекли в военныестолкновения, одной из причин которых, по мнению Г.Л.Файзрахманова, была «угроза единству тюрко-татарского мира»(Файзрахманов, 2007, С. 124). Но нельзя исключать и чистоэкономическую сторону набегов, возможно, имевших целью внутренне
ослабить Казанское ханство, что, отчасти подтверждаетсяпоследующими событиями 1496 года.
Последние дипломатические контакты Ибак-хана, по-видимому,относятся к лету 1494 года («Лета 7002, приехал к великому князюот царя Ивака от нагайского с грамотою человек его Чюмгур»(Памятники…, 1884, С. 198)). Судя по всему, новый виток диалогабыл связан с очередной попыткой освободить Алегама: «Да ещеАлягама царя как дашь нам, после того твоему недругу недруг стою итвоему друг другу стою» (Памятники…, 1884, С. 199). Можнопредположить, что тактика набегов на пограничные земли Казанскогоханства не увенчалась успехом; восточная партия и группы казанскихтатар, находящиеся на территории Тюмени оказывали давление нахана, и Ибак предпринял новый дипломатический зондаж, в очереднойраз увенчавшийся ничем.
В русских летописях личность Ибака после переговоров 1494года более не фигурирует, что дает нам основание полагать о егоскорой смерти. Датировка смерти хана представляется весьмасложной, поскольку упоминание о его кончине отражается в«Сибирских летописях» без указания даты: «По летех же неколицехАдеров сын Моамет казанского царя Упака уби и град Чингиденразруши, и постави себе град на реке Иртиши, и нароче Сибирь»(ПСРЛ, Т. 36, 1987, С. 32). Примечателен факт упоминания Г.Ф.Миллером нахождения в Тюмени во время убийства хана Ибака «многихказанских татар» (Миллер, 2004, С. 190). Тем не менее, ограничимсяконстатацией смерти Ибак хана, поскольку рассмотрение даннойпроблемы не входит в задачи нашей статьи.
Приблизительно в 1495 - начале 1496 гг. новым ханом Тюменистановится Мамук, называемый в летописях братом Ибака (ПСРЛ, Т.26, 1959, С. 290). В.В. Трепавлов делает вывод, что Мамук сразу жепосле смерти своего брата был возведен на престол, причем ногаями(Трепавлов, 1997, С. 99; Трепавлов, 2002, С. 137). С мнениемисследователя можно согласиться, поскольку некоторые источникиименуют Мамука «нагайским царем» (Разрядная книга…, 1977, С. 50).Однако в большинстве сообщение летописцев Мамук предстает«Шибанским царем» (Памятники…, 1884, С. 236; ПСРЛ, Т. 26, 1959, С.290; Книга, глаголемая…, 1850, С. 9), что не меняет сутьвзаимоотношений Тюмени и Ногайской Орды, которые не претерпелизначительных изменений (по крайней мере в самом начале правленияМамука).
Стоит отметить, что нам неизвестны все причины, которымируководствовался Мамук в военных операциях против Казанскогоханства. Одна из них несомненна: попытка усилить пошатнувшеесяположение восточной партии Казани, некоторые руководители которойнаходились в то время в Тюмени и могли лоббировать свои интересы.
Кроме того, по мнению Г.Л. Файзрахманова, лидеры оппозициивыдвинули хана Мамука на казанский престол (Файзрахманов, 2002, С.138). Схожего мнения придерживался и М.Г. Худяков, указывая, чтооппозиционеры, будучи недовольны правлением Мухаммед-Амина, искалисоюзников среди восточных соседей (Худяков, 1923, С. 46).Возможно, что Мамук также стремился к расширению территорииТюменского ханства за счет присоединения казанских земель:частично подтвердить данный факт может свидетельство ослабленияТюмени после убийства хана Ибака и укрепления местной княжескойдинастии Тайбугидов, основавших г. Искер (ПСРЛ, Т. 36, 1987, С.32, 47), и, по-видимому, захвативших часть земель ханства. Схожеемнение представлено и авторами «Истории Сибири» (История Сибири,1968, С. 364). Д.Н. Маслюженко отметил, что поход на Казань «былследствием внутриногайских разногласий» (Маслюженко, 2008, С.103), однако данный факт может служить следствием, а не причиной.
Запутанным представляется вопрос и о времени начала военнойкампании: историографический обзор дает нам несколько дат: частьисследователей склоняется к 1495 году (Худяков, 1923, С. 46;Файзрахманов, 2007, С. 128; Файзрахманов, 2004, С. 138; Нестеров,2003, С. 116), другая – к 1496-му (Маслюженко, 2008, С. 102;Исхаков, 2006, С. 59; Трепавлов, 1997, С. 99; Фукс, 1817, С. 16).Н.М. Карамзин датировал поход 1497 годом (Карамзин, 1993, С. 377-378).
Разброс дат присутствует и в нарративных источниках. Болеепоздняя редакция Никоновской летописи (1901 гг.) датирует походыМамука маем 1496 – летом 1497 гг. (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 242-243).«Русская летопись» 1790 года приводит даты: весна 1496 – весна1497 гг. (Русская летопись…, 1790, С. 146-147). С информациейНиконовской летописи солидаризуются сведения, содержащиеся в«Летописце Федора Кирилловича Нормантского, датировка в которойсводится к лету 1496 года (Книга, глаголемая…, 1850, С. 9). Стоитотметить, что данные Никоновской летописи наиболее подробноосвещают все этапы и перипетии кампании хана Мамука.
Вологодско-Пермская летопись освещает вопрос фрагментарно,при этом констатируя: «В лето 7004. Царь Мамук Иваков братТюменского, пришед с Нагаи. Взяша град Казань. Того же лета, майа,посла князь великий Иван Васильевич в Казань на царство царя АбдылЛетифа, меншого брата царя Казанского Махмед Аминева, а с нимпослал воевод своих князя Семена Даниловича Хольмского да князяФедора Палетцкого со многими детми боярскими и веле его посадити вКазань на царство» (ПСРЛ, Т. 26, 1959, С. 290). Как видим, захватМамуком Казани по версии данного источника оказался оченьскоротечным.
Немногочисленны известия о походе и в Разрядной книге: «Влета 7005-го году сентебря в 10 день согнал с Козани Магмед-Аминяцаря Мамук, царь нагайской, по слову с козанскими князьми сКоныметем да с Ыгишем, да с Адырем, да с Ураком». Предлагаемаядата – осень 1497 года – является наиболее поздней среди всегокорпуса письменных источников (Разрядная книга, 1977, С. 50).Осенью 1497 года отмечается грамота Менгли-Гирея Московскому князюИвану III, в которой упоминается о походе Мамука: «Который человекиз Асторхани приехал, у того слышали есмя: шибанской Мамук пришодКазаньской город взял. И мы правды не ведаем: да Бой те вестиизолгалися» (Памятники дипломатических, 1884, С. 236). Однако,датировку похода сложно соотнести со временем отправки грамоты, аинформация, пришедшая в Крымское ханство относительно казанскихсобытий, могла быть и запоздавшей.
В целом, после рассмотрения данных из источников иисториографического обзора, предлагается, на основании сообщенийНиконовской летописи, выделить два похода Мамука на Казань, всвязи с чем датировать начало первого похода весной 1496 года (вупомянутом источнике имеется четкое указание времени наступления:«тое же весны (1496 года – прим.авт), майя» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С.242). Сведения о двух походах фиксируются и в посольских книгах: вграмоте от марта 1497 года Муса сообщает, что вернул назад войско,направлявшееся на Казань, но послал в новый поход сына своего сдвухтысячным отрядом (Посольская книга…, 1984, С. 49-50).
Таким образом, приблизительно в мае 1496 года Мамук «сомногою силою» выступил к Казани. Обеспечила свою поддержкунаступавшим и восточная партия: «а измену чинят Казанскии казакиКалимет, Урак, Садыр, Агиш» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 242).Политический вес и этническое происхождение «Казанских казаков»проанализировал Д.М. Исхаков, указав при этом, что двое изоппозиционных князей, Калимет и Урак, были мангытами (Исхаков,2006, С. 32, 33). В.В.Вельяминов-Зернов предположил, чтовышеперечисленные лидеры имели равные права и, вероятно, всечетверо носили титул «князя Казанских князей» (Вельяминов-Зернов,1864, С. 426).
Тем не менее, на угрозу со стороны Тюменского ханстваоперативно среагировало Московское Великое княжество: «И князьвеликий послал в Казань к царю Магамед-Аминю в помощь воеводусвоего Семена Ивановича Ряполовского с силою, и иных многих детейбоярских двора своего, и Понизовных городов детей боярских:Новогордци, Муромци, Костромичи и иных городов мнозия» (ПСРЛ, Т.12, 1901, С. 242; ПСРЛ, Т. 26, 1959, С. 290). Оперативность ворганизации войска, широкий географических охват свидетельствовалио серьезности намерений Ивана III не допустить потери влияния в
Казани. Однако до открытого вооруженного столкновения дело недошло: «Князи же Казанскиа предреченныа слыщав воевод великогокнязя, что идут со многою силою, князь Семен Иванович Ряполовский,и выбегоша ис Казани к царю Мамуку; когда же Мамук слыша силумногу великого князя в Казани и возвратися во свояси» (ПСРЛ, Т.12, 1901, С. 242-243). По всей видимости, внезапность выступлениямногочисленного войска явилась неожиданностью для Мамук хана.
Не совсем ясен вопрос и об этническом составе и количествевоенных сил во время первого похода весной-летом 1496 года.Никоновская летопись указывает, что хан пришел «со многою силою»(ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 242). Ту же фразу передает и «Летописец»(Книга, глаголемая…, 1850, С. 9). Волгодско-Пермская же летописьобращает внимание, что, «В лето 7004. Царь Мамук Иваков братТюменского, пришед с Нагаи. Взяша град Казань» (ПСРЛ, Т. 26, 1959,С. 290). Вероятнее всего, в тексте летописи отразился второй походМамука, приведший к захвату ханства.
Дополнительные сведения о провале первого походапредоставляет грамота мурзы Мусы (именующегося «князем» вофициальной титулатуре) великому князю Ивану III, датированнаямартом 1497 года. В частности, сообщается: «На братью на своюпогневавшися, в Туркмен ездил есмь, и здешние братья почалидокучати да и привели. И яз, как к ним приехал, ино Ямгурчей царьна Казань пошли отступити. И яз Ивана князя для брата своего царюбыл челом да тогды рать воротил. И нынеча с казаньскими князисодиначившися, царя взявши, на Казань пошли отсупити» (Посольскаякнига…, 1984, С. 50). Раскол по казанскому вопросу среди ногайскихлидеров, очевидно, был связан с нежеланием Мусы напрямуюконфликтовать с Москвой, поскольку отношения с последнейобострились бы после захвата Казани. Однако неизвестныеобстоятельства повлияли на его решение участвовать в новом походе,о чем сообщает следующий факт: «И яз нынеча послал сына своего дас ним две тысячи человек да велел дом пограбити по твоемубратству» (Посольская книга…, 1984, С. 50).
Все вышесказанное приводит к мысли о том, поспешноеотступление Мамука было, во-первых, связано с расколом среди элитыНогайской Орды, а во-вторых, с недостаточной численностью войска,вызванной отступлением ногаев по приказу Муссы.
Последующие события, тем не менее, свидетельствовали онеразумности решения Мухаммед-Амина отослать русские войска,оставив ханство без должной военной поддержки. Ситуацию в Казаниусугубил также и политический раскол, усилившийся во времянаступления Мамука весной 1496 года, в результате которого частьмятежных князей присоединилась к Шибанидам, что в итоге привело кобострению противостояния двух партий.
Уход русских войск спровоцировал Тюмень и лидеров оппозиции вподготовке к новому походу, который был, судя по даннымисточников, осуществлен в предельно короткие сроки: «В лето 7005.Не по мнозе же времени сведав царь Мамук Шибанский, что воеводавеликого князя пошел ис Казани со всей силою назад во свояси, понеже к Казани измена бысть над царем Магамед-Аминем и вести кМамуку ис Казани присылаху: Мамук же царь вборзе прииде ратию подКазань со многою силою Нагайскою и со князи Казанскими. Царь жеМагамед-Амин Казанский блюднен измены от своих князей, и выбежа ис Казани сам и со царицею и со останочными князи своими, и приидек великому князю на Москву» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 243). Отметим,что на этот раз военная операция была осуществлена при поддержкеобширного ногайского войска. Очевидно, раскол среди ногаев былпреодолен.
Судя по всему, захват Казани произошел без сопротивления : «АМамук царь приступи ко граду со многою силою и взя Казань, понежене бысть ему сопротивника…» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 243).
Правление хана Мамука Казанью оказалось недолгим, посколькукак верно отметил Д.Н. Маслюженко, «выбор претендента был весьманеудачен, царевич не справился с проблемами внутреннего управленияв условиях, полностью отличных от специфики сибирских политическихобъединений» (Маслюженко, 2008, С. 102). Г.Л. Файзрахманов склоненже считать, что новый правитель «не успел разобраться вмногочисленных интригах казанских феодалов и торговцев»(Файзрахманов, 2007, С. 129). Но действия Мамука в Казанскомханстве не были связаны с определенной спецификой внутреннейструктуры ханства, имевшей отличия от Тюменского. Никоновскаялетопись четко фиксирует недальновидность и жестокость нового ханапо отношению как к местным «торговым людям», так и к своим, ужебывшим, союзникам: «…и князей Казанских, кои изменяли государюсвоему, Калимети, Урака, Садыри и Агиша з братиею, изымал, агостей и земских людей всех пограбил» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 243).К сожалению, скудность данных не дает возможность более четкопроанализировать внутреннюю политику Мамука в Казани, однако естьвсе основания предполагать, что новый казанский хан не стремилсяосвоить эффективное управление ханством, а решил действоватьметодом террора, чем настроил против себя большинство политическихи экономических кругов города. По-видимому, Мамук имел задаткинеплохого военачальника (по данным источников, он участвовал вразгроме хана Большой Орды Ахмата в 1481 году, и в походе наАстрахань в 1493-м), однако навыками администратора и управленцаон наделен не был.
Поход на Арских князей в 1497-м году знаменовал собой новыйполитический просчет хана, несмотря на то, что им были помилованы
лидеры бывшей оппозиции: «И не по мнозе времени царь Мамук князейКазанских пожаловал, выпустил, и прииде с ними ратию под Арскийгородок. Арския же князи града своего не здаша, но бишася с нимикрепко» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 243). Г.Л. Файзрахманов выдвинулпредположение, что причиной похода Мамука на Арских князей сталовосстание последних (Файзрахманов, 2002, С. 138-139), но имеющаясяв нашем распоряжении информация из источников не подтверждает, нои не опровергает данную гипотезу. Опираясь на результатынеудачного похода хана Мамука («Арские Князи затворились, иКазанские Князи ушли от него в Казань» (Книга, глаголемая…, 1850,С. 9), можно утверждать, что численность его ратей резкосократилась, вероятно вследствие ухода основных ногайских войсксразу же после взятия Казани, и части союзников непосредственно вовремя осады Арского городка.
Как отмечает Г.Л. Файзрахманов, ко времени организации походана Арских князей, в Казани была сколочена сильная оппозиция новомухану во главе с лидером восточной партии Кель Ахмедом, которому«не понравились решительные меры Мамыка по укреплению порядков вКазани» (Фазрахманов, 2007, С. 129). Неудача под Арском укрепилаоппозиционеров, часть из которых, видимо, ушла обратно в Казаньпрямо из войска Мамука. Можно согласиться с Г.Л. Файзрахмановым втом, что в это время в Казани происходит государственный переворот(Файзрахманов, 2007, С. 129), и начинается активная подготовка кзащите города: «и в то же время князи Казанские отъехаша от Мамукав Казань и град окрепиша и царя Мамука во град не пустиша; аизмену на него возложиша, что их князей имал, а гостей и земскихлюдей грабил» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 243). Как видим, хану Мамукубыли предъявлены конкретные объявления в злоупотреблениях и техжестких мерах, которые он вводил. Видимо в это же время Ивану IIIбыла отправлена челобитная, «штоб вины их отдал, и Царя бы им наЦарство в Казань дал, а Махмет Аминя к ним не посылал» (Книга,глаголемая…, 1850, С. 9).
Ввиду малочисленности войска, Мамук некоторое время находилсялагерем около Казани, вероятно считая мирным путем разрешитьконфликт, однако последующие события свели на нет эту возможность:«И князь великий Иван Васильевич по их челобитью и всея землинелюбя и вины князем казанским отъедал, а их пожаловал,Магамедъаминя царя к ним не отслал, а нарек им на царство в КазаньАбдыл-летифа царевича абреимова сына меншего брата Магамедаминяцаря» (Русская летопись, 1790, С. 148).
Последующие же события относительно ухода Шибанида Мамука отКазани содержат противоречивый характер. Так, по версии М.Г.Худякова, «Мамуку не удалось вернуться на ханский престол, и онвозвратился в Сибирь. Вместе с ним эмигрировала часть сторонников
восточной партии, во главе с князем Ураком, казанское же войсковернулось в Казань» (Худяков, 1923, С. 48). Очевидно, схожегомнения придерживается и А.Г. Нестеров, считающий, что послепровала под Казанью Мамук вернулся в Тюмень (Нестеров, 1988, С.15). При этом исследователь в другом своем исследовании указываетна активное участие Мамука в подготовке и реализации нового походана Казань в 1499 году, и только после этой даты хан «исчезает состраниц истории» (Нестеров, 2003, С. 116). Г.Л. Файзрахманов жепишет о «о не подтвержденных сведениях о его смерти по пути вЧимги Туру или в Чимги Туре» (Файзрахманов, 2007, С. 129).Остальные исследователи (Д.М. Исхаков, Д.Н. Маслюженко, К. Фукс,В.В. Трепавлов) определяют дату смерти Мамука в 1496 году.
Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют четко инедвусмысленно датировать смерть Шибанида Мамука в 1497 году(ранее уже упоминалось, что второй поход на Казань Никоновскаялетопись датирует «летом 7005 года», т.е. 1497 годом): «Слышав жецарь Мамук великого князя жалование к князем Казанским и вскорепоиде от Казани в свояси и по пути умре» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С.243; Русская летопись, 1790, С. 148). Те же сведения сообщает нами Иоасафовская летопись: «хан Мамук вскоре поиде от Казани всвояси и на пути умре» (Маслюженко, 2008, С. 103).
Итоги «авантюристического» (по меткому определению В.В.Трепавлова) похода были плачевны. Провал похода, по мнению Д.Н.Маслюженко, «не только означал победу прорусской партии в Казани иНогайской Орде, но и на некоторое время разрывал сложившуюсятрадицию ногайско-сибирских связей» (Маслюженко, 2008, С. 103).Усиление прорусской партии в Казани происходило также и за счетраскола оппозиционной группировки. Есть все основания полагать,что часть восточной партии покинула Казань и отправилась состатками войска в Тюмень. Данный факт констатируют и летописи,упоминая «князя Казанских князей» Урака, одного из лидеровоппозиционеров в свите брата хана Мамука царевича Агалака (ПСРЛ,Т. 12, 1901, С. 250).
Укрепление прорусской партии, охлаждение в тюменско-ногайскихотношениях не помешали к организации нового похода на Казань,датируемого в источниках по-разному: «Летописец Федора КирилловичаНормантского» фиксирует поход 1499 годом; Никоновская же летопись– 1500-м.
Новый поход Сибирских Шибанидов крайне слабо освещен висточниках. Сведения о численности войск, лидерах похода и ихцелях, а также этническом составе войск весьма противоречивы. В.В.Трепавлов указывает, что «на этот раз возглавлял поход сам Мусавместе с Ямгурчи, а претендентом на престол от них был очереднойСибирский Шибанид – Агалак б.Махмудек, младший брат Ибака и
Мамука» (Трепавлов, 2002, С. 137). Данное мнение поддержал иД.Н.Маслюженко (Маслюженко, 2008, С. 111). Тем не менее, анализисточников, не позволяет согласиться с данным утверждением.
Наиболее подробно поход царевича Агалака освещен вНиконовской летописи: «. Того же лета (1500-й год. – прим.авт)прииде весть к великому князю от Казанского царя Абдыл-Летифа, чтона него идет Агалак царевич, Мамуков брат, да с ним Урак князьКазанских князей. Слышавше же то князь великий и послал к Казани впомощь воевод своих князя Федора Ивановича Белского да князяСемена Романовича да Юрья Захарьича, со многими людьми. Агалак жеи Урак слышав, что идут ни них воеводы великого князя с силою, ипобегоша во-свояси, а воеводы великого князя возвратишася кМоскве» (ПСРЛ, Т. 12, 1901, С. 249-250). Схожие данные имеются вРазрядной книге (Разрядная книга, 1977, С. 53-54) и в «ЛетописцеФедора Кирилловича Нормантского» (Книга, глаголемая…, 1850, С.13). Анализируя данные источников, можно сделать вывод онемногочисленности войска Агалака и его союзника Урака. Узнав оприближающемся русском войске они спешно покинули казанские земли(Худяков, 1923, С. 50). По-видимому, данный поход представлялскорее набег, нежели ставил перед собой реальную задачу захватитьКазань. «Продолжение Хронографа» отмечает, что инициатором походаявился Урак: «В лето 7008-го, марта, прииде весть к великому князюИвану, что Урак привел на Казань Авалака царевича» (Продолжениехронографа…, 1951, С. 273), при этом более точно локализуя времяприхода войск из Тюмени, видимо, ранней весной 1500 года.
Тот же источник отмечает 1501-м годом поход Ногайской Орды наКазань: «О нагаех. Того же лета приходиша Нагайскиа Татарове Муса-мурза да Ямгурчей-мурза со многими людми под Казань-город наКазанского царя Абдыл-Летифа, Абреимова сына, и стояху под градомтри недели, а князя великого воеводы тогда были в Казани у царякнязь Михайло Курбьской да князь Петр Лобан Ряполовский с малымилюдми. Царь же Казанский повелел около града нарядити острог, и повся дни, выходя из града, с нагаи бои творяху, и Божиимнаступлением Нагаи вси вскоре отъидоша во свояси» (ПСРЛ, Т. 12,1901, С. 253; ПСРЛ, Т. 26, 1959, С, 294). Указание на «многихлюдей», проведении оборонительных мероприятий и трехнедельнуюосаду города указывает на серьезные намерения ногайцевотносительно Казани. При этом источник не сообщает о присутствииАгалака и Урака в составе ногайского войска (можно выдвинутьпредположение о том, что тюменский царевич мог прибыть в Казань вслучае успешного окончания осады). Н.М. Карамзин, сообщая о набегеАгалака, констатирует, что часть русских войск осталась в Казани ивскоре участвовала в отражении агрессии Ногайской Орды: «которыечрез несколько месяцев отразили ногайских мурз Ямгурчея и Мусу,
хотевших изгнать Абдыл-Летифа» (Карамзин, 1993, С. 387). Как можносудить, Н.М. Карамзин достаточно четко разделяет оба походавременным интервалом в «несколько месяцев».
Данное противоречие в источниках, думается, можно объяснитьнесколькими моментами: во-первых, поход ногайцев и Агалака следуетрассматривать как две совершенно разные военные операции, на чтоуказывает множество моментов (поспешность отхода Агалака итрехнедельный штурм Казани ногайцами; разница в численности войски лидеров отрядов); во-вторых, теоретически можно допуститьразновременность атак организационными неурядицами, но данный фактбудет выглядеть по меньшей мере странным, поскольку в течениеболее 15 лет Ногайская Орда и Тюменское ханство успешнокоординировали действия своих военных сил.
Все же в данном случае имеет смысл говорить о двухсовершенных разных походах, с чем согласуется и постепенный разладв отношениях Ногайской Орды и Тюменского ханства, прежде всеговызванный противоречивым походом 1496 г., а также неудачными иблизорукими действиями хана Мамука во время его правления в Казанив 1497 г. Данный вывод можно подтвердить высказыванием В.В.Трепавлова о том, что «Муса к тому времени уже склонился к идее обизбавлении от фигуры вышестоящего государя в принципе» (Трепавлов,2002, С. 119).
В заключение стоит отметить, что серия военных действийТюмени против Казанского ханства в целом не привела к укреплениювнешнеполитического могущества Шибанидов на данный период времени.Напротив, можно судить о постепенном и неумолимом ослаблениивласти и влияния Тюменского ханства в поволжском регионе.Неудачный поход хана Мамука на Казань приводит к охлаждениюотношений с Ногайской Ордой, что закрепляется и результатамипохода 1500 года, когда царевич Агалак выступает в союзе с однимиз представителей казанской оппозиции князем Ураком. При этомисточники не фиксируют участие ногаев в этой авантюре: напротив, влетописях говорится о совершенно ином наступлении на Казань,скорее всего, уже без участия Шибандов (однако, как мы ужеотметили ранее, Агалак вполне мог прибыть в Казань после удачногозавершения осады). Вышеупомянутые факты свидетельствуют овнутреннем ослаблении Тюмени и неспособности в дальнейшемосуществлять важные и крупные внешнеполитические операции. Вмеждународных отношениях тюрко-татарских государств влияниеСибирских Шибанидов неуклонно ослабевает.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Часть II.СПб., 1864.
Историческое и дипломатическое собрание дел между Российскими великими князьямии бывшими в Крыме Татарскими царями, с. 1462 по 1533 гг. // Записки ОдесскогоОбщества Истории и Древностей. Том V. Одесса, 1863.История Сибири. Том 1. Л., 1968.Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 2006.Карамзин Н.М. История государства Российского: в 6-ти книгах. Т.V-VI. М., 1993.Клосс Б.М. Вологодско-Пермские летописцы XV в. // Летописи и хроники 1976.М.Н.Тихомиров и летописеведение. М., 1976.Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков. М., 1980.Книга, глаголемая Летописец Федора Кирилловича Нормантского // ВременникИмператорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн.5. М.,1850.Летописец, содержащий в себе Российскую историю. М., 1781.Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века.Курган, 2008.Миллер Г.Ф. История Сибири. В 3-х тт. Т.1. М., 2004.Нестеров А. Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири в XIV-XVIIвв.: археология и история. АКД. М., 1988.Нестеров А.Г. Формирование государственности у тюркских народов Урала и ЗападнойСибири в XIV-XVI вв. // Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культурыевразийских народов. М., 2003.Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Том1. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымской иНогайской ордами и с Турцией с 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольскогоига в России // Сборник Императорского Русского Исторического общества. Том 41.СПб., 1884.Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой 1489-1508 гг. М., 1984.Продолжение хронографа редакции 1512 года // Исторический архив. Том VII. М-Л.1951.ПСРЛ. Т.12. Летописный сборник, именуемый Патриаршей, или Никоновской летописью.СПб., 1901.ПСРЛ. Т.26. Вологодско-Пермская летопись. М.-Л., 1959.ПСРЛ. Т.36. Сибирские летописи. Ч.1. Группа Есиповской летописи. М., 1987.Разрядная книга 1475-1605 гг. Том I. Часть I. М., 1977.Русская летопись по Никонову списку. Часть VI. До конца 1534 года. СПб., 1790.Трепавлов В.В. Тайбуга. «На Мангытском юрте третий государь» // Татаriса. № 1.1997/1998. Казань, 1997.Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2002.Файзрахманов Г.Л. Взаимоотношения Сибирского и Казанского ханств // Казанскоеханство: актуальные проблемы исследования. Казань, 2002.Файзрахманов. Г.Л. Тайбугины и Шибаниды в Западной Сибири. Из взаимоотношенийКазанского, Тюменского ханств и Ногайской Орды в XV веке // Проблемы историиКазани: современный взгляд. Казань, 2004.Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири. Казань, 2007.Фукс К.В. Краткая история города Казани. Казань, 1817.Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. Казань, 1923.
ГОРОДА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В XIII В.
А.В. Пачкалов
Вплоть до настоящего времени вопросы периодизации материальнойкультуры Золотой Орды остаются малоисследованными. Если обратитьсяк монографии В.Л. Егорова «Историческая география Золотой Орды вXIII-XIV вв.», то мы увидим, что в ней приведены данные озолотоордынских городах практически без рассмотрения информации поих датировке. На мой взгляд, в настоящее время важносистематизировать информацию, относящуюся к датировке памятниковЗолотой Орды. В данной статье собрана информация о технижневолжских населенных пунктах, которые по имеющимся даннымсуществовали в XIII в. Актуальность этой темы очевидна. М.Г.Крамаровский в одной из недавних работ справедливо отметил, что«сейчас о материальных аспектах воинской культуры Джучидов (нетолько воинской культуры, но и всей культуры Золотой Орды – А.П.)приходится судить, главным образом, по находкам XIV в. В сущности,ранний этап в пределах первой половины - 60-х гг. XIII в. вархеологии Золотой Орды пока еще темен из-за отсутствия надежныхатрибуций» (Крамаровский, 2004, С. 58).
Главными основаниями для датировки того или иного населенногопункта XIII веком являются данные письменных источников(упоминания города применительно к событиям XIII в.), нумизматики(чеканка монеты), археологии (находки на археологическом памятникемонет XIII в.). По нумизматическим данным известно, что в денежномобращении XIV в. монеты практически не принимали участия. Т.е.находки монет XIII в. позволяют считать, что населенный пунктсуществовал в XIII в. Резкая смена монетного обращения в началеXIV в. прослеживается по кладовым комплексам. Среди кладов XIV в.известно только несколько, содержавших редкие монеты, чеканенныедо 1310 г. (Федоров-Давыдов, 1960, С. 95, 103). Средневековыеевропейские карты в данном вопросе малопригодны. Обозначенияордынских городов появляется только на картах XIV в., при этомможно только предполагать, что некоторые из этих городов моглисуществовать еще и в XIII в. Так, может быть, в XIII в. возникгород Котоба в дельте Волги, обозначенный на карте А. Дульцертауже в 1339 г.
В.В. Бартольд отмечает, что «на нижнем течении Волги новыегорода устраивались уже при Батые» (Бартольд, 2002, С. 136). В.А.Иванов и А.Ф. Яминов указывают даже, что в период правления Берке«территория государства буквально покрывается сетью больших ималых городов», а в городах появляются памятники мусульманскойкультовой архитектуры (Иванов, Яминов, 1999, С. 45, 60). Однако,
едва ли таких пунктов было много на территории всего Поволжья приБату и Берке. Прав был Е.П. Мыськов, который отметил, что приБерке «городская культура Золотой Орды находилась в стадиистановления, крупные торгово-ремесленные центры представляли собойлишь отдельные островки в бескрайнем море кочевого мира, а процентгородского населения был ничтожно мал» (Мыськов, 2003, С. 79).Исходя из имеющихся данных, вряд ли можно говорить о каком-тоособом подъеме градостроительства при Берке, прменительно ктерритории Нижнего Поволжья.
По письменным источникам известны только два нижневолжскихзолотоордынских города, существование которых в XIII в. сомненийне вызывает. Это Сарай и Укек.1
Сарай – персидское слово, еще до монгольских завоеванийперешедшее в тюркский язык. Основан Сарай был уже при Бату, однакособственно столицей государства Сарай стал не раньше времениправления Туда-Менгу или Токты (Григорьев, 1845, С. 201). Первоеупоминание о Сарае находим у Гильома Рубрука (Сарай – «новыйгород, построенный Бату на Этилии») (Рубрук Гильом, 1997, С. 179).Рубрук, посетивший Сарай в 1254 г., сообщает, что «Сарай и дворецБату находятся на восточном берегу» (Рубрук Гильом, 1997, С. 181).Сарай упоминается также у Марко Поло (Книга Марко Поло, 1997, С.193).
Турецкий ученый XVII в. Кятиб Челеби (Хаджи Хальфа) сообщает,что в 651 г.х. (1252-1253 гг.) по повелению Батыя был построенгород Бахчисарай. В.В. Григорьев, О. Домбровский и В. Сидоренкополагают, что здесь присутствовала ошибка со стороны автора книгиили переписчика, и вместо «Бахчисарая» правильным чтением является«Сарай» (т.к. крымский город Бахчисарай был основан значительнопозднее) (Григорьев, 1845, С. 196; Домбровский, Сидоренко, 1978,С. 35). Не доверяя полностью этому сообщению, В.В. Григорьевполагает, что основание столицы надо датировать между 1242 г. и1254 г. (Григорьев, 1845, С. 196). Р. Фахретдин совершеннонеобоснованно, на мой взгляд, относил время возникновения столицык очень раннему времени – 1235 г. (Фахретдин, 1995, С. 124).Мнение о том, что Сарай был основан около 1241 г. (Dawson, 1955,Р. 209) также не находит подтверждений в источниках. СообщениеМирхонда и Хондемира об основании Сарая в 654 г.х. (1255-1256 гг.)(Григорьев, 1845, С. 193) опровергается свидетельством Рубрука,видевшего город уже в 1254 г.
Во втором и третьем изданиях БСЭ основание Старого Сараяприписывают Бату. Во втором издании – это 1240-е гг. (БСЭ,XXXVIII, 1955, С. 95), а в третьем – 1254 г. (БСЭ, XXII, 1975, С.1 Гильом Рубрук упоминает также населенный пункт на берегу Волги, принадлежавшийсыну Бату Сартаку, не называя, однако, имени города.
588). Основание Нового Сарая в обоих изданиях приписывают Берке (втретьем издании указывается, что Сарай-Берке был основан около1260 г.) (БСЭ, XXII, 1975, С. 588).
Ряд восточных авторов (Абульфеда, Джувейни, Вассаф, Шереф ад-Дин Иезди, Мухаммед Реза, неизвестный автор истории крымскихханов) относят построение Сарая к периоду правления хана Батыя,без указания начальной даты (Григорьев, 1845, С. 479; Джувейни,2004, С. 183; Тизенгаузен, 1941, С. 21, 85, 145; Aboulfeda, 1840,Р. 303; Негри, 1844, С. 381).
В других источниках сообщается о построении города при ханеБерке (эль-Дженнаби, Эломари, Ибн Арабшах, ал-Калкашанди)(Григорьев, 1845, С. 191; Тизенгаузен, 1884, С. 241, 460;Григорьев, Фролова, 2000, С. 70). Упоминание имени Берке вкачестве основателя города, вероятно, является ошибкой. Еще В.В.Григорьевым было сделано предположение, что Берке «может бытьдействительно распространил, упрочил и украсил то, что при Батыетолько что образовалось в город, только что переходило впостоянное жилье из подвижного стана кочевого двора» (Григорьев,1845, С. 198). По В.В. Бартольду, Сарай «только при Берке …превратился в город в собственном смысле этого слова» (Бартольд,2002, С. 507). Как посчитал А.Н. Насонов появление данной версиисвязано с популярностью у мусульманских авторов имени Берке –первого правителя Золотой Орды, принявшего ислам (Насонов, 1940,С. 119-120).1 Существование в источниках имен Сарай-Бату и Сарай-Берке, подчеркивал А.Н. Насонов, «может и не указывать насуществование двух Сараев» (Насонов, 1940, С. 119). Это объяснениевстречается и в новейших работах (Рудаков, 2000, С. 306). Такогоже мнения придерживался и Г.А. Федоров-Давыдов (Федоров-Давыдов,1994, С. 21, 24). По его мнению, «два названия – Сарай-Бату иСарай-Берке, вряд ли однозначно соответствовали … Сараям»(Федоров-Давыдов, 1994, С. 24).2 В.Л. Егоров считал, что «обаназвания (Сарай-Бату и Сарай-Берке) относились к одному городу –первой столице Золотой Орды, а не к Сараю ал-Джедид» (Егоров,1985, С. 112). По его мнению, «употребление … в качестве приставокимени того или иного хана диктовалось исключительно конъюнктурнымиобщественно-политическими соображениями... Персоязычные летописцыпредпочитали называть его Сарай-Бату, поскольку при этом ханехулагуидский Иран и Золотая Орда находились в дружественныхотношениях, а Берке прервал их… Мусульманские правоведы и
1 В научной и научно-популярной литературе широко распространились, предложенныеА.Ю. Якубовским, условные названия – Сарай-Бату (Старый Сарай, Селитренноегородище) и Сарай-Берке (Новый Сарай, Царевское городище) (Якубовский, 1931, С.7-8).2 Встречается также упоминание Сарая Чингисхана (Челеби, 1979, С. 135).
проповедники связывали город с именем Берке, первого хана,принявшего ислам» (Егоров, 1985, С. 112-113).
В письменных источниках практически не содержитсядополнительной информации о городе Сарае в XIII в. Однако известноо сущестовании в Сарае в XIII в. христианского населения. Еще вXIII в. был учрежден Аквилонский викариат францисканского ордена сдвумя кустодиями (округами) - Газарией и Сараем. В конце XIII в.,по данным Дж. Федальто, был основан католический монастырь в Сарае(Fedalto, 1973, Р. 408), а в 1315 г. в Сарае было основанокатолическое епископство. В 1261 г. была основана Сарайскаяправославная епархия, подчиненная Киевскому митрополиту. В однихисследованиях отмечается, что эта епископская резиденцияразмещалась в Сарае (Кобищанов, 2002, С. 17; Соловьев, 1894, С.4), в других (Полубояринова, 1978, С. 27-28) только предполагаетсяее местоположение в столице Золотой Орды.
Город Укек также существовал уже в XIII в. Это подтверждаетсяупоминанием его уже в Книге Марко Поло (Книга Марко Поло, 1997).
В XIII в. чеканка монеты осуществлялась в Сарае и в Укеке.Если в 1983 г. открытие монетного двора в Сарае относили к 681г.х. (Мухамадиев, 1983, С. 13), то в 1990-е гг. – к 673 г.х.(Сингатуллина, 1992, С. 34). Позже в частной коллекции г. Саратовастал известен дирхем 671 г.х. (Лебедев, 2000, С. 277). В.П.Лебедевым был также опубликован дирхем с датой по хронограмме:“хну” = 656 г.х. Однако, предложенное чтение является толькопредположительным (Лебедев, 2000, С. 280). П.Н. Петров полагает,что чеканка в Сарае началась, возможно, в 660-е гг.х. (Петров,2003, С. 7). Серебряные монеты в Укеке чеканились от имени ханаТокты и без имени хана (известны монеты с датами 700, 706 или 707г.х.). Н.И. Веселовский упоминает (не приводя изображения) двадирхема Менгу-Тимура, выпущеные в Укеке без обозначения года(Wesselowski, Р. 10). О монетах Менгу-Тимура чекана Укека безссылки на источник упоминает и А.П. Григорьев (Григорьев, 2004, С.19). Л.Ф. Недашковский предполагает, что некоторые недатированныемонеты Укека чеканились в 1266-1298 гг. (Недашковский, 2000, С.146). Последние монеты Укека относятся ко времени правления Токты.А.З. Сингатуллина полагает, что «после закрытия укекского дворамастера и оборудование, вне всякого сомнения, были перевезены вСарай» (Сингатуллина, 1998, С. 64). Очевидно, что чеканка монеты собозначением «Укека» как место чекана непосредственно связана счеканкой монет в Сарае. Монеты в Укеке чеканятся в самом началеXIV в., в то время, когда в Сарае чеканка монеты, возможно, былаприостановлена (по крайней мере, нет монет, которые быдатировались этим временем). Мнение, что монетная чеканка в Укекебыла рассчитана для местных нужд, т.к. монеты Укека «не проникали
даже в пределы Сарая» (Сингатуллина, 1985, С. 24), нуждается внекоторой корректировке (в связи с находками монет на Красноярскомгородище и на могильнике Маячный бугор в дельте Волги).
Неясным явяется вопрос о времени возникновения города Хаджи-Тархан. Часто высказывается мнение об основании города в XIII в.(Россия. Полное географическое описание..., 1901, С. 538; Егоров,1985, С. 119; 2000, С. 271; Шнайдштейн, 1979, С. 15). Датируетсявозникновение Хаджи-Тархана иногда более точно второй половинойXIII в. (Сафаргалиев, 1996, С. 349)1 или концом XIII в. (Арсланов,Викторин, 1995, С. 336). В Советской Исторической энциклопедиивозникновение города также связывается с XIII в. (Попов, 1961, С.910). Однако еще В.В. Бартольд считал временем появления городаXIV в. (Бартольд, 1963, С. 711). По мнению турецкого автора XVIIв. Эвлия Челеби, город был основан «в давние времена прародителемнарода татар Чингисханом», а затем переходил от Кайтак хана кХулагу хану, а от него - к Токтамышу (Челеби, 1979, С. 131). Впозднем источнике - анонимном сочинении «Родословие тюрок»,составленом не раннее середины XV в., город упоминается в связи свойной золотоордынского хана Берке и Хулагу (Тизенгаузен, 1884, С.205).
Здесь, на мой взгляд, более вероятна экстраполяция позднейинформации на раннее время. Важно отметить, что авторы XIII в.никогда не отмечали существования Хаджи-Тархана. В сочиненииарабского географа Абульфиды «Упорядочение стран» (721 г.х. -1320-1321 гг.), несмотря на описание Нижнего Поволжья, Хаджи-Тархан также не упоминается (Aboulfeda, 1840, Р. 323-324).2
Древнейшее упоминание города современником относится к 734 г.х.(Ибн Баттута) (Тизенгаузен, 1884, С. 301). Хаджи-Тарханотождествляется с городищем Жареный бугор (Шареный бугор).Монетный материал с этого памятника свидетельствует о появлениигорода только в 1320-е гг. (зафиксированы находки пулов 721 г.х.;монеты XIII в. отсутствуют). Датировать появление Хаджи-ТарханаXIII в. возможно только на основании поздних и малодостоверныхисточников (Эвлия Челеби, «Родословие тюрок»). На наш вгляд,Хаджи-Тархан возник приблизительно в 1320-е гг.
Г.А. Федоров-Давыдов в 1987 г. отмечал, чтораннезолотоордынский культурный слой XIII в. отсутствует в «Сарае,Новом Сарае, Бельджамене и др.» нижневолжских городах (Федоров-Давыдов, 1987, С. 5). Действительно, слои этого времени напамятниках Нижнего Поволжья были выявлены в основном в последнее
1 В более ранней работе – 1250-е гг. (Сафаргалиев, 1952, С. 29).2 В «Распаде Золотой Орды» М.Г. Сафаргалиева ошибочно сообщается об упоминанииАбульфидой Астрахани в двух днях пути от Сарая (Сафаргалиев, 1996, С. 351).
время. Рассмотрим данные о находках монет XIII в. на поселениях игородищах Нижнего Поволжья.
На Селитренном городище, которое отождествляется с городомСараем XIII-XV вв., не выявлен раннезолотоордынский слой XIII в.(Федоров-Давыдов, 1987, С. 5; Иноземцева, 2004, С. 182). В однойиз публикаций Поволжской экспедиции утверждалось, что прираскопках 1969 г. на Больничном Бугре был открыт культурный слойXIII в. (Егоров, Мухамадиев, Федоров-Давыдов, 1970, С. 174),однако, основания для такого предположения остались неизвестны.Кроме того, один из авторов этой публикации позже писал оботсутствии слоя XIII в. на городище (Федоров-Давыдов, 1987, С. 5).Абсолютно мифологичны и сообщения об открытии на Селитренномгородище руин дворца Батыя (Dawson, 1955, Р. 209 и т.п.). А.З.Сингатуллина считает, что «отсутствие находок монет XIII в. наСелитренном городище и крайне малочисленный монетный материал вмузейных собраниях – доказательство почти полного отсутствияденежного обращения в этом районе» (Сингатуллина, 1992, С. 34).Однако это не совсем так. Как мы увидим далее, монеты этоговремени известны на других памятниках Нижнего Поволжья (нанескольких – в значительных количествах).
Отсутствие информации о слоях XIII в. на Селитренном городищепривело к мысли о том, что слои этого времени располагаются натерритории самого современного села Селитренное (Иноземцева, 2004,С. 184). Здесь долгое время не проводились археологическиеисследования. Однако, новейшие «раскопы, заложенные на территориисела» в 2003 г., показали, что «под селом культурный слой гораздоменее насыщен, нежели на территории городища, расположенногосевернее с. Селитренного. В ЮВ части села культурный слой местамиотсутствует, местами отмечены пятна культурного слоя…» (Гречкина,Зеленеев, Кутуков и др., 2004, С. 258). Таким образом, ни натерритории под селом Селитренное, ни на территории самогогородища, так и не было выявлено следов раннего Сарая.
Еще в 2001 г. мной была высказана гипотеза о локализации вXIII – начале XIV в. столицы Золотой Орды города Сарая на местеКрасноярского городища (на месте г. Красный Яр в Астраханскойобласти). Главными основаниями для такого предположения явиласьпоздняя датировка Селитренного городища, и монеты, найденные прираскопках Красноярского городища и могильника Маячный бугор,который является городским некрополем. Монеты XIII – начала XIV в.известны среди находок на городище (Пачкалов, 2009; Пачкалов,Скисов, 2009). Представительная серия монет XIII – начала XIV в.была найдена при исследовании погребений могильника Маячный бугор(29 погребений с монетами, последние из которых относятся ко
времени хана Узбека) (Пигарев, 2000, С. 287-290; Пачкалов, 2002,С. 180, № 8-17).
Безусловно в XIII в. существовал населенный пункт на местеСамосдельского городища в дельте Волги. На городище в различноевремя были найдены джучидские монеты XIII – начала XIV в.(Гончаров, 2001, С. 2; 2003, С. 240-241). Самые поздние ордынскиемонеты в островной части городища относятся к 1330 гг. (Васильев,Гречкина, Зиливинская, 2002, С. 399; 2003, С. 134).
Вызывает интерес отсутствие в слое Красноярского городища и всоседним с ним грунтовом могильнике находок обильных эмиссий 1340-х гг. Эта черта сближает монетное обращение Красноярского иСамосдельского городищ. На мой взгляд, это объясняется оставлениемданных поселений в связи с повышением уровня Каспийского моря(Пачкалов, 2007).
На юго-восточной окраине г. Астрахани расположено городищеМошаик. К сожалению, на памятнике не была собрана коллекциязолотоордынских монет, что затрудняет датировку городища взолотоордынское время. Е.В. Шнайдштейн датировала нижний слойгородища до середины XIV в., полагая, что населенный пункт былзатоплен в середине XIV в. (Шнайдштейн, 1979, С. 201-204; 1989, С.3-4). Исходя из этого, можно предполагать, что судьба памятникабыла сходна с судьбой населенных пунктов на месте Красноярского иСамосдельского городищ. На мой взляд, вероятно, что городищеМошаик было населено в XIII в. (на памятнике имеются не толькослои XIII-XIV вв., но и слои домонгольского времени). Однакоуверенно подтвердить это могут только находки джучидских монет,выпущенных до 1310 г.
Отсутствие представительного комплекса монетных находок нагородище у пос. Комсомольский (Аксарайский) в Астраханской областитакже не позволяет делать уверенных выводов о датировке данногопамятника. Указывается о находках здесь серебряных и медных монет1340-1390-х гг. (Блохин, Яворская, 2006, С. 133). Однако, И.В.Волков считает, что на памятнике все же «присутствует слой XIIIв., по крайней мере до 80-х гг., а затем жизнь исчезает вплоть доконца XIV в.» (Волков, 2003, С. 127). Здесь был исследован большоймавзолей, в котором была найдена золотая египетская монета султанаБейбарса, чеканенная в XIII в. (Федоров-Давыдов, 1994, С. 35).Однако эта находка еще не является достаточным основанием длядатировки населенного пункта XIII в. По предположению П.С. Рыкова,на городище, возможно, располагалась первая столица Золотой Орды –город Сарай (Рыков, 1929, С. 6-7). Однако, надежных аргументов длятакой локализации в настоящее время нет.
Водянское и Царевское городища, наиболее значительные городищазолотоордынского времени на территории Волгоградской области, врядли были населены в XIII в.
По предположению исследователей, основанному на новейшихисследованиях Водянского городища, русский поселок здесь былоснован на рубеже XIII-XIV вв., не раньше (Блохин, Яворская, 2006,С. 39). На мой взгляд, населенный пункт возникает здесь несколькопозже – в 1310-е или 1320-е гг. До 1924 г. саратовским нумизматомБ.В. Зайковским было просмотрено более двадцати тысяч джучидскихмонет, найденных на городище. Древнейшая из них относилась к 1310г. (Зайковский, 1924, С. 51). Данные нумизматики таким образом недают оснований для датировки городища ранее времени правления ханаУзбека.
А.Г. Мухамадиев не исключает, что на месте Царевского городищав XIII в. было небольшое поселение. Однако это предположениеосновывается только на находках двух монет: сеньора Бейрута Жана I(конец XII в.) и медной монеты с именем халифа Насир лид-Дина(Мухамадиев, 1983, С. 15-16). Тысячи монет, найденные на Царевскомгородище, относятся только к XIV в. (Мухамадиев, Федоров-Давыдов,1970; Федоров-Давыдов, Вайнер, Мухамадиев, 1970; Янина, 1970, С.194-223; Федоров-Давыдов, Вайнер, Гусева, 1974 и др.).
На месте Мечетного городища (в настоящее время территорияТракторозаводского р-на г. Волгограда) в начале XX в. были частынаходки джучидских монет. В 1908 г. Б.В. Зайковский приобрел уместного населения 13 золотоордынских монет конца XIII в. (ИИАК,1910, прибавление к вып. 37, С. 78). Б.В. Зайковский отмечаетзначительное количество «ранних монет» на Мечетном городищ – 6-8%(Зайковский, 1924, С. 51, 54). По данным Ф.В. Баллода, монеты сМечетного городища распределяются следующим образом: Менгу-Тимур –4%, Токта – 7%, Узбек - 32%, Джанибек - 48%, ханы периодамеждоусобиц (1360-1370-е гг.) – 9% (Баллод, 1923, С. 95, 97).Указанные данные дают основания считать, что населенный пунктсуществовал уже в XIII в. На поселении в устье р. Царицы (центрсовременного г. Волгограда) в 1893 г. был также найден дирхемТуда-Менгу 1281 г. (Баллод, 1923, С. 12; Зайковский, 1908, С. 144;Пачкалов, 2008), что дает основание связывать поселение с XIII в.
Известны также находки монет XIII в. на местеВерхнеахтубинского городища (территория современного г. Волжский вВолгоградской области). В 1844 г. при исследованиях А.В. Терещенкоздесь были найдены монеты от конца XIII – начала XIV в. до 1360-хгг. (Терещенко, 1909). Несколько больше информации о монетномобращении Верхнеахтубинского городища содержится в книге Ф.В.Баллода «Приволжские Помпеи». По его данным, на месте городищавстречались монеты 1280-1365 гг. (из них 75% относились ко времени
Узбека и Джанибека). Ф.В. Баллод упоминает и о редких для НижнегоПоволжья находках здесь монет хана Туда-Менгу (Баллод, 1923, С.97-98). Очевидно, оживленная переправа через Волгу, междугородами, бывшими на месте Мечетного и Верхнеахтубинского городищ,существовала уже в конце XIII в. (находки монет этого времениотмечаются как в северной части г. Волгограда, так и в Волжском).Возможно, что оба этих памятника возникли одновременно.
Находки монет XIII в. зафиксированы на Терновском поселении вВолгоградской области, однако расцвет жизни на поселении пришелсяна XIV в. (Клоков, Лебедев, 2004, С. 109-113).
Отдельная находка анонимного дирхема конца XIII - начала XIVв., чеканенного в Укеке, была сделана в 1982 г. около Красного Яра(Волгоградской области) (Пырсов, 1988, С. 188; 2002, С. 155).Возможно, что находка также связана с поселением.
Ряд памятников с монетами XIII в. был выявлен на территорииСаратовской области.
Увекское городище (территория г. Саратова) отождествляется сгородом Укеком, известном по письменным источникам уже с XIII в.Есть мнение, что слоев середины XIII в. на Увекском городище невыявлено (Волков, 2003, С. 127), однако на памятнике фиксируютсянаходки монет, среди которых есть и относящиеся к середине XIII в.(с именем каана Менгу). На Увекском городище часто встречалисьджучидские монеты. Л.Ф. Недашковским была собрана информации онаходках монет на этом памятнике (1352 экз. монет золотоордынскойчеканки). Среди серебряных монет к периоду 1266-1291 гг. относятся11,2%; ко времени правления хана Токты – 17,6% (Недашковский,1998, С. 8-9). Надо отметить, что не для всех монет, привлеченныхк этому комплексу Л.Ф. Недашковским, имеется информация о местенаходок непосредственно на месте Увекского городища (многие измонет происходят из коллекций в г. Саратове, и были опубликованыбез указаний на находку их именно на Увекском городище). Поэтомусамо монетное обращение Увекского городища остается малоизученным,и уровень развития монетного обращения на городище в XIII в. внастоящее время не совсем ясен.
Находки монет конца XIII – начала XIV в. были сделаны в г.Саратове и за пределами территории Увекского городища (дачаКорольковой; р. Саратовка) (Недашковский, 2000, С. 116; Баринов,1999а, С. 208).
В 1980-1990-е гг. на золотоордынском кочевье «Лисья Балка» ус. Советское в Саратовской области был собран значительныйнумизматический материал (более 600 монет Золотой Орды).Представлены джучидские монеты от середины XIII в. до 764 г.х.Большинство серебряных монет конца XIII – начала XIV в. чеканено вСарае и в Укеке. Наиболее ранняя датированная монета – дирхем 671
г.х. Присутствуют мелкие номиналы серебряных монет (1/2 и 1/4дирхема), чеканенные при Токте и Ариг-Буге. Индивидуально былиописаны лишь отдельные монеты, а весь комплекс монетных находоктак и не был опубликован подробно. Интересно, что был обнаруженмедный посеребрянный дирхем, чеканенный в Укеке (подделка?), атакже медные и серебряные монетные заготовки (Баринов, 1997, С.183-185; Баринов, 1999б, С. 149-150; Недашковский, 2000, С. 127;Евстратов, 2004, С. 80). Последнее обстоятельство дало И.В.Евстратову основания полагать, что «сам Укек находился на местепоселения у с. Советское». Более вероятным, на мой взгляд, можносчитать локализацию здесь ханского кочевья в конце XIII – началеXIV в. (где могла производиться и чеканка монеты от имени городаУкека).
Большая серия монет Сарая и Укека, чеканенных в XIII в., быланайдена в последнее время при сборах на поселениях у с. Кондаковои с. Хмелевка (Баринов, 1999а, С. 207; Недашковский, 2000, С. 120-121; 2002, С. 174-175; Гумаюнов, 2002, С. 58-70; 2004, С. 150-151).
Отдельные монеты конца XIII – начала XIV в. были найдены вСаратовской области на селищах Колотов Буерак, Подгорное,Яблоновка (Недашковский, 2003, С. 124, 292; Баринов, 1999а, С.208-209). Возможно, с селищами связаны находки монет XIII и началаXIV в. в районе сел Воскресенка, Калмантай, Петропавловка, г.Хвалынска (Недашковский, 1999, С. 81; 2000, С. 162; Баринов,1999а, С. 206-207; Кротков, 1923, С. 29; Пырсов, 2002, С. 155).
Населенные пункты, существовавние в Нижнем Поволжье в XIII в.,были значительно меньше, чем города Среднего Поволжья. ВеликийБулгар является крупнейшим городом XIII в. в Поволжье с развитыммонетным обращением. По степени развития товарно-денежныхотношений в тот период Среднее Поволжье опережало другие регионыЗолотой Орды. Обилие монет – характерная черта экономической жизниБулгара в XIII в. Ни один из золотоордынских центров этого временине дает такого обилия нумизматических материалов. Во второйполовине XIII в. монетное обращение на Нижней Волге толькозарождалось, находки монет XIII в. в Нижнем Поволжье не стольмногочисленны. В силу этого обстоятельства Булгар был справедливоназван Г.А. Федоровым-Давыдовым важнейшим золотоордынским городомXIII в. (Федоров-Давыдов, 1987, С. 5). Кроме того, на 28археологических памятниках на территории Татарстана зафиксированыотдельные находки монет этого времени (главным образом – этомонеты с именами халифа ан-Насир лид-Дина и каана Менгу)(Пачкалов, 2006).
Долгое время в Нижнем Поволжье за исключением Увекскогогородища были неизвестны крупные памятники XIII в. Удачей
последних лет можно считать открытие Лисьей Балки и новаяинформация о монетном обращении Красноярского городища. Большоеколичество джучидских монет XIII и начала XIV в., обнаруженных приисследовании погребений могильника Маячный бугор, полноеотсутствие в могильнике монет времени правления Джанибека (в этоже время появляется чеканка монет в Новом Сарае и возникаетмонетное обращение на Селитренном городище), отсутствие монетболее позднего периода, а также присутствие в могильнике «Маячныйбугор» «богатых» захоронений, позволяет поставить вопрос овозможности локализации на соседнем с могильником Красноярскомгородище первой столицы Золотой Орды – города Сарая. Главнойпроблемой является то, что памятники со слоями XIII в., ксожалению, в настоящее время большей частью уже утрачены, чтоделает изучение раннегородской культуры центральной части УлусаДжучи затруднительным.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Арсланов Л.Ш., Викторин В.М. Астраханские татары (История и этнический составнаселения Астраханской области) // Материалы по истории татарского народа.Казань, 1995.Баллод Ф.В. Приволжские Помпеи. М.-Пг., 1923.Баринов Д.Г. Золотоордынское кочевье Лисья Балка // Эпоха бронзы и раннийжелезный век в истории древних племен южнорусских степей. Материалымеждународной научной конференции, посвященной столетию со дна рождения П.Д.Рау.Т. I. Саратов, 1997.Баринов Д.Г. Золотоордынские памятники Саратовского Поволжья по нумизматическимданным // Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и исследования в1997 г. Вып. 3. Саратов, 1999а.Баринов Д.Г. Кочевье «Лисья Балка» – новый памятник XIII в. СаратовскогоПоволжья // XIV Уральское археологическое совещание. Тезисы докладов. Челябинск,1999б.Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира //Бартольд В.В. Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1963.Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии //Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.,2002.Блохин В.Г., Яворская Л.В. Археология золотоордынских городов Нижнего Поволжья.Волгоград, 2006.Васильев Д.В. Новые исследования на городище Мошаик // Археология НижнегоПоволжья на рубеже тысячелетий. Материалы Всероссийской научно-практическойконференции. Астрахань, 2001.Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Исследования на Самосдельскомгородище и в его окрестностях // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 5.Волгоград, 2002.Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Исследования на Самосдельскомгородище (к вопросу об огузских древностях в дельте Волги) // Археология Урала иПоволжья: итоги и перспективы участия молодых исследователей в решениифундаментальных проблем ранней истории народов региона. УПАСК – XXXV. Йошкар-Ола, 2003.
Волков И.В. Поселения Приазовья в XII-XIII веках // Русь в XIII в. Древноститемного времени. М., 2003.Гончаров Е.Ю. Анализ монетного материала с двух золотоордынских городищ //Археология Нижнего Поволжья на рубеже тысячелетий. Материалы Всероссийскойнаучно-практической конференции (приложение). Астрахань, 2001.Гончаров Е.Ю. Анализ монетного материала с двух золотоордынских городищ //Древности. Вып. 36. Археологические исследования и музейно-краеведческая работав Волго-Уральском регионе. М. – Казань, 2003.Гречкина Т.Ю., Васильев Д.В. Предварительная хронология существованияСамосдельского городища // XV Уральское археологическое совещание. Тезисыдокладов международной научной конференции 17-21 апреля 2001 г. Оренбург, 2001.Гречкина Т.Ю., Зеленеев Ю.А., Кутуков Д.В. и др. Исследования Поволжскойэкспедиции в Астраханской области // Археологические открытия 2003 г. М., 2004.Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. Источниковедческийанализ золотоордынских документов. СПб., 2004.Григорьев В.В. О местоположении столицы Золотой Орды Сарая. СПб., 1845.Григорьев А.П., Фролова О.Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедииал-Калкашанди // Востоковедение. Вып. 18. СПб., 2000.Гумаюнов С.В. Нумизматический материал XIII-XIV вв. Саратовская область. ЧастьI. Монетные сборы с Хмелевского I селища // Древности Поволжья и другихрегионов. Вып. IV. Нумизматический сборник. Т. 3. Нижний Новгород, 2002.Гумаюнов С.В. Нумизматический материал XIII-XIV вв. Саратовская область. Часть2. Монетные сборы с Кондаковского селища // Древности Поволжья и другихрегионов. Вып. V. Нумизматический сборник. Т. 4. Нижний Новгород, 2004.Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира, записанная Ала-ад-Дином Ата-Меликом Джувейни. Перевод с текста Мизры Мухаммеда Казвини Дж.Э. Бойла. М.,2004.Домбровский О., Сидоренко В. Солхат и Сурб-Хач. Симферополь, 1978.Егоров В.Л. Историческая география Зоотой Орды в XIII-XIV вв. М., 1985.Егоров В.Л., Мухамадиев А.Г., Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки золотоорынскихгородов на Нижней Волге // Археологические открытия 1969 г. М., 1970.Зайковский Б.В. Новый вариант Царицинской легенды // Труды Саратовской ученойархивной комиссии. Вып. 24. Саратов, 1908.Зайковский Б.В. Опыт применения монетного материала к изучению краевойисторической географии // Казанский музейный вестник. № 1. Казань, 1924.Иванов В.А., Яминов А.Ф. История Золотой Орды. Стерлитамак, 1999.ИИАК. Прибавление к вып. 37. СПб., 1910.Иноземцева А.Н. К вопросу о планиграфии Селитренного городища и Селитренногогородка // Материалы XXXVI Урало-Поволжской археологической студенческойконференции. Пенза, 2004.Книга Марко Поло // Джованни дель Плано Карпини. История монгалов; Гильом деРубрук. Путешествие в восточные страны; Книга Марко Поло. М., 1997.Кобищанов Ю.М. Империя Джучидов // Очерки истории распространения исламскойцивилизации. т. 2. Эпоха Великих мусульманских империй и Каирского Аббасидскогохалифата (середина XIII - середина XVI в.). М., 2002.Крамаровский М.Г. Ранние Джучиды: хронология и проблема культурогенеза //Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. СПб., 2004.Клоков В.Б., Лебедев В.П. Монетные комплексы трех небольших золотоордынскихпоселений Нижнего Поволжья // Древности Поволжья и других регионов. Вып. V.Нумизматический сборник. Т. 4. Нижний Новгород, 2004.Кротков А.А. В поисках Мохши // Труды Общества истории, археологии и этнографииСаратовского края. Вып. 1. № 34. Саратов, 1923.
Лебедев В.П. Новые данные о раннеджучидском чекане Хорезма и Сарая // СтепиЕвразии в эпоху средневековья. Т. 1. Донецк, 2000.Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII-XV вв. М., 1983.Мухамадиев А.Г., Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки богатой усадьбы в Новом Сарае //Советская археология. № 3. М., 1970.Мыськов Е.П. Политическая история Золотой Орды (1236-1313 гг.). Волгоград, 2003.Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси). М.-Л., 1940.Негри А. Известия из турецкой рукописи Общества, содержащей историю крымскихханов // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. I. Одесса, 1844.Недашковский Л.Ф. Золотоордынский город Укек и его округа: Автореф. дис…. канд.истор. наук. М., 1998.Недашковский Л.Ф. Золотоордынский город Укек и его округа. М., 2000.Пачкалов А.В. Новые клады монет Золотой Орды // Древности Поволжья и другихрегионов. Вып. IV. Нумизматический сборник. Т. 3. Нижний Новгород, 2002.Пачкалов А.В. Мечетное городище: историографический обзор // Восток-Запад:Диалог культур Евразии. Проблемы средневековой истории и археологии. Вып. 4.Казань, 2004.Пачкалов А.В. Монетное обращение на территории Волжско-Камской Болгарии в XIII-XV вв. (в пределах современной Республики Татарстан). Автореф. дис. … канд.истор. наук. М., 2006.Пачкалов А.В. Трансгрессия Каспийского моря и история золотоордынских городов вСеверном Прикаспии // Восток – Запад: Диалог культур и цивилизаций Евразии. Вып.8. Казань, 2007.Пачкалов А.В. Предшественники Царицына // Золотоордынская цивилизация. Вып. 1.Казань, 2008.Пачкалов А.В. О местоположении Старого Сарая – столицы Золотой Орды //Пятнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов исообщений. М., 2009.Пачкалов А.В., Скисов С.Ю. Нумизматические находки на Красноярском городище вАстраханской области // XV Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисыдокладов и сообщений. М., 2009.Пигарев Е.М. Монеты в погребениях Золотой Орды // Степи Евразии в эпохусредневековья. Т. 1. Донецк, 2000.Петров П.Н. Очерки по нумизматике монгольских государств XIII-XIV вв. НижнийНовгород, 2003.Пигарев Е.М. Монеты в погребениях Золотой Орды // Степи Евразии в эпохусредневековья. Т. 1. Донецк, 2000.Полубояринова М.Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978.Попов М.Я. Астрахань // Советская историческая энциклопедия. Т. I. М., 1961.Пырсов Ю.Е. Приглашение к поиску // Годы и люди. Вып. 3. Саратов, 1988.Пырсов Ю.Е. Нумизматика в краеведении // Нумизматический сборник Московскогонумизматического общества. Вып. 9. М., 2002.Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. VI. (Среднее иНижнее Поволжье и Заволжье). СПб., 1901.Рубрук Гильом. Путешествие в восточные страны // Джованни дель Плано Карпини.История монгалов; Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны; Книга МаркоПоло. М., 1997.Рудаков В.Г. К вопросу о двух столицах в Золотой Орде и местоположении городаГюлистана // Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологииВолго-Камья. Труды ГИМ. Вып. 122. М., 2000.Рыков П.С. Археологические разведки и раскопки в Нижне-Волжском крае,произведенные в 1928 г. Саратов, 1929.
Сафаргалиев М.Г. Заметки об Астраханском ханстве // Мордовский государственныйпедагогический институт. Сборник статей преподавателей пединститута. Саранск,1952.Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций… Изопыта образования и распада империй X-XVI вв. М., 1996.Сингатуллина А.З. Монеты Сарая XIII в. // Краткие тезисы докладовнумизматической конференции. СПб., 1992.Сингатуллина А.З. Джучидские монеты поволжских городов XIII в. (материалы изкаталога) // Татарская археология. № 1(2). Казань, 1998.Соловьев Н.А. Сарайская и Крутицкая епархии. Вып. 1. М., 1894.Терещенко А.В. Исследования местности Сарая // Материалы для истории Саратовскойепархии. Вып. 3. Саратов, 1909.Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I.СПб., 1884.Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II.М.-Л., 1941.Фахретдин Р.Г. Ханы Золотой орды. Казань, 1995.Федоров-Давыдов Г.А., Клады джучидских монет // Нумизматика и эпиграфика. Т. I.М., 1960.Федоров-Давыдов Г.А. Введение // Болгар. Очерки истории и культуры. М., 1987.Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994.Федоров-Давыдов Г.А., Вайнер И.С., Гусева Т.В. Исследования трех усадеб ввосточном пригороде Нового Сарая (Царевского городища) // Города Поволжья всредние века. М., 1974.Федоров-Давыдов Г.А., Вайнер И.С., Мухамадиев Г.А. Археологические исследованияЦаревского городища (Новый Сарай) в 1959-1966 гг. // Поволжье в средние века.М., 1970.Челеби Эвлия. Книга путешествий (перев. А.П. Григорьева). Т. 2. М., 1979.Шнайдштейн Е.В. Исследования в Астраханской области // Археологические открытия1978 г. М., 1979.Шнайдштейн Е.В. Археологические исследования Астраханского пединститута //Материалы второй краеведческой конференции. Астрахань, 1989.Якубовский А.Ю. К вопросу о происхождении ремесленной промышленности Сарая-Берке// Известия государственной академии института материальной культуры. Т. VIII.Вып. 2-3. Л., 1931.Янина С.А. Монеты Золотой Орды из раскопок и сборов на Царевском городище в1959-1962 гг. // Поволжье в средние века. М., 1970.Aboulfeda. Geographie. Text arabe publie... par M. Reinaud et Mac Guckin deSlane. P., 1840.Dawson Ch. The Mongol mission. L.-N.Y., 1955.Fedalto G. La chiesa Latina in Oriente. Vol. I. Verona, 1973.Wesselowski. La collection de monnaies orientales de feu W.W. Grigoriew. S-Pt.
К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ БУДДИЗМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
П.В. Попов
В последние годы своей жизни известный челябинский историк иархеолог В.П. Костюков занимался разработкой проблемыраспространения буддизма на территории Улуса Джучи. Результаты егоисследований по данной теме были оформлены им в большуюпрограммную статью «Буддизм в культуре Золотой Орды» (КостюковВ.П., 2006, с. 177-207). В своей работе автор очень удачносоединил сообщения письменных и данные археологических источников.
Обзор нарративов, проведённый В.П. Костюковым, свидетельствуето принадлежности значительной части монгольской и золотоордынскойаристократии к последователям буддийской религии. Далее автор,анализируя особенности погребального обряда буддийских общностейСибири и Дальнего Востока, отмечает ряд аналогичных характеристик,встречающихся в захоронениях, расположенных на территории ЗолотойОрды, что, по его мнению, свидетельствует о принадлежностипогребённых к буддийской общине. В качестве идентифицирующих чертон выделяет следующее: южную ориентировку погребённых, наличиемонет или драгоценностей в районе головы, во рту, в рукахпокойного, неестественное положение рук, когда одна их них как быприкрывает рот умершего, обёртывание или покрытие тела и вособенности головы тканью, а также мумифицирование умерших. Своивыводы автор проиллюстрировал несколькими захоронениями ордынскоговремени.
Статья В.П. Костюкова ставит задачу выявления в массивепогребений золотоордынского времени захоронений, обладающихпризнаками буддийского обряда, а также установления частоты ихвстречаемости в общей выборке памятников. Данная информацияпозволит достоверно установить масштаб распространения буддизма вУлусе Джучи.
В результате анализа данных полученных в ходе исследованийряда могильников расположенных на территории Золотой Орды выявленасерия захоронений, содержащая черты буддийского погребальногообряда. Ниже приводятся описания данных погребений.
Маляевка – V, к. 8. (Сергацков И.В., Дворниченко В.В., ДёмкинВ.А., 2001, с. 13-63). Курган располагался в восточной частигруппы. При его исследовании было обнаружено одно погребение,располагавшееся в центральной части кургана. Могильная яма имела вплане прямоугольную форму и была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. На дне могилы располагалось деревянноегробовище прямоугольной формы. В нём обнаружен скелет девочки ввозрасте около 2 лет. Покойная лежала вытянуто на спине, головой
на юго-запад. Верхняя часть скелета (голова и грудная клетка) былипокрыты парчой, расшитой растительным орнаментом, выполненнымзолотыми нитями. За черепом погребённой обнаружены две серебряныес позолотой бляхи с ажурными резными накладками из слоновой кости.Основу изделий составляли тонкие выпуклые пластины по форме,близкой к сердцевидной. По краям бляхи обрамлены напаяннойрубчатой псевдовитой проволочкой. С внешней стороны бляхипозолочены. К основе прикреплены ажурные резные накладки изслоновой кости, повторяющие по форме основу. На ней вырезаноизображение свернувшегося и кусающего себя за хвост дракона.Туловище и лапы покрыты рядами резных углублений. От головыдракона отходят рога с завитком на конце. На нижней челюстиимеется небольшая бородка, а на затылке – подтреугольныезаострённые крылья, на которых прочерчены продольные бороздки. Носдракона загнут вверх завитком. По краям накладок просверлены 4отверстия, в которые вставлялись заклёпки, пробитые через основу.С их помощью накладке крепились к серебряной пластине. В центреблях помещена круглая вставка из стекла янтарного цвета. Гнездо спомощью заклёпки крепилось к основе, вставка обрамлена на гнездосеребряной с позолотой рубчатой проволкой. У голени левой ногинайдена накладка от аналогичной бляхи без металлической основы.
У торцевой стенки гробовища обнаружены спёкшиеся в один кусокнесколько железных предметов: обломок трубки с остатками деревавнутри, пластинчатая лунница, с приклёпанными по краям двумяподвижными колечками, обломок скобы, согнутой под прямым углом,обломок гвоздя.
У колена левой ноги лежали остатки кожаной сумочки. Среди нихнайдено два кусочка бронзовой проволоки, которой были сшиты еёчасти.
Данное захоронение можно отнести к числу совершённых поканонам буддийского погребального обряда. На это указывает юго-западная ориентировка, которую можно рассматривать как отклонениеот южной, покрытие головы и верхней части тела тканью, воизбежание проникновения в тело злых духов, а также находку врайоне головы предметов изготовленных из драгоценных металлов.Семантика изображения дракона указывает на происхождение данныхпредметов из дальневосточного региона, что также дополнительносвидетельствует о правильности предложенной интерпретациипогребения.
Барановка. к. 25, п. 1. (Дворниченко В.В., Фёдоров-ДавыдовГ.А., 1989, с. 52-54).
Погребение 1 впускное, располагалось в западной части кургана.Могильная яма, ориентированная по линии север-северо-восток – юг-юго-запад, имела прямоугольную форму с закруглёнными углами. Вдоль
западной стенки ямы располагался подбой. При выборке заполнениямогильной ямы было обнаружено деревянное перекрытие из плашек, атакже многочисленные фрагменты железных предметов. В юго-западнойчасти могилы над перекрытием обнаружена продольная плашка снакладками из прутиков, окрашенная в красный цвет. В засыпе надчерепом обнаружена шаровидная бусина из непрозрачного чёрногостекла, выполненной в технике навивки диаметром 5 мм. Погребённыйвытянут на спине, головой на северо-запад. Череп повёрнут лицом назапад, ноги вытянуты, руки согнуты в локтях, левая рука касаетсятазовых костей. Правая рука и нога находится в подбое. На черепе игрудной клетке зафиксированы остатки ткани малинового цвета сзолотым шитьём, на тазовых костях и ногах – серо-зелёного цвета сзолотыми нитями. Около кисти правой руки обнаружен обломокдеревянного двустороннего гребня, обломки бронзового зеркала сваликом по краю, обломок железного ножа с деревянной ручкой,железное кольцо.
Зафиксированное обматывание головы тканью и покрытие ею всеготела даёт основание считать погребение буддийским.
Новоникольский II, дюна 1, п. 5. (Шилов В.П., 1975, с. 32-33).Могильник располагается на песчаной солончаковой дюне.
Погребение 5 было расположено в юго-восточной части дюны, наглубине 0,45 м. Скелет взрослого мужчины лежал вытянуто на спине,головой на запад – юго-запад. Правая рука согнута, кисть в районеживота, левая резко согнута в локте, кисть располагается уподбородка. Сопроводительный погребальный инвентарь отсутствует.
В погребении зафиксировано необычное для средневековыхкочевников положение рук, когда кисть руки закрывает рот. Эта позахарактерна для буддийского обряда и связана с необходимостью, помнению приверженцев этой религии, закрыть имеющиеся отверстия теладля недопущения проникновения злых духов. (Костюков В.П., 2006, с.177-207, Потапов Л.П., 1969, с. 391.).
Молчановка. 3-ая юго-восточная впадина, к. 3. (Синицын И.В.,1960, с. 129-130).
В центральной части кургана располагалось погребение,выполненное в прямоугольной могильной яме, ориентированной полинии северо-восток – юго-запад. В могиле располагалсяпрямоугольный деревянный гроб сделанный из тонких долевых и болеетолстых концевых поперечных досок, сбитых железным гвоздями. Вгробу вытянуто на спине лежал скелет женщины, ориентированныйголовой на северо-восток. На черепе покойной находились остаткибокки, состоящей из круглой берестяной трубки. Вокруг черепапроходила берестяная лента, покрывавшая череп выше глазниц. Наголовном уборе располагалось три слоя различной шёлковой ткани.Верхний кусок был коричневого цвета с орнаментом более светлого
тона. На костях скелета и на дне могилы сохранились остаткибольших кусков шёлковой ткани, которой был обёрнуто тело умершей.
С левой стороны от височной кости черепа обнаружена золотаясерьга в форме знака вопроса. На груди под челюстью, обнаруженодве золотые бляшки в форме пятиконечных звезд. В центре каждой изеё лучей помещены круглые оправы. Основой каждой бляхи служилатонкая золотая пластинка, на которую были напаяны тонкие золотыенити (скань), образующие ажурные узоры, обрамлённые сверху зернью.В круглых оправах пластинок сохранилась мелообразная масса в видебелых камней. Возможно это остатки жемчужин. На оборотной сторонепластинки основы, имеются симметрично расположенные маленькиедырочки, с помощью которых бляшки прикреплялись к ткани. Вместе сбляшками найдены две бронзовые подвески, в виде фигурок человека,две подвески из раковины. У правого плеча покойной располагалосьразбитое зеркало. Оборотная сторона зеркала имеет по краюнебольшой ободок. Два концентрических круга, вся поверхностькоторого орнаментирована четырьмя симметрично расположеннымидугообразными, выпуклыми линиями, а в центре небольшой выступ-бугорок. Около кисти левой руки лежали железные составные ножницы,у ступни левой ноги располагалась железная чашечка.
На факт совершения данного погребения по буддийским канонамуказывает покрытие покойной тканью.
Новая Молчановка, к. 6 (Синицын И.В., 1960, с. 135-136).В центральной части кургана располагалась прямоугольная
могильная яма. Ориентированная по линии запад – восток. В могилебыл обнаружен деревянный гроб сделанный из тонких, окрашенных вкрасный цвет досок. В гробу, вытянуто на спине, головой на западлежал скелет женщины. У локтя правой руки находились железныешарнирные ножницы. Рядом с ними, возле кисти руки располагаласьбронзовая круглая пластинка. Диаметром 2.5 см с круглым отверстиемпосредине. Одна сторона её была плоской по другой по краю проходилпрямой ободок и с одного края имеется небольшой выступ с тремядырочками. На плоскости пластины друг напротив друга прикрепленыскрепы, согнутые в кольцо. Во рту погребённой находиласьсеребряная монета, чеканенная при Узбеке, 1322 – 1323 гг. Накостях скелета сохранились большие куски шёлковой ткани, на ногахостатки кожаных сапог.
На буддийскую принадлежность погребения указывает покрытиепокойной шёлковой тканью, а также находка во рту серебряноймонеты. В соответствие с результатами исследований В.П. Костюкова,положение в рот умершего монеты или какой-либо драгоценностиявляется характерной чертой погребального обряда буддистов(Костюков В.П., 2006, с. 177-207).
Элистинский курганный могильник, к. 24. (Синицын И.В., ЭрдниевУ.Э., 1971, с. 89-90).
В центральной части кургана располагалась прямоугольнаямогильная яма, ориентированная по линии север – юг. Могила имелаперекрытие из деревянных досок. Опиравшихся на ступеньки,выполненные вдоль длинных стенок могильной ямы. На дне ямы,располагался скелет пожилой женщины. Покойная лежала головой насевер, вытянуто на спине, руки лежат вдоль туловища. Кости скелетабыли покрыты большими кусками шёлковой кани, зеленовато-бурогоцвета. В северо-западном углу могилы, около черепа лежали железныешарнирные ножницы, с кольцами на шпеньке. В районе височных костейчерепа обнаружены серебряные серьги в форме знака вопроса. Нагруди и вокруг шейных позвонков находились бусы: округлые изстекла тёмно-зелёного цвета (4 штуки), бочонковидной формы изстекла тёмно-прозрачного и зеленоватого цвета (5 штук), большаяплоская бусина из тёмного стекла с желтовато-зелёного полосками.Среди бус найдены подвески из раковин-каури. Ниже кисти правойруки располагалось бронзовое зеркало. По его краю с тыльнойстороны проходил невысокий ободок, а в центре размещался выпуклыйкружок. У локтя левой руки располагался деревянный двухстороннийгребень. В ногах обнаружено железное стремя с округлым верхом,прорезью для ремня и широкой подножкой.
В качестве признака буддийского погребального обряда следуетотметь покрытие умершей шёлковой тканью.
Купцын Толга, к. 39, п. 1. (Шнайдштейн Е.В., 1981, с. 100).В центральной части кургана располагалась прямоугольная
могильная яма, с закруглёнными углами, ориентированная по линиизапад – восток. В могиле были обнаружен вытянутый на спине скелетмужчины, ориентированный черепом на запад. Правая рука вытянутавдоль тела, кисть касается бедренной кости правой ноги. Левая рукарезко согнута в локте, фаланги касались ключицы. Около правогоплеча лежал наконечник копья.
Судя по характерному положению руки, прикрывающей рот,погребение выполнено по буддийскому обряду.
Купцын Толга, к. 46, п. 2. (Шнайдштейн Е.В., 1981, с. 100).Погребение 2 впускное. Могильная яма прямоугольной формы,
ориентированна по линии северо-запад – юго-восток. В могильной ямебыло устроено перекрытие из деревянных плах, опиравшихся концамина ступеньки. Выполненные вдоль длинных сторон могилы. Такжеперекрытие опиралось на четырёхугольные продольные столбики. Наперекрытии крест на крест в два слоя лежало покрытие из камыша.Поверх камышитовой подстилки лежала шкура лошади, от которойостался череп и кости ног. Голова коня была обращена на север.Здесь же были обнаружены железные кольчатые удила, стремена, части
седла, обрывки шерстяной ткани с узорами, костяная накладка,железная пряжка, а также фрагменты железных предметов. Накамышитовой подстилке зафиксированы следы горения и уголь.
После снятия с перекрытия костяка лошади выявилось, что плахиперекрытия имеют различную форму, а одна из них имеетволнообразный орнамент. Возможно, это свидетельствует о том, что вкачестве перекрытия были использованы детали кибитки. Под плахамиперекрытия располагалось гробовище, выполненное из тонких досок,скреплённых толстыми поперечными.
В гробовище был обнаружен скелет взрослого мужчины, лежащийвытянуто на спине с вытянутыми вдоль тела руками. Череп покойногопокрыт шерстяной узорчатой тканью, под ней лицо закрываласеребряная пластинка. Такая же пластина лежала справа от черепа.Тело покойного также покрыто такой же шерстяной тканью на тазовыхкостях среди остатков ткани выявлены фрагменты кожи ремня иобрывки золотой фольги со следами отверстий для пришивания. Околоправого бедра лежала костяная обкладка от лука. Коло правой руки,ближе к стенке могилы зафиксирован фрагмент деревянной обкладкилука, под ней располагалась часть его деревянной основы сизогнутым обработанным концом. В западной части могилы, подкостяком обнаружена костяная накладка, рядом с ней остаткидеревянного, обтянутого берестой колчана. Здесь же выявленыобломки деревянных древков стрел. Около левой руки и ноги умершегорасполагалась железная сабля с деревянной рукоятью и массивнымидеревянными ножнами. После снятия костей скелета были выявленыобрывки ткани, в районе тазовых костей бронзовая пуговица, подсаблей – железная круглая пряжка от портупеи и железный нож вдеревянных ножнах.
На буддийскую принадлежность захоронения указываетоборачивание головы и тела покойника тканью, а также наличие врайоне черепа изделий из драгоценных металлов.
Купцын Толга, к. 51, п. 1. (Шнайдштейн Е.В., 1981, с. 100).Могильная яма прямоугольной формы, с закруглёнными углами,
ориентированная по линии запад – восток, сужается к востоку. В ямезафиксировано перекрытие выполненное из деревянных досок,опирающихся на ступеньки вдоль длинных сторон ямы. Продольныедоски скреплены толстыми поперечными плахами, окрашенными иместами обугленными. Под перекрытием располагались остаткигробовища, выполненного из отдельных деревянных конструкций. Плахиимеют следы вторичного использования.
В гробовище лежал костяк молодой женщины, вытянутый на спине,ориентированный головой на запад. Костяк был покрыт тканью,остатки которой зафиксированы на черепе, руках, тазовых костях иногах. Глова покойной была покрыта золототканой парчой. Ниже
ключицы слева лежала половинка бронзового зеркала, петля отмешочка, где было зеркало, а также две чёрные бусины, однаглазчатая, другая полосатая. Две стеклянные бусины находилисьвозле пояса. Около кисти правой руки лежал деревянный гребень. Накостях ног сохранились остатки кожи от сапог. В правом сапогерасполагался железный предмет в деревянном футляре, обёрнутый вткань. Около плеча левой руки располагаются кости животного, подчерепом найден обломок пастовой бусины.
На принадлежность к числу буддийских захоронений указываетобёртывание головы и тела умершего тканью.
Алебастрово, к. 5. (Кригер В.А., Железчиков Б.Ф., 1980, с.302-303).
В центральной части кургана расположена прямоугольнаямогильная яма, ориентированная по линии север – юг. Вдоль длинныхстенок ямы были устроены заплечики, на которые опиралисьпоперечные плахи перекрытия, поверх них было уложено трипродольные деревянных доски. Погребение было совершено впрямоугольном гробу, сколоченном из деревянных досок. Междусеверной стенкой могилы и гроба найдена кость барана. У восточнойстенки могилы, на уровне левого колена положены железные удила скрупными кольцами.
В гробу был обнаружен скелет взрослой женщины, лежащийвытянуто на спине, ориентированный черепом на север. На лицевыхкостях черепа обнаружены остатки парчовой ткани, также её остаткизафиксированы на костях таза и ног. Возле ступней ног обнаруженыкусочки кожи от сапог.
Слева от черепа найдена бронзовая серьга в виде знака вопросаиз округлой проволоки с напаянным шариком на конце. Слева отголовы, у стенки гроба найден накосник в виде сшитой берестянойтрубочки. В юго-западном углу гроба располагался обломок железногопредмета с округлым в сечении черешком, являющийся остатками ножаили шила. Между голенью левой ноги и стенкой гроба найденыжелезные шарнирные ножницы. У левой ступни железный нож сгорбинкой и выступом, отделяющим лезвие от черешка. Рядом с ножомобнаружено бронзовое зеркало с бортиком по краю и обломаннойпетелькой для подвешивания. Зеркало орнаментировано рельефнымизаштрихованными окружностями по краю и в середине диска. Четыреполусферы разделяют фигурки четырёх животных, идущих друг задругом по окружности. Изображение животных нечёткое, достоверноопределить их видовую принадлежность не представляется возможным,предположительно это собаки.
На буддийскую принадлежность погребения указывает обёртываниелица и тела покойницы тканью.
Новый Буравль. (Кравец В.В., 2005, с. 118).
Погребение было совершено в прямоугольной могильной ямевытянутой по линии северо-запад – юго-восток. В могиле былоустроено перекрытие из тонких жердей. Судя по всему, покойниклежала в гробу, выполненному из толстых плах, скреплённых скобами.
Скелет погребённого лежал вытянуто на спине, ориентированныйчерепом на северо-запад. Тело умершего и голова были покрытытканью, остатки которой зафиксированы на костях скелета и подчерепом. Справа от черепа найдена золотая серьга в форме двухколец и фрагмент клыка животного. Возле правого плеча находиласьжелезная пряжка, а также небольшой кусок согнутой плоскойпроволоки. На груди зафиксирована перевёрнутая чаша из белогометалла с примесью меди. Сосуд был накрыт куском парчи наподкладке. Справа у ног находился медный кованый казан, внутрикоторого были обнаружены фрагменты двух металлических предметов.
На буддийскую принадлежность захоронения указывает обматываниеголовы и тела покойного тканью.
Высокая гора, к. 2. (Кравец В.В., 2005, с. 109-110).В центральной части кургана располагается прямоугольная
могильная яма, с сильно закруглёнными углами, ориентированная полинии север – юг. По длинной оси яма разделена перегородкой, надве камеры. Перегородка представляла собой поставленные почтивертикально, с небольшим уклоном в южную сторону деревянные плахи,подпёртые у основания положенным с западной стороны бревном. Длялучшего закрепления перегородки с севера и юга на стенках былиустроены небольшие пологие выступы на всю глубину ямы. Стенкиобразовавшихся камер были хорошо зачищены, пол в восточной камереобмазан глиной серого цвета и выкрашен мелом. Западная камера былапустой, а в восточной стоял деревянный гроб без крышки, сделанныйиз досок, скреплённых скобами и железными гвоздями. Дно гробовищабыло застелено войлоком. Севернее него располагался наконечниккопья с насаженной на него птицей, пара стремян, а такжеорганические остатки светло-коричневого и коричневого цвета.
В гробу, вытянуто на спине лежал скелет взрослого мужчины, 35– 40 лет, ориентированный черепом на север. Руки вытянуты вдольтела, правая кисть покоится на тазовых костях, голова слегканаклонена к левому плечу. Под черепом зафиксировано скоплениеорганических остатков. Автор публикации интерпретирует их какостатки подушечки, однако, скорее всего, здесь можно говорить обобматывании головы покойного войлоком. Также на костях скелетафиксируются куски ткани с золотыми нитями, предположительно нашёлковой основе. Правая нога согнута в колене из-за положенной подней железной кольчуги. Кольчуга сильно корродированна, сохранностьеё неудовлетворительная. В северо-восточном углу гробарасполагается железный шлем, оснащённый бармицей, которая была
подвёрнута вовнутрь. Внутри шлема были найдены остатки головногоубора из войлока и кожи. Слева от черепа располагалась золотаяпроволочная серьга. У левой руки лежал берестяной колчан, накотором видны следы крепления: пробитые, проколотые отверстия,деревянные накладки с деревянными шипами. В колчане найдено кольцодля стрельбы из лука, которое, судя по его положению, было надетона оперение стрелы: В колчане также находилось шесть стрел,наконечники которых представлены следующими типами: остролистый сгофрированным у перехода в перо черешком, ромбовидный с прямымисторонами и плечиками с наибольшим расширением в верхней части,кунжутолистный, бронебойные наконечники шиловидной формыромбического или треугольного сечения (3 штуки). Сохранностьпоследних очень плохая. Также здесь обнаружен фрагмент древкастрелы с вырезом под тетиву. На левом бедре погребённого лежалкинжал в деревянных ножнах. На правом бедре в кожаном чехлезафиксировано кресало брусковидной фигурной в сечении формы скремнем. Чуть ниже головы покойного с правой стороны обнаружендеревянный гребень. Под локтем правой руки находилась перевёрнутаясеребряная пиаловидная чаша. На правой руке погребённого лежаликольца уздечки и звенья двухсоставных удил. В районе поясапокойника найдены остатки матерчатой сумки, а также фрагментыпоясного набора. Набор составляли несколько типов блях изсеребряного сплава с позолотой: квадратные (3 экз.), в формегеральдического щита (2 экз.), трёхлопастные без колец (8 экз.),трёхлопастные с подвижным кольцом (2 экз.), скобовидные (3 экз.),конечная бляха. Крепление всех блях штифтовое.
В районе ступней найдена подошва сапога и бусина из чёрногостекла.
В юго-восточной части могилы, в небольшом подбое-нише лежалперевёрнутый бронзовый казан, под которым располагались костибарана. Казан закопчён, имеет следы ремонта.
После совершения захоронения выкид из могильной ямы былтщательно утрамбован на погребённой почве. В плане выкид имеетформу подковы, ориентированной несомкнутой стороной на запад.После засыпки могильной ямы поверх неё из чернозёма была подсыпанаовальная площадка, вытянутая по линии север-северо-запад – юг-юго-восток. По периметру площадки были сделаны кладки из плоскихкамней песчаника. Одна из кладок с восточной стороны,ориентированная по линии север – юг, отличалась более правильнойпрямоугольной формой. Возможно, эта кладка служила жертвенником.Между камнями кладок обнаружены деревянные угли, а у особоотмеченной прямоугольной – мелкие фрагменты костей. Затем вокругмогильной ямы была выполнена обваловка из прокаленного докраснагрунта. Эта насыпка с запада не сомкнута, здесь она особенно
широкая и накрывает собой каменную кладку. С внешней восточнойстороны обваловка выступает тремя «мысами». Над могилой из жердейтолщиной до 0,1 м. была возведена шатрообразная конструкция,которая перед насыпкой кургана была сожжена.
Данное погребение может быть причислено к буддийском на томосновании, что у покойного была обмотана голова, а тело накрытошёлковой тканью.
Высокая гора, к. 3, п. 2. (Кравец В.В., 2005, с. 111-112).При сооружения кургана был разрушена и перекрыта насыпь более
древнего скифского погребения. Погребение с северной, западной июжной стороны было окружено прямоугольными в планеямами-«кенотафами», ориентированными по линии северо-восток – юго-запад. Вокруг ям были уложены плоские песчаниковые и меловыекамни.
Могильная яма имела в плане практически квадратную форму,вытянута по линии север – юг. По длинной оси могилы устроенаперегородка из стоящих практически вертикально и плотноподогнанных друг к другу деревянных плах. Крайние плахи входят впазы, устроенные в северной южной стенках могилы.
В восточной камере на остатках органической подстилки светло-коричневого цвета стоял деревянный гроб без следов крышки. Гробсколочен из деревянных досок, скреплён железными гвоздями,железными скобами по углам, а также тонкими железными полосами.Дно гроба застелено войлоком.
В гробу был обнаружен скелет молодой женщины, вытянутый наспине и ориентированный черепом на север. Руки вытянуты вдольтуловища, голова повернута к левому плечу. Под черепом, на костяхскелета зафиксированы остатки ткани, предположительно шёлковой.Обшлага рукавов были украшены вышитым орнаментом в виде петляющейлинии, выполненным серебряной нитью с бисером. Также найденысеребряные позолоченные крючки на пластинках из фольги, служившиедля застёгивания рукавов. У правой ключицы находились две янтарныебусины, близкие к биконической форме. Под нижней челюстьюобнаружены две проволочные золотые подвески. На среднем пальцелевой руки найден золотой перстень со стеклянной вставкой, наподквадратном щитке. И орнаментом сканью. В области шеи обнаруженанашивка на одежду квадратной формы с с петлями для крепления.Между правой рукой и тазовыми костями зафиксирован серебряныйпластинчатый браслет с профилированными краями. В области тазовыхкостей найдено несколько золотых украшений крепившихся к одеждеили к поясу. Нашивки представлены несколькими типами: брошевидные(3 экз.), в виде восьмилепестковой розетки с завитками орнамента(3 экз.), в виде восьмилепестковой розетки с неорнаментированнымилепестками (2 экз.). В области груди обнаружены три квадратные
вставки из стекла от несохранившихся украшений. Междупозвоночником и правой рукой погребённой найдены золотыецилиндрические подвески в виде трубок треугольного и круглогосечения. Концы трубок были заткнуты деревянными пробками, внутриодной из них находился небольшой кусочек железа. На груди умершейлежал двухсторонний деревянный гребень в берестяном чехле. Всеверо-западном углу гроба располагались остатки кожаной сумки,среди фрагментов которой зафиксировано биллоновое зеркало вфутляре, выполненном из капа берёзы, обтянутого кожей. У локтялевой руки находилась серебряная чаша в виде пиалы. Сохранилисьфрагменты кожаного футляра с кольцами для подвешивания. В ногахпокойницы стоял бронзовый казан.
После осуществления погребения выкид из могильной ямы былутрамбован, он был разложен в виде подковы с закруглёнными краями,ориентированной на юг – юго-запад. После окончания погребальныхритуалов, курган был досыпан однородным чернозёмом.
К числу признаков буддийской погребальной обрядности в данномзахоронении можно выделить обматывание головы погребённой, а такженаходку золотых подвесок под челюстью. Скорее всего, они былиположены в рот, но при тлении мягких тканей тела выпали из него.
Кривая Лука XVI, к. 5. (Дворниченко В.В., Зиливинская Э.Д.,2005, с. 281-283).
На уровне древнего горизонта обнаружено деревянное сооружениеиз брёвен, составляющее часть конструкции насыпи. Брёвна отёсанныена всю длину с нижней стороны были положены в один ряд на древнююповерхность по периметру площадки. Граница ровика располагается в20 – 50 см от брёвен. Восточная часть сооружения представляетсобой конструкцию из четырёх брёвен, почти одинаковой толщины,концы которых были врублены «в лапу». В плане конструкцияпредставляет собой половину неправильного восьмиугольника. Длясвязи между собой в брёвнах, лежащих снизу, были сделаны косыепазы в половину их толщины. Концы брёвен, входящие в паз сверху,стёсаны наполовину с нижней стороны и отёсаны по бокам. Западнаячасть площадки не была ограничена цельной конструкцией, здесь былообнаружено только два бревна - у юго-западного и северо-западногокраёв площадки. Ещё одно бревно лежало ближе к центру площадки. Всеверной части площадки наблюдался проход, смещённый к западу отмеридиональной оси кургана. Грунт в границах прохода уплотнён.Наличие прохода свидетельствует о том, что площадка с деревяннойконструкцией стояла некоторое время открытой и представляла собойнеправильный восьмиугольник, вытянутый по оси север – юг. Попрошествии какого-то промежутка времени поверх сооружения былнасыпан курган.
В центе площадки было обнаружено погребение, совершённое впрямоугольной могильной яме, ориентированной по линии север – юг,плавно сужающейся к югу. Скелет взрослого человека находился вдеревянном с берестой гробе. Погребение было практически полностьюразрушено в древности. Судя по сохранившимся бедренным костям ипозвонкам, покойник был положен вытянуто на спине, головой насевер. В северной половине ямы, среди костей скелета былиобнаружены:
- остатки берестяного колчана, его деталей, выполненных изкожи, а также костяных орнаментированных и неорнаментированныхнакладок;
- пять разбросанных в северной части ямы серебряных монет, атакже шесть монет в группе с остатками ткани и фрагментамиметаллического кресала;
- несколько железных пряжек6 круглые пряжки от колчана безперекладины, с язычками, прямоугольная пряжка-рамка, фрагментыкруглых пряжек с неподвижным шпеньком-упором, полусферическаябляшка со шпеньком-упором, круглая пряжка со сплошной основой;
- железные наконечники стрел;- нож в деревянных ножнах;- железный пинцет;- обломок стремени;- железные заклёпки;- неопределяемые железные предметы;- костяная круглая в сечении орнаментированная рукоять ножа и
пластина от неё;- костяная обойма;- пастовые бусы;- фрагменты ткани и кожаной обуви;Несмотря на то, что погребение разрушено, его с высокой долей
вероятности можно отнести к числу совершённых в соответствии сбуддийским ритуалом. На это указывает наличие в северной частимогильной ямы разбросанных монет, которые, по всей видимости,находились на костях скелета, так как монеты, располагавшиесярядом в кошельке, остались не тронутыми. Расположение монет всеверной части могилы позволяет говорить о том, что онирасполагались в районе черепа, возможно во рту умершего, чтоявляется характерным, судя по результатам исследования В.П.Костюкова, именно для буддийской погребальной традиции. Также впользу высказанного предположения свидетельствуют находкифрагментов ткани, которой, по-видимому, был накрыто тело. Наличиемонет свидетельствует о том, что разрушение скелета имелоритуальный характер. По всей видимости, погребение какое-то времястояло открытым, до истлевания мягких тканей тела. Этнографические
материалы свидетельствуют о наличии в среде калмыков,исповедовавших буддизм, такого способа захоронения как оставлениепокойного на открытом воздухе и захоронение очистившихся костей(Георги И.Г. 2005.с. 407-408). Можно предположить, чторассматриваемое захоронение совершенно именно по этому обряду.
Комсомольский, мавзолей № 2. (Павленко Ю.А. 2001, с. 74-76).Мавзолей представлял собой прямоугольное сооружение, состоящее
из квадратной в плане гур-ханы и выступающего от неё на юг пештакас зийарат-ханой и был окружён остатками сырцовых стен. Судя попогребальному инвентарю, комплекс датируется концом XIII века.
От гур-ханы сохранились остатки массивной цокольной части изобожженного кирпича на известковом растворе и кирпичный пол.Сохранившаяся цокольная часть мавзолея опиралась на песчануюподушку и двухслойный ленточный фундамент. Пол гур-ханы былвыложен из обожженного кирпича на глинистом растворе с включениемалебастра. Пештак с зийарат-ханой сохранился в виде цоколя,представляя собой П-образную конструкцию, примыкавшую к южнойстене гур-ханы. Центральная часть пештака имела остатки дверногопроема в виде фрагмента пола прохода в зийарат-хану. Внутри гур-ханы мавзолея, в северной половине площадки пола, располагаласьсдвоенная мастаба над двумя захоронениями в склепах.
Первое погребение было совершено в сырцовом сводчатомдвускатном склепе, внутрь которого был установлен деревянныйтрапециевидный гроб с железными накладками-скобами. Внутри гробанаходился вытянутый на спине скелет взрослого мужчины,ориентированного головой на запад. При погребенном находилсяжелезный нож с бронзовым перекрестием, фрагменты кожаных сапог,куски ткани, железный шишак, две золотые серьги, 11 золотыхпластин и золотой динар египетского султана Бейбарса (1260 –1277). Второе погребение также устроено в сводчатом склепе, вдеревянном трапециевидном гробу. Погребённой оказалась женщина 17-18 лет. При ней обнаружено: маленький железный нож с бронзовымпластинчатым перекрестием, серебряный дирхем, а в области черепалежали шесть золотых кружков и фрагменты берестяной бокки.
Погребения представляют собой очень интересный ивзаимосвязанный комплекс. На тот факт, что погребение молодойженщины совершено в соответствии с буддийской погребальнойтрадицией указывает находки в районе черепа шести золотых имитациймонет. Находки в районе черепа или во рту монет или драгоценностейхарактерно именно для буддийского обряда. Идентичные имитацииобнаружены в районе челюсти погребённой в мавзолее Укека.(Кубанкин Д.А. 2007. с. 195).
В.П. Костюков интерпретировал укекское захоронение какбуддийское (Костюков В.П., 2006, с. 177-207). Захоронение мужчины,
по всей видимости, также можно интерпретировать как совершённое побуддийскому ритуалу. На это указывает совместное захоронение сдевушкой-буддисткой, а также обнаруженные в нём золотые пластины,остатки ткани. К сожалению, из публикации не ясноместорасположения указанных предметов, поэтому окончательноерешение культурной принадлежности погребения мужчины можно будетустановить после более полной публикации комплекса.
Мавзолей у с. Бахтияровка, п. 3. (Ким И.А., 1993, с. 172-183).Мавзолей практически полностью разрушен в результате выборки
кирпича, в результате чего был перекрыт слоем битого кирпича иизвесткового раствора. Под слоем завала на уровне дневнойповерхности были выявлены контуры фундамента и вход в мавзолей.Строение имело квадратную в плане форму, ориентированное посторонам света. При расчистке траншей выборки стен выявленыотпечатки кирпичей, 6 рядов в ширину, кое-где остались фрагментыкладки. Вход в мавзолей был оформлен пилонами, завершающимисяполукруглыми колоннами. Толщина мелового пола достигает около 0,1м. Внутри помещения расчищены круглые столбовые ямки,сгруппированные по 3 – 4 в каждом углу. На расстоянии 4 м отзападной и восточной стен сооружения обнаружены остаткипараллельных стенам узких кирпичных вымосток. Сложенных из целых ибитых обожжённых и сырцовых кирпичей на глиняном растворе.Пространство между вымостками и стенами заполнено мелкимиобломками кирпича и большим количеством изразцов, лежащей поливнойстороной вниз. У западной вымостки выявлены 4 небольшие округлые вплане столбовые ямки. Можно предположить, что западная и восточнаявымостки это основания разрушенных стен ограды. Внутри мавзолеярасчищено шесть погребений.
Погребение № 3 было совершено в прямоугольной могильной яме,со скругленными углами, ориентированной по линии север – юг. Входе выборки заполнения могильной ямы было выявлено перекрытие издеревянных плашек, опирающихся на ступеньки, устроенные вдольдлинных стенок ямы. Ниже перекрытия располагалось деревянноегробовище, сколоченное из досок, скреплённых железными скобами. Вгробовище вытянуто на спине лежал скелет молодой женщины илиподростка, ориентированный черепом на запад. На лицевых костяхобрывки ткани.
Погребение может интерпретироваться как буддийское в связи сналичием заматывания головы покойника.
Водянское городище, мавзолей № 3. (Егоров В.Л., 1980, стр. 81-84).
Мавзолей располагался южнее городища, в 440 м. к югу отгородского вала. Мавзолей практически полностью разрушен в
результате выборки кирпича. Он представлял собой двухкамерноесооружение с пештаком.
Всего в мавзолее исследовано девять погребений: семь в гур-хане и два в зийарат-хане. Устройство могил в суфах зийарат-ханывызвано тем, что в гур-хане уже не оставалось места для совершенияпогребений.
Помещение 1 (зийарат-хана) представляло собой прямоугольную,вытянутую по линии восток – запад комнату. Пол помещения находилсяниже уровня пола входной арки. От него сохранились лишь отпечаткикирпичей на глиняном стилобате лежавшем на материке. Параллельнозападной и восточной стенам помещения были устроены прямоугольныесуфы. Заполнение суф состояло из различного строительного мусора иглины. Западную суфу прорезала могильная яма погребения № 8,вытянутая по линии запад – восток. Восточная была перестроена присовершении погребения № 9. Северная стенка помещения 1 отделяетего от помещении 2. Конструкция ее идентична конструкции остальныхстен. Посередине стены был сделан проход, ведущий в помещение 2.Со стороны помещения 1 проход начинался узкой ступенькой вполовину кирпича.
Помещение 2 (гур-хана) квадратное в плане с глинобитным полом.Судя по отдельным фрагментам, весь пол был покрыт циновкой,сплетенной из стеблей травы. На полу обнаружены обломкиизвестковых парусов и большие блоки штукатурки, являвшиеся частямиарочных конструкций. Квадратное в плане помещение, наличие парусови арочных дуг с несомненностью свидетельствуют о купольнойконструкции потолка. По периметру всех стен помещения с отступом0,35 м, были положены деревянные квадратные в сечении брусья. Поуглам помещения брусья были соединены в обло. Пространство междубрусьями и стенами было заполнено утрамбованной глиной с мелкимикамнями. Щель между брусом и южной стеной помещения 2, отделяющейего от помещения 1, забита крупными камнями, покрытыми сверхуплоско лежащими кирпичами. Скорее всего, это связано с наличием встене дверного проема.
В полу гур-ханы обнаружено семь прямоугольных могильныхориентированных по линии запад - восток. Над погребением № 4сохранились остатки (юго-восточный угол) кирпичного надгробия,облицованного майоликовыми плитками на Кашине, но относящегося кцентральному погребению № 3. Большая часть надгробия находилась надпогребение № 3, но с разрушением мавзолея часть его съехала восевшую могилу № 4 и таким образом сохранилась. От негосохранилось несколько плиток нижнего пояса, покрытых синейполивой, на фоне которой нанесен белый растительный орнамент.Сверху на эти плитки был положен ряд угловых плиток, покрытых слицевой и верхней сторон бирюзовой поливой. Вокруг надгробия
найдены осколки синих майоликовых плиток с белыми арабскимибуквами, а также кашинные резные полуколонки, покрытые бирюзовойполивой, видимо, оформлявшие мастабу по углам.
Погребение 1. Могильная яма прямоугольная, со скругленнымиуглами, в заполнении – материковый песок. Вдоль южного борта могилыоставлена материковая ступенька. В могиле был прослежен деревянныйсклеп в идее прямоугольного деревянного ящика без дна из досок,скрепленных между собой с помощью пазов «в лапу». Крышкой склепаявлялось деревянное перекрытие из поперечных плах. Перекрытие былопокрыто циновкой. В склепе был обнаружен прямоугольный деревянныйгроб, сколоченный из тонких досок. В нём был обнаружен скелет,лежащий вытянуто на спине, ориентированный черепом на запад,повёрнутый лицом к югу. Руки согнуты в локтях, кисти лежат врайоне таза. На костях грудной клетки, рук и ног обнаружены остаткипарчи с пятилепестковыми цветками из тончайшей серебрянойпроволоки, а также куски ваты. Под черепом найдена круглаясердоликовая плоская бусина.
Погребение 2. Могильная яма прямоугольная, ориентирована полинии запад – восток. Погребение было разграблено, в заполненииямы на разных уровнях и в полном беспорядке встречены обломкидерева, кирпичей, костей, а череп был найден в первом штыке. Надне ямы сохранились три стенки деревянного склепа (кромевосточной) из толстых досок. Внутри склепа обнаружены остаткигроба из более тонких досок, па дне его прослежены остатки светлойткани и парчи. В юго-западном углу ямы найдены куски резнойраскрашенной крышки гроба. Орнамент двух типов: растительный назолотом фоне синие и красные цветы) и эпиграфический (на красномфоне синие буквы в обрамлении побегов).
Погребение 3 Данное захоронение было основным в мавзолее и, повсей видимости, наиболее раннее из всех. Яма прямоугольнаяориентированная по линии запад – восток. В могильной яме обнаружендеревянный склеп из толстых досок, стенки которого соединены спомощью пазов «в лапу». В склепе стоял гроб, доски которого быласкреплены железными гвоздями, дно устлано корой. Внутри вытянутона спине лежал скелет, ориентированный головой на запад. Лицеваячасть черепа обращена вверх и слегка повернута к югу. Правая рукасогнута в локте так, что кисть находятся у подбородка. Кисть левойруки, также согнутой в локте, лежит на поясе. Сохранность костейочень плохая. Находок в погребении не было.
Погребение 4. Яма прямоугольная, углы скруглены, вытянута полинии запад – восток. Могильная яма была перекрыта деревяннымиплахами. Под плахами стенки могилы с трех сторон были облицованыполовинками обожженных кирпичей на четыре ряда в высоту, причемнижний ряд был выложен из сырца. В этом кирпичном футляре
находился деревянный склеп выполненный из плах. Внутри склепастоял деревянный гроб. В нем лежал скелет ребенка, вытянуто, наспине, головой на запад, лицевая часть черепа повернута к югу.Правая рука вытянута под углом от скелета, левая согнута в локте илежала поперек пояса. Находок в погребении не было.
Погребение 5. Яма прямоугольная углы скруглены, вытянута полинии запад – восток. На дне ямы стоял деревянный гроб, в которомлежал скелет ребенка, вытянуто, на спине, головой на запад.Погребение разрушено сусликами. В заполнении могилы встреченыжелезные гвозди от гроба, других находок нет.
Погребение 6. Яма прямоугольная, углы скруглены, яма вытянутапо линии запад – восток. Могилу перекрывали поперечные плахи крышкидеревянного склепа, выполненного из толстых деревянных досок. Внутрисклепа стоял деревянный гроб плохой сохранности. В нем лежалскелет, вытянутый на спине, головой на запад, лицевая часть черепанесколько повернута к северу. Правая рука согнута в локте, кистьлежит па поясе, левая вытянута вдоль скелета. На костях груди, руки таза прослежены остатки парча. В заполнении встречены железныегвозди от гроба.
Погребение 7. Яма прямоугольная вытянутая по линии запад –восток. Могила перекрыта поперечными плахами. Доски перекрытияопирались на вертикальные стенки деревянного гроба. Внутри лежалскелет, вытянуто, на спине, головой на запад, лицевая часть черепаобращена вверх. Правая рука согнута в локте, кисть ее лежит напоясе, левая вытянута вдоль тела. Находок в погребении не было.
Погребение 8. Совершено в западной суфе зийарат-ханы. Ямапрямоугольная со скругленными углами. Вдоль южного борта ямыоставлена материковая ступенька шириной. Погребение разрушено,обнаружены разбросанные в беспорядке детские кости и обломки досокгроба. Находок не было.
Погребение 9, Совершено в восточной суфе зийарат-ханы. Надмогилой, несколько южнее ее, сохранился фрагмент ступенчатойкирпичной кладки. Скорее всего, это остатки надгробия,сооруженного на поверхности суфы над погребением. Могильная ямапрямоугольная. Вдоль северной и южной стенок ямы оставлены выступы.На дне, на подстилке из коры, лежал скелет, вытянутый на спине,головой на запад, лицевая часть черепа обращена вверх. Рукисогнуты в локтях, кисти лежали на тазовых костях. Следов гробаобнаружено не было, однако в заполнения могилы найдено шестьжелезных гвоздей с фрагментами древесных волокон. Других находокнет.
Большинство погребений данного мавзолея несёт в себе чертыбуддийской погребальной обрядности. Прежде всего, здесь необходимоотметить устройство деревянных и кирпичных склепов внутри могил,
несмотря на то, что погребённые находились в гробах. Можно сбольшой долей уверенности предположить, что такая сложная системавнутримогильных конструкций является отражением характерных длябуддизма представлений о «нечистоте» умершего человека и являетсяпопыткой отгородить «чистую» стихию земли от осквернения. Черты,характерные для буддизма, ярко проявились в погребении № 3,являющимся основным в мавзолее. Здесь зафиксировано особоеположение рук, когда одна из них как бы закрывает рот. Как ужебыло отмечено выше, этот признак является характерным длябуддийской обрядности. Также в погребениях № 1, № 6 зафиксированопокрытие тела тканью, что также позволяет отнести эти погребения кчислу буддийских.
Мохши, мавзолей № 1. (Алихова А.Е. 1973, с. 230-233.)Мавзолей представляет собой монументальное сооружение,
состоящее из четырех помещений: центрального, двух боковых исеверного, содержавшего склеп.
Склеп был предназначен для погребения трех лиц. В полу былиустроены три могильных ямы. Они представляли собой прямоугольныеямы, ориентированные по линии запад – восток, заполненные кладкойиз квадратного обожженного кирпича.
Хорошо сохранившееся центральная могильная яма сверху быловыложено квадратным кирпичом, поставленным на реброперпендикулярно к краю ямы в один ряд, по углам кирпичи лежалигоризонтально, образуя, таким образом, подобие рамки. Внутри этогообрамления кирпичи, также положенные на ребро были направленыпродольной осью вдоль ямы. Ниже под рамкой были положены три рядакирпичей, а в центральной части четыре. В западной частицентрального погребального места зафиксирован перекоп. Здесьобнаружен череп человека, нижняя челюсть, позвонок и две монетывеликого князя Василия II (1424 – 1462), К западу от этогоперекопа, близ него, в завале склепа были найдены локтевая кость иправое бедро человека. Под вертикально стоявшими кирпичамивымостки и в промежутках между ними была засыпка из песка. Здесьбыла найдена еще одна монета, чеканенная в Сарае при Тохтамыше.
В связи тем, что единственное из сохранившихся в мавзолеепогребение практически полностью разрушено его культурнаяинтерпретация представляется довольно сложной. Однако следуетотметить некоторые черты, которые дают основание предположить, чтооно совершено в соответствии с буддийской погребальной традицией.При исследовании данного захоронения Е.А. Алихова сразу отметилаего несоответствие мусульманским погребальным традициям иинтерпретировала его как совершённое в соответствии сзороастрийским ритуалом (Алихова А.Е. 1973, с.. 233). В тоже времяможно предложить иную трактовку. По всей видимости, захоронение
стояло открытым до разложения мягких тканей тела, и послесовершения каких-то ритуальных действий могильная яма былаперекрыта кирпичной кладкой. Показательно, что в погребении былоставлен череп в сопровождении монет. Последнее, как уже былоупомянуто, являлось характерной чертой буддийского ритуала.
Мохши, мавзолей № 5. (Алихова А.Е., 1973, с. 236).Мавзолей № 5 представлял собой длинное прямоугольное в плане
здание, вытянутое с севера – северо-востока на юг – юго-запад,разделенное поперечной стеной на два помещения: внешнее с широкимвходом (гур-хана) и внутреннее (зийарат-хана), которое являлосьусыпальницей.
Фундамент здания, углубленный в материк, был сложен изквадратного плохо обожженного кирпича на глиняном растворе. Кладкасостояла из целого кирпича снаружи и внутри и из битого всередине. С восточной стороны мавзолея внутри по углам прослеженыследы двух столбовых ям.
В усыпальнице было обнаружено 11 захоронений и одна пустаямогила (№ 6). Судя по размерам могил, здесь было семь детскихзахоронений и четыре захоронения взрослых.
Для всех захоронений, за исключением № 3, характерно положениепогребенных головой на запад без каких-либо вещей, в гробах,сколоченных гвоздями и костылями, иногда со скобами. Детскиемогилы были едва углублены в материк. Интересно устройствозахоронения № 5 в которой по углам были положены крупные кускиквадратного кирпича, очевидно, для изоляции от земли; на которые,вероятно, был поставлен гроб. От детских костяков сохранилисьтолько зубы. В погребении № 1, положенном в черноземе, до насдошла верхняя часть костяка. Правая рука лежала вдоль туловища,кисть левой находилась около лица.
Могилы взрослых представляли собой прямоугольные в плане ямы,ориентированные по линии запад – восток, заглублённые в материк. Вположении погребенных наблюдается некоторое разнообразие. Впогребении № 8, совершенном в большой и глубокой могиле, укостяка, лежавшего в вытянутом положении, правая рука былаподведена к лицу, а левая лежала на груди. На костях сохранилиськусочки парчовой ткани, а вдоль левой руки тянулась парчоваятесьма.
В качестве черт позволяющих отнести захоронения этого мавзолеяк числу буддийских могильников следует отметить характерное дляуказанной обрядовой традиции размещения руки у лица, котороезафиксировано в захоронениях № 1, № 8. В последнем погребённый былнакрыт парчой, что также подтверждает предложенную интерпретацию.Особо следует остановиться на погребении № 5. Гроб в захоронениистоит на кирпичах. Эта черта отмечена В.П. Костюковым в буддийских
захоронениях и связана с попыткой оградить от осквернения «чистую»стихию земли.
Анализируя приведённую выборку погребальных памятников можносделать несколько выводов. Прежде всего, следует отметить, чтобуддизм был довольно широко распространён среди населения УлусаДжучи. Анализируя обряд и сопроводительный инвентарь приведённыхпогребений необходимо отметить, что большинство погребённыхобладали высоким социальным статусом и были похоронены всопровождении богатого погребального инвентаря. Это подтверждаетсообщения письменных источников о распространении буддизма в средезолотоордынской аристократии. (Рашид ад-Дин, 1960, с.84).
Следует отметить, что погребальный обряд приведённыхзахоронений неоднороден. Данный факт не позволяет выделить какой-либо унифицированный буддийский обряд. В качестве причины подобнойситуации В.П. Костюков отмечал отсутствие жёстких требований вбуддизме к погребальному ритуалу и, как следствие, его высокуюстепень вариативности (Костюков В.П., 2006, с. 177-207). Кочевникисовершали захоронения по привычному обряду, дополняя егонекоторыми особенностями. Это ярко иллюстрируется погребениями стипично кочевническим сопроводительным инвентарём: Высокая гора.Барановка. Купцын Толга. Алебастрово и др. В связи с этимнеправильно будет относить некоторые общие признаки в описанныхзахоронениях к буддийским, например, северную ориентировкупогребённых. Более правильно будет говорить о большемраспространении буддизма в какой-либо этнокультурной группезолотоордынского населения. Так северную ориентировку погребённыхтрадиционно связывают с монгольскими влияниями. (Пугаченкова Г.А.,1967. с. 152-158) Есть все основания предполагать, что именно вгруппе населения связанного своим происхождением с территориейЮжной Сибири и Монголии получило распространение буддийскоевероисповедание.
Особо следует остановиться на распространении буддийскихзахоронений в мавзолеях. По всей видимости, их размещение в нихбыло проявлением желания погребённых и их окруженияпродемонстрировать свой социальный статус, богатство, степеньвлиятельности. Строительство именно подобных сооружений, быловызвано либеральностью буддизма в погребальной практике, а такжеучастием в формировании культуры Золотой Орды мастеров иремесленников из мусульманских стран. Таким образом, приведённая,далеко не полная выборка захоронений, свидетельствует о том, чтоналичие мавзолея не может рассматриваться как проявлениеисключительно исламской погребальной традиции. Более правильнорассматривать его наличие как признак высокого социального статусапокойных.
Хронология буддийских захоронений довольно широкая. Привлекаетк себе группа погребений совершённых в раннезолотордынский период:Высокая гора, мавзолеи в Укеке и пос. Комсомольский. Этизахоронения отличаются богатым сопроводительным инвентарём, чтоговорит о высоком социальном статусе погребённых. Особо следуетотметить, что упомянутые мавзолеи являются наиболее ранними натерритории Улуса Джучи и погребены в них именно буддисты. Этиданные свидетельствуют о большом политическом влиянииаристократов-буддистов. Возможно, именно их сопротивление непозволило хану Берке проводить политику массовой исламизациинаселения Золотой Орды. Совершение погребений в мавзолеях ещё разподтверждает тезис о значении мавзолея как признака высокогосоциального статуса, а не принадлежности к исламской общине.
Ориентировочно к XIV веку относится большая часть приведённыхвыше захоронений. Этот материал свидетельствует о том, что, несмотря на усилия центральной администрации, процесс исламизациинаселения Улуса Джучи был далёк от завершения. Более того, в средезолотоордынской аристократии существовало противодействиемусульманизации. Об этом ярко свидетельствует погребения вмавзолее № 3 Водянского городища и мавзолее № 5 в Мохшах. В.Л.Егоров датирует водянский мавзолей серединой XIV века. (ЕгоровВ.Л., 1980, стр. 88). Примерно ту же датировку предлагает Е.А.Алихова. (Алихова А.Е. 1973, стр. 233)
В этой связи большой интерес представляют сообщения письменныхисточников об откочёвке в 60-х годах XIV века эмира Тагая,правителя Бельджамена в Мохши и основании здесь собственногокняжества. Откочёвка могущественного эмира, державшего крупныйулус в столичном регионе было вызвано событиями, происходившими входе «великой зямятни». Можно предположить, что проникновениебуддизма в Мохши произошло вместе с переселением орды Тагая.
Погребение, совершённое в мавзолее № 1 Мохши – Наровчатесвидетельствует о сохранении позиций буддизма в среде ордынскойаристократии вплоть до середины XV века, т.е. даже после второйволны исламизации проведённой Идегеем. Это говорит о широкомраспространении этой конфессии среди населения Золотой Орды.
Таким образом, археологические данные свидетельствуют ошироком распространении этой буддизма среди золотоордынскойаристократии. Особенно это относится к раннезолотоордынскомупериоду. Об этом ярко свидетельствуют захоронения этого периода вмавзолеях, а также ряд погребений кочевой знати. Сами мавзолеи вЗолотой Орде не могут связываться исключительно с исламскойкультурой, а являются признаком высокого социального статусавообще. Не смотря на политику мусульманизации, проводимойзолотоордынской администрацией, буддизм сохранил своё значение в
качестве одной из основных конфессий на территории Улуса Джучивплоть до второй половины XV века.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Алихова А.Е. Мавзолеи города Мохши-Наровчата//СА. 1973, № 2.Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: ихжитейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданийи других достопамятностей. СПб, 2005.Васильев Д.В., Кутуков Д.В. Материалы по памятникам археологии Астраханскойобласти, находящимся на государственной охране. Астрахань, 1995.Дворниченко В.В. Зиливинская Э.Д. Средневековые погребальные сооружения измогильника Кривая Лука в Астраханской области//НАВ, № 7, Волгоград, 2005.Дворниченко В.В. Фёдоров-Давыдов Г.А. Раскопки курганов в зоне строительстваКалмыцко-Астраханской и Никольской рисовых оросительных систем//Сокровищасарматских вождей и древние города Поволжья, М., 1989.Егоров В.Л. Мавзолеи Водянского городища//СА. 1980, № 1.Костюков В.П., Следы буддизма в погребениях золотоордынского времени//Вопросыистории и археологии Западного Казахстана, 2006, № 1-2.Кравец В.В. Кочевники среднего Дона в эпоху Золотой Орды, Воронеж, 2005.Ким И.А. Золотоордынский мавзолей у с. Бахтияровка//Древности Волго-Донскихстепей. 1993. № 3.Кригер В.А., Железчиков Б.Ф. Позднекочевнические погребения у пос. Рубежка иАлебастрово в Уральской области//СА. 1980. № 1. Кубанкин Д.А. Погребальные памятники Увекского городища//Археология Восточно-Европейской степи. Саратов, 2007. Вып. 4. Павленко Ю.А. К вопросу о распространении суфизма в Нижнем Поволжье//АрхеологияНижнего Поволжья на рубеже тысячелетий, Астрахань, 2001.Потапов Л.П. Очерки народного быта тувинцев. М., 1969.Пугаченкова Г.А. Погребение монгольского времени в Халчаяне//СА. 1967. № 2.Рашид ад-Дин. Сборник летописей. т. II. М.-Л., 1960.Сергацков И.В. Дворниченко В.В. Дёмкн В.А. Курганный могильник Маляевка –V//Материалы по археологии Волго-Донских степей, Волгоград, 2001.Синицын И.В. Эрдниев У.Э. Элистинский курганный могильник (по раскопкам 1964года). Элиста, 1971.Шилов В.П. Очерки по истории древних племён Нижнего Поволжья. М.. 1975.Шнайдштейн Е.В. Раскопки курганной группы Купцын Тога//Археологические памятникиКалмыкии эпохи бронзы и средневековья, Элиста, 1981.
ПРИЖИЗНЕННЫЙ СТАТУС ПОГРЕБЕННЫХ С РАСПРЯМЛЕННОЙ ГРИВНОЙ ИЗ ПОЗНЕКОЧЕВНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Т.М.Потемкина
Дорогому другуВладимиру Петровичу Костюкову
посвящается
В науке утвердилось мнение о том, что отдельные предметы,встречающиеся в позднекочевнических погребениях, являютсяранговыми, демонстрирующими определенный статус, которым обладал вобществе умерший номад. К таковым, в первую очередь, относят котели распрямленную гривну. Котел считается символом родоплеменнойзнати, а гривна – символом власти. Специальных работ, в которыхрассматриваются различные аспекты погребений с распрямленнойгривной, всего несколько. Опубликовав 7 комплексов изДнепропетровской области, В.Н. Шалобудов пришел к выводу, чтораспрямленная гривна – это символ социальной выделенности,знатности, а погребения с гривнами-жезлами принадлежат половецкойаристократии (Шалобудов, Яремака, 1987, С. 135; Шалобудов, 1990,С. 118). В.К. Гриб, проанализировав 12 погребений, поддержалмнение С.А. Плетневой о том, что разогнутые гривны являютсязнаками особого достоинства умерших. Он первым предположил«сугубую ритуальность» этих предметов (Гриб, 1986, С. 55). У С.А.Плетневой нет специальных публикаций, посвященных ранговыматрибутам поздних кочевников, однако в обобщающих трудах онанеоднократно высказывала свое мнение о распрямленных гривнах: «По-видимому, эти гривны, переделанные в палочки, являлись знакамиособого достоинства, своеобразными жезлами» (Плетнева, 1981, С.215). «Жезлом имел право владеть руководитель (владелец) большегоили меньшего из подразделений. Жезл, положенный женщинам,означает, по-видимому, факт принадлежности к половецкомусообществу…» (Плетнева, 2003, С. 162). Cделанные из распрямленныхгривен «жезлы» имели разную ценность и были, очевидно, разногодостоинства (Плетнева, 2003, С. 164).
Самая крупная работа, посвященная семантике распрямленныхгривен в контексте погребального обряда кочевников ВосточнойЕвропы XII-XIV вв., опубликована А.В. Евглевским (1998, С. 141-156). Проанализировав достаточно большой массив погребений (56комплексов), автор пришел к следующим выводам. «Войдя в тесноевзаимодействие с культурой Руси, кочевники приняли славянскуюшейную гривну как выразительный социально-значимый атрибут…, ранееуже, кстати, бытовавший у них в заволжско-сибирских степях»
(Евглевский, 1998, С. 152). Распрямленная гривна – сугубопогребальный атрибут, наделенный какой-то культовой нагрузкой(Евглевский, 1998, С. 142). Распрямленная гривна равносильнапонятию жезла, который по своему происхождению связан с культомпредков, она является еще и символом мирового дерева (Евглевский,1998, С. 153). «Распрямленные гривны из благородных металловвстречаются, как правило, в богатых и средних (условно)погребениях, тогда как…железные гривны…вкладывались в руки умершихв подавляющем большинстве в рядовых комплексах» (Евглевский, 1998,С. 152).
Есть альтернативная трактовка предназначения распрямленнойгривны, которую предложили В.П. Глебов и В.В. Яценко и поддержалЮ.К. Гугуев. Эти исследователи полагают, что распрямленная гривна– это средство платежа за вход в загробный мир, а распрямлениегривен означает их перевод из категории украшений в категориюденег (Глебов, Яценко, 1998, С. 51-52; Гугуев, 2009, С. 137).
Как видим, историографический обзор демонстрирует, чтоисследователи лишь бегло касались темы прижизненного статусапогребенных с распрямленной гривной, причем без развернутогообоснования своих предположений.
Мы располагаем информацией о 65 комплексах, в составсопроводительного инвентаря которых входит распрямленная гривна.Проанализировав погребальный обряд и вещевой набор погребений, мыразделили источник на две группы. К первой группе отнесено 42комплекса c одним социально-ранговым предметом – распрямленнойгривной. В инвентаре второй группы (23 захоронения) присутствуют ираспрямленная гривна, и котел.
Из 42 погребений первой группы 7 комплексов принадлежатженщинам, 35 (из них 2 условно1) – мужчинам. Обобщенные данныепогребального обряда женских комплексов следующие. Впускныхзахоронений – 5 (71%), основных – 2 (29%). Наличие в насыпировика, кромлеха, тризны – 1. Форма могильной ямы: простая (бездополнительных конструкций) – 3 (1 из них большая), яма с подбоеми ступенькой – 2, яма со ступенькой – 1, форма не прослежена – 1.Перекрытие (кирпичная вымостка) зафиксировано в 1 случае,гробовище – в 5 (2 решетчатых, 1 дощатое, 1 решетчатый настил, 1 –тип не указан). В одном погребении обнаружены куски мела, в 4комплексах зафиксированы разрушения (ограбление?). В 5 (71%)случаях умерших сопровождал конь: целый – 1; 3 типа, по А.Г.Атавину, – 3; тип не ясен – 1.
1 Разделение погребений по половому признаку осуществлено, в основном, посоставу сопроводительного инвентаря. В 2 погребениях инвентарь невыразителен,для статистических подсчетов эти захоронения условно отнесены к мужчинам.
В 6 из 7 погребений определена ориентировка: 5 (71%) – взападном секторе, 1 (29%) – в восточном. Анализ сопроводительногоинвентаря дал следующие результаты. Всего предметов издрагметаллов (в том числе позолоченных и посеребренных)зафиксировано 141 (200%). Они представляют собой обычныекочевнические украшения: серьги, кольца, браслеты, колты (рогатыеи с напускной биконической бусиной), есть одна шейная электроваягривна. Бытовые предметы также типичны: зеркало, пряслице, ножи,гончарная посуда, пряжки, пуговицы и др. Конская упряжьпредставлена стременами, удилами, седлом, подпружными пряжками. Изнеобычных для женских половецких погребений предметов следуетотметить топор, аналогичный славянским рабочим топорамдомонгольской Руси (Шалобудов, 1990, С. 110-111).
Гривны из данных захоронений в основном серебряные (5 экз.),две – из бронзы (одна из них посеребрена). Только в одномкомплексе гривна представлена маленьким обломком (8 см), востальных – от 25 до 32,5 см (т.е. больше половины целой шейнойгривны). Анализ инвентаря и погребального обряда комплексовпозволил разделить их условно на три разряда2: с обычным инвентарем– 2 (29%), среднего уровня – 4 (57%), богатые – 1 (14%).
Датируются женские погребения в основном в рамках XII-XIIIвв.: XII в. – 1; XII – 1-я пол. XIII вв. – 1; XII-XIII вв. – 2;XIII в. – 2; 2-я пол. XIII – 1-я пол. XIV вв. – 1.
Погребальный обряд мужских комплексов первой группыхарактеризуется следующими признаками. Впускных захоронений – 28(80%), основных – 7 (20%). Ровик, кромлех, тризна или досыпканасыпи зафиксированы в 11 случаях (31%). Форма погребальногосооружения: простая яма – 8 (из них 3 большие), яма с подбоем иступенькой – 12, яма со ступенькой – 10, яма с заплечиками – 1,форма не прослежена – 4. В 16 захоронениях отмечено каменное илидеревянное перекрытие могилы (или подбоя). Довольно частовстречалось гробовище – 28 (80%): решетчатое – 12, колода – 9,настил – 2, гроб-сундук – 1, тип не определен – 4. Комок мелаобнаружен в 3 погребениях, подстилка – в 4. Разрушениязафиксированы в 18 (51%) комплексах. Значительное количествоумерших (31 – 89%) сопровождалось конем: 5 целых – 1; 2 целых – 1;1 целый – 11; 3 типа – 8; 2 типа – 1; тип не определен – 9. В 71 Парные предметы (серьги, браслеты, колты и т.д.) учитывались как одна единица.
2 Критериями для деления на разряды послужили следующие моменты: наличие внасыпи досыпки, каких-либо конструкций и остатков тризны, сложностьпогребального сооружения и наличие дополнительных деталей (перекрытия,гробовища, посыпок и т.п.), количество изделий из драгметаллов (для мужских,кроме этого, наличие оборонительного доспеха) и общее количество инвентаря.
захоронениях находились кости овцы (барана) – остаткинапутственной пищи.
В 32 из 35 комплексов определена ориентировка: 19 (59%) – взападном секторе, 13(41%) – в восточном. Проанализировав составсопроводительного инвентаря, мы получили интересные данные. Всегопредметов из драгметаллов обнаружено 58 (166%). Вооружениепредставлено как наступательное, так и оборонительное: сабля – 30(86%), колчан и стрелы – 23 (66%), копье – 3 (8,6%), кольчуга – 9(26%), шлем – 6 (17%), щит – 3 (8,6%), единичны находки кинжала имолотка. Набор бытовых предметов довольно разнообразен: железные ибронзовые пряжки – 23, нож – 19, бронзовые пуговицы (бубенчики) –13, костяные пуговицы – 10, шелк (парча) или изделия из них – 9,гончарная и лепная керамика – 7, оселок – 4, кресало – 3,деревянный сосуд – 2, единичные находки – зеркало, замок, ключ.Конская упряжь представлена стременами – 29 (83%), удилами – 24(69%), седлом – 12 (34%), навершием плети – 5 (14%) и шпорами.
Представляет определенный интерес информация о том, из какогометалла изготовлены гривны. Подавляющее большинство серебряных –23 (66%), золотых – 3, бронзовых – 2, железных посеребренных – 5,железных позолоченных – 1, железных – 1. Размеры обнаруженныхгривен достаточно сильно варьируют: очень маленькие фрагменты (от3,5 до 8,5 см) – 5 (16%), меньше половины (от 10 до 18 см) – 9(29%), больше половины (от 20 до 31,5 см) – 12 (39%), практическицелые и целые (35-45 см) – 5 (16%). С обычным инвентарем – 12(34%) комплексов, среднего уровня – 22 (63%), богатых нет, оченьбогатый – один (3%) комплекс.
К половецкому времени (в рамках XII – 1-й пол.XIII вв.)относится 17 погребений: XII – 1-я пол.XIII вв. – 11; кон.XII – 1-я пол.XIII вв. – 1; 1-я пол.XIII в. – 5. Золотоордынским временемдатируются 14 захоронений: сер.XIII в. – 1; 2-я пол.XIII в. – 1;2-я пол.XIII-XIV вв. – 11; кон.XIII – нач.XIV вв. – 1. Широкодатируются 4 комплекса: XII – нач.XIV вв. – 1; XII – 1-я пол.XIVвв. – 1; XII-XIV вв. – 2.
Картографирование первой группы погребений (Рис. 1)продемонстрировало, что они в основном сосредоточены на территориилукоморских, приднепровских, донских и нижнедонских половцев(Плетнева, 1990, С. 149). Есть отдельные комплексы в Поросье, вбассейне Южного Буга, на землях предкавказских половцев и вКалмыцкой степи.
Из 23 погребений второй группы 6 женских и 17 мужских.Погребальный обряд женских захоронений характеризуется следующимипризнаками. Впускных погребений – 4, основных – 2. Ров и остаткитризны (кости животных), а также заклад (каменный) могильной ямызафиксированы в 1 случае. Форма погребального сооружения: яма с
подбоем и ступенькой – 2, яма с заплечиками – 1, простая яма (3х2м) – 1, конструкция не зафиксирована (в насыпи) – 2. Гробовищеотмечено в 5 случаях (деревянный настил – 2, дощатое – 1, тип неуказан – 2). Единичны деревянное перекрытие, циновка и меловаяпосыпка. Конь зафиксирован в 3 погребениях: целый – 2; 3 типа – 1.Ориентировка умерших следующая: в западном секторе – 3 (60%), ввосточном – 2, в одном разрушенном погребении ориентировка неопределена.
Сопроводительный инвентарь данной группы погребений отличаетсяочень большим количеством изделий из драгметаллов (28 – 467%) иобщим разнообразием. Среди редких для женских комплексов находокследует отметить 2 наконечника стрел (в засыпи) и уникальнуюнаходку шляпы1 (Белов, 2009, С. 15). Котлы во всех погребенияхмедные, в двух внутри найдены кости овцы (барана). Объем котловсредний (6-7 л) и большой (14 л). Во всех 6 комплексах, помимораспрямленной гривны, присутствует шейная гривна. Металл шейныхгривен следующий: серебряных – 3, серебряных позолоченных – 2,золотых – 1. Все распрямленные гривны серебряные (1 позолоченная),маленьких фрагментов среди них нет. Только в 1 комплексеобнаружена 1/2 гривны, в 2 – большая часть изделия, а в 3 – целыегривны. Имущественный статус женщин из второй группы достаточновысок: одно погребение (Новоивановка) мы отнесли к очень богатым,3 (50%) – богатые, 1 (16,7%) – среднего уровня и одно – с обычныминвентарем.
Датируются захоронения этой группы так: XII-XIII вв. – 2; XIIIв. – 2; 2-я пол. XIII в. – 1; 2-я пол. XIII – 1-я пол. XIV вв. –1.
Характеристика погребального обряда мужских комплексов второйгруппы включает следующие признаки. Впускных погребений – 12(75%), основных – 4. По одному комплексу данных нет. Ров, тризна,досыпка, каменные конструкции в насыпи отмечены в 10 (59%)случаях. Формы могильной ямы зафиксированы следующие: яма сподбоем и ступенькой – 6, яма со ступенькой – 2, яма с заплечиками– 3, простая яма – 3 (все большого размера), форма нефиксировалась (в насыпи) – 2. Деревянное перекрытие отмечено в 4погребениях, забутовка камнями – в 3. В подавляющем большинстве(14 – 82%) комплексов обнаружено гробовище: решетчатое – 5, колода– 3, дощатое – 2, гроб-сундук – 2, тип не указан – 2. Подстилка(рогожа, войлок и др.), меловая посыпка, обожженность, угли,колеса зафиксированы в 7 погребениях. Разрушение/ограблениеотмечено в 5 (29%) случаях. Конь сопровождал умершего в 12 (71%)
1 Автор публикации называет ее боккой, но, судя по сохранившимся остаткам, этоне бокка, а именно половецкая шляпа.
комплексах: 2 целых коня – 2; 1 целый конь – 2; 3 типа – 5; 2 типа– 2; тип не ясен – 1. Ориентировка погребенных определена в 16захоронениях: в западном секторе – 11 (69%), в восточном – 5(31%).
Сопроводительный инвентарь мужских комплексов второй группывключает предметы наступательного и оборонительного вооружения,бытовые изделия, украшения, конскую упряжь, амулеты и др. Общееколичество изделий из драгметаллов (в том числе позолоченных ипосеребренных) – 33 (194%). Предметы вооружения достаточноразнообразны: сабля – 15 (88%), колчан и стрелы – 14 (82%),кольчуга – 12 (71%), шлем – 5 (29%), лук – 5 (29%), поножи – 2,единичные находки наручей, кинжала, копья, булавы, кистеня.Бытовой инвентарь обычный: пуговицы (серебряные, бронзовые,костяные), пряжки (бронзовые и железные), ножи, деревянная,гончарная и металлическая (бронзовая и серебряная) посуда, ключи,замки, кресала, шило, оселок и т.п. Обычен набор и конской упряжи:удила – 12 (71%), стремена – 12 (71%), седло – 6 (35%), шпоры – 2,подпружные пряжки и украшения узды. Следует отметить достаточнобольшое количество погребений, в которых сохранились шелк/парчаили изделия из них (кафтан, пояс) – 7 (41%). Среди индивидуальныхнаходок можно назвать бронзовую урну, аграф, волчий клык,серебряную копоушку, кожаный головной убор, украшенныйпозолоченной фольгой.
Все котлы из погребений данной группы медные. Внутри 5 из нихнайдены остатки напутственной пищи (кости овцы/барана), в 4 –деревянная чаша или черпак. В комплексе Скворцовка 1/1 для котлабыла вырублена специальная ниша, а в захоронении Владиславовка 7/1котел был перевернут и под ним, кроме остатков напутственной пищи,лежали украшения конской сбруи. Маленьких котлов нет, средних (3-8л) – 4 (31%), больших (10-20 л) – 8 (62%), очень больших (> 20 л)– 1 (7%).
Подавляющее большинство распрямленных гривен изготовлено изсеребра (1 с позолотой) – 11 (65%), бронзовых – 4 (1 с позолотой),золотых и железных по одной (6%). Размеры гривен следующие:маленьких фрагментов нет, 6 экз. (43%) представляют собой половинуизделия, 4 (28,5%) – больше половины, 4 – практически целые.Имущественный статус мужчин из второй группы очень высокий:погребений с обычным инвентарем нет, среднего уровня – 12 (71%),богатых – 5 (29%).
Датировка данных комплексов следующая: XII-XIII вв. – 1; XII –1-я пол. XIII вв. – 2; сер. XIII в. – 1; 2-я пол. XIII в. – 1;рубеж XIII-XIV вв. – 1; сер. XIII – нач. XIV вв. – 1; кон. XIII –нач. XIV вв. – 1; 2-я пол. XIII – нач. XIV вв. – 2; 2-я пол. XIII– 1-я пол. XIV вв. – 1; 2-я пол. XIII – XIV вв. – 5; XIV в. – 1.
Таким образом, подавляющее большинство (14 – 82%) погребенийотносится к золотоордынскому времени.
Картографирование комплексов второй группы (Рис. 2)демонстрирует, что погребения тяготеют к Азовскому морю. К западуот Днепра их нет, в Поросье зафиксирован только 1 комплекс.Основная группа захоронений находится в пределах СеверногоПриазовья и Прикубанья на землях лукоморских, приднепровских,частично донских и предкавказских половцев. Единичные погребенияотмечены в Крыму, Калмыцкой степи и Нижнем Подонье.
Для удобства сравнения женских и мужских погребений из обеихвыделенных нами групп их отдельные характеристики внесены втаблицу (Табл. 1). В первую очередь следует отметить практическиравное количество женских погребений из обеих групп (7 и 6соответственно). В то же время количество мужских комплексов извторой группы в 2 раза меньше, чем в первой, поэтомуколичественные показатели в таблице даны в процентах.
При сравнении признаков погребального обряда женщин, преждевсего, бросаются в глаза показатели предметов из драгметаллов: вовторой группе их в 2,3 раза больше, чем в первой. Хотя радиобъективности надо отметить, что женские погребения из первойгруппы подверглись ограблению на 24% больше, чем во второй.Показатели размеров распрямленных гривен также заметно отличаются.Половина гривен из второй группы целые или практически целые, впервой же группе целых экземпляров нет вообще, при этом 14%маленьких обломков. Во второй группе все (100%) гривны серебряные,а в первой – только 71%. Соответственно богатых и очень богатыхпогребений во второй группе 66,7%, а в первой – лишь 14%.Большинство (57%) комплексов первой группы среднего уровня. В тоже время сопровождение конем в первой группе на 21% больше, чем вовторой. Интересны и неожиданны показатели ориентировкипогребенных. В первую очередь привлекает внимание то, чтобольшинство умерших в обеих группах ориентировано в западномсекторе. Тем не менее, во второй группе на 11% больше женщин сориентировкой в восточном секторе.
Сравнение показателей мужских погребений дало болеевыразительные результаты. Так, во второй группе на 28% большезафиксировано конструкций и остатков тризны в насыпи. На 21%больше в погребениях второй группы отмечено наличие остатковподстилки, мела, углей. В то же время в первой группе мужскихпогребений на 22% больше зафиксировано ограбленных комплексов и на18% больше сопровождение конем. Интересны показатели по оружию.Если по сабле они практически совпадают (превышение во второй
группе всего на 2%), то по доспеху1 показатели второй группы в 2,3раза больше, чем в первой. Значительна разница и по количествупредметов из драгметаллов: во второй группе их на 28% больше, чемв первой. Шелк (парча) или изделия из них на 15% чаще встречалисьво второй группе мужских погребений. Интересно сравнить размерыгривен: во второй группе маленьких и меньше половины целой гривныфрагментов нет вообще, а в первой они составляют 45%, целых же(или практически целых) экземпляров во второй группе на 12,5%больше, чем в первой. Показательны цифры и по металлу гривен. Еслисеребряных и золотых гривен в обеих группах практически одинаковоеколичество, то железных в первой группе на 14% больше. Резюмируютвышеприведенные данные показатели разрядов: во второй группе нетпогребений с обычным инвентарем, а в первой группе их 34%, вовторой группе богатых комплексов 29%, в первой их нет, есть только1 очень богатый комплекс (Чингул). По захоронениям среднего уровняпоказатели второй группы также превышают соответствующие цифрыпервой на 8%.
Ориентировка мужских погребений, так же как и женских, даланеожиданные результаты. Большинство умерших в обеих группахориентировано в западном секторе, разница составляет 10%.
Таким образом, сравнение отдельных характеристик погребальногообряда мужских и женских комплексов обеих групп подтвердило нашинаблюдения о значительной разнице в имущественном статусе этихпогребенных. По нашему мнению, имущественный статус в данномслучае отражает и социальный статус умерших. Прежде всего,необходимо отметить, что все погребенные, как мужчины, так иженщины, являлись представителями знати. По-видимому, они стоялина разных, хотя и близких, ступенях иерархической лестницыполовецкого общества. Мужчины из второй группы захоронений,вероятно, при жизни обладали всей полнотой власти, т.е. это былиродоплеменные вожди, в обязанности которых входили какхозяйственные (руководство перекочевками, перераспределениепастбищ и водных ресурсов, охрана кочевий от диких зверей и угонаскота, разрешение различных споров, торговля и т.д.), так иполитические (ведение переговоров, заключение и расторжениесоюзов), и военные (организация военных походов и распределениедобычи) функции. Скорее всего, это были главы родов и племен. В тоже время какая-то часть родоплеменных вождей по тем или инымпричинам не могла выполнять все эти задачи, в частности, постоянноорганизовывать и возглавлять военные мероприятия. В таких случаяхвоенные функции возлагались на энергичных, талантливых полководцев
1 В показатель доспеха второй группы включены кольчуга – 71%, шлем – 29%, поножи– 12%, наручи – 6%.
из числа военной аристократии. Война была их «специальностью» –они завоевывали новые земли, захватывали богатства, обороняли своивежи (Плетнева, 1974, С. 75). Возможно, мужские погребения изпервой группы принадлежали именно таким военным вождям.
Единственное погребение, которое выпадает из предложеннойсхемы, это Чингул. Как известно, на сегодня это самый богатыйполовецкий комплекс по всем параметрам. Тем не менее, несмотря наогромное количество богатого разнообразного инвентаря, самоебольшое количество коней, сложную конструкцию могильной ямы иразличные конструкции в насыпи, включая мощную досыпку, в этомкомплексе нет символа родоплеменной власти – котла. Как объяснитьэту ситуацию? Исследователи единодушны, что в Чингуле погребенхан, предводитель крупной военной единицы (орды? тьмы?). Нампредставляется, что отсутствие котла в данном захоронении, скореевсего, объясняется тем, что люди, проводившие погребальный обряд,не принадлежали к роду умершего.
Женщины из второй группы погребений (с шейной и распрямленнойгривнами и котлом), по-видимому, находились на той же ступенисоциальной лестницы, что и мужчины из второй группы. Наличие в ихсопроводительном инвентаре трех статусных предметовсвидетельствует о том, что при жизни они также обладали всейполнотой власти. Такая ситуация, скорее всего, складывалась послесмерти мужа при несовершеннолетних сыновьях. Вероятно, эти вдовы-регентши были наделены властными полномочиями и осуществлялиуправление своим родом. Эти предположения основываются намногочисленных письменных источниках, которые, несмотря на то, чтоописывают жизнь монгольских номадов, могут, на наш взгляд, бытьэкстраполированы на половецкое общество (имеется в виду регентствовдов монгольской знати).
Прижизненный статус женщин из первой группы определить болеесложно. Ясно только одно: в системе половецкой социальной иерархииони находились несколько ниже, чем женщины второй группы. Самоепростое и логичное предположение – эти женщины были женами (иливдовами) военных вождей – вызывает ряд вопросов.
Во-первых, почему этих погребений так мало (на 35 мужскихприходится всего 7 женских)? В то же время мы обладаем информациейо 27 женских комплексах с шейной гривной (без распрямленной). Знаяо том, что распрямление гривны происходило во время погребальногообряда, возникает следующий вопрос: почему из 34 случаев только в7 гривна была разогнута? Чем эти женщины отличались от остальных?Имущественным статусом? Но это не так. Анализ погребального обрядаи сопроводительного инвентаря захоронений с шейной гривнойпоказал, что богатых погребений здесь даже немного больше (19%),как и количество изделий из драгоценных металлов (250%), чем в
комплексах с распрямленной гривной из первой группы (Потемкина,2010б). По-видимому, здесь должно быть какое-то иное объяснение.С.А. Плетнева неоднократно развивала и пыталась доказать тезис осуществовании у половцев института «амазонства». Созданный еюсовременный миф о половецких женщинах-воительницах неподтверждается ни письменными, ни археологическими источниками(Потемкина, 2010а). Поэтому версию о том, что это захороненияженщин, погибших в военных сражениях, мы не рассматриваем.Вероятно, прижизненный статус женщин из первой группы былприблизительно таким же, как и у женщин, погребенных с шейнойгривной, т.е. это, скорее всего, были жены, сестры, матери знатныхполовцев, которые не являлись главами крупных социальных ячеек.
Быть может, распрямление гривны осуществлялось в случаепогребения вдовы. Доказать или опровергнуть это предположениенереально, но выдвинуть его в качестве версии считаем возможным.
Отдельные положения, высказанные исследователями относительнораспрямленной гривны и особенностей погребальной обрядности,связанной с ней, дискуссионны, поэтому требуют уточнения и болеедетального рассмотрения. К таким, в первую очередь, относитсяутверждение, что распрямленные гривны – это жезлы. Да,действительно, большинство гривен выпрямлено достаточно ровно инапоминает витые или гладкие прутья. Действительно, многиеэкземпляры, найденные in situ, обнаружены в кисти правой руки илирядом с ней, что дало основание назвать их жезлами. Но как быть стеми изделиями (а таких нам известно около 20), которые далеки отформы «палочки» (Рис. 3)? Можно ли назвать эти искривленныедуговидные обрубки жезлами? И почему игнорируется другоеместоположение распрямленных гривен? Например, в мужском комплексеиз Макеевки (р.Грузская) полуразогнутая с обрубленными петелькамигривна лежала на груди погребенного. Обычное объяснение об«умерщвлении» вещей в данном случае не адекватно, поскольку вбольшинстве женских захоронений шейная гривна не разогнута, а втех, где гривен две, распрямлена лишь одна.
Интерпретация распрямленных гривен в качестве средства платежаза вход в загробный мир также вызывает вопросы. Непонятно, почемув мужских погребениях гривна всегда разогнута, а для женских (неговоря уже о подростковых и детских) захоронений это достаточноредкое явление. Почему при погребении мужчин гривна всегда«переводилась» (если следовать логике В.П. Глебова, В.В. Яценко иЮ.К. Гугуева) из категории украшений в категорию денег, а призахоронении женщин лишь только в каждом пятом случае производилсяэтот «перевод»? И как тогда интерпретировать экземпляры, невложенные в руку умершего? Отдельные исследователи до сих порполагают, что распрямленные гривны использовались половцами при
жизни. Так, Ю.В. Зеленский и И.Н. Анфимов, ссылаясь на Б.А.Рыбакова, утверждают, что дружина Игоря Святославича захватиласреди добычи у половцев распрямленные гривны – «серебряноестружие» (Анфимов, Зеленский, 2002, С. 70).
К сожалению, ссылка на Б.А. Рыбакова не совсем корректна. Вотчто писал исследователь: “«Стружие» – не копье, не древко копья,так как древко не бывает серебряным… Стружие – нечто вроде«маршальского жезла», но длиною около 180 сантиметров. Подобныесеребряные жезлы известны по погребениям половецких ханов XIIвека” (Рыбаков, 1991, С. 45). Как видим, стружие длиною 1,8 мникак не может быть распрямленной гривной, длина которой непревышает 50 см. Нам представляется, что вопрос интерпретациираспрямленных гривен рано объявлять решенным, он требует болеетщательного, глубокого и объективного подхода с учетом всехнюансов.
Второй момент связан с источником поступления шейных гривен кполовцам. Выше уже отмечалось мнение А.В. Евглевского,ссылающегося на Г.Ф. Корзухину, о древнерусском источнике этихсоциально значимых украшений. На наш взгляд, это положение требуеткардинального пересмотра. Во-первых, ни на С. 19 (здесьисследовательница объясняет принципы датировки ею древнерусскихкладов), на которую ссылается А.В. Евглевский, ни на какой-либодругой Г.Ф. Корзухина не говорит о поступлении шейных гривен ккочевникам, поскольку она, в принципе, не рассматривала этотвопрос. Тем более, что основная масса древнерусских гривентипологически совершенно другая, чем кочевнические.
Табл.1. Сравнительная характеристика (в %) первой и второй групп женских и мужских погребений с распрямленной гривной
Характе-ристи-
ка
Видпогре-бения ос
новн
ое
впус
кное
насы
пь
прос
тая ям
а
слож
ная ям
а
пере
крытие
гроб
овище
подс
тилка,
мел
огра
блено
конь
Ориен-тировк
а
шелк
, парч
а
сабл
я
досп
ех
драг
. мета
лл
Размер гривны Металл гривны Имущественныйразряд
З В м <1/2
1/2
>1/2
ц
брон
за
сере
бро
желе
зо
золо
то
обыч
ный
сред
ний
бога
тый
очен
ь бо
гат.
Женские1 группа
29 71 14 43 43 14 71 14 57 71 71 29 14 – – 200 14 – – 86 – 29 71 – – 29 57 14 –
Женские2 группа
33 67 17 17 50 17 83 17 33 50 60 40 – – – 467 – – 17 33 50 – 100 – – 16,7
16,7
50 16,7
Мужские1 группа
20 80 31 23 66 46 80 20 51 89 59 41 26 86 52 166 16 29 – 39 16 6 66 20 8 34 63 – 3
Мужские2 группа
25 75 59 18 65 41 82 41 29 71 69 31 41 88 118 194 – – 43 28,5 28,5 23 65 6 6 – 71 29 –
На Руси «с конца XI в. выработался такой тип витой гривны, который продержался до самогомонгольского завоевания: витая гривна из нескольких попарно скрученных жгутов с пластинчатыминаконечниками, закрученными на концах в трубочки, сквозь которые пропускали шнурок» (Корзухина, 1954,С. 76). Из 97 экз. шейных гривен, описанных исследовательницей, лишь 5 представлены как «витые изпластины», рисунки 2 из них (клад 131, с.Ключники и клад 117, Княжа Гора – оба из Поросья) приведеныв приложении (Корзухина, 1954, Табл. LIV, 7; XLVIII, 23). Да, они действительно аналогичны половецкимшейным гривнам. Но это совсем не дает оснований утверждать, что они «поступали» к кочевникам. К томуже, по мнению Г.Ф. Корзухиной, «к концу домонгольского периода (XII-XIII вв.) некоторые украшения…, вчастности шейные гривны и браслеты, перестали носиться мужчинами» (Корзухина, 1954, С. 64). А, какбыло показано выше, подавляющее большинство половецких погребений с гривнами (как с шейными, так и сраспрямленными) датируется именно этим периодом. Во-вторых, А.В. Евглевский противоречит сам себе,утверждая, с одной стороны, что кочевники приняли славянскую гривну (Евглевский, 1998, С. 152), и чтошейные гривны поступали в степь с Руси (Евглевский, 1998, С. 146, 147), а с другой стороны, он жеуказывает, что к востоку от Волги шейные гривны иногда встречаются в погребениях кочевников и «в видеизображений на каменных изваяниях» (Евглевский, 1998, С. 146), «ранее, кстати, бытовавшие у них в
заволжско-сибирских степях» (Евглевский, 1998, С. 152). Непонятно только, почему вдруг номадов,исходя из логики А.В. Евглевского, перестали устраивать собственные гривны, чем древнерусскиеукрашения были лучше кочевнических? Для того, чтобы внести ясность в вопрос, привлечем изыскания Л.С.Гераськовой и С.А. Плетневой. Изучив азиатские и европейские позднекочевнические скульптуры, Л.С.Гераськова выделила массив ранних тюркских (дополовецких) восточноевропейских изваяний (VIII-X вв.).На некоторых из них имеются изображения шейных гривен (Гераськова, 1991, С. 72, Рис. 13). На ранних(2-я пол. XI – нач. XII вв.) половецких изваяниях (типы I и VI, по С.А. Плетневой) такжезафиксированы указанные украшения. Это свидетельствует о том, что кипчаки, появившись в южнорусскихстепях, уже пользовались данным предметом.
Кроме этого, следует отметить, что гривна, как статусныйпредмет, не могла находиться в свободной продаже, а,следовательно, «поступать» в Степь. Гривны из драгоценных металловделались на заказ для представителей знати. Отдельные экземплярыдревнерусского производства могли попасть к кочевникам лишь вкачестве дара или как военная добыча. Изготавливались половецкиегривны в степи из кованой проволоки, что не требовало сложнойтехнологии. Еще один небольшой, но важный вопрос о статусепогребенных с железной гривной. Есть мнение, что все комплексы сжелезными гривнами характеризуются бедным и средним набороминвентаря и отсутствием социально значимых черт обрядности(Евглевский, 1998, С. 144). Во-первых, надо уточнить, что речьидет о железной основе изделий: из 8 экземпляров, попавших в нашисточник, 5 посеребренных (обвиты серебряной фольгой), 1 позолочени только на двух отсутствует фольга из драгоценного металла.Причем фрагменты железной гривны без позолоты или серебрянойфольги найдены в богатом мужском погребении Дубовики-I, 1/3 сдосыпкой, в яме с заплечиками по периметру, с гробом-сундуком;сопроводительный инвентарь, несмотря на ограбление, содержал шлем,кольчугу, котел, саблю, золотые бляшки и др. Три погребения спозолоченной и посеребренными железными гривнами мы отнесли кразряду «с обычным инвентарем», но надо отметить, что этикомплексы ограблены и разрушены. В 2 комплексах среднего уровня внасыпи зафиксированы такие социально значимые черты обрядности какровики, досыпка, тризна. В женских погребениях ни разу необнаружены распрямленные железные гривны. В то же время средишейных гривен имеется 5 экземпляров, изготовленных из железа, 3 изних посеребрены, а 2 из погребений подростков 10-14 лет не имеютплакирования. Как видим, ситуация не так однозначна, какпредставляется на первый взгляд. Скорее всего, обедневшая знатьбыла вынуждена заказывать более дешевый вариант инсигний ранга, нечуждались этого и некоторые достаточно богатые родоплеменныевожди. А возможно, на момент изготовления гривен у кочевниковвозникли проблемы с наличием заготовок из серебра/золота. Но, безсомнения, все железные гривны, которые носили взрослые мужчины иженщины, были плакированы золотой или серебряной фольгой, иначеэти предметы не соответствовали бы потребностям манифестированиясоциального и военного статуса.
И последняя проблема, о которой следует упомянуть, связана сориентировкой погребенных с распрямленной гривной. Поскольку ареалраспространения погребений с этими инсигниями ранга охватываетлишь половецкие земли, в науке утвердилось мнение обэтнокультурном соотнесении данных предметов исключительно споловцами. Более того, их даже уже называют «эталонными для
половецкой культуры предметами» (Зеленский, 2008, С. 117). Какизвестно, половецкой традиционно считается восточная ориентировка.Казалось бы, комплексы с распрямленной гривной (или хотя быбольшинство из них) должны иметь ориентировку в восточном секторе.Но наши данные противоречат этому. Так, только 41% мужчин изпервой группы имеет ориентировку в восточном секторе, а во второйгруппе показатель еще меньше – 31%. У женщин другая ситуация: впервой группе только 29% умерших ориентированы в восточномсекторе, во второй группе – 40%. Как можно объяснить эти данные?Даже если учесть мнение С.А. Плетневой о том, что у части половцевпри смешении с печенегами и торками восточная ориентировкасменилась на западную (Плетнева, 1990, С. 39), все равно картинаостается прежней. А.В. Евглевский полагает, что большоеразнообразие типов погребального обряда в захоронениях сраспрямленной гривной свидетельствует о том, «что носителямитакого ритуала были и другие племена, кроме собственно половцев»(Евглевский, 1998, С. 153). Какие именно другие племена автор неуточнил. Мы склоняемся к иному мнению: поскольку половцыпредставляли собой конгломерат племен, включавший остаткипеченежского, гузского, болгарского и аланского населения,широтная ориентировка была присуща всему этому этническомуобъединению, а восточная, возможно, сохранилась лишь у шары –«желтых» кипчаков.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
Анфимов И.Н., Зеленский Ю.В. Половецкие погребения из Восточного Приазовья //Историко-археологический альманах. Армавир – Москва, 2002. Вып. 8.Белов М.А. Кочевническое погребение у станицы Кисляковской Краснодарскогокрая // Материалы пятой Кубанской археологической конференции. Краснодар, 2009.Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи. К.,1991.Глебов В.П., Яценко В.В. Позднекочевническое погребение на севере Ростовскойобласти // Донская археология. Ростов-на-Дону, 1998. № 1.Гриб В.К. Об одном из атрибутов власти в погребениях поздних кочевников //Проблемы охраны и исследования памятников археологии в Донбассе. Научно-практический семинар. Тез. докл. Донецк, 1986.Гугуев Ю.К. Рассказ Жана де Жуанвиля о похоронах знатного кумана //Тюркологический сборник. 2007-2008: история и культура тюркских народов России исопредельных стран. М., 2009.Евглевский А.В. Семантика распрямленных гривен в контексте погребального обрядакочевников Восточной Европы XII-XIV вв. // Археологический альманах. Донецк,1998. № 7.Евдокимов Г.Л., Куприй Н.М., Рычков Н.А. Отчет Краснознаменской экспедиции.Исследования курганов в зоне орошения земель Херсонской обл. в 1992 году // НАИА НАНУ. 1992. Ф.е. 1992/2.
Зеленский Ю.В. Поножи из половецкого погребения в степном Прикубанье // Военнаяархеология: Сборник материалов семинара при Государственном Историческом музее.М., 2008. Вып.1.Парусимов И.Н. Воинские позднекочевнические погребения с левобережья и дельтыДона // Средневековые древности Дона: Материалы и исследования по археологииДона. Москва/Иерусалим, 2007. Вып. II.Плетнева С.А. Кочевнический могильник близ Саркела – Белой Вежи // МИА. 1963. №109.Плетнева С.А. Древности Черных Клобуков. САИ. 1973. Вып. Е 1-19.Плетнева С.А. Половецкие каменные изваяния. САИ. 1974. Вып. Е 4-2.Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы // Археология СССР. Степи Евразии в эпохусредневековья. М., 1981.Плетнева С.А. Половцы. М., 1990.Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. IV-XIII века.Воронеж, 2003.Потемкина Т.М. Институт «амазонства» у половцев: миф и реальность // ЛітописДонбасу. Донецьк, 2010а. № 18 (в печати).Потемкина Т.М. Половецкие погребения с шейной гривной: социокультурный аспект //Нові сторінки історії Донбасу. Донецьк, 2010б (в печати). Рыбаков Б.А. Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991.Санжаров С.Н., Посредников В.А. Отчет о работах Северодонецкой экспедицииДонецкого госуниверситета в 1985 г. // НА ИА НАНУ. 1985. Ф.е. 1985/35.Синицын И.В., Эрдниев У.Э. Новые археологические памятники на территорииКалмыцкой АССР (по раскопкам 1962-1963 гг.). Труды. Элиста, 1966. Вып.2.Шалобудов В.Н. Еще раз о находках распрямленных гривен в половецкихпогребениях // Исследования по археологии Поднепровья: Межвуз. сб. науч. тр.Днепропетровск, 1990.Шалобудов В.Н., Яремака В.Н. Гривны в погребениях средневековых кочевников //Памятники бронзового и раннего железного веков Поднепровья. Днепропетровск,1987.Швецов М.Л. Позднекочевническое погребение у с.Смелое на Северском Донце // СА.1984. № 1.Dąbrowska E. Kurhany Rassawskie // Archeologia. Warszawa, 1956. VIII. z. 1.
Рис.1. Погребения с распрямленной гривной: 1 – Бурты, к.258; 2 – Пешки, к.323; 3– Лучки, к.2; 4 – Лучки, к.4; 5 – Таборовка-III, 1/5; 6 – Новошмидтовка(Ананьина могила)/9; 7 – Шевченко 3/1; 8 – Каирка 3/2; 9 – Нов. Маячка 3/1; 10 –Подовое 1/2; 11 – Подовое 4/3; 12 – Волчанск-I, 5/1; 13 – Чингул; 14 – Мал.Белозерка-II, 6/8; 15 – Балки 5/16; 16 – Марьянское-IV, 4/1; 17 – Сухая Калина1/1; 18 – Осокоровая балка-I, 1/1; 19 – Николаевка-I, 4/5; 20 – Подгородное-X,12/1; 21 – Павлоград-I, 7/1; 22 – Петропавловка-V, 1/2; 23 – Петропавловка-IV,2/2; 24 – Жемчужное-I, 5/3; 25 – Октябрьское 3/4; 26 – Октябрьское 8/8; 27 –Каменка 12/2; 28 – Смелое 1/2; 29 – ст.Юзово (Пески) к.А; 30 – Любимое 15/1; 31– Бирюково 3/1; 32 – Кутейниковский-II, 4/1; 33 – "Дубенцовский"-I, 2/2; 34 –Саркел, нас.19/1, п.56; 35 – Валовый-I, 32/1; 36 – Высочино-VII, 22/1; 37 –Маяк-II, 3/1; 38 – Баранчук-II, 2/1; 39 – Волга-Чограй-42, 1/1; 40 – Новокубанск1/5; 41 – "Победа" 66/1; 42 – Редкодуб-I, 3/1.
Рис.2. Погребения с распрямленной гривной и котлом: 1 – Таганча; 2 – 13 кмЧаплинского водоканала 3/1; 3 – Скворцовка 1/1; 4 – Новониколаевка 6/1; 5 –Ильинка 2/4; 6 – Виноградное 30/3; 7 – Дубовики-I, 1/3; 8 – Александровка-II,2/1; 9 – Макеевка (р.Грузская); 10 – Новоивановка; 11 – Никифорово; 12 –Провалье 6/1; 13 – Вербовый Лог-IV, 7/1; 14 – Лола-II, 8/3; 15 – Нижняя Козинка;16 – Кисляковский-XIII, 2/2; 17 – Южный 2/1; 18 – Дмитриевская-I, 1/2; 19 – "229га" 2/1; 20 – Овальный/13; 21 – Малаи 5/2; 22 – Ильичево 3/3; 23 – Владиславовка7/1.
Рис.3. Распрямленные гривны, не имеющие форму жезла: 1 – Лучки, к. 2; 2 –Петропавловка-V, 1/2; 3 – Петропавловка-IV, 2/2; 4 – Новая Маячка 3/1; 5 –Октябрьское 3/4; 6 – Маяк-II, 3/1; 7 – Смелое 1/2; 8 – Саркел, нас.19/1, п.56; 9– Бурты, к.258; 10 – Лола-II, 8/3; 11 – Макеевка (р.Грузская). 1 – по:Dąbrowska, 1956. Tablica I, 6; 2, 3 – по: Шалобудов, 1990. Рис. 1; 4 – по:Евдокимов, 1992; 5 – по: Санжаров, Посредников, 1985; 6 – по: Парусимов, 2007.Рис.5, 6; 7 – по: Швецов, 1984. С.265. Рис.1, 3; 8 – по: Плетнева, 1963. Рис.23,4; 9 – по: Плетнева, 1973. С.8. Рис.1, 16; 10 – по: Синицын, Эрдниев, 1966.Табл.47, 4; 11 – публикуется впервые.
К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО КЛАССА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ: ДИНАСТИИСАНОВНИКОВ
Р. Ю. Почекаев
Ханская власть в тюрко-монгольских государствах Чингизидов небыла наследственной. Тем более, не приходится говорить онаследственной передаче административных должностей в пределаходного рода сановников. Тем не менее, в источниках неоднократноотмечается переход властных полномочий от высших сановников к ихсыновьям или другим близким родственникам, что позволяет говоритьо формировании целых сановных династий.
Подобная ситуация вполне характерна для тех улусов Монгольскойимперии, в которых в течение веков складывались и развивалисьбюрократические традиции, формировалась особая корпорациячиновников, передававших свои знания, навыки, ценности своимпотомкам. Совершенно иная ситуация сложилась в Золотой Орде, вкоторой таких бюрократических традиций не было изначально и так ине сложилось со временем. Тем не менее, и в золотоордынскойуправленческой практике складывались своеобразные династиисановников, из поколения в поколение занимавшие высокие посты. Врамках настоящей статьи мы намерены проанализировать основныегруппы представителей золотоордынской аристократии, которыезанимали высшие посты в государстве, а также способы легитимациипередачи ими этих постов своим сыновьям или другим близкимродственникам.
Исследователи обращались к данному вопросу и ранее. Так,значительную работу в этом направлении проделал В.П. Костюков,который в ряде работ подробно проанализировал деятельностьпредставителей нескольких ветвей рода Джучидов (в частности,потомков Шибана и Туга-Тимура) не только как претендентов наверховную власть, но и как потомственных полководцев и областныхправителей (Костюков, 2007; 2008; 2009). Ему удалось достаточночетко определить статус этих царевичей – государственных деятелейи военачальников, которые достигали значительных постов благодаряне только своей принадлежности к правящему роду, но и собственнымзаслугам. Не последнюю роль в их судьбе, впрочем, играли, помнению В.П. Костюкова и некие семейные «служебные» традиции.
О роли представителей рода Джучидов как областных правителейписал нумизмат А.Г. Гаев (Гаев, 2002), однако его выводы, на нашвзгляд, являются спорными, и ряд наместнических династий, которыеисследователь относит к Джучидам, скорее, следует счестьпредставителями племенной аристократии.
Большой интерес представляют исследования о клановой структуреЗолотой Орды, проводимые Ю. Шамильоглу и Д. М. Исхаковым.Американский историк Ю. Шамильоглу, кажется, первым обратилвнимание на роль и значение родовой аристократии как факторприхода к власти тех или иных сановников (Schamiloglu, 1984;1986). В дальнейшем его наработки были развиты казанскимисследователем Д. М. Исхаковым, который внес существенныеуточнения в выводы Ю. Шамильоглу. Не ставя целью детальнопроанализировать механизмы передачи власти внутри кланов, он, темне менее, вполне однозначно установил, что высшие военные иадминистративные посты в Золотой Орде занимали представителитюрко-монгольской племенной знати, благодаря своей принадлежностик тому или иному клану. Важным фактором прихода к власти,сохранения ее и передачи потомкам, согласно выводам Д. М.Исхакова, являлось место самого клана в системе золотоордынскойиерархии, его влияния на том или ином этапе истории Улуса Джучи(Исхаков, Измайлов, 2007; Исхаков, 2009).
Значительный вклад в изучение золотоордынского правящегокласса внес петербургский тюрколог А. П. Григорьев, в течениенескольких десятилетий исследовавший ярлыки ханов Золотой Орды ипредпринявший беспрецедентную попытку реконструкции изначальногосодержания документов, дошедших до нас только в иностранныхпереводах. Ему удалось установить подлинные имена ордынскихсановников, упоминаемых в ярлыках и соотнести их с лицами,упоминаемыми также в нарративных источниках. В ряде случаевисследователь также предпринимает попытки выявить родовые связитех или иных деятелей, проследить судьбу этих родов взолотоордынской правящей системе (Григорьев, Григорьев, 2002;Григорьев, 2004).
Следует также отметить работу воронежского историка Ю. В.Селезнева, посвященную элите Золотой Орды (Селезнев, 2009). Работапредставляет собой перечень имен, упоминаемых в источниках иисследованиях о Золотой Орде, и могла бы служить неплохим пособиемдля дальнейших исследований по данной тематике. Однако авторпоставил перед собой слишком глобальную цель – составить списоквсех представителей золотоордынской элиты за всю историю этогогосударства, что вызвало ряд проблем. Так, Ю. В. Селезневнесколько запутался в самом понятии «элита», включив в нее нетолько представителей правящего рода и высших слоев ордынскойаристократии, но также правителей вассальных государств, торговцеви мелких чиновников, однократно упоминавшихся в том или иномисточнике. Затем, книга представляет собой всего лишь алфавитныйсписок без систематизации персоналий по социальным группам,
происхождению, должностям. Кроме того, книга имеет и большоеколичество фактических неточностей (Halperin, 2009).
Таким образом, можно отметить, что задел по изучению историисановных династий Золотой Орды уже создан. Однако стоит отметить,что исследователи в большинстве своем исследователи ограничивалисьлибо попытками реконструкции структуры органов власти, либохарактеристикой конкретных политических и государственныхдеятелей, на основе которой делаются обобщающие выводы. Такимобразом, общее представление о составе золотоордынской знати (речьидет не о членах правящего рода, претендентах на ханский трон, аименно о высшей администрации Золотой Орды) и в особенности омеханизмах занятия ими ключевых административных постов вгосударстве на сегодняшний день практически отсутствует.Соответственно, мы намерены предпринять попытку по устранениюэтого пробела.
Одной из проблем отсутствия фундаментальных исследований поистории золотоордынской знати, несомненно, является довольноскудная источниковая база. Собственно золотоордынских нарративныхсочинений, как известно, не сохранилось, а официальных документовдо нас дошло всего несколько десятков, большинство которых, к томуже, в иностранных (русских, итальянских, латинских, польских)переводах.
Тем не менее, значительная информация о сановниках ЗолотойОрды, их происхождении и семейных связях содержится в сочиненииРашид ад-Дина «Сборник летописей», который, однако охватываетпериод до начала XIV в. включительно. Сведения о сановникахЗолотой Орды более позднего времени можно обнаружить в сочиненияхперсидских и среднеазиатских (тимуридских) историков – Хазрет-Вассафа, Гийас ад-Дина Али, Шараф ад-Дина Али Йазди, Хафиз-и Абру;немногочисленные, но от этого не менее важные, сведения содержатсяв китайской династийной истории «Юань ши». Безусловно, важнейшимисточником информации о правящем классе Золотой Орды и егоконкретных представителях являются ханские ярлыки, в которыхпоименно перечисляются представители высшего административногоаппарата этого государства. Ценность ярлыков как источникаувеличивается также за счет того, что они имеют конкретнуюдатировку, что позволяет более точно установить время пребываниятого или иного сановника у власти, соотнеся данные ярлыков сосведениями нарративных источников.
Безусловно, наибольшие возможности для прихода к власти изанятия высших постов в гражданской и военной администрацииЗолотой Орды были у представителей Золотого рода – прежде всего, у
потомков Джучи.1 Хотя каждый Джучид (как и любой потомок Чингис-хана по прямой мужской линии) уже в силу своего происхождения имелправо на удел, с которого мог получать доходы (Владимирцов, 2002,С. 396-397; Почекаев, 2009, С. 103), многие царевичи неограничивались ролью этаких «помещиков» и исполняли различныедолжностные обязанности, нередко передавая их по наследству.Наиболее ярко проявили себя на этом поприще потомки Шибана и Туга-Тимура – соответственно, пятого и тринадцатого сыновей Джучи.
Так, сам Шибан, как сообщают средневековые источники, проявилсебя талантливым и энергичным военачальником на службе у своегобрата Бату. Правда, по некоторым сведениям, старший брат поручалШибану не только военные операции: согласно сообщению Вильгельмаде Рубрука, Бату направил его навстречу хану Гуюку, которыйприближался к границам Золотой Орды со своими войсками, и во времяэтой встречи Шибан, якобы, отравил Гуюка, причем погиб и сам....2
Потомки Шибана унаследовали его таланты полководца, и ряд изних сделал неплохую карьеру на службе у золотоордынскихправителей. Так, например, Балакан б. Шибан и его племянник Ара-Тимур б. Байнал б. Шибан командовали золотоордынскими соединениямив войсках Хулагу, фактически являясь резидентами и проводникамиинтересов Джучидов в Иране. Так, когда Хулагу, согласно указусвоего брата, монгольского хана Мунке, был назначен правителемвсех завоеванных земель в Иране, Балакан вместе с другимиДжучидами в войсках Хулагу активно воспротивился этому акту. Врезультате против него было сфабриковано обвинение в колдовстве, иХулагу казнил его (примечательно, что его решение былосанкционировано Берке, правителем Золотой Орды, который, как главаДжучидов, должен был взять своего племянника под защиту). Послерасправы с Балаканом и другими военачальниками-Джучидами Ара-Тимуру удалось с небольшим количеством воинов вернуться в ЗолотуюОрду через Кавказский хребет. Не удивительно, что когдазолотоордынские ханы впоследствии развязали войну с Хулагу и егонаследниками за Азербайджан, потомки Шибана наиболее активнопроявили себя как военачальники на кавказском фронте. Так,известно, что войсками Золотой Орды в боевых действиях противХулагуидов в 1288-1290 гг. командовали Тама-Токта, сын Балакана, и1 На раннем этапе истории Золотой Орды, т. е. до ее выделения из составаМонгольской империи административные должности в ней занимали не только Джучиды– например, Кадан, сын Угедэя, или Мауци, сын Чагатая (Почекаев, 2006, С. 76).Но сведений о том, что их потомки остались на службе у Джучидов, нет – напротив,потомство этих царевичей связало свою судьбу с Монголией и Чагатайским улусом(Рашид ад-Дин, 1960, С. 99, 167).2 В. П. Костюков склонен признавать сведения Вильгельма де Рубрукаправдоподобными, хотя сам отмечает, что в других источниках Шибан фигурирует ипосле событий, связанных со смертью Гуюка (Костюков, 2008, С. 54).
Джучи-Буга, сын Бадакула: несомненно, среди мотивов, побудивших ихпринять участие в этих кампаниях, не последнее место занималаместь за казнь Балакана (Костюков, 2008, С. 59-71; 2009, С. 139).
Однако связывать военную карьеру Шибанидов на службе узолотоордынских ханов только с местью за родича было бы, наверное,неправильным. В. П. Костюков предположил, что между родами Бату иШибана существовало что-то вроде формального или неформальногосоглашения, в соответствии с которым Шибаниды из рода в родзанимали крупные военные посты в джучидской армии. Соответственно,в благодарность за то, что им эти посты предоставлялись, онистояли на страже интересов сарайских ханов. Наиболее важным этосоглашение оказалось в то грозное время, когда хан Токта выступилпротив всемогущего временщика Ногая и поначалу потерпелсокрушительное поражение, едва не был захвачен в плен и,соответственно, чуть не лишился трона, а заодно и жизни. Спасениепришло со стороны восточных огланов-военачальников, во главекоторых оказался именно Тама-Токта, возглавивший войска,поспешившие на помощь хану: узнав о приходе к Токте новых сил,Ногай отказался от намерения двинуться на Сарай и захватить хана.Примечательно, что ранее Тама-Токта являлся соратником Ногая поиранским походам, однако лояльность к ханскому роду оказаласьсильнее (Костюков, 2008, С. 87-88). Еще в конце XIV в. рядШибанидов по-прежнему демонстрировал лояльность ханскому трону,хотя потомки Бату и лишились его, уступив представителям другойветви: так, например, Али-оглан и Ильяс-оглан были полководцамихана Токтамыша из рода Туга-Тимура (Костюков, 2009, С. 146-147).
Особые отношения, вероятно, существовали между правящим вЗолотой Орде домом Бату и потомками его брата Туга-Тимура. Однако,в отличие от Шибанидов, Туга-Тимуриды сделали карьеру вадминистративной, а не военной сфере. Вероятно, это также связанос деятельностью самого Туга-Тимура, который во время отсутствияБату в своих владениях исполнял роль правителя Улуса Джучи, азатем помогал Берке (опять же – по поручению Бату) организоватькурултай в Монголии, на котором ханом был избран Мунке (Костюков,2007, С. 179). Соответственно, потомки Туга-Тимура также занималивысокие посты в гражданской администрации. Так, представителиодной из ветвей потомков Туга-Тимура были переведены в Крым вовремя правления хана Менгу-Тимура в Крым. По некоторым сведениям,Урук-Тимур, сын Туга-Тимура, от имени Менгу-Тимур-хана дажезаключил договор с генуэзцами о предоставлении им возможностиосновать свою колонию в Кафе (Canale, 1855, P. 154). Потомки Урук-Тимура к середине XIV в. окончательно закрепились на полуостровеулус-беками Крыма становились Тулек-Тимур, его сын Джанса и
сыновья Джансы – Али и Таш-Тимур (ср.: Гаев, 2002, С. 20-23).Крымские ханы Гиреи являлись прямыми потомками Таш-Тимура.
О статусе потомков Туга-Тимура в восточном крыле Золотой Орде(«Синей Орде»), в котором находились их основные родовые владения,сведений практически нет. Однако не лишено оснований мнение И. М.Миргалеева, предположившего, что Туга-Тимур и его потомки являлисьсвоеобразными «хранителями семейного очага» рода Джучидов(Миргалеев, 2009, С. 167-168). Подобная версия позволяет, вчастности, объяснить, почему именно Туга-Тимур заменял Бату надолжности правителя Улуса Джучи в его отсутствие. Логичнопредположить, что особый статус Туга-Тимура мог быть унаследованего потомками, что потом принесло им немалую пользу.
Однако что же заставляло Джучидов поступать на«государственную службу» и нести нередко обременительныеобязанности, отказываясь от роли беззаботных владетелейсобственных уделов, получающих без всякого труда доходы с них?Думается, ответ имеет в какой-то степени демографическоеобъяснение: чем больше рождалось сыновей у того или иного улусноговладетеля, тем на меньший удел (и, соответственно, меньшие доходы)мог рассчитывать каждый его потомок. Государственная же должностьгарантировала, что ее обладатель не затеряется средимногочисленных Джучидов, и его личные качества и таланты смогутбыть замечены и оценены. А это, в свою очередь, повышало шансы наханский титул.
Как убедительно доказал Т. И. Султанов, все Чингизиды – т. е.,прямые потомки Чингис-хана по мужской линии – имели равные правана трон. Поскольку четко определенного порядка наследования вЗолотой Орде (как и в Монгольской империи и других государствахЧингизидов) не существовало, существовало порядка пяти-шестиоснований для признания того или иного потомка Золотого родадостойным ханского трона, и личные качества, таланты, опыт, удачавходили в их число (Султанов, 2006, С. 87-101). Соответственно,Джучиды, не относившиеся к числу представителей старших ветвейрода или не являвшиеся старейшими в семействе, в борьбе за тронмогли рассчитывать только на собственные таланты, которые моглипроявить на военной или гражданской службе.
И этот результат не замедлил сказаться, как только ветвь Бату,представители которой признавались наиболее легитимнымипретендентами на ханский трон, утратила монополию на верховнуювласть, и у всех многочисленных потомков Джучи оказались равныеправа на трон. Потомки Шибана, апеллируя к заслугам своих предковполководцев, в течение 1360-1380 гг. занимали трон Золотой Ордыоколо десятка раз. Не меньше преимуществ было и у потомков Туга-Тимура. Так, например, согласно «Чингиз-наме», когда наместник
Синей Орды Тенгиз-Буга решил возвести на трон собственного хана-марионетку, его выбор пал на Кара-Ногая, являвшегося потомковименно Туга-Тимура. В. П. Костюков предположил, что такой выбормог быть связан с особым положением Туга-Тимуридов в Синей Орде,хотя допускал и вероятность «случайного стечения обстоятельств»(Костюков, 2007, С. 204). Несколько Туга-Тимуридов, занимавшихханский трон, происходили из крымской ветви рода и приходили квласти, очевидно, при поддержке своих родичей и крымской знати.Как бы то ни было, именно потомки Туга-Тимура в конечном счетеодержали победу в борьбе за ханский трон, положили конец смуте, ав дальнейшем в течение нескольких веков возглавляли и Казахскоеханство.1
Представители менее знатной аристократии Золотой Орды, неотносившиеся к роду Джучидов (в крайнем случае, связанные с нимродством по женской линии), тем не менее, также имели немаловозможностей для карьеры на ханской службе и, в свою очередь,основали значительное число сановных династий, передавая власть изпоколения в поколение. Аристократические династии, занимавшиевысшие посты в Золотой Орде можно подразделить на несколько групп.
Некоторые династии формировались из числа монгольской знати,пришедшей в Дешт-и Кипчак с Джучи и его ближайшими преемниками впервой половине XIII в. Так, например, Байху из племени хушин,эмир правого крыла войск Бату, на закате своих дней сделал своимпреемником собственного приемного сына Элдэке. Черкес, бекляри-бекпри хане Токте, был потомком другого видного военачальника Бату –Мунгету-нойона сиджиута (Рашид ад-Дин, 1952, С. 172, 183). Надополагать, именно эта «старая» аристократия поначалу занималавысшие посты в Золотой Орде. Однако уже к концу XIII в. она, по-видимому, уступила место тем кланам, которые породнились с ханскимдомом и тем, кто закрепился в качестве потомственных областныхправителей. По крайней мере, ни один род, представители которогозанимали высшие государственные посты в государстве Джучидов, неапеллировал к тому, что его предки завоевывали Дешт-и Кичпаквместе с сыновьями Джучи, они имели другие основания претендоватьна власть.
Соответственно, следующая группа сановников, получившихвозможность основать династии – близкие родственники ханскогодома, причем не обязательно ханов, но и ханш. Так, например,«старшим эмиром» при Бату был Ит-Кара из племени алчи-татар, а прихане Туда-Менгу, внуке Бату – Бек-Тимур, вероятно – потомок илиблизкий родственник Ит-Кары (Рашид ад-Дин, 1952, С. 111).
1 Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые относят Урус-хана и егопотомков, казахских ханов, к роду Туга-Тимура, а не Орду-Ичена, старшего сынаДжучи (В. П. Костюков, А. К. Кушкумбаев, Ж. Т. Тулибаева и др.).
Известно, что из племени алчи-татар была Боракчин, старшая женаБату, так что возвышение двух упомянутых нойонов вероятно, связанос тем, что они приходились ей близкими родственниками.
Но, наверное, наиболее яркие примеры назначения на высокиепосты ханских родичей из числа высшей золотоордынской аристократииимели место в правление хана Узбека. Его близким родственником(двоюродным братом по материнской линии) был Кутлуг-Тимур, которыйпосле прихода Узбека к власти занял пост бекляри-бека, а когда егоотношения с этим капризным и неуравновешенным монархомиспортились, стал улус-беком Хорезма. Его брат Мухаммад-ходжа сталдаругой Азака (Азова), другой брат – Сарай-Тимур являлсявоеначальником, а затем, когда хан Джанибек б. Узбек в 1356 г.завоевал Азербайджан и поставил там правителем своего сынаБердибека, он стал его везиром. Во время правления Бердибека вЗолотой Орде Сарай-Тимур стал золотоордынским везиром – вторым позначению сановником после бекляри-бека (Григорьев, Григорьев,2002, С. 12-14, 128-129). Сведений о том, какой пост занималХарун-бек, сын Кутлуг-Тимура, не сохранилось, однако, учитывая,что он был женат на дочери Узбека, можно предположить, что и онявлялся одним из высших ханских сановников.
С Кутлуг-Тимуром успешно соперничал за власть и влияние приханском дворе еще один родственник Узбек-хана – Иса-бек (Иса-Коркуз) из рода уйшин, который также был женат на ханской дочерии, соответственно, получил право прибавить к своему имени почетнуюприставку «гурген». Несколько раз он сменял Кутлуг-Тимура на постубекляри-бека, а его потомки, хотя и не заполучили этот пост, такжеоставались влиятельными сановниками. Так, Амат, сын Иса-бека,являлся одним из ближайших эмиров Джанибек-хана, на чьей дочерибыл женат, а Салчи, сын Амата и ханской дочери, в 1375 г. сталправителем Хаджи-Тархана – Астрахани (История, 2005, С. 222;Григорьев, Григорьев, 2002, С. 13-14; Мустакимов, 2009, С. 275-276). После 1380 г. представители этого рода в источниках неупоминаются – вполне вероятно, что они были уничтожены Токтамыш-ханом как сторонники потомков Бату.
По-видимому, родственными связями объясняется и возвышениерода, к которому принадлежал Могул-Буга, бекляри-бек хановДжанибека и Бердибека. А. П. Григорьев не без оснований отнес егок роду кунграт, со времен Чингис-хана связанному брачными узами сЗолотым родом. По мнению А. П. Григорьева, впрочем, в возвышенииМогул-Буги и его рода сыграла роль не только его принадлежность кэтому влиятельному клану, но и близкое родство с ханским домом:исследователь не без оснований предположил, что Могул-Буга могбыть братом знаменитой ордынской ханши Тайдулы – супруги Узбека,матери Джанибека и бабки Бердибека, при которых она пользовалась
большим влиянием в политических делах. А. П. Григорьев такжепредпринял попытку восстановить и семейные связи Могул-Буги, врезультате чего пришел к выводу о существовании весьмазначительного и влиятельного клана кунгратов. Согласно результатамего исследований, отцом Могул-Буги был Севинч-Буга, сановник ханаУзбека, упоминаемый в русских летописях как ханский посол в Тверь(1321 г.); также, по мнению А. П. Григорьева, у Могул-Буги былидвое братьев – Кутлуг-Буга, бекляри-бек при хане Джанибеке, вдальнейшем – даруга Солхата (Старого Крыма) и Урус-Буга, темникБездежа. Как видим, три представителя одного поколения занималивидные посты в золотоордынской администрации. Не остались встороне от ордынской политики и представители следующего поколенияэтого рода. Ильяс, сын Могул-Буги, стал бекляри-беком при ханеМюриде, а его тезка и двоюродный брат Ильяс б. Кутлуг-Буга, как иего отец, состоял на службе у Мамая и выполнял дипломатическиепоручения – в частности, в 1366 г. был отправлен послом в Литву иТверь (Григорьев, 2004, С. 145-146).1 Последние сведения опредставителях этого рода относятся к 1387 г., под которым Кутлуг-Буга упоминается в качестве наместника Солхата – как видим, онсумел благополучно пережить многочисленные перевороты и послужитьсначала Мамаю, а затем и его противнику-победителю Токтамышу(Григорьев, Григорьев, 2002, С. 213).
На высокие посты и передачу их потомкам претендовали также«провинциальные династии» - кланы, которые смогли закрепиться наопределенных территориях и впоследствии практически приобрелимонополию на административные должности в тюменах, расположенных впределах их родовых владений. К таковым, например, можно отнестисемейство правителей китайских владений Золотой Орды – Бок-Бугуили племени найман и его внука Терэла: в течение длительноговремени они управляли китайской областью Пинъянфу, которая послезавоевания империи Цзинь была передана под власть Бату. Любопытноотметить, что после того, как великий хан Хубилай конфисковалвладения золотоордынских правителей, расположенных в Китае иЧагатайском улусе, и власть этого рода в Пинъянфу прекратилась,Терэл остался на службе у Хубилая и неоднократно направлялся смиссиями именно к золотоордынским ханам (Храпачевский, 2009. С.246-247).
Гораздо более длительное время находился у власти род кият,некоторые представители которого сделали блестящую карьеру. Этотрод с сер. XIII в. был связан с Крымским полуостровом: знаменитый
1 Следует отметить, впрочем, что генеалогические построения А. П. Григорьевабыли неоднозначно восприняты специалистами. Так, В. В. Трепавлов весьмакритически отозвался о «семье, искусственно выращенной в “лаборатории” историка»(Трепавлов, 2007. С. 345).
золотоордынский военачальник Бурундай, происходивший из киятов,участвовал в покорении Крыма на рубеже 1230-1240-х гг. и,вероятно, получил здесь владения. Его потомки уже в начале XIV в.стали правителями-темниками Солхата и оставались таковыми втечение полувека. Крымскими темниками были Тулук-Тимур, его сынКутлуг-Тимур, внук Али (История, 2005. С. 259, 294). Другой сын(брат?) Тулук-Тимура, Иса (Исатай), стал основателем новой«провинциальной династии»: по указу хана Узбека он в 1320-е гг.стал наместником хана в Синей Орде. Длительное время управляя этимрегионом, он закрепился здесь, приобрел поддержку местногонаселения и, пользуясь ослаблением ханской власти после Узбека,сумел сделать свой пост наследственным: после его смерти новымнаместником левого крыла стал его сын Джир-Кутлуг, а когда и онпогиб, его сменил его собственный сын Тенгиз-Буга (Утемиш-хаджи,1992. С. 109). Родственник Тенгиз-Буги, знаменитый Мамай, опираясьна могущество своего рода, сумел добиться наивысшего в ЗолотойОрде поста бекляри-бека, который занимал около двух десятилетий.При этом он не терял связей с Крымом, который в течение 1360-1370-х гг. оставался его опорным пунктом: ведь именно здесь находилисьего родовые владения, и отсюда он черпал ресурсы для борьбы заобъединение Золотой Орды.
К числу «провинциальной аристократии» можно отнести и еще одинрод, известный в истории Золотой Орды – семейство Суфи, такжепроисходившее из племени кунграт. Основатель этого рода, Нангудай,был эмиром хана узбека и даже женил своего сына на его дочери.Однако этот клан сделал ставку не на родство с ханским домом, а насвои родовые владения: Нангудай был улус-беком Хорезма, и поэтомукогда в Золотой Орде в начале 1360-х гг. началась смута, и самродоначальник погиб, его потомки фактически отделили Хорезм отЗолотой Орды и стали править самовластно. Сначала правителями былисыновья Нангудая – Хусайн-Суфи и Йусуф-Суфи, затем – представителитретьего поколения рода, пока последний из них, Сулейман-Суфи в1388 г. не был окончательно изгнан из Хорезма Тимуром (Йазди,2008. С. 75, 77, 126)1.
Еще одна группа аристократических кланов не попадает ни в однуиз вышеперечисленных категорий. Речь идет о племенныхпредводителях, которые добились власти и сумели сохранять ее всвоем роду благодаря могуществу возглавляемых ими племен, т. е.племена которых являлись гегемонами в Дешт-и Кипчаке.
1 Представители рода Суфи продолжали управлять Хорезмом и в XV – нач. XVI вв.как вассалы сначала тюменских Шибанидов, затем Тимуридов, пока не былиокончательно уничтожены Мухаммадом Шайбани-ханом в 1505 г. (Бартольд, 2002. С.548-549).
Наиболее известным таким кланом в истории Золотой Орды былимангыты. Его родоначальник Идигу уже на рубеже XIV-XV вв. основалфактически самостоятельно государство – Мангытский юрт (будущуюНогайскую Орду), однако при этом не только не устранился отзолотоордынской политики, но и обеспечил своим потомкам правопретендовать на пост бекляри-бека Золотой Орды. С конца XIV в. идо 1550-х гг. (когда имели место последние попытки восстановленияДжучидской державы, фактически упраздненной в 1502 г.) мангытскиебеки – сыновья, внуки, правнуки и даже праправнуки Идигу –занимали пост бекляри-бека в Золотой Орде, Тюменском, Астраханскоми Крымском ханствах (Трепавлов, 2001. С. 78 и след).
Аналогичную роль сыграл клан ширинов – правда, не в ЗолотойОрде, где ширинские беки были всего в числе ближайших ханскихэмиров, а в раннем Крымском ханстве, где они, подобно мангытам вЗолотой Орде, из поколения в поколение занимали пост бекляри-бека.Интересно отметить, что даже борьба за этот пост зачастую шла не спредставителями других влиятельных крымских родов, а внутри одногорода – между дядьями и племянниками, родными и двоюроднымибратьями и пр. Так, например, в 1473 г. на пост бекляри-бекаКрымского ханства претендовали сразу три представителя рода ширин– братья Эминек и Кара-Мирза и их племянник Шейдяк, сын прежнегобекляри-бека Мамака. В результате их распри хан Менгли-Гирей, втечение двух лет пытавшийся лавировать между членамимогущественного клана, передавая пост то одному, то другомупретенденту, в 1475 г. был свергнут с трона, а Крым попал подсюзеренитет Османской империи (Гайворонский, 2007. С. 45-60).
Итак, мы выявили группы золотоордынских аристократическихсемейств, которые имели возможность закреплять высокиегосударственные посты и, следовательно, власть, внутри одногорода. Каковы же были механизмы этого закрепления? Иными словами –как сановники легитимировали передачу власти своим родичам, неузурпируя тем самым властные полномочия?
В ряде случаев имела место своего рода «рекомендация»:сановник, оставляя пост, рекомендовал хану заместителя из числасвоих родичей, и тот формально закреплял за последнимсоответствующую должность. Так, например, вышеупомянутый Байху изплемени хушин заявил Бату, что по старости и здоровью не всостоянии исполнять свои обязанности и порекомендовал на свой постсобственного пасынка Элдэкэ, который длительное время был егозаместителем (Рашид ад-Дин, 1952. С. 172). В начале XV в.всесильный золотоордынский временщик Идигу из рода мангыт (Едигейрусских летописей) был вынужден оставить пост бекляри-бека,который занял его брат Иса-бек (Трепавлов, 2001. С. 74). Нетпрямых указаний источников на то, что именно Идигу «рекомендовал»
брата, однако есть все основания предполагать именно такойвариант: вынужденный оставить высокий пост в силу ряда неудач,которые он потерпел в предшествующие годы, Идигу, чтобы нелишиться власти и могущества, по-видимому, передал пост брату,находившемуся под его влиянием.
Порой основанием для передачи поста потомкам предыдущего егообладателя могли стать заслуги предков. Именно такое основание,по-видимому, привело к тому, что потомки Шибана из поколения впоколение занимали видные армейские посты. Аналогичным образом,потомки Исатая кията сохраняли пост наместников Синей Орды – зато, что их предок помог хану Узбеку занять ханский трон (Утемиш-хаджи, 1992. С. 109).
Менее легитимным, но от этого не менее редким основаниемпередачи власти родственникам видного сановника являлись семейныесвязи с ханским родом. Так, например, вероятно, именно в силуродства с ханшей Тайдулой ее предполагаемый брат Могул-Буганеоднократно занимал пост бекляри-бека при ханах Джанибеке,Бердибеке и Наурузе. То же самое относится к семейства Кутлуг-Тимура, двоюродного брата Узбека, и Исы, зятя этого хана: именноблагодаря родству с ханским домом они сами добивались постабекляри-бека и получали возможность добывать высокие посты своимродственникам. Впрочем, и сами сановники, вероятно, осознавалипорочность такой практики: не случайно видные политические деятелиЗолотой Орды, даже имея родственные связи с ханским домом,предпочитали использовать другие основания для своих претензий навласть. Так, например, бекляри-беки Мамай и Идигу не фигурируют висточниках с титулом «гурген» (ханский зять), хотя имели на негополное право, поскольку были женаты на ханских дочерях: Мамайпредпочитал опираться на свои родовые владения, а Идигу – намогущественное племя мангыт, являвшееся в то время гегемоном вДешт-и Кипчаке.
При сильных золотоордынских правителях и ханах (таких какБату, Менгу-Тимур, Токта) племенные аристократические роды неимели возможности закрепиться на определенных территориях: этимонархи периодически «тасовали» их владения именно с целью недопустить, чтобы удельные владетели сумели «пустить корни» вкаких-то местностях, приобрести поддержку местного населения ипроявить свои сепаратистские устремления. Однако при последующих,менее могущественных монархах это все-таки произошло. В результатепоявилось новое основание легитимации власти сановников – ихродовое господство в определенных уделах: ханам приходилосьпросто-напросто смиряться с тем, что власть в каком-либо уделепередавалась из поколения в поколение и лишь официально своим
указом подтверждать переход власти, фактически осуществлявшийсябез их воли.
Таким образом, в поздней Золотой Орде чаще всего легитимацияимела «давностный» или «прецедентный» характер: представителиодного и того же рода в течение ряда лет занимали определенныйпост, неплохо справлялись со своими обязанностями и имелиподдержку как со стороны ханского семейства, так и племеннойаристократии. Вероятно, именно так передавались должностинаместников Солхата в роду киятов, улус-беков Хорезма в кланеСуфи, бекляри-беков Золотой Орды в клане мангытов и бекляри-бековКрымского ханства в роду ширин.
В ряде случаев имели место своеобразные «коллизии» различныхоснований для претензий на тот или иной пост. Так, например, приУзбеке пост бекляри-бека попеременно занимали его двоюродный братКутлуг-Тимур и зять Иса: оба они претендовали на власть в силуродства с ханским домом. Аналогичным образом после смерти в 1358или 1359 г. Кутлуг-Тимура, наместника Солхата из рода кият, ханБердибек отверг претензии на эту должность его родственника Мамая,потомка целой плеяды наместников, и передал Солхат в управлениеКутлуг-Буге – брату своей бабки Тайдулы. Видимо, хану пришлосьотдать этот почетный пост своему двоюродному деду, чтобы выказатьуважение его роду: предоставить ему, например, пост бекляри-бекаон не мог, потому что этот пост занимал Могул-Буга, родной братКутлуг-Буги (ср.: Григорьев, Григорьев, 2002. С. 211, 213).
Даже при передаче власти в рамках одной сановной династиииспользовались различные механизмы передачи власти в руках этогорода. Наиболее ярким примером тому, пожалуй, может служить судьбазолотоордынских бекляри-беков из рода мангыт. Так, первым бекляри-беком из этого рода стал эмир Балтычак (еще в Синей Орде, прихане Тимур-Малике), возможно – на основании своего родства сханским домом (на его сестре был женат Кутлуг-Тимур, один изкрымских Туга-Тимуридов). Его сын Идигу (Едигей) мог претендоватьна пост бекляри-бека уже на том основании, что прежде онпринадлежал его отцу. Затем бекляри-беком стал Иса, брат Идигу –как мы предположили, по его «рекомендации». А в дальнейшеммногочисленные сыновья, внуки и правнуки Идигу становилисьханскими бекляри-беками либо на основании традиции – вслед засвоими отцами и братьями, – либо просто как предводители самогомогущественного из золотоордынских племен в XV-XVI вв.
Кроме того, бывали случаи, когда потомки или другиеродственники получали не тот пост, который занимал ихпредшественник, а другой – менее (в редких случаях – более)значительный. Такое случалось в результтате изменения политическойситуации – прихода к власти нового монарха, ослабления или
усиления позиций клана, из которого происходил сановник и т. п.Так, например, если предки Мамая были даругами-темниками Солхата,то ему удалось достичь поста бекляри-бека. Обратный примеркасается еще одного даруги Солхата – на этот раз эмира Зайн ад-Дина Рамадана из племени Сарай: он пользовался влиянием припоследних ханах из дома Бату, а его сын Хасан после прихода квласти Токтамыша (из рода Туга-Тимура) не сумел удержать прежнихпозиций и был вынужден довольствоваться ролью ханского посла, хотяи выполнявшего весьма ответственные поручения хана в Египте иЛитве (Григорьев, Григорьев, 2002. С. 174).
Однако, в любом случае, утверждение на том или иномгосударственном посту конкретного сановника – даже если онпроисходил из могущественного клана, представители которого изпоколения в поколение занимали соответствующий пост (как мангыты вЗолотой Орде или ширины в раннем Крымском ханстве постояннозанимали пост бекляри-беков) – осуществлялось указом хана,поскольку формально в Золотой Орде (и выделившихся из нее пост-ордынских государствах) источником власти являлся хан, и только онмог делегировать соответствующие полномочия тем или инымсановникам.
В заключение отметим, что в настоящей статье мы лишь затронуливопрос о составе господствующего класса Золотой Орды. Безусловно,наши построения достаточно схематичны, и при анализе историикаждого конкретного аристократического клана, находившегося увласти, вполне могут быть выявлены некие особенности. Однако это –предмет комплексного исследования с привлечением специалистов вобласти дипломатики, археографии, эпиграфики, просопографии,статистики и других специальных дисциплин.
Кроме того, на сегодняшний день практически нет информации опрофессиональном чиновничестве Золотой Орды – о работниках ханскойканцелярии, диванов и т. д., за исключением единичных упоминанийих в отдельных исторических сочинениях. Доступная сегодняисточниковая база позволяет сделать вывод, что чиновники в ЗолотойОрде, по-видимому, не пользовались таким значением, как вгосударствах с развитой бюрократической культурой и поэтому,скорее всего, не создавали таких династий, как, например,семейство Махмуда Хорезми (Махмуда Йалавача), фактическиуправлявшее Чагатйским улусом во второй пол. XIII – начале XIVвв., везирские династии Джувейни и Рашид ад-Дина в хулагуидскомИране или род бухарца Сейида Аджаля, правивший областями в империиЮань. Однако, вполне возможно, что по мере обнаружения новыхисточников по истории Золотой Орды мы сможем получить большеинформации о чиновничестве и будем в состоянии добавить к
выявленным нами группам золотоордынских сановников также ичиновников – выходцев из других государств.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:Бартольд В. В. Хорезм // Бартольд В. В. Работы по исторической географии. М.,2002. Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализмВладимирцов Б. Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002.Гаев А. Г. Генеалогия и хронология Джучидов. К выяснению родословиянумизматически зафиксированных правителей Улуса Джучи // Древности Поволжья идругих регионов. Вып. IV. Нумизматический сборник. Т. 3. Н. Новгород, 2002. Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1: Крымские ханы XV-XVI столетий иборьба за наследство Великой Орды. Киев; Бахчисарай, 2007.Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам: Источниковедческийанализ золотоордынских документов. СПб., 2004.Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV векаиз Венеции: Источниковедческое исследование. СПб., 2002.История Казахстана в арабских источниках. Т. I: Сборник материалов, относящихсяк истории Золотой Орды. Т. I. Извлечения из арабских сочинений, собранные В. Г.Тизенгаузеном. Алматы, 2005.Исхаков Д. М. Исторические очерки. Казань, 2009.Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Клановая структура Улуса Джучи // История икультура Улуса Джучи. 2006. Бертольд Шпулер. «Золотая Орда»: традиции изучения исовременность. Казань, 2007. Йазди, Шараф ад-Дин Али. Зафар-наме. Книга побед Амира Темура. Ташкент, 2008. Карши, Джамал. Ал-Мулхакат би-с-сурах (История Казахстана в персидскихисточниках. Т. I. Алматы, 2005. Костюков В. П. Улус Джучи и синдром федерализма // Вопросы истории и археологииЗападного Казахстана. 2007. № 1. Костюков В. П. «Железные псы Батуидов» (Шибан и его потомки в войнах XIII в.) //Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2008. №. 1. Костюков В. П. Шибаниды и Тукатимуриды во второй половине XIV в. // Вопросыистории и археологии Западного Казахстана. 2009. № 1. Миргалеев И. М. Приход к власти тукатимуридов: вопросы престолонаследия вЗолотой Орде // Национальная история татар: теоретико-методологическое введение.Казань, 2009. Мустакимов И. А. Еще раз к вопросу о предках «Мамая-царя» // Тюркологическийсборник. 2007–2008. М., 2009.Почекаев Р. Ю. Батый. Хан, который не был ханом. М., 2006.Почекаев Р. Ю. Право Золотой Орды. Казань, 2009.Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Ч. 1. М.; Л., 1952.Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.; Л., 1960.Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М., 2001.Трепавлов В. В. Предки «Мамая-царя». Киятские беки в «Подлинном родословеГлинских князей» // Тюркологический сборник. 2006. М., 2007.Селезнев Ю. В. Элита Золотой Орды. Казань, 2009.Султанов Т. И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2006. Утемиш-хаджи. Чингиз-наме, Алма-Ата, 1992.[Храпачевский Р. П.] Золотая Орда в источниках. Т. III: Китайские и монгольскиеисточники. М., 2009.Canale M. G. Delle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalleorigini fino ai dì nostri, Commentari Storici. Genova, 1855.
Halperin Ch. J. [Рец. на:] Ю. В. Селезнев. Элита Золотой Орды: Научно-справочноеиздание. Казань: Издательство “Фен” Академии Наук Республики Татарстан, 2009.232 с., ил., таб., карты. ISBN: 978-5-9690-0068-1 // Ab Imperio. 2009. № 4. ОтHomo Imperii к Civitas: Проекты воображаемых имперских пространств.Schamiloglu U. The Qaraçï Beys of the Later Golden Horde: Notes on theOrganization of the Mongol World Empire // Archivium Eurasiae Medii Aevi. Vol.4. 1984. Schamiloglu U. Tribal Politics and Social Organization in the Golden Horde. Ph.D. Diss. Columbia, 1986.
БУЛГАРСКИЙ УЛУС ЗОЛОТОЙ ОРДЫ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
К.А. Руденко
Образование золотоордынского государства в XIII в. вызвалозначительные изменения в материальной культуре населениятерриторий, вошедших в его состав. Инновации стали заметными, ужеспустя несколько десятилетий после завершения походов монгольскихвойск. Диспропорция в темпах и масштабах экономического развитияцентра и периферии империи, обозначившаяся в начале XIV в.,привела к середине столетия к формированию локальных илипериферийных центров. Одним из таких центров стало бывшеегосударство Волжская Булгария – один из улусов1 государстваДжучидов (Фахрутдинов, 2006, С. 71; ср.: Кривошеев, 2006, С. 173;Трепавлов, 2002, С. 484-485).
Общая характеристика периода. Возрождение булгарской экономикипроизошло в конце XIII - начале XIV в. Определяющим моментом вэтой ситуации явилось восстановление на этой территории городов,существовавших до монгольского нашествия. Однако распределение ихполитических функций было пересмотрено монгольской администрацией.Вероятно, это произошло не сразу. Хотя лидирующая роль вадминистративном управлении Улусом переходит к городу Булгару, нои Биляр до 90-х гг. XIII в. играл определенную роль в политическойжизни этого района. Какое-то время Биляр имел право монетнойрегалии - чеканил серебряную монету с обозначением места чеканки –Биляр. Очевидно, что Биляр возродился после тотального разгрома1236 г., но потерял прежнее значение столичного города. Городаюжной части Булгарии после нашествия оправиться в полной мере таки не смогли. Зато существенно активизируется экономическая жизньна северной окраине Улуса. Открытость внутренних границ внутриЗолотой Орды стала решающим стимулом в подъеме Предкамских земель.
Период правления от Бату-хана до Узбека один из самых сложных вистории края. До 1248 г. можно предполагать размещение ставки Батув Поволжье и прямой контроль завоевателей над Средним Поволжьем. В1247 г. Бату был в Орде, где его застали Андрей и АлександрЯрославичи (Федоров-Давыдов, 1992, С. 75-76). Возвращение Бату вПоволжье произошло в 1252 г.; во время его отсутствия в Ордеправил Сартак, ставка которого оставалась в районе Булгара. Началостроительства Сарая в 1252-53 гг. уменьшило количество монгольскихотрядов в Булгарском Улусе, но привело к массовому перемещению
1 В данном случае мы рассматриваем термин улус как понятие, связанное с административно-территориальным структурированием Золотой Орды, но не в отношении вассально-даннических отношений, а как формальное наименование отношений подчиненности.
людских ресурсов из региона на новостройку. Вместе с тем, значениеБулгара на протяжении всего XIII в. вероятно не уменьшилось. Нафоне отсутствия массовых денежных эмиссий XIII в. на нижневолжскихгородищах (Блохин, Яворская, 2006, С. 40-41), по сравнению сБулгарским Улусом, можно предполагать, что его роль в качествеполитико-экономического центра была достаточно стабильной.
После смерти Бату в 1256 г. на престоле недолгое время былСартак, а затем Улагчи, правившие до 1257 г. одновременно с Берке.После смерти Улагчи в 1257 г. двоевластие кончилось в пользу Берке(Федоров-Давыдов, 1992, С. 81, 82). С 1256 г. правители ЗолотойОрды ставку в Булгаре уже использовали не постоянно.
Северные границы Булгарского Улуса в конце 1250-х гг.проходили по правобережью Камы (Фахрутдинов, 1975; Егоров, 1985,С. 44-45), что мало изменилось в первой-второй трети XIV в.(Егоров, 1985, С. 49-50).Только в 1360-90-х гг. происходит оттокнаселения на север в район Казанки (Егоров, 1985, С. 54).
Земли Среднего Поволжья стали опорой монгольской администрациина северо-западной периферии Золотой Орды. Политика Бату вотношении покоренных земель была достаточно гибкой. Промонгольскаяполитика Александра Невского до начала 1250-х гг. дала «передышку»русским территориям, хотя экспроприация материальных ценностей иувод в плен населения из Руси практиковалось монголами и в этовремя. В 1250-е гг. русско-монгольские отношения резко обостряются(Егоров, 1985, С. 180).
Походы на Русь зарождались в официальном центре монгольскойвласти - новых монгольских городах на Нижней Волге. Булгарскиеземли не входили в маршруты монгольских войск. Монголы двигалисьвдоль Волги, переходя ее в районе современного Волгограда и далеепрямо к Дону, форсируя его через переправу, и двигаясь далее поего правому берегу к броду у станицы Казанской и затем по левомуберегу к верховьям Дона, к современному Воронежу, и далее послепереправы через р. Воронеж в Рязанские земли. Второй путьотличался от первого движением после переправы через Волгу врайоне Жигулей (Самарская Лука), прямо на запад, проходя южнеесовременной Пензы и приводя в муждуречье Прони и Мокши, минуяРязань, прямо в район Мурома, Владимира, Ростова и Ярославля(Егоров, 1985, С. 181-182).
«Неврюева рать» 1252 г, походы 1278 и 1281 г так же обходилиБулгарию, которая испытывала в это время своего рода подъем.Торговля хлебом и пленными, а также пошлины с торговых операцийбыстро поднимали экономику Булгарского Улуса. Традиционный налог сторговли и ремесла по шариату (а именно им, очевидно,руководствовалась администрация Булгара) – зякат составлял 2,5 %от стоимости проданного товара (Ашрафян, 1983, С. 114).
Монгольская администрация контролировала эту стратегически важнуюобласть и можно предполагать, что Булгарский Улус, в силу этогобыл тесно связан и с рядом военных операций на Руси. Это можнопредполагать в отношении походов конца 1280-х – начала 90-х гг.(1288). Не исключено, что набег Елортая 1288 г. и «Дюденева рать»,1293 г. возглавляемая братом Токты Дюденем направлялась избулгарской области. В 1293 г., судя по разгромленным русскимгородам, первыми из которых были Суздаль и Владимир, маршрутмонгольских отрядов мог начаться, как предполагал В.Л.Егоров черезСамарскую Луку (Егоров, 1985, С. 185), но также и через Булгарию,по пути, по которому впоследствии двигались татарские отряды вначале XV в.
Особенностью этого времени было усиление внутренних миграций вВолжско-Вятском регионе (Каргалов, 2004, С. 192-193). Добровольноеи насильственное переселение охватило значительные территории.Одним из основных путей этого было северо-восточное направление.По Каме отдельные группы беженцев спускались вниз и оседали вБулгарской области или уходили на восток к кочевьям «паскатир» -угров.
Во второй половине XIII в. агонизировавшая экономика бывшейБулгарии довольно быстро перестраивалась, включая в себя новыеэлементы культурной и хозяйственной жизни. Вместе с тем наметиласьтенденция и к стабилизации экономической и политической ситуации.Упразднение центральной власти и установление системы баскаков –монгольских наместников к концу XIII столетия завершило этапперестройки экономики страны и окончательной смены политическихсил.
Размещение монгольского ограниченного воинского контингента. Вотличие от многих других районов Монгольской империи в 1240-х гг.и, вероятно, позже в Булгарии были «расквартированы» воинскиемонгольские части, как это имело место в других частях Улуса Джучи(Вернадский, 1997, С. 130-133). Более чем вероятно, что опустевшиеместа (пустоши) использовались под пастбища монгольской исоюзнической им конницы. Часть монгольских представителейнаходилась в городах, часть имели ставку в областях отчуждения, подкоторые отводились удобные для кочевания территории. Организацияподобных зон, как и система обеспечения постоя монгольских отрядовв 1250-х гг. строилась на иерархии ленников (см.: Кривошеев, 2006,С. 161).
В правление Узбека устанавливается новая структураадминистративного деления территории. Болгар становитсяполитическим центром Закамья и западной части Предкамья (примернодо Чаллынского городка). В Джукетаусскую область входили земли поВятке, Каме, Восточное Закамье и Предкамье, включая, расположенные
здесь старые укрепленные центры, – Керменчук и Елабугу. Этиадминистративные границы были весьма условны, особенно на востоке,западе и юге, там, где к земледельческим районам подходила степь.Пойменная часть территории довольно скоро становится местомпостоянных кочевок нижневолжских кипчаков. Одновременно с западапо Волге через Предволжье с конца XIII в. проникает мордовское ирусское население.
Булгар и Булгарский Улус в золотоордынское время, как ипрежде, являлись центром транзитной торговли. Через Булгар шлидороги в далекий Афкул (Акикуль) и далее в Сибир и Ибир, послечего можно было добраться и до Чулымана (Фахрутдинов, 1984, С.115). Не менее активно велась здесь торговля и живым товаром –людьми.
В правление Джанибека-Хызра происходит усиление центрально-административной системы. Прекращаются булгарские монетныеэмиссии, усиливается административный контроль вовнутриэкономической сфере. В Болгаре образуется целый район,населенный высокопоставленными чиновниками из Каракорума и Сарая.Полицейские функции выполняют расквартированные на постой каквблизи Булгара, так и в самом городе татарские кочевые отряды.
Приток населения из районов Вятки в булгарские землипроисходит с середины XIV столетия, что во многом было обусловленоактивизацией Вятской республики. Движение на Запад имело инойхарактер, и было связано, видимо с единой экономической зонойвключавшей и земли мордвы с центром в Мухши.
Кризис золотоордынского государства, начавшийся в 60-х гг. XIV в.коренным образом изменил как политическую, так и культурную жизньобласти. Усилили это и неблагоприятные природные и социально-политические факторы (Смирнов, 1951; Фахрутдинов, 1987, 1984)..
Численный состав населения Золотой Орды впрочем как и вся системажизнеобеспечения были серьезно нарушены после начала чумнойэпидемии в 1360-х гг. Обезлюдевшие районы страны, заброшенныеполя, вымершие города… Эта безрадостная картина усугубляласьусиливающимся политическим кризисом в стране. Нестабильностьцентральной власти и ее ослабление стало основанием дляэкономического и культурного обособления городов на окраинахимперии и подчиненных им «областей» – Болгара и Джукетау.
Активно в среду местного населения Булгарского Улуса вливаютсянижневолжские группы кочевников и население округи столичныхгородов с непостоянной оседлостью. Письменные источники определяютих термином «татары», а территорию их проживания как «татарскаяземля». Анализ материала позволяет выделить несколькоэтнографических районов, где проживало как оседлое, так и кочевоенаселение. Это курналинско-камский район (Песчаноостровной
могильник, селища Дамба I, III) и балымеро-волжский (Балымерскийкурганный могильник и Полянское селище). Территориально их можноограничить следующим образом. Ядро первого района составлялатерритория поймы Камы от слияния Курналинки и Архаровки и потечению Курналинки до начала надлуговой террасы. Западную границуэтого района можно условно определить погребением у с. Лебедино;северную – погребением на Рождественском могильнике и селищемЧакма; южную – селищем у с. Сухие Курнали; восточную – районом с.Алексеевское-Саконы. Второй район имеет менее четкие границы. Внего, видимо, входили пойменная часть Волги - от Полянок (на местебывшей д. Зеленовки известны находки предметов вооружения) и доБолгар. Ядром территории были Балымери. Не исключено, что районперекочевки захватывал и центральные районы Закамья – Билярск иего округу (Руденко, 2002, С. 154-165).
Вскоре под именем «татар» начинают фигурировать и ногайскоенаселение, активное освоение которыми Восточного Поволжья втечение 1390-1420-х гг. (Трепавлов, 2002, С. 71, 459) привело ксерьезным изменениям, как в жизненной территории, так и вприоритетах в центральном административном управлении Улуса.
Булгарский улус как часть Золотой Орды: городская культура.Монгольское завоевание и последующее существование в рамкахИмперии оказалось для булгарских земель судьбоносным. «Сценарий»экономического развития по «европейской модели», включавшийрегиональное членение территории на самостоятельные экономическиеи культурные зоны, характерные для Европы (Бродель, 1994, С. 47) ипоздней домонгольской Булгарии в Булгарском Улусе был упразднен.Булгарские города, как и большинство городов завоеванных монголамив старых культурных центрах, управлялись имперской администрациейбез вмешательства кочевой аристократии (Федоров-Давыдов, 1983, С.215).
Не позднее первой четверти XIV в. в Булгарском Улусе, причемулус в данном контексте может быть сопоставлен с европейскойпровинцией (Бродель, 1992, С. 287-288), оформляется система даруг,как территориально-административных районов. Эти территориально-административные районы, отчасти воспроизводили внутреннее делениена булгарские княжества или в европейской терминологии герцогстваи графства и могут быть охарактеризованы термином – «край» поФ.Броделю (Бродель, 1992, С. 286-287). Этот шаг закрепил, стихийносложившийся автономный провинциальный рынок, причем, по мереразвития самой Золотой Орды автономный провинциальный рынокраскрывался в международном рынке и формирующемся национальном(Бродель, 1992, С. 289-290). Специфика монгольского государства иее части Золотой Орды, как открытой системы без таможенных граници пошлин позволяла осуществлять торговые операции не только внутри
государства, но и за его пределами. Под термином «национальный» вданном случае мы имели в виду внутренний рынок Золотоордынскогогосударства.
Эта система, первоначально просуществовав не более полувека(1330-80-е гг.) угасла в период упадка Золотой Орды, ее экономикии торговли. Но сама организационная суть территориально-административных районов продолжилась в системе даруг эпохиКазанского ханства.
Не случаен выбор определенных городов, становившихсяордынскими административными центрами, (например, Болгар), околокоторых находились места сезонных кочевок монгольскойаристократии. Г.А.Федоров-Давыдов писал: «В конце XIII—начале XIVв. в улусах проводятся аналогичные реформы ханов Газана, Токты,Кепека, цель которых — упорядочение торговли, денежного дела иохранение оседлого населения от грабежей кочевой знати. С этоговремени имеет место интенсивный рост в улусах городов и торговли,поощряемый ханами. Ханская власть выступает как мощный факторорганизации градостроительства. Города в степном поясе возникаютглавным образом как центры администрации и при этом обычно врайонах зимовий орды» (Федоров-Давыдов, 1983, С. 215-216).
Вместе с тем, общеимперской тенденции к строительствусовершенно новых городов в старых земледельческих районах, как вСредней Азии здесь мы не наблюдаем. Это не случайно: монгольскаяадминистрация сохранила формальную структуру, сложившуюся вдомонгольской Булгарии, точнее сказать законсервировала ее, придавновое содержание в системе управления и администрирования ЗолотойОрды. Подчеркнем, что искусственный характер «булгарскогозолотоордынского Ренессанса», вполне очевиден. «Строительствоновых городов в быстрые исторические сроки, искусственностимулированное ханской властью на базе развития принудительноготруда и использования массы, захваченных во время завоевательныхвойн пленников, характерно для степных и некоторых оседлых районовмонгольских государств XIII—XIV вв.» (Федоров-Давыдов, 1983, С.216 и сл.). Утверждать, что нижневолжские города возводилисьтрудом «свободных» строителей в кратчайшие сроки (Блохин,Яворская, 2006, С. 33) в условиях иноземного господства и безвнеэкономического принуждения, не реально.
Унификация городской жизни Булгарского Улуса, являвшейся вомногом калькой столичной жизни Сараев, однако не стала причинойнивелировки жизни булгарской провинции, что являлось ярковыраженной тенденцией домонгольского времени в Булгарии.Характерно, что в Европе шел аналогичный процесс, но на другихоснованиях: «на своеобразие городов накладывается ярко выраженноесвоеобразие провинций… монархия не сгладила различий между
провинциями. Она лишь приспособилась к ним и постараласьиспользовать их себе на благо при решении собственных задач»,отмечал Ф.Бродель (Бродель, 1994, С. 59).
В развитии золотоордынского города Булгарского Улуса второйопределяющей константой экономического и культурного развития сталИслам. Как справедливо отметил Ф.Бродель «Ислам не только религия,это очень активная культура, это образ жизни» (Бродель, 1994, С.192. Ср.: Монтгомери, 1976). «Запад в долгу перед исламскойкультурой больше, чем он сам это признает»,- писал Абдол ХосейнЗарринкуб (Зарринкуб, 2004, С. 224). В этой связи приоритет«западничества» в сравнительных характеристиках Восточной иЗападной Европы у Э.С.Кульпина (Кульпин, 2007, С. 12) кажетсябольшим преувеличением.
У нас пока нет возможности детально изучить жизнь булгарскойпровинции, (ср.: Бродель, 1994, С. 83-94 и сл.), но ясно, чтоособенности ее складывались из специфики или точнее статусаземлевладения. Можно предполагать, что классического европейскогоконцентрического деления пространства вокруг деревни: «пояс»,пахота и новь (целина) (Бродель, 1994, С. 114-116) в БулгарскомУлусе не было. Также не сложился и европейский тип соотношениягород-село, так называемый «архипелаг городов» с промежуточнымизвеньями из городков (типа крупных деревень и малых городков).Жесткая централизация и четкая система правопорядка в Золотой Ордена 200 лет «отключила» и другой немаловажный фактор развитиягородов и развития экономики как «неформальная жизнь леса» исвязанных с ним систем жизнеобеспечения (Бродель, 1995, С. 126).
Такая специфика была обусловлена особенностью развития городовв монгольских государствах в XIII—XIV вв. - дуализмом города икочевой ставки Орды. Как отмечал Г.А.Федоров-Давыдов, «в этомдуализме отражается дуализм социальной и экономической структурыгосударств, совмещавших два хозяйственных уклада — оседлый икочевой. Орда в Золотой Орде хорошо известна» (Федоров Давыдов,1983, С. 217).
Нам кажется важным наблюдение Г.А.Федорова-Давыдова, что«иногда то обстоятельство, что город оказывался в районе летнейили зимней стоянки Орды, было решающим для его процветания. Багдадпосле убийства Хулагу, последнего халифа, стал мелкимпровинциальным городом, но при Джалаиридах именно в силу того, чтооколо его стен была орда хана в летний период, вернул некоторуюдолю былого блеска. Чаще же Орда тяготела к крупному городскомуцентру» (Федоров-Давыдов, 1983, С. 217). Так, небольшойдомонгольский городок Джукетау, с практически деревенским укладом,становится вторым центром Булгарского Улуса позднеордынскоговремени, со своими «князьями», причем ведущую роль во
внешнеполитических акциях правителей Джукетау играла Орда(татарские отряды).
В целом, Булгарский Улус сохранил свою специфику, и булгарскиегорода стали «наследниками» домонгольских традиций. Отличиеклиматических условий, традиций домостроения и градообразования отнижневолжских территорий и в ряде случаев, исторически совпавшиеусловия, которые были искусственно смоделированы монгольскойадминистрацией на нижней Волге (сочетание потребностей веденияскотоводческого хозяйства и оседлого земледелия) в БулгарскомУлусе уже существовали и стали причинами особого вариантапроцессов урбанизации в золотоордынское время.
Интересен вопрос о неукрепленных городах Булгарского Улуса (безфортификации), что было особенностью некоторых городов монгольскихгосударств (Федоров-Давыдов, 1983, С. 219). Булгар был обнесенукреплениями только в 20-30-х гг. XIV в. Ряд новых городков(касаб) булгарского Улуса, типа Сюкеевского городища, имелинезначительные укрепления, возведенные не ранее второй половиныXIV в. а некоторые так ими и не обзавелись (Джукетау). Укрепленныезамки правителей или городские цитадели в монгольское времяоставались в запустении, в то время как жизнь в самом городе напосадах могла возобновиться (Джукетау, Биляр).
Ордынский нижневолжский город – сложное образование: границыего не очерчены; динамика функционирования различна в отдельныепериоды его истории (Волков, 2000, С. 324). Проводить прямыепараллели городской культуры крупных нижневолжских городов и (какв данном случае) золотоордынских булгарских будет не совсемкорректно – исторический «фундамент» и градостроительные традициисовершенно иные. Булгарский город домонгольского времени, какправило (невзирая на свой генезис) следовал в организационномплане породившей их сельской среде. Многие из них сохранялиструктурные черты последних. Это хорошо прослежено на обширномхронологическом срезе на городах Индии – от средних веков и досередины ХХ в. (Ашрафян, 1983, С. 73).
В Булгарском Улусе во второй половине XIII в. стала явнопроявляться тенденция к понижению статуса городов, пережившихмонгольское нашествие – их провинциализацию. Конкурентоспособнымиили, точнее, жизнеспособными, оказывались лишь те центры, вкоторых были заинтересованы монгольские власти, а затем изолотоордынская администрация. Как и в предшествующее,домонгольское время на первый план выходили города, поддерживаемыегосударственной властью, только в ордынскую эпоху направляющийвектор этой власти изменился, а многообразие процессов урбанизациипрактически исчезло.
Таким образом, в Булгарском Улусе в XIV в. складывалась особаямодель развития городской цивилизации, основу которой составилбулгарский домонгольский базис по «европейской системе»,обусловленный сходством природно-географических условий лесной илесостепной зоны Восточной Европы и золотоордынский, сискусственной стимуляцией развития экономики и городской культурына основе подневольного труда, транзитной торговли,общегосударственных и дотаций и административным улуснымфинансированием со стороны «патронирующего» аристократическогоклана, а также с присущим Золотой Орде дуализмом города и Ставки –Орды, основу которых составили неукрепленные сельские центры вомногом схожие экономически с малыми городами и теснейшим образомсвязанные с кочевой и полукочевой средой (Руденко, 2007, С. 170-172).
Другая тема, связанная с Булгарским Улусом, это вопросыдемографии. Мнение о якобы имевшем место демографическом кризисеперенаселения и экологическом коллапсе чуть ли не во вовремяправления Узбека в Золотой Орде (Кульпин, 2007, С. 87-95), неимеет фактических оснований, а является достаточно изящнымдомыслом. Численность населения периферийных районов Золотой Ордыи в первую очередь Булгарского Улуса в полном объеме послемонгольского нашествия не восстановилась. Также далеки от«перенаселенности» были и русские земли, особенно послемонгольских «выводов» и «призывных монгольских компаний» XIII в.(Кучкин, 1991, С. 24).
В результате набегов и людских потерь пограничные территориирусских княжеств пустели, за исключением тех земель, которые имелииммунитет от монгольских набегов 1250-1290-х гг. (Каргалов, 2004,С. 181), зато русскими же осваивались степные пространства подпротекторатом кочевых олигархов. Так во второй половине XIII –первой половине XIV в. русские поселения на южных и юго-западныхокраинах Рязанского княжества, в бассейн Воронежа численновозрастают по сравнению с домонгольскими (Тропинин, 2004, С. 200,204). Чума для Европы сыграла весьма печальную роль не только«спася» ее от демографических проблем, но и возродивполномасштабный институт рабства. Массовый вывоз «живого товара»(в большей степени славянского и финского населения, а также, вменьшей мере, тюркско-кипчакского) в Италию, Испанию, Францию вконце XIV и, особенно, в XV в. через ордынские земли по цепочке –Булгар-Сарай-Крым и далее – Европа, Турция, Средняя Азия былсамым выгодным и беспроигрышным бизнесом. Эта сфера деятельностивелась достаточно масштабно в Европе до XVII в.
«Наследниками» использования рабов, особенно в армии, сталаОсманская Турция (через Крым). Торговля рабами в Поволжье не
прекращалась и XV-XVII вв. через Астрахань (Зайцев, 2004, С. 214-215) и Ногайскую Орду (Трепавлов, 2002, С. 536, 537). Даже вXVII в. людские потери Московской Руси ежегодно составлялинесколько десятков, а то и сотен тысяч человек (Новосельский,1948; ср.: Трепавлов, 2002, С. 12-15). В бюджете Московскогогосударства была предусмотрена специальная статья расходов и налогна выкуп пленных, которая сохранялась и в 20-50-х гг. XVI в.(Каштанов, 1988, С. 150). Отметим, что работорговля ииспользование труда рабов в колониях как часть экономикиевропейских государств Нового времени сохранялась до 1817 г.(Бродель, 1992, С. 452).
Показательно, что масштабного экономического рабства вБулгарском Улусе не было. Внутренняя система в Улусе была призваназакрепить население – производителя прибавочного продукта на месте(что поддерживалось сарайской администрацией), что стало главнымпрепятствием для развития этой тенденции. Булгар вносил в системужизнеобеспечения Золотой Орды весьма весомую лепту, являясьисточником поступлений зерна (Греков, Якубовский, 1950, С. 101). Всвою очередь это давало весьма большую прибыль Булгару истимулировало развитие местной экономики.
С другой стороны Булгарский Улус оставался как бы«закрепленным» за ордынскими кочевыми олигархами и необходимые импастбищные пространства были видимо, неотчуждаемы и на нихзапрещалось заниматься земледелием. Более того свободныепространства – пустоши частично заселялись или сезонноиспользовались переселенцами из мордовских земель. Мордовскаяколонизация, особенно с усилением Наровчата – Мохши, в XIV в.захватила западные части Булгарского Улуса. Мордовское население,как и пермское «пополнившее» этнический состав Булгарского Улуса вконце XIII – XIV вв., стали основными «заказчиками» ипотребителями на внутреннем рынке местной булгарской продукции.
Булгарский Улус во второй половине XIV в. В конце 40-х гг. XIV в. вПоволжские степи пришла «черная смерть» - чума. Можнопредположить, что кошмар эпидемии тогда не задел Среднее Поволжье.В 1340-50-х гг. город Болгар и булгарский Улус в целом, -процветающий район и следов эпидемии не отмечается. Однако бедапришла через 18 лет - в 1364 г. Очевидно, что волна эпидемии,поднимавшаяся с низовьев Волги, не могла обойти и булгарскиеземли. Парадоксально, но природные условия пойменной части Волго-Камья - сочетание обширных охотничьих, пастбищных угодий и удобныхпахотных земель, привлекательных для ведения любого видахозяйства, способствовало контактам между населением и грызунами -основными распространителями инфекции, а, следовательно, ираспространению самой эпидемии (Гайский, 1930, С. 2).
В этой связи интересна гипотеза об ослаблении Золотой Орды врезультате чумы, и, в этом контексте, судьба булгарского Улуса.До начала 1360-х гг. сведений о кризисе на булгарских землях неимеется. Наоборот, в начале 1360-х гг. наблюдается некоторыйподъем – монеты Хызра чеканки 1361/2 гг. встречаются назначительном числе булгаро-ордынских поселений. Впрочем,политическая жизнь и реальная жизнь населения по сообщениямписьменных источников могут и не совпадать. Например, когда землиВладимирского и Тверского княжеств буквально обезлюдели отэпидемии, княжеские распри, не только не прекратилась, нопродолжались с даже большим ожесточением.
Ситуацию в Болгарском Улусе изменил захват власти здесь Булак-Тимуром (1361-1366/7 гг.). В последние годы своего правления вБулгаре он активно борется за власть в Сарае, где собственно и былубит Азиз-ханом. Взрыв эпидемии чумы на Нижней Волге, в том числеи городах (Сарае) в 1364 г. имел своим следствием отток частинаселения из низовий Волги на Среднюю Волгу. Интересно, что термин«татары» в русских летописях, при описании событий в Волго-Вятскомрегионе, появляется с 1366 г. и в дальнейшем соседствует (незаменяя) с термином «бесермяне», который ранее употреблялся дляхарактеристики жителей Булгара и Жукотина или же мусульман вообще.
Именно этот факт спровоцировал последующие события вБулгарском Улусе. Из анализа летописных данных следует, что новыйправитель Асан (Хасан), бежавший из Сарая в 1367 г., вероятно,один из потомков хана Шибана, правил в Булгаре в 1370-1376 гг.,причем Асан в то время имел соправителя в лице Махмет-салтана(Мухамед-Булак?). В начале 1370-х гг. контроль над Асаномустановил Мамай, назначив в Булгар своего ставленника (в качествесоправителя). Как мы видим, нельзя сказать, что булгарские земли в1370-х гг. были безлюдными. Финансовые возможности правителейБулгара заставляют предполагать весьма успешную экономическуюполитику, что и вызывало закономерный интерес у претендентов насарайский престол.
В правление Асана укрепляется новая система землепользования иземлевладения, ставшая результатом передела угодий после Булак-Тимура. В основе этого было выделение определенной территории -«татарской земли» в узком значении этого термина, под особымправлением. Короткий русский протекторат в Болгарах в 1376 г.закончился установлением власти Урус-хана: Булгар стал«урусхановым юртом». В 1377 - 1378 гг. сторонники Мамая покинулиего, появившись снова в Орде. С 1380 г. до 1398 г. Закамскаятерритория, вместе с булгарскими городами находилась под властьюТохтамыша, по М.Г.Сафаргалиеву - до 1395-1396 гг. (Сафаргалиев,1960, С. 174). Таким образом, с 1360 и до конца 1390-х гг.
Булгарский Улус контролировался представителями Шейбанидскойдинастии Чингизидов.
Итак, если булгаро-ордынские земли после эпидемией в конце1360-80-х гг. хоть и не утратили полностью ресурс народонаселения,но остепненные участки территории Улуса как и пойменные районыбыли весьма мало заселенными. Это было достаточным условием дляразмещения нескольких тысяч людей вместе со стадами,переселявшихся из низовий Волги.
Вместе с усилением внешнего политического и военноговоздействия на эту область Орды и включения ее в сферу постояннойборьбы враждующих сарайских кланов, Булгарский Улус усиливает свойвоенный потенциал за счет постоянных татарских воинскихконтингентов и собственных городских дружин. На фоне вялостиэкономического и политического потенциала булгарского общества,сфера приложения сил организованных татарских армейскихподразделений приходилась на внешнеполитические акции, особенно внижегородско-московских междоусобицах.
Появление новых этнических группировок на Средней Волге иНижней Каме, имевших иные культурные традиции, отразились вархеологических материалах, как в поселенческих, так и впогребальных (Руденко, 2002, С. 154). В какой-то степени этиявления были достаточно типичны для Поволжья вообще (Мамонтов,1992, С. 21).
Показателен могильник Песчаный остров, который по формальнымпризнакам ближе всего некрополям царевской группы Заволжья ирайона Среднего Подонья (Новохарьковский, 2002, С. 105), а такжеимеющий сходство с памятниками западной группы курганов ЮжногоУрала, и погребениям в Самарском Заволжье, связываемых с кимако –кипчаками (Руденко, 2002а, С. 308-320).. Аналогии некоторымматериалам из него имеются в некрополях в окрестностях НовогоСарая (Сарай ал - Джадид) (Федоров – Давыдов, 1994, С. 31).
Широкая пойменная часть низовий реки Камы была местом летнихкочевок нижневолжских групп кипчаков, постепенно основывавшимиздесь более-менее постоянные (сезонные) стойбища (20-40-е гг. XIVв.). Данный процесс активизировался в 60 – 70- х гг. XIV в. всвязи с начавшимися смутами в Орде. Г.А.Федоров-Давыдов отмечал,что с 1360-х гг. наступает кризис «столичных центров и городскихверхов, охвативший золотоордынские города в 1360-1370-е гг. иприведший к их упадку еще до нашествия Тимура в 1395 г.» (Федоров– Давыдов, 1994, С. 30). По мнению, Г.А. Федорова-Давыдова,прекращение жизни большинства богатых усадеб здесь приходится на1360 - 1370 гг. «когда в результате междоусобной войны и борьбы завласть гибли целые партии и группировки эмиров и нойонов»(Федоров-Давыдов, 1998, С. 8).
Известные к настоящему времени могильники со специфическимпогребальным обрядом – Балымерский, Песчаноостровной, а такжеЛебдинское, Рождественское, Булгарское и Курналинское погребениядатируются периодом 1367 - 1395 гг. Они тяготеют к двум городам –Булгару (Балымери) и Джукетау (Песчаный остров). Видимо, частьлюдей пришедших с ним были выходцами из самого Улуса Шибана(балымерские курганы) - отсюда и четко выраженные специфическиечерты погребальной обрядности. Вероятно, не случайна и близостьбалымерских курганов к г. Булгару - ставке нового хана ирасположение их у р. Волги. Можно предположить, что и принадлежалиони к одному из племен в составе улуса Шибана (найман, буйрак,кушчи, карлук) (Костюков, 1994, С. 56). Определенная часть этогонаселения проживала в крупных городах, в частности в Булгаре, чтоподтверждается антропологическими материалами (Газимзянов, 2001).
После походов Тимура 1395 г. и вплоть до 1407-1410 г. когдаушедший из Орды Джелал-ад-Дин стал ханом Булгара (Фахрутдинов,1987, С. 24). Булгарский Улус фактически разделился на двакняжества – Булгарское и Жукотинское, закрепив тем самым уже давнонаметившееся административно-политическое деление. В новыхполитических условиях княжества существовали в виде своего родафедерации, выступавшей совместно в сложных политических ситуациях,как например, в 1409 г., при масштабной операции по поимкеновгородского предводителя ушкуйников – Анфала, известного своиминабегами по всему Поволжью в течение нескольких десятилетий.Интересно, что арестованного Анфала отправили в Сарай для решенияего участи, тем самым подтвердив свое подчиненное положение поотношению к Сараю, и его юрисдикцию над булгаро-ордынскимиземлями. Татарские отряды Ентяка и Талыча, «расквартированные» вБулгарском Улусе выступали в отношении княжеств как союзные силы,приняв участие в событиях 1425-1431 гг., связанных с деятельностьюУлу Мухаммеда. Самостоятельную политику в последние десятилетияXIV- первой четверти XV в. проводит Иски Казанское - Казанскоекняжество. К середине XV в. Булгарский Улус как единое целоепрекратил свое существование.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:Ашрафян К.З. Средневековый город Индии XIII – середины XVIII века (Проблемыэкономической и социальной истории). М.: Наука, 1983.Блохин В.Г., Яворская Л.В. Археология золотоордынских городов Нижнего Поволжья.Волгоград, 2006.Бродель Ф. Время мира. Том 3. Материальная цивилизация, экономика и капитализм,XV-XVIII вв. М.: Прогресс, 1992.Бродель Ф. Что такое Франция. Пространство и история. М., 1994.Бродель Ф. Что такое Франция. Люди и вещи. М., 1995.Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь: ЛЕАН; Москва: АГРАФ, 1997.
Волков И.В. Столицы Золотой Орды во внешних источниках // Научное наследиеА.П.Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. Материалы научнойконференции. / Труды ГИМ. Выпуск 122. М., 2000.Газимзянов И.Р. Население Среднего Поволжья в составе Золотой Орды по даннымкраниологии (реконструкция этногенетических процессов). Автореферат. дисс. канд.исторических наук . М., 2001.Гайский Н.А. Вопросы эпидемиологии и эпизоотологии чумы в связи с особенностямиприроды Казахского края / Вестник микробиологии, эпидемиологии и паразитологии.Том IX. Выпуск 1. М., 1930.Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.;Л., 1950.Егоров В.Л.Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М.: Наука, 1985.Зайцев И.В. Астраханское ханство. М.: Издательская фирма «Восточная литература»,2004.Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация. М.: «Андалус», 2004.Каргалов В.В. Русь и кочевники. М.: Вече, 2004.Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М.: Наука, 1988.Костюков В.П. К этнической ситуации в Южном Зауралье в монгольское время (XIII -XIV вв.) // II Берсовские чтения. Материалы конференции. Екатеринбург, 1994.Кривошеев Ю.В. Русь и Золотая Орда // Россия и степной мир Евразии. Спб.: изд-воун-та, 2006.Кульпин Э.С. Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства. М.: URSS,2007.Кучкин В.А. Русь под игом: как это было? / Серия «Мгновения истории». М.:«Панорама», 1991.Мамонтов В.И. Степное население Волго-Донского региона золотоордынскогопериода // Межрегиональная конференция «Средневековые кочевники и городскаякультура Золотой Орды». Тезисы. Волгоград, 1992.Монтгомери Уотт У. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половинеXVII в. М.;Л., 1948.Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды. Воронеж, 2002.Руденко К.А. «Татарская земля»: археологические памятники XIV- начала XV в. вСреднем Поволжье // Поволжье и сопредельные территории в средние века / ТрудыГИМ. Выпуск 135. М., 2002.Руденко К.А. Золотоордынские кочевники в Среднем Поволжье (К постановкепроблемы) // Нижневолжский археологический вестник. Выпуск 5. Волгоград, 2002аРуденко К.А. Экологическая адаптация кочевого населения и формированиесредневековой поселенческой структуры в Среднем Поволжье в VIII – XIV вв.н.э. // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология ипрактика исследования. Иркутск; Эдмонтон: изд-во ИрГТУ, 2007.Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.Смирнов А.П. Волжские Булгары. М., 1951Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М.: Издательская фирма «Восточнаялитература» РАН, 2002.Тропинин Н.А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.Воронеж: изд-во ун-та, 2004.Фахрутдинов Р.Г. Археологические памятники Волжско-Камсой Булгарии и еетерритория. Казань, 1975. Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984Фахрутдинов Р.Г. Болгар в письменных источниках // Город Болгар. Очерки историии культуры. М, 1987Фахрутдинов Р.Г. Золотоордынский Булгар // Татарская археология. 2006. №1-2(16-17).
Федоров-Давыдов Г.А. Исторические особенности городов в монгольских государствахАзии в XIII—XIV вв. // Средневековая городская культура Казахстана и СреднейАзии. Материалы Всесоюзного совещания 13-15 мая 1981 г. г. Алма-Ата. Алма-Ата,1983.Федоров-Давыдов Г.А. Смерть хана Бату и династическая смута в Золотой Орде восвещении восточных и русских источников (источниковедческие заметки) //Средневековые древности Волго-Камья / Археология и этнография марийского края.Выпуск 21. Йошкар-Ола. 1992.Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994.Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки Поволжской археологической экспедициейзолотоордынских городов на Нижней Волге // Материалы и исследования поархеологии Поволжья. Вып.1. Йошкар – Ола, 1998.
БЕРКЕ И ЕГО ПРАВЛЕНИЕ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ
Ж.М. Сабитов
Проблема прихода к власти Берке интересовала многихисследователей. Неясными остаются как время прихода Берке квласти, так и механизм прихода к власти, ведь как мы знаем, Беркене был сыном Бату и, следовательно, не имел прав на престол улусаБату. Большинство исследователей считают, что Берке стал ханом,отравив Сартака и примерно таким же образом избавившись от Улагчи.Согласно мнению Иванова А.Н. мать Берке была Хан-султан, дочь Алаад-дина Мухаммеда-хорезмшаха и сестра Джалал ад-дина, известная посообщениям ан-Насави («Ее взял к себе Души-хан и она родила отнего детей») Иванов А.Н. отождествляет Хан-Султан, дочьХорезмшаха, с известной женой Джучи-хана согласно Муизз ал Ансаб,Султан-хатун, матерью Берке, Беркечара и Буре (Иванов, 2009, С.106) Можно согласиться с этой точкой зрения и аргументациейИванова, с одной поправкой: в новом переводе Муизз ал Ансаб имятретьего сына Джучи от Султан-хатун звучит как Буда, а племя, ккоторому принадлежит Султан-хатун названо как иман (Муизз алАнсаб, 2006, С. 38). Учитывая тот факт, что данное племя нигде невстречается более в Муизз ал Ансаб, мы можем предположить, что этобыло какое-то название, которое автор Муизза принял за родовуюпринадлежность. Единственным противоречием данной генеалогииявляется факт указания возраста Берке-хана ал-Муфаддаллом: в 60-хгодах 13 века Берке по этому источнику было 56 лет (ИКАИ, 2005, С.151). Но, несмотря на это противоречие, мы придерживаемся версииИванова А.Н.
Еще Мыськов Е.П. заметил, что проблема прихода к власти Берке-хана очень запутана. Рашид ад-Дин, Рукн ад-Дин Бейбарс, ал-Айни,ан-Нувейри датировали это событие 652 годом хиджры (21.02.1254-09.02.1955) (Мыськов, 2003, С. 74). Большинство историков несогласны с этой датой, так как она не согласуется с хронологиейпредыдущих и последующих событий, известных по другим источникам.Например, Рогожский летописец сообщает о смерти Улагчи в 6767 году(1259-1260) (ПСРЛ, 1922, стб. 32-33). Датировка начала правленияБерке у разных исследователей отличается. Например, Федоров-Давыдов Г.А. считает, что Берке стал править в 1257 году, аНасонов А.Н. датирует это событие не раньше 1258 года. МыськовЕ.П. считает, что смерть Улагчи (и соответственно приход к властиБерке) произошла во время смерти Менгу-кагана (11-12 августа 1259года) или чуть позже, так как:
1. Боракчин, которая хотела возвести на престол после УлагчиТуда-Менгу, в своем споре апеллировала не к Каракоруму (где на тот
момент не было кагана), а к Хулагу. Также показателем являетсяотсутствие какой-либо реакции со стороны Каракорума, что вполнеобъяснимо, если правитель там еще не был избран.
2. Курултай, избравший Берке ханом состоялся в 1259 году, таккак уже 3 февраля по приказу Хулагу был казнен Тутар (СМИЗО, 1941,С. 67-68). Именно избрание Берке ханом, по мнению Мыськова Е.П.спровоцировало резню джучидов в войске Хулагу. Но тут стоитзаметить противоречие, ведь после казни Тутара, золотоордынскиепослы от Берке прибыли к Хулагу в 1261 году (СМИЗО, 1884, С. 275),что вряд ли было бы возможно, если бы все джучиды были убиты вармии Хулагу. На этом пункте мы остановимся ниже. Также оченьинтересным является мнение Костюкова В.П., который сопоставляяимена джучидских послов по египетским источникам и джучидскихцаревичей по персидским пришел к выводу о том, речь идет об одноми том же событии, просто слегка искаженном Ал-Муфатдалем(Костюков, 2008, С. 67)
3. Первое упоминание Берке в русских летописях было в 1262году, в связи с задержкой в Орде и болезнью Александра Невского(ПСРЛ, 1841, C. 58).
Данные пункты, изложенные Мыськовым Е.П. (Мыськов, 2003, С.77) дают нам основания датировать приход власти Берке-хана ни какне раньше смерти Менгу-кагана (11-12.08.1259). В то же времяКостюков В.П. считает, что Берке-хан пришел к власти не раньше1258 года, но при жизни Мунке, если бы Берке оказался во главеулуса без ярлыка Мунке, т.е. без надлежащей легитимации, это врядли было бы оставлено без внимания Рашид ад-Дином. (Костюков, 2007,С. 185)
Косвенным событием, которое косвенно указывает на приход квласти Берке, является отправка письма египетского султана Берке.Дата написания письма 659 год хиджры (6.12.1260-25.11.1261), ответот Берке, написанный 1 раджаба 661 года (11 мая 1263 года) былполучен только в 661 году хиджры (15.11.1262-03.11.1263) (ИКАИ,2005, С. 88). Тут можно встретить одно противоречие: согласно ал-Муфаддалу послы Берке приехали в Египет уже 11 раджаба 661 года(21 мая). Такая скорость почтового сообщения (10 дней) из Итиля(Волги) в Египет немного смущает.
Также очень важным известием является известие Марко Поло: «В1261 году произошла великая распря между алаем, царем восточныхтатар и Беркою царем западных, из-за области, что была смежна томуи другому, каждому хотелось ей завладеть и не один не хотелуступать ее другому» (Марко Поло, 1997, С. 371).
Видимо, ответ Берке был связан с репрессиями против джучидови последующим походом Хулагу во владения джучидов. Вопрос о том,когда же были произведены репрессии против джучидов в Иране, имеет
несколько точек зрения: Шпулер на основании Рашид ад-Дин считал,что данные репрессии были произведены в 1259 - начале 1260 года.Костюков В.П. считал, что эта расправа произошла в 1261 или всамом начале 1262 года (Костюков, 2008, С. 69). Порсин А.А.считал, что репрессии против джучидов были произведены в серединеили второй половине 1262 года (Порсин, 2009, С. 203),непосредственно за этим событием был послан карательный отрядНогая, после которого произошло вторжение Хулагу во владенияджучидов (Порсин, 2009, С. 209). Факт того, что убийство джучидовбыло произведено в 1261-1262 году косвенно подтверждает сообщениеиз Тарихи Шайх Увайс: Между ильханом и Берке-ханом проявиласьвражда из-за Кули, Татара и Кулгана (возможно Балагана); Берке-ханпослал им угрозу и отправил на войну (с Хулагу) Ногая,родственника Татара, с 30 000 человек. Когда он (Ногай)расположился у Ширвана, то с этой стороны отправились Ширамун-нойон, Абатай-нойон и Самагар с 3 туманами (войска), и они жестокосразились у Шемахи в 660 г. в зу-л-хидже (01.10—14.11.1262). Ониутопили в реке Султанчука, Ногай бежал, и ильхан пошел войной наБерке в мухарраме 661 г. (15.11—14.12.1262)... Между Берке иХулагу-ханом произошло жестокое сражение, они (войска Берке)обратились в бегство, а те погнались за ними и до следующего дняубивали. Абака прошел вслед за ними до становищ их и расположилсятам. Берке вернулся. Абака направился в эту сторону; река Терекуже растаяла, лед под ним сломался, и множество войска утонуло.Абака благополучно спасся, (а) Хулагу прибыл в Тебриз... (ИКПИ,2006, С. 197). Египетские авторы, говоря о столкновении Берке иХулагу, делают акцент на другом моменте:
«После того как татары не одобрили ее (Боракшин) в передаче вруки ее сына Тудан-Менгу, она написала Хулагу, она подстрекала егок овладению северной страной, которая находилась в руках сыновейего дяди» (ИКАИ, 2005, С. 114). «Боракшин захотела, чтобы властьнад северными странами после смерти Сартака досталась сыну ее,Тудан-Менгу. Но с ней не согласились, ни ханы, сыновья Бату-хана,ни темники. Увидев их сопротивления, она вошла в сношения сХулагу, послала к нему стрелу без перьев и кафтан без пояса иотправила к нему (посла) сказать: Нет более стрел в колчане иналучье осталось без лука, приходи чтобы принять царство. Потомона отправилась вслед за послом и старалась добраться до Хулагу ипривести его в страны Северные. Народ узнав, что она замышляет,послал за ней, вернул ее, несмотря на сопротивление с ее стороны,и убил ее» (ИКАИ, 2005, С. 122).
Согласно Чингиз-наме Утемиша Хаджи:После смерти Саин-хана у него было два сына. Имя одного было
Сары-Так, имя другого — Туган. Сары-Так умер раньше его самого в
возрасте восьми лет. Остался [без отца] малолетним также [и]Туган. Беки в согласии послали гонца к Хулагу-хану. Послали ножныбез сабли и рубаху без ворота, то есть эль остался — государей унего нет, женщины остались — мужей у них нет. Когда Хулагу-хануслышал это известие, он выступил в поход, пришел в вилайетШирвана и, снарядив большое войско, послал [его] вместе [сгонцом]. Берке определенное время провел в Сыгнаке у Шайх ал-Аламшайха Сайф ад-Дина Бахарзи (1190-1261). После смерти Саин-хана онвыступил из Сыгнака и через Каракуль, Ургенч и Сарайчук дошел доберегов Итиля (Волги) вместе с 1500 сторонниками. В это время вЗолотую орду пришел Хулагу, но он был разбит войсками Берке (Юдин,1992, С. 96-97)
В общем, говоря о вторжении Хулагу в улус Джучи, стоитотметить, что, возможно, карательный отряд, направленный Берке воглаве с Ногаем мог быть одним из джучидских отрядов, который смогспасться от резни, устроенной Хулагуидами по отношению к Джучидам.Так мы знаем, что часть джучидских отрядов ушла в Египет, часть сНекудером в Афганистан, а про вернувшихся в улус Бату, нам малочто известно. Тем более стоит учитывать идеологическуюнаправленность сочинения Рашид ад-Дина. Его манипуляции с датамисмерти джучидов, призванные устранить взаимосвязь между смертямиБалакана, Тутара и Кули (Порсин, 2009, С. 203) являютсяпоказателем степени его субъективности. У Рашид-ад-Дина вся винана развязывании войны лежит полностью на Берке. Скорее всего,отряд Ногая на самом деле не был послан Берке, а был тем самымостатком джучидских войск, которые смогли избежать резни и уходиличерез Дербент на родину, а после сам карательный поход вряд ли былинициативой Берке, вполне возможно, что тут инициативу проявил самНогай, мстя за родственников.
Ал Муфадал, используя данные Абу Шамы пишет, что 27 зулкада660 года хиджры (13 октября 1262 года) прибыло в Дамаск из войскататарского 200 конных и пеших с женами и детьми, бежавших кмусульманам. Дальше идет рассказ беженцев о том, что Берке разбилХулагу, и эти беженцы (200 человек) являются беженцами из армииХулагу. Дальше идет рассказ о гражданской войне между Хубилаем иАриг-Бугой, помощи Берке Ариг-Буге, а также новой битвы Хулагу иБерке (ИКАИ, 2005, С. 146). Скорее всего, тут произошла где-тоошибка и беженцы, которые были частями джучидских контингентов,благодаря перу переписчика стали частями Хулагу. Также рассказ обитвах Хулагу и Берке, скорее всего, относится к более позднемусроку.
Также очень интересным в контексте прихода Берке к власти вЗолотой орде, известия армянских источников, что Берке и его братмусульманин Беркеча, опоив вином, отравили Сартака, сына Бату
(ОЗО, 2008, С. 162). Это известие перекликается с известиемДжузджани, передавшим рассказ Ашраф ад-Дин саида о Берке-хане.Согласно этому рассказу Сартак, возвращаясь от Менгу (с ярлыком направление) проезжал владения Берке и не заехал к нему. Беркеотправил посланников к Сартаку, приглашая в гости, на что Сартакответил резким отказом, мотивировав это религиозными разногласиямихристиан (к которым относил себя Сартак) и мусульман (к которымотносился Берке), через четыре дня после этого отказа Сартак умер.Но автор также добавляет версию о том, что Менгу-хан подослалдоверенных людей и отравил Сартака. После этого Берке женился нажене Бату (ИКПИ, 2006, С. 48). Стоит также отметить, что уДжузджани Берке принял ислам из рук Бахарзи, причем произошло этоеще до взятия Багдата Хулагу (ИКПИ, 2006, С. 50) Костюков В.П.поддерживает версию Джузджани о том, что Менгу-хан отравил Сартака(Костюков, 2009, С. 88). В общем можно сказать, что Сартак былотравлен во владениях Берке, или возле них. Причем две версии отом, кто отравил Сартака на данный момент равноценны и не имеютаргументов, которые могли бы однозначно говорить о том, кто былзаказчиком этого отравления.
Для понимания структуры улуса Джучи очень интересен пересказРукн ад-Дином Бейбарсом отрывка из письма Берке-хана египетскомусултану, написанный 11 мая в местности Итиль:
«При них (послах Берке) было письмо от него, которое содержалопоименование тех, кто из татарских домов принял ислам и вышел изтолпы неверных, с подробным перечислением их по племенам и родам,(с указанием) отдельных лиц и ратей, младших и старших. Вступили,говорил он, в религию ислама наши старшие и младшие братья сосвоими детьми, сыновья Будакура со своими чадами и домочадцами,Пулад-Кукаджасу, Йаншанука и находящиеся на землях их Кудагу,Караджар, Танушбука, Ширамун, Бузбаку, Менгкадар со своими ратямии слугами, Беккадак-Байнал, Токузогул, Кутлук-Тимур, Аджи сосвоими детьми, Дурбай и десятитысячный отряд, который двинлся длянабега в Хорасан» (ИКАИ, 2005, С. 88-89). Костюков В.П. считает,что данный фрагмент является перспективным источником, способнымпослужить уточнению имен глав джучидских кланов и их статусныхпозиций в начале 60-х годов 13 века. Костюков В.П. отождествляетсыновей Будакура с Кутлуг-Букой и Джочи-Букой, сыновьями Бахадура,причем он считает, что Бахадур погиб в Венгрии («Бахату»),игнорируя сообщение Абулгази о том, что Бахадур был утвержден вулусе Шибана после смерти Берке Менгу-Тимуром (Кляшторный, 1992,С. 191). В Караджаре он видит одноименного сына Удура, Ширамун унего идентифицируется с Ширамуном, вторым сыном Шингкура,Менгкадар идентифицируется с Мингкадаром, сыном Бувала, аТокузогул идентифицируется у него со вторым сыном Тангута
(Костюков, 2007, С. 187). В принципе можно сказать, чтообнаружение оригинала письма Берке (если это когда-либопроизойдет) сможет нам дать более полный список сподвижниковБерке, принявших ислам, а вышеперечисленные имена, по нашемумнению происходят из начала письма и могут реконструироваться какпослание от Берке, огланов восточного и западного крыльев. Понашему мнению Будакур здесь является тем самым Будой,единоутробным братом Берке (Муизз ал Ансаб, 2006, С. 38), Пулад-Кукаджасу (Кукаджур) и Йаншунука идентифицируются с Кукджу и Йису-Бука, сыновьями другого единоутробного брата Берке (Беркечара).Улус Беркечара по мнению Костюкова В.П. находился в Сузаке(Костюков, 2007, С. 188). Упоминание их детей и отсутствиеупоминаний Будакура и Беркечара настораживает, ведь мы знаем, чтоБеркечар, единоутробный брат Берке был жив еще и принимал участиев Таласском курултае 1269 года (Костюков, 2007, С. 188).
Дальше отрывок «и находящиеся на землях их Кудагу, Караджар,Танушбука, Ширамун, Бузбаку» возможно в оригинале звучало как «инаходящиеся на землях Кудагу (он хозяин земель) Караджар,Танушбука, Ширамун, Бузбаку». Таким образом, можно сказать, чтоданный отрывок говорит о джучидах, относящихся к Восточному крылуУлуса Джучи (улусы Орда-эджена, Удура, Шинкума, Шингкура, Тука-Тимура). Это подтверждается тем фактом, что Ширамунотождествляется с Ширамуном, наследником Шунгкура, Караджар сКарачаром, наследником Удура, сам Кудагу с шестым сыном Орды,Кутукуем, который является дедом для Кублюка, который оспаривалвласть в улусе Орды, основываясь на том, что этим улусом правилиего дед и отец (Рашид ад-Дин, 1960, С. 67-68). Также естьупоминания о деятельности Кутугу, сына Карачара и его поддержкиАриг-Буги. Этого Куртуку Слова о высылке Кутуки Хубилаем вТуркестан, безусловно относятся к Куртуке, сыну Карачара. Темболее мы знаем, что отец Куртуки, Карачар принимал участие вкурултае, который провозгласил Ариг-Бугу каганом (Костюков, 2007,С. 187). Таким образом, здесь среди пяти человек неидентифицируются два персонажа: Танушбука и Бузбаку. Можнопредположить, что они оба были правителями улуса Тука-Тимура иулуса бездетного Сингкума. После смерти Сингкума его улус мог бытьпередан в удел любому джучиду. Отрывок «Менгкадар со своимиратями и слугами, Беккадак-Байнал, Токузогул, Кутлук-Тимур, Аджисо своими детьми, Дурбай» скорее всего, относится к правителямзападных улусов Золотой Орды. Безусловно, можно согласиться сотождествлением Менгкадара со вторым сыном Бувала, а Токузогуза ссыном Тангута. Упоминание Мингкадара на первом месте с эпитетомвместе с ратями и слугами, скорее всего, является показателемстатуса этого правителя. Мы считаем, что его положение в западном
крыле Улуса Джучи было унаследовано от отца (Бувал-Мауци, который«выше Коренцы», тот Мауци вряд ли мог быть сыном Чагатая Муджи яя,так как его сын Некудер-Текудер уходил в Иранский поход Хулагу изЧагатайского улуса; если бы Муджи яя был Мауци, то его сын Негудердолжен был уходить их Запада Джучидских владений) и было таким же,как и положение наследников Орда-эджена на Востоке. Аджи по нашемумнению является тем самым Абаджи, сыном Курмиши (которого такжеотождествляют с сыном Орда эджена), который впоследствии былсоратником Ногая и был убит его детьми (ИКАИ, 2005, С. 101).Беккадак-Байнал можно отождествить с двумя сыновьями Шибана (Кадаки Байнал). Видимо они были из тех сыновей Шибана, которые былипосланы на Запад Золотой Орды в вилайет Корал согласно Абулгази.Также согласно новому прочтению Мустакимова И.А. отрывка о Шибанеиз Таварихи гузидайи Нусрат-наме Шибанидам принадлежали следующиеулусы: Кара улак (Валахия), Джулат (на Кавказе), Кырк-Йер (Крым),Янгикент (на Сырдарье) и Кюйдай (видимо коренной, первоначальныйюрт Шибана), а если также учесть имена четырех темников, которыебыли в подчинении у Шибана: Бурундай кият, Тукбуга тумен, Тайбугабуркут, дед (предок) Алибека кунграта (Мустакимов, 2009, С. 217).Из них Бурундай известен нам как темник, чей улус был перемещен наместо Куремсы (Курумиши) и который воевал с Даниилом Галицким в1259-60 годах. Тукбуга же известен как правитель города Крым в1262-63 годах (СМИЗО, 1884, С. 181). Также можно вспомнить тотфакт, что кунграты были племенем из Кавказа. Согласно родовойлегенде эмир Нангудай кунграт восходит к знаменитому нойону (илицаревичу) Нукаю, чей сын Акхадай-бахадур якобы правил в странах«Булгар, Черкес и Казан», сыном этого эмира был Нангудай,правивший в начале черкесами, а потом прибывший к Узбек-хану иставший у него амиром ал-умара (Исхаков, 2007, С. 154). Такжеизвестен тот факт, что буркуты до середины 14 века проживали врайоне Крыма, откуда потом перекочевали на Восток в район Урала(Иванич, 1998, С. 318). Резюмируя все выше сказанное, можносказать, что у Шибанидов было три улуса в Западной части улусаДжучи (Валахия, Джулат, Крым) в эпоху Берке. При Менгу-ТимуреКрым был передан Тука-Тимуриду Уран-Тимуру (Кляшторный, 1992, С.191), так «сыновья Саин-хана вырвали царство из рук сыновей Шибан-хана» (ИКАИ, 2005, С. 384)
Если наше предположение верно, то Кадак, Байнал и Кутлук-Тимур(мы его отождествляем с Кутлук-Тимуром, сыном Саилкана, 9-ого сынаШибана) являются в 1263 году главами улусов Кара Улак (Валахия,самый западный улус Золотой Орды, западнее улуса Бувала), Крыма иДжулата. Данные шибаниды вполне могли получить улусы после смертибездетных сыновей Джучи, таких как Чилаукун (ИКПИ, 2006, С. 107),Исан, Буру, Дукаджи, Мухаммед (ИКПИ, 2006, С. 433-434)
Очень странным является тот факт, что в послании мы не видимни одного Батуида, видимо в эпоху Берке, они как легитимныенаследники Бату, были оттеснены от всех рычагов власти. Судя повсему Берке в своем правлении опирался в основном на детей своихединоутробных братьев Беркечара и Будакура, а также намногочисленных Шибанидов. Но стоит также заметить, что официальнымнаследником Берке являлся Менгу-Тимур (ИКАИ, 2005, С. 151). Такжестоит упомянуть версию Почекаева Р.Ю. о том, что признание Беркесвоим наследником Менгу-Тимура было необходимым условием, прикотором остальные джучиды (в том числе и Батуиды) соглашалисьпризнавать власть Берке (Почекаев, 2010, С. 268). Вполне возможени другой вариант: после смерти Бату и многих братьев Берке стал«ака» для всех остальных чингизидов (например, его так называл егопротивник Хулагу). В условиях выбора приемника Улагчи, джучиды ибатуиды отвергли кандидатуру Туда-Менгу и его регентши Боракшин,но приняли кандидатуру Менгу-Тимура, при котором регентомстановился ака Берке, как старший в роду. Скорее всего, и Туда-менгу и Менгу-Тимур в 1261 году еще были несовершеннолетними.
В общем, мы бы хотели коротко предложить нашу версию о временизахвата власти Берке.
Берке как и его два единоутробных брата (Беркечар и Буда)родились от брака Джучи и Хан-султан (Султан-хатун) старшей дочериМухаммеда Хорезмшаха. Берке был мусульманином еще с раннегодетства. В 40-х годах он побывал у шейха Бахарзи (ИКАИ, 2005, С.165). Видимо авторитет шейха Бахарзи у Берке был настолько велик,что об этом знали все, и, пытаясь насолить Берке, чагатаид Алгу,убил сына шейха Базархи, Бурхан ад-Дина (ОЗО, 2008, С. 106)
До 1254 года улус Берке располагался на Северном Кавказе, Батуперенес улус Берке на Восток от Волги (возможно на место улусабездетного Сингкума), а северо-кавказский улус передал Сартаку(Костюков, 2009, С. 80). Сартак, возвращаясь из Каракорума, былотравлен где-то возле улуса Берке. После этого Менгу-хан применилсвою политику назначения младенцев на трон и приставление к нимрегентш, не имеющих никаких прав на престол. Данная операцияпомогала максимально центральной власти уменьшить силу провинцийза счет определенной дезорганизованности. Регентшей Улагчи быланазвана Боракчин, жена Бату, которая перешла по левирату к Тукану,сыну Бату. После смерти Улагчи (1259-60 по летописи, болееподходит 1260 год) возникла определенная анархия, так как до этогоумер Менгу-хан, а новый правитель Монгольской империи не былназван, более того появилось два претендента на общемонгольскийпрестол. В этих условиях Боракчин решила провести курултай, гдевыдвигала в качестве главы улуса Бату своего сына от Тукана Туда-Менгу. Дети и братья Бату не согласились с ней. Безусловно,
курултай проходил при участии Берке и двух его братьев, что в купес его опытом участия в таких курултаях (где не было общепризнанныхнаследников, и где главным аргументом являлось число сторонников)привело к тому, что кандидатура Туда-Менгу была отклонена. Именнотогда был раскрыт факт измены Боракшин (непосредственно передвторжением Хулагу, когда она хотела бежать к Хулагу), она былаказнена. Судя по дате первого послания египетского султана Берке-хану, воцарение Берке произошло где-то в 1261 году. Около второйполовины 1262 года, Хулагу, подстрекаемый с одной стороныБоракшин, а с другой стороны Хубилаем, решает захватить улусДжучи, воспользовавшись фактором неожиданности. Осенью 1262 годаджучидские царевичи и их отряды подвергаются репрессиям,непосредственно перед началом похода Хулагу в Улус Джучи. Ногай иего отряд убегают через Дербент на Север, по ходу отступлениятерпя поражения и теряя людей. Хулагу, вторгшийся в улус Джучи, 13января 1263 года терпит сокрушительное поражение от войск Берке иотступает. После этого Берке пытается наладить отношения смамлюкским Египтом. Наследником Берке являлся Менгу-Тимур. Крометого до Берке в 4 улусах Золотой орды (Улак, Крым, Джулат, Кюйдай)утвердились потомки Шибана, что в последующем привело копределенной конфронтации Шибанидов с Батуидами, что выразилось втом, что Крым был отобран у Шибанидов и передан Уран-Тимуру, сынуТука-Тимура уже при правлении Менгу-Тимура. Рассуждения о том, чтоЗолотая Орда приняла при Берке мусульманство не заслуживаютдоверия. Принимали ислам некоторые члены элиты (список с указаниемрода и племени был в письме Берке), но в количественном плане, ихбыло довольно мало. Также приверженцами Ислама были Берке и егоединоутробные братья Буда и Беркечар, кроме того возможноединоутробный брат Бату (Сабитов, 2009, С. 109). Мухаммед, судя поимени, также являлся мусульманином. Итогом правления Берке-ханастало превращение улуса Джучи в де-факто, независимую частьМонгольской империи, отстоявшую свою независимость в результатевойн с Хулагуидами.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:Иванич М. «Дафтар–и Чингиз–наме как источник по истории кочевых обществ» //Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани.1223–1556. Материалы Международного научного семинара «Источниковедение историиУлуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556», 23–26 июня 1998г. – Казань, 2001. Иванов А.Н. «К вопросу о причинах принятия ислама золотоордынским ханом Берке»// Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 2. – Казань: Институтистории им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. История Казахстана в арабских источниках. Т.1. Алматы, 2005. История Казахстана в персидских источниках. Том 3. (Муизз ал Ансаб). Алматы,2006.
История Казахстана в персидских источниках. Том 4. Алматы, 2006. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. «Казахстан: летопись трех тысячелетий». А., 1992.Книга Марко Поло // Путешествия в восточные страны., М. Мысль. 1997, перевод: И.М. Минаев, C. 190-380Костюков В.П. «Улус Джучи и синдром федерализма» // Вопросы истории и археологииЗападного Казахстана. - 2007. - №1. Костюков В.П. «Железные псы Батуидов» // Вопросы истории и археологии ЗападногоКазахстана. - 2008. - №1. Костюков В.П. «Иранский поход Хулагу: предыстория» // ЗолотоордынскаяЦивилизация. Выпуск 2. Казань, 2009. Мустакимов И.А. «Владения Шибани Абулхаир-хана по данным Таварихи гузида Нусрат-наме» // Национальная история татар. Теоретико-методологическое введение.Казань, 2009.Мыськов Е.П. Политическая история Золотой Орды (1236—1313). Волгоград, 2003. Образование Золотой Орды. Улус Джучи Великой Монгольской империи (1207-1266).Источники по истории Золотой Орды. От выделения удела Джучи до начала правленияпервого суверенного хана. Казань. 2008.Полное Собрание Русских летописей. Новгородская Первая Летопись. Т.3. М., 1841.328 с.Полное Собрание Русских летописей. Рогожский Летописец. Т.15. Выпуск 1. Пг.,1922.Порсин А.А. «Причины и ход борьбы между Хулагуидским Ираном и Золотой Ордой(1262-65)» // Золотоордынское наследие. Выпуск 1. Казань, 2009. Почекаев Р.Ю. «Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды». СПб.:Евразия, 2010. 408 с.Рашид ад-Дин «Сборник Летописей» т.2. М., 1960. Сабитов Ж.М. «Таварихи Гузидайи Нусрат-нама как источник по генеалогии джучидов»// Золотоордынская Цивилизация. Выпуск 2. Казань, 2009. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Сост. В. Тизенгаузен.Т. 1: Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884.Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2: Извлечения изперсидских сочинений / Сост. В. Г. Тизенгаузен, обработка А.А.Ромаскевича иС.Л.Волина. М., Л., 1941.Юдин. В.П. «Чингиз-наме». Алматы, 1992.
ПЛЕМЯ КАНГЛЫ В СОСТАВЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ: ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
В.В. Ушницкий
У всех современных тюркских народов имеются племена и роды подназванием канглы или с основой канг. То значение, какое онизанимают среди тюркских народов, заставляет искать этническиекорни данного племени. Канглы принято соотносить с названиемгосударственного образования Кангюй II в. до н.э. до V в. н.э. натерритории Приаралья и Сырдарьи. Предками кангюйцев считаются«саки, которые за Согдом» (Литвинский, 1968).
Древние кангюйцы как жители территории древнего Казахстанапринадлежали к индоевропейскому этническому миру. Э. Пуллибланкпроизводит слово кангюй от «тохарского» слова канк - «камень» и,исходя из этой этимологии, говорит о «кангюйской разновидноститохарского языка». Б.А. Литвинский племенное название кангюйпытается объяснить, учитывая хотано-сакское слово канка - «кожа»,«шкура». Им наименование кангюй истолковывается как сакскийэтноним с примерным значением «люди в кожаных одеждах»(Литвинский, 1968, С. 20-21). Но если тохары являлись потомкамидревнего индоевропейского населения Центральной Азии, то хотанскиесаки, возможно, являются потомками средневековых ираноязычныхмигрантов. Название саки было прикреплено за ними, исходя изконцепции о ираноязычии древних саков – обитателей даннойтерритории.
Более убедительной выглядит гипотеза, что в древности этнонимканглы мог употребляться в значении: «речные», «обитатели рек»(Кляшторный, 1964, С. 150-180; Кайдаров, 1984, С. 39-47). Имислово канг/кан также считается древнеиранским, а не тюркским. ВАвесте впервые упоминается Канга (Кангха), столица легендарногоТурана. Упоминание Канга (Кангхи) встречается и у Фирдоуси,который использовал архаическую топонимическую и этнонимическуюноменклатуру Авесты, и располагал Канг - столицу Турана заСырдарьей, на северо-восток от реки.
Сравнив название этого гидронима у Ибн Хордадбеха как «рекиКангар» с данными древнетюркских рунических надписей о столицекангарасов Кангу Тарбане, а также приняв во внимание сведениякитайских исторических летописей о государстве Кангюй супоминаниями в Авесте и «Шахнамэ», С.Г. Кляшторный пришел к выводуо существовании на Средней Сырдарье древней этнонимическойтрадиции. Прослеживается определенная трансформация названийтопонимов/этнонимов/оронимов с единой основой - Кангха-Канг-
Кангюй-Кангу Тарбан-Кангар-Кенгерес (Кляшторный, 1964, С. 169,166, 161-179).
Одним из самых ранних известий о Кангюе являются заметкикитайского путешественника Чжан Цяня, посетившего это государствово II веке до н.э. Китайские авторы пишут о нем как о большомгосударстве, населенном кочевыми племенами, но имеющем и города(Боровкова, 2001, С. 293). Обычаи и одежда кангюйцев в те времена,по описаниям китайских источников, не отличались от сармат и алан(Бичурин, 1953, С. 229), т.е. не выделялись из круга родственныхсевероиранских скотоводческих племен.
По мысли авторов гипотезы тюркизации древних кангюйцев, сначала нашего тысячелетия Кангюй оказывается вовлеченным всобытия, связанные с крушением державы хунну. Известно то, чтокангюйский правитель поселил шаньюя и его народ на реке Или. Сэтого времени предполагается тюркизация кангюйцев. Центромвладений кангюйцев, согласно древнетюркским эпитафиям, являлсягород Кангю-Тарбан, а сами они становятся известными тюркам-тугюпод именем кенгересов. Как показало исследование С.Г. Кляшторного,город Кангу Тарбан упоминается персидскими и арабскими источникамипод именами Тарбад-Тарбанд-Турарбанд-Отрар (Кляшторный, 1951, С.55-59).
Имя главы посольства отправленного в 618 году восточнотюркскимШиби-каганом в Китай Кан-хэ-ли, Ю.А. Зуев читает как «кангарлыг».В разделе «Тамги лошадей из вассальных княжеств» труда IX века«Танхуйяо» упоминается народ кан-хэ-ли, название которого такжереконструируется как кангар (Зуев, 1960, С. 127). Предполагается,что, являясь вассальным племенем восточных тюрков-тугю, оникочевали вблизи каганской ставки.
По мнению ряда исследователей, этноним печенег возводится кназванию одного из сакских племен - пасикам-пасианам, упомянутымСтрабоном в числе кочевников, сокрушивших около 130 г. до н.э.Греко-Бактрийское царство (Кляшторный, 1964, С. 177).Неравноправная война против огузов, карлуков и кимаков приводит коткочевке основной части печенежских племен в IX в. на запад.Некоторая группа покоренных огузами печенежских племен, судя повсему именно кангарские роды, сохранила и свое былое название -хангакиши (Кляшторный, 1964, С. 178). В этом названии отразился ихдревний этноним «канг» в форме «канга-киши» - «люди Канга». С.Г.Кляшторный обнаружил свидетельства того, что у некоторых потомковкангаров еще в XI веке существовал так называемый «смешанныйхорезмийско-печенежский» язык (Кляшторный, 1964, С. 173-175).Самоназвание «кангар» сохранилось только у трех печенежскихплемен.
Связь кыпчакского племени канглы с кангарами/печенегами первымиз числа советских ученых отметил С.П. Толстов. Он пришел к выводуо переоформлении имени кангар в канглы в результате ассимиляциикыпчаками части огузо-печенежских племен (Толстов, 1947, С. 101).По мнению С.Г. Кляшторного, принятие этого имени первоначальнокыпчакской знатью выражало их стремление связать себя стерриторией завоеванных земель (Кляшторный, 1951, С. 68; 1964, С.178-179).
Это отразил и знаток тюркских языков Махмуд Кашгари, писавший,что «Канглы - один из великих людей из кыпчаков» (цит. по:Кадырбаев, 1990, С. 20). Мусульманские авторы XII - нач. XIII вв.употребляют значения кыпчаки и канглы как синонимы. Позднее, в XIIв. мы встречаем в числе племен кыпчакской конфедерации у ан-Нувейри, ибн-Халдуна и Рукн ад-Дина Бейбарса встречаютсякангароглы (кангар-оглы - потомки кангаров) (Тизенгаузен, 1884, С.539-541).
Тюркологи С.С. Аманжолов и Н.К. Антонов этноним канглы/канлывыводят от слова канк «телега» (Аманжолов, 1959). Ещё в легенде обОгузе, приведенной у Абулгази, даётся народная этимология,согласно которой предок канглы получил свое имя вследствие того,что чинил телеги (Абульгази, 1984).
В легенде, приводимой Рашид-ад-дином (XIII в.) говорится:«Канлы. В то же самое время, как Огуз воевал со своим отцом,дядьями, братьями и племянниками, делал набеги и грабил их страны,то из всего народа, все те из его родственников, которыеприсоединились к нему и стали с ним заодно, по соображениюсобственного ума сделали повозки и нагружали на них [все]награбленное, другие навьючивали добычу на животных. [Повозку по-тюркски называют «канлы»], по этой причине и они названы именемканлы. Все ветви канлы [происходят] от их потомства. Впрочем,Аллах знает лучше!» (Рашид-ад-дин, Т. 1, кн. 1, 1952, С. 84).
Схожую легенду в китайской летописи «Юань ши» (XIV в.)обнаружил исследователь А.Ш. Кадырбаев: «Канглы (Канли) это естьто, что в эпоху Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.) называлосьГаочэ-го - страна высоких повозок» (Кадырбаев, 1990, С. 21).Данная легенда свидетельствует о том, что канглы можноотождествить с гаогюй – уйгурами.
Используя слово «канкали», Э. Паркер имеет в виду народ,известный китайцам во времена хунну как динлин или тиклик, приТоба как «высокие телеги», во времена тюрков как «уйгуры», а вовремена монголов как канкли – тюркское слово, означающее «телега»(Паркер, 2008, С. 119).
И. Маркварт пришел к выводу о том, что название народа«канглы», не имеет ничего общего с названием западно-тюркского
племени кенгерес и трех наиболее знатных печенежских орд Кангар, атакже с именем древнего княжества Канг-ку (в окрестностяхТашкента), которое впоследствии распространилось на всю Согдиану(Канг). Отождествление канглы с кангарами представляетсяневозможным еще и потому, что эти последние уже в конце IX-го векане остались под властью огузов, а ушли из области между Аральскимморем и Яиком в причерноморские степи. Канглы с кангарамиКонстантина Багрянородного, но также и с иранским племенем канг-кукитайского полководца Чан-Кьена (128 г. до н.э.) отождествил В.Шотт. Более того, он считал, что канкли могли стать в землях заОксусом зажиточным и могущественным народом еще до установлениявласти сельджуков и принятия ислама. Согласно И.Я. Шмидту,название «канггар» или «ханггар» и ныне еще употребляется тюркамии монголами во всей Средней Азии, однако употребляется она вотношении османов.
Поэтому И. Маркварт считает, что встречающийся в уйгурскойлегенде об Огуз-хагане вывод наименования «канглы» от тюркского«канг», «повозка», может быть вполне правильным. Исходя из этого,он приводит китайское обозначение народа теле, то есть позднихуйгуров при династии Северное Вэй (386 - 556 гг.): «динлины свысокими повозками».
И. Маркварт приходит к выводу, что имя само по себе непозволяет нам сделать заключение о происхождении канглы. Посведениям восточных авторов, йимаки были одной из орд канглы.Считая канглы новой конфедерацией племен, пришедших на сменукимакам он вполне удовлетворительно разъясняет указанное Рубрукомблизкое родство канглы с команами (кипчаками). Тем самым, считаетсправедливой замечание В.В. Бартольда о том, что «племенныенаименования канглы и кипчак представляются нам почтитождественными» (Маркварт).
Ю.А. Зуев находит еще канглы~кангюйцев в территорииЦентральной Азии. В истории династии Тан, где рассказывается опадении Уйгурского каганата, упоминаются хэйчэзцы (чернотележники)шивеи, входившие в состав обьединения Канцзюй или дажетождественные ему. По его утверждению область Канцзюй находиласьеще в северной части Внутренной Монголии и востоке БольшогоХингана. Для нас совершенно новым и неожиданным является егогипотеза о связи с этнонимом канглы-кангюй с названием городаКанкати, упоминаемого Рашид-ад-дином в стране «пеголошадников».Еще более интересно утверждение его о наличии тележных канговсреди лыжных тюрков, делившихся на три племени: дубо (тува),милиге (меркит) и хэйчэжцы (канглы) (Зуев, 2002). Следовательно,потомки гаогюйцев – канглы имелись среди тюрко-уйгурских племенДубо.
В то же время стоит отметить, что роды и племена с подобныминазваниями были и в Енисее. Так, в «Сокровенном сказании»упоминаются хабханасы и ханьханэ, в «Юаньши» – ханхасы. Этиплемена имели мало домашнего скота; доили оленей; пользовалисьлыжами. Считается, что под этими «тележными хакасами» имеются ввиду степные качинцы (Кызласов, 1984, С. 154). Потомками ихявляются самодийский Кангатский род и, возможно, камасинцы,самоназванием которых является слово «кангалас» (Вайнштейн, 1980,С. 86). Однако этот этноним по происхождению считается нетюркским,а кетским (Алексеенко, 1980, С. 123).
А.И. Гоголев кыпчакский компонент в составе саха связываетисключительно с кангаласами. Впервые отождествление этнонимаханалас с названием племени канглы было сделано Г.В. Ксенофонтовымв неопубликованном II томе «Ураангхай-сахалар». Исходя из этогоГ.В. Ксенофонтов, предполагал тождество канглы с гаогюйцами-уйгурами. Гаогюй - в переводе с древнекитайского языка обозначает«высокие телеги» (Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.7, ед.хр.32). Он ихсчитал предками кангаласов – третьей этнической волны вформировании саха.
Существует предположение, отождествляющее род хэнгелдурбурятского племени эхирит с кангаласами в составе саха. Данноесопоставление заслуживает внимания с филологической точки зрения:хангал-ас и хэнгел-дур. Некоторые эхиритские роды, по признаниюБ.Цыдендамбаева, могли быть потомками родов саха (Цыдендамбаев,1960, С. 44–45). Но более интересным является связь названийканглы ~ хангалас с названием рода хангин, имеющегося средизападных бурятов и монголов. Они считаются хоринским родом,попавшим в состав западных бурятов. Интересно, что в Монголии ихиногда обозначали как ханглин.
Согласно исследованию С.М. Ахинжанова, племя канглы обитало домонгольского нашествия в основном в Сыгнакском владении кыпчаков,и кочевало летом на Иртыше, а зимой уходило в долины Сырдарьи, Чуи Таласа. Сообщения о кочевьях канглов в верховьях Иртыша пососедству с найманами встречаются и у Рашид-ад-дина (Рашид-ад-дин,1952, Т.1, кн.1, С. 136-137).
Известна тесная, а возможно и генетическая, связь канглов скераитским улусом Тогрул-хана, занимавшего земли в районе рекиТола, в среднем течении Орхона и бассейне реки Онгин в СевернойМонголии. Представители канглийской знати, например упоминаемый«Юань-ши» некий Кайранбай, служили при дворе кераитских ханов, акитайское сочинение «Менуэр-шицзы» прямо пишет об их родстве:«Кераиты были предками канглы. Западные именовались канглы,восточные кераитами» (Кадырбаев, 1990, С. 35-36).
В 1286 г. по приказу Хубилай-хана в империи были сформированыподразделения гвардии из кыпчаков и канглы (Кадырбаев, 1990, С.97). В 1308 году кыпчакская гвардия была разделена на гвардииправого и левого крыла, а в 1310 г. переформирована и усиленадополнительным контингентом войск гвардии канглы. Интересно и то,что все воины из канглы, служившие в других войсках, были отобраныдля службы в гвардии (Кадырбаев, 1990, С. 111).
Представители племени канглы остались кочевать и на своихпрежних землях по Сырдарье и на Тянь-Шане. Впоследствии, послераспада Могулистана, могулы – канглы вошли в состав казахов.Казахское племя канлы входит в Старший жуз и проживает в южнойчасти Казахстана, на прежних землях своих предков – кангаров.Племя кангды вошло в состав кыргызов во времена до XV века, когдакыргызы и южные алтайцы входили в единую общность (Абдуманапов,2002, С. 11-14).
Известно, что остатки печенегов вместе с кыпчаками образовалиполовецкий племенной союз. Канглы входили в Кыпчакское ханство какзначительная этнополитическая сила. В XII веке в районе Приаральяи нижней Сырдарьи канглы образовали крупное объединение племен,номинально подчинявшееся кыпчакским ханам. В политическихсобытиях, особенно в сношениях с Хорезмом (в XII – начале XIII в.)канглы действовали независимо от кыпчаков. Это дает К.Ш. Шаниязовуоснование полагать, что канглы и кыпчаки являются самостоятельнымиплеменными объединениями (Шаниязов, 1974, С. 40). Китайскиеисточники того периода определяют племенной союз канглы терминомго, обозначающим государство. В тексте «Юань-ши» написано:«Ашанбуха, потомок ханского рода государства канглы – кангованцзу» (Кадырбаев, 1985, С. 117).
В войсках хорезмшаха, на чьей стороне канглы выступили противмонголов, их было до 90 тысяч. Как свидетельствует Абулгази,значительная часть этих канглов была разгромлена в районе Джуда иТаласа монгольскими завоевателями. Плано Карпини в XIII векепроезжал через земли канглы после его завоевания монголами. Вотчто сообщает он о страшной участи, постигшей их: «В этой земле, атакже в Комании мы нашли многочисленные головы и кости мертвыхлюдей, лежащих на земле, подобно навозу... Эти люди были язычники,как и команы, так и кангиты, не обрабатывали земли, а питалисьтолько скотом, они не строили также домов, а помещались в шатрах.Их также истребили татары и живут в их земле, а те, кто остался,обращены ими в рабов» (Рубрук, Карпини, 1997, С. 74).
То значение, какое занимают канглы в составе тюркских народов,позволяет усомниться в их иранском, среднеазиатском происхождении.Более убедительной является версия, отождествляющая их с
объединением Гаогюй, которая позволяет сделать вывод опреемственности тюркских народов на протяжении тысячелетий.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:Абдуманапов Р.А. К вопросу происхождения кыргызского племени кангды // ИзвестияТомского политехнического университета. Тематический выпуск «Сибирь вевразийском пространстве». Под ред. Л.И. Шерстовой. - Томск: Изд-во ТПУ, 2002 -вып. 7 - С. 3-19. Абульгази. Родословное древо тюрков, пер. Г.С. Саблукова. – Казань, 1906. – 42с. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племён и народностей //Живая старина, год IV. - Спб., 1896, вып. III - IV. – 368 с. Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алма-Ата, 1989.– 293 с. Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. - Алма-Ата,1959. – 72 с.Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древниевремена. - М.-Л., 1950. - Ч. I. – 380 с.Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древниевремена. Т.3. М., Л., 1953. – 332 с.Боровкова Л.А. Царства «западного края» во II-I веках до н.э. (ВосточныйТуркестан и Средняя Азия по сведениям из «Ши цзи» и «Хань шу»). – М.: Институтвостоковедения РАН, 2001. – 293 с.Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. II. – Л., 1926.– 523 с.Зуев Ю.А. Тамги лошадей из вассальных княжеств (Перевод из китайского сочиненияVIII – X вв. Танхуйяо, т. III. цзюань 72, стр. 1305-1308): Новые материалы подревней и средневековой истории Казахстана // Труды ИИАЭ АН Каз.ССР. – Т.8. –Алма-Ата, 1960. – 97 с. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002.– 338 с.Кадырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии XIII-XIV вв. – Алма-Ата: Гылым, 1990. Кадырбаев А.Ш. Канглы: племя или государство? // Письменные памятники ипроблемы истории культуры народов Востока. – М., 1986. Материалы XX годичнойнаучной сессии ЛО ИВ АН СССР. Ч.1. 1985. Карпини Плано Дж. Дель. История монголов. Г. де Рубрук. Путешествие в восточныестраны. – 4-е изд. – М.: Мысль, 1997. – 460 с.Каржаубай Сарткожаулы. Обьединенный каганат тюрков в 745- 760 годах. – Астана«Фолиант», 2002. – 220 с.Кайдаров А.Т. К историко-лингвистической характеристике канглы (кан) // Тюркскаяономастика. – Алма-Ата, 1984. – С. 39-47.Кляшторный С.Г. Кангюйская этно-топонимика в орхонских текстах // Советскаяэтнография, 1951. – N 3. – С. 55-59.Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники. – М.: Наука, 1964. –С. 150-180. Ксенофонтов Г.В. Материалы к II Тому «Ураанхай-сахалар». Архив ЯНЦ СО РАН, ф.4,оп.7, ед.хр.32.Маркварт И. О происхождении народа куманов // Cайт «Великая степь» [электронныйресурс]. Режим доступа: http://steppe.hobi.ru/books/markvart1-00.shtml. Датаобращения (22.06.08).
Паркер Э. Татары. История возникновения великого народа. – М.: ЗАОЦентрполиграф, 2008. – 223 с.Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т.I, кн.1 - 2. – М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1952. – 221 с. Литвинский Б.А. Кангюйско-сарматский фарн. – Душанбе, 1968. – 199 с.Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент, 1974. –344 с.Цыдендамбаев Ц.Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Историко-лингвистическое исследование. – Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во,1972. – 662 с.Minorsky V. Hudud al – ‘Alam. London, 1937. [электронный ресурс] Режим доступа:http :// odnapl 1 yazyk . narod . ru / Форум Евразийского исторического сервера. История народов Евразии. Народы иплемена с неясным происхождением. Кереиты. Найманы. Канглы. Электр. данные.http :// forum . eurasica . ru / topic 32 s 0. html ? start =0
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ГИМ – Государственный исторический музейДА – Донская археологияДВДС – Древности Волго-Донских степейИИАК – Известия Императорской археологической комиссииИКАИ – История Казахстана в арабских источниках. Т.1.Алматы. 2005.ИКПИ – История Казахстана в персидских источниках.
Том 4. Алматы. 2006.КБНЦ – Кабардино-Балкарский научный центрКБР – Кабардино-Балкарская республика МИА – Материалы и исследования по археологииМИАК – Материалы и исследования по археологии КубаниМИАСК – Материалы и исследования по археологииСеверного КавказаМИТТ – Материалы по истории туркмен и ТуркменииМИКХ – Материалы по истории казахских ханствНА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии
Национальной Академии наук УкраиныНАВ – Нижневолжский археологический вестникНАН РК – Национальная Академия наук Республики КазахстанОЗО – Образование Золотой Орды. Улус Джучи ВеликойМонгольской
империи (1207-1266). Источники по историиЗолотой Орды.
От выделения удела Джучи до начала правленияпервого
суверенного хана. Казань. 2008г.ПСРЛ – Полное собрание русских летописейПСРЛ – Полное собрание русских летописейРАЖ – Русский антропологический журналРАН – Российская академия наукСА – Советская археология СЭ – Советская этнографияСАИ – Свод археологических источниковСМИЗО Т. I – Сборник материалов, относящихся к историиЗолотой орды.
Извлечения из арабских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном.
СМИЗО Т.II – Сборник материалов, относящихся к историиЗолотой Орды.
Извлечения из персидских сочинений, собранные
В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А.Ромаскевичем и
С.Л. Волиным ТХАЭЭ – Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции
СОДЕРЖАНИЕ
От составителей ………………………………………………………………………............ 3
В.А. Иванов В.П. Костюков знал, какая археология нам нужна………………………………………
5
В.Г. Блохин, А.Н. ДьяченкоПогребальное сооружение с сырцовой оградкой из могильника Аксай-IОктябрьского района Волгоградской области……………………………………………
9
Васильев Д.В.Суфизм и исламизация Золотой Орды ……………………………………………………... 15
Л.Л. Галкин Гелиоцентризм был известен в Золотой Орде задолго до Коперника……………….
21
С.Ю. ГуцаловСредневековые погребения из Западного Казахстана…………………………………..
25
Э.Д.Зиливинская, С.У. Билялов, Ж.Т. СыдыковаРаскопки жилого квартала на городище Джанкент……………………………………
29
Д.В. Кутуков, С.Ю. Акимовский, С.Ю. СкисовЗолотоордынское поселение в Лиманском районе Астраханскойобласти ………...
42
А.К. КушкумбаевЛук и стрелы в составе золотоордынского вооружения: вопросыизучения и способы применения боевых искусств……………………………………………………...
44
Д.В. МарыксинКем оставлен комплекс Мокринский I ? ……………………………………………………
83
Д.Н. МаслюженкоХаны Махмуд-Ходжа и Хаджи-Мухаммад, или «Улус Шибана» в первойчетверти XV века ………………………………………………………………………………. 95
А.В. ПарунинПоходы сибирских шибанидов на Казань в конце XV в. ….……………………………...
111
А.В. ПачкаловГорода Нижнего Поволжья в XIII в. ……………………………………………………….. 120
П.В. ПоповК вопросу о распространении буддизма в Золотой Орде по даннымархеологических источников …………………………………………………………………. 130
Т.М. ПотёмкинаПрижизненный статус погребённых с распрямлённой гривной изпозднекочевнических комплексов Восточной Европы…………………………………...
145
Р.Ю.ПочекаевК вопросу о составе господствующего класса Золотой Орды: династиисановников ……………………………………………………………………………………….. 157
К.А. РуденкоБулгарский улус Золотой Орды: к постановке проблемы………………………………
168
Ж.М. СабитовБерке и его правление в Золотой Орде ……………………………………………………... 178
В.В. УшницкийПлемя канглы в составе тюркских народов: вопросы этническойистории ……….
185