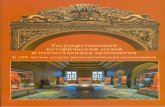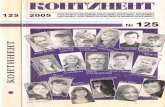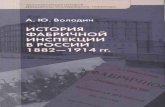"Предварительные итоги" Москва, 2014 Из-во АТиСО
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "Предварительные итоги" Москва, 2014 Из-во АТиСО
2
УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
К58
К58
Кожокин, Е. М.
Предварительные итоги / Евгений Михайлович Ко-
жокин. – М. : ИД «АТиСО», 2014. – 168 с.
«Предварительные итоги» – это книга состоявшегося че-
ловека, историка, политика, ректора. Им написаны рабо-
ты по истории, социологии, международным отношени-
ям, но образы, идеи, ощущения не вмещались в научный
дискурс и родились стихи, эссе, рассказы, очерки, пред-
ставленные в этой книге.
ISBN 978-5-93441-433-8
© Е.М. Кожокин, 2014
3
ОБ АВТОРЕ
Автор этой книги – человек удивительный. Он – наш совре-
менник. В то же время его биография, вся его деятельность и
его литературное творчество – это часть истории, нашей но-
вейшей российской истории. Историю, как правило, восприни-
мают на расстоянии. Но мы живем здесь и сейчас. То, что под-
час кажется повседневностью, на самом деле является исто-
рическим моментом. Ощущать ценность каждого момента,
видеть окружающих нас людей в перспективе их индивидуаль-
ности и значительности – не в этом ли суть гражданской от-
ветственности и развития гражданского общества?
Что касается автора этой книги, то по факту, по дате
своего рождения – он человек не только двух веков, но и двух эпох
в контексте переломных десятилетий и общественных транс-
формаций конца ХХ века. Умение меняться, оставаясь верным
себе, – это свойство сильных и зрелых личностей, это результат
постоянной аналитической работы – анализа происходящего и
самоанализа. Этим умением в полной мере обладает автор.
Евгений Михайлович Кожокин известен в разных сферах по-
разному. Он – ученый-историк, автор целого ряда серьезных
работ – монографий и статей по истории Франции, в частно-
сти ее рабочего движения и социал-демократии, ученик велико-
го Гефтера.
Но история для него – это и политический опыт прошлого,
того далекого прошлого, которое он очень хорошо знает и о
котором он помнит, занимаясь активной политической рабо-
той. Он сам был участником бурных дебатов в Верховном Со-
4
вете, он не боялся и по сей день не боится ездить в горячие
точки бывшего Советского Союза, он имеет мужество публич-
но признавать ошибочность принятых когда-то собственных
решений. Но самое главное – он одновременно аналитик и тво-
рец современной истории.
Однако рефлексия окружающего мира – это не только
строгая аналитика. Есть понятие эмоционального интеллекта.
Публицистика, эссеистика и поэзия – это другая сторона все
того же единого органичного авторского Я.
Мне довелось сотрудничать с Евгением Кожокиным во
время конференции в Киеве, которую он инициировал два года
назад. Конференция была посвящена статусу русского языка в
Украине и проблеме двуязычия. Уже тогда все горячие дискус-
сии свидетельствовали о существовании полярных мнений и на-
мечавшемся концептуальном расколе в украинском обществе.
И Кожокин бил тревогу, доказывая, что язык – это не пустяк,
это сам человек, его личность, его самоидентификация, опыт
поколений и историческая память. Принудительный отказ от
родного языка для многих равнозначен предательству по отно-
шению к самому себе.
Е.М. Кожокин – не равнодушный человек. Он любит не
только свою семью и своих близких, которые ему бесконечно
дороги. Автор глубоко переживает несправедливость в обще-
стве, несправедливость по отношению к отдельным людям и
целым народам, болеет душой в полном смысле этого слова.
Вот эта боль и находит выражение в его лирике, в его эссеи-
стике и, отчасти, в его малой прозе. Может быть, кому-то из
читателей эта книга поможет понять, что он не одинок в сво-
их мыслях, раздумьях и сомнениях.
Т.В. Юдина, филолог
7
НИНА
Если солнце светило точно за спиной Игната Широкова, лучи
проходили сквозь его оттопыренные уши, высвечивая все их
нехитрое устройство … с прожилками и редкими капиллярами.
Уши были маленькими и аккуратными, но прикреплялись к голо-
ве ровно под углом в 90 градусов. Когда Игнат пришел записы-
ваться в секцию бокса, тренер ему сказал:
- Может тебе лучше парашютным спортом заняться.
Игнат, не отвечая, посмотрел на его перебитый нос и за-
плывшие глаза и стал искать секцию самбо. Хочешь быть доб-
рым, будь сильным – учили дома.
Игнат читал жадно и быстро. И всегда из чтения извлекал
полезное и практичное. В романе Николая Островского «Как
закалялась сталь» он внимательно изучил описание того, как
наносить прямой удар в челюсть, из романа Чернышевского
«Что делать?» решил взять на вооружение теорию разумного
эгоизма. Он знал свои недостатки и слабости и все за исключе-
нием перпендикулярных ушей собирался устранить. Игнату нра-
вилось командовать, и друзья для него были не просто друзья,
а его команда, его ребята, если не сказать, его подчиненные.
В тот день он задержался на тренировке, и команда собра-
лась без него. Сидели под пожарной лестницей и травили анек-
доты, вещал Седой, новенький, неделю назад появившийся в их
8 «Б». Он был спортивного вида, с белесыми ресницами, беле-
сыми бровями, с глазами неопределенного цвета, но вполне в
общую масть с исключительно светлыми, аккуратно подстри-
женными, прямыми волосами. За волосы альбиносного окраса
его и прозвали Седым. Он ходил в иностранных шмотках и ко-
сил под небрежного отличника, на уроках отвечал очень хоро-
шо, но всегда с чуть заметной полуулыбкой, полугримасой – мол
все это настолько просто, что он ответит на любой вопрос, не
просиживая часы над учебниками. Этот мальчик всюду стре-
мился набирать очки.
8
- На Землю прилетели инопланетяне, – с выражением рас-сказывал самоуверенный новичок, – посадили планетоход в Гру-зии. Их разведчик по имени Сатурн пошел устанавливать кон-такт с землянами и попал на грузинскую свадьбу… Только он успел сказать:
- Я – Сатурн, – как тамада приказал: - Налить Сатурну! – Инопланетянин выпил и вновь говорит: - Я – Сатурн… – Тамада вновь: - Налить Сатурну! Чувак чует, попал в историю, кричит в голос: - Я – инопланетянин!!! Тамада посмотрел на него, покачал головой… - Сатурну больше не наливать! Седой, рассказывая, корчил забавные рожи, изображая то
Сатурна с ушами как антенны, то важного грузинского тамаду с большими усами. Игнат слушал, стоя за углом дома. Как только он вступил в кружок ребят, Седой осклабился и ткнул пальцем в его сторону:
- Во, Сатурн прилетел. Народ засмеялся… Отвечать надо было немедленно, иначе –
прощай, друзья, прощай, команда. Седой – командир, а он Иг-нат – изгой, Сатурн с грузинской свадьбы… Пульс в запястье отстукивал мгновения, отпущенные на ответ. Слова не шли и черт с ними…
- Смешно..., – выдохнул Игнат и тут же ударил. Всем телом вложиться не получилось, но эффект неожиданности сработал.
- Ты что? – испуганно выкрикнул Седой, отлетев к лестнице и приложившись спиной и головой.
Ребята повскакали. Они оторопело смотрели на Игната. Дело было сделано. История получилась несмешная. Когда расходились, Игнат всем пожал руку по-взрослому и
Седому тоже, тот руку протянул, но, уходя, обернулся с едва заметной ухмылкой: «Мол, еще не вечер, там посмотрим».
Через день Игнат уехал в деревню.
* * *
Острова, борисовские пастухи, шалаш над обрывом, лодка в Бокалде, старица, охота на чибисов…
9
Девчонки после клуба ходили по селу и пели неизвестные
Москве и Игнату песни.
- Где-то посредине Земли
Люди все мосты развели.
И стоят они, и стоят
Как разомкнутые руки.
Сюда на реку Нерль Игната привозили с малолетства. Здесь
история и семейные предания переходили друг в друга. Он пил
парное молоко и краем уха слушал рассказы про своих предков.
Мордыш – старое монастырское село с красивой церковью
на высоком берегу Нерли. Река голубой излучиной бежит сквозь
заливные луга мимо Васильково, Порецкого, Добрынского по
направлению к храмам и остаткам крепостных стен Владимира,
города давно пережившего свою славу и величие.
Широковы издавна жили в Мордыше. До революции на
главной улице села стоял их большой двухэтажный дом: кир-
пичный низ, деревянный верх, как это было принято у местных
зажиточных крестьян. Главой семьи долгое время оставался Ев-
графыч, высокий, худой, сильный старик, по престольным
праздникам украшавший широкую грудь солдатским Георгием.
Если Игнат по своим мальчишечьим делам или по указанию
бабушки заходил в дом к кому-нибудь из мордышских старожи-
лов и попадался на глаза старикам, те обязательно задавали са-
краментальный вопрос «Чей ты?» Фамилия Широков служила
паролем и ключом к его родословной.
* * *
Евграфыч во главе строительной артели уходил на заработ-
ки. Разбогател, стал купцом и подрядчиком, но семейство про-
должал держать в строгости.
Сыну не разрешил сидеть в лавке, тот ходил в Москву про-
стым артельщиком. С малолетства на стройку пошел и внук
Васька. Но Ваську Евграфыч от себя не отпускал.
Евграфыч и счета, и кладку проверял сам. Поднимался по
лесам на самую верхотуру. Ваську всюду таскал за собой.
Евграфыч был почти мифической фигурой, к тому же мор-
дышским богачом, правда, вовремя умершим до всех больше-
10
вистских продразверсток и раскулачиваний. Его сын, прадед
Игната, погиб под Кенигсбергом в самом начале Первой миро-
вой. Мордышские старожилы больше знали бабушку и деда
Игната.
* * *
Внук Евграфыча, дед Игната, осторожный Василий почел за
благо, отслужив положенное в Красной армии, при первой воз-
можности перебраться в Москву. Он смекнул, что советскую
власть лучше переживать среди анонимности большого города и
прикрыв свое сомнительное родство пролетарским статусом.
Василий устроился на авиационный завод, а вечерами и по вос-
кресеньям подрабатывал, ремонтируя квартиры разным знако-
мым и незнакомым, но надежным людям.
Овальное лицо, серо-голубые глаза хорошего разреза, акку-
ратные руки с длинными пальцами – весь облик Василия плохо
вязался с его положением обычного рабочего-маляра. Интуи-
тивно ощущая это, он всегда стремился держаться незаметно, по
всем сложным вопросам советуясь с женой Нюрой, которая чи-
тала самые разные книги и отличалась с юного возраста порази-
тельной здравостью суждений.
Во время большого пожара двадцать девятого года родовой
дом полностью сгорел, Василий не захотел возвращаться на пе-
пелище, участок земли отошел семье колхозного активиста. Во
время короткого отпуска семья приезжала к родным, Василию с
Нюрой хватало места и в тесной, душистой житнице.
В близлежащей сельской больничке родилась их дочка, че-
рез восемь лет уже в Москве – вторая.
Мордыш помог семье пережить войну. Василия вместе с за-
водом эвакуировали в голодный Куйбышев. Нюра с дочерьми
все самое страшное время провела в тихом Мордыше. Козлов
Лес и Перелески, Нерль, Омшанное болото помогали грибами,
рыбой, земляникой, щавелем, малиной, клюквой. Соседи, кому
было чем поделиться, не забывали улыбчивую певунью Нюру с
ее девочками-малолетками. Старшая летом выходила на колхоз-
ные работы. На ее и Нюрины трудодни выдавали немного зерна
и гнилую картошку, но все лучше чем ничего. Нюра с согласия
11
мужа, аккуратно присылавшего письма, продала кольцо, сереж-
ки, свое городское пальто и купила козу с ласковым именем
Милка, из мерзлой картошки делали оладьи, козье молоко де-
лало съедобными эти коричневые сладковато-отвратительные
кругляши.
Сосед Митрич вернулся с войны с деревяшкой вместо ноги.
Митрич брал колхозную лошадь и вскапывал свою землю и
Нюрин соседский участок. Когда Милка родила двух козлят,
Нюра одного принесла Митричу, тот молча выпровадил ее за
ворота. В прогоне буркнул:
- Я на фронте наелся, сто лет сыт буду. Забирай Егора.
Козленка с того дня все Егором так и звали.
- Ты на зиму козлят забей. Не то помрут, кормов у тебя ма-
ло. Жир натопишь, зиму с девками протянешь. В мороз козий
жир самое оно.
Сам Митрич пришел под вечер в декабре и козлят забил,
и жир натопил в большой металлической плошке.
Митрич молчал и работал, пахал с мрачным остервенением
без перерывов и перекуров, будто хотел успеть переделать все за
себя и за мужиков-односельчан, не вернувшихся с войны. Похо-
ронки село не забывали, отдаваясь то громким, то тихим бабьим
плачем.
Война заканчивалась, Нюра договорилась с председателем
колхоза, и он выделил подводу, чтобы добраться до Корякин-
ской, близлежащего полустанка, на котором останавливался по-
езд Нижний – Москва. Митрич довез их до железки и на проща-
нье сказал Нюре, сильно окая:
- Не забывай Мордыш то-о…
Нюра всхлипнула, сдернула зачем-то платок с головы и ут-
кнулась на миг в жесткое плечо Митрича.
- Спасибо тебе. – И, уже рванувшись к подходившему поез-
ду, на ходу выдохнула:
- Храни тебя Бог.
«О ком это мать», – подумали девчонки. В доме Бога не по-
минали.
В их семье все происходило вовремя. В положенный срок
дочери одна за другой вышли замуж. И старшая первой родила
мальчика, которого назвали Игнатом.
12
* * *
Игнат тихо-тихо, чтоб без скрипа и стука, влез в боковое
окно и тут же получил звонкую затрещину от матери. Бабушка
прямо в ночной рубашке кинулась с постели, закрывая внука от
повторения. Воспользовавшись секундным замешательством и
разницей в воспитательных подходах двух поколений, Игнат
скрылся на свою территорию…
Сеновал принадлежал только ему. Там лежали старые овчи-
ны, едва сохранившие свой природный запах. Смешавшись с
запахом сена, этот слегка пряный, слегка пьяный дух мгновенно
уносил в сон, и никакие сельские звуки не могли этот сон нару-
шить…
Днем Игнат вытащил нижние гвозди из некрепко прибитых
досок с тыла сеновала. Теперь он всегда приходил вовремя, до-
жидался, пока в избе все стихнет и через рукотворную дыру
уходил в песенную ночь.
Игнату приглянулась тонкая, темноволосая Лидка, за кото-
рой бегали все его друзья, парни постарше и даже чужаки из со-
седней деревни. Но как-то вечером он пошел провожать скром-
ную Нину, младшую дочь одноногого Митрича. Плотная, креп-
кая фигура, хорошее, но без вызова лицо и лишь глаза изуми-
тельной голубизны с серыми ободками поражали, но и настора-
живали. Что-то слишком серьезное было в этих девичьих наив-
ных глазах. Игнат обратил внимание лишь на то, что, когда он
провожал Нину до калитки и, согласно заведенному издавна в
Мордыше и окрестных селах ритуалу, положил будто невзначай
ей руку на плечо, руку она не сбросила.
* * *
Игнат был дачником и москвичом, он приезжал в Мордыш
только на летние каникулы, но семья его была мордышской,
Широковых в селе было много, все – дальняя родня Игната. Для
Нины этот чудной парнишка был чужим и своим одновременно.
Каждый вечер, провожая ее, он рассказывал истории из книжек,
про существование которых она даже не слышала. Он говорил,
она молчала.
13
Свет тихой нежности разливался в Нинкиной душе, охваты-
вая все ее существо, с каждой встречей свет становился все ярче,
он не слепил, не обжигал… Он рос как лучи подымающегося
июньским утром солнца, свет пробивался сквозь матовую ту-
манность настороженности.
Вечера становились все длиннее и каждый вечер все труднее
было расстаться.
* * *
Днем Игнат объезжал лошадей, охотился на чибисов, ловил
ястребят… Мордыш был для него краем свободной охоты…
Главная отрада – голубая красавица Нерль. Темные омуты в
излучине за впадением крохотной Вохолки, напротив болота,
через которое бежала тропинка в Бор. Два острова со стремни-
ной между ними… А перед островами на одном берегу высокие
обрывы и жутковатая глубина прямо под берегом, на другом –
широкая песчаная отмель, на которую ни скот не заходил, ни
отдыхающие не добирались.
А самое любимое место у лав… Каждый год после паводка
возводили это сооружение через реку. Сваи в четыре ряда, к ним
подпорки с двух сторон. И тяжело груженые машины, и даже
трактора переезжали по этому временному мосту с одного на
другой берег.
Под водой толстые бревна, на которых держались лавы,
смотрелись как загадочный лес, тянувшийся со дна до деревян-
ного полотна. Сквозь щели проглядывало небо и пробивались
лучи солнца. В тени лав прозрачная Нерль обретала новый отте-
нок. Темно-желтый цвет глубокого дна перемешивался с голу-
бым. И сваи, как носы древних ладей, с тихим журчанием рассе-
кали зеленоватый, как бутылочное стекло, поток. Под лавами
мальчишки играли в свою чисто мордышскую игру – догонялки
под водой. Ловить замучаешься. Ныряли все, как утки. Игнат
хорошо знал хитрости игры, опустится на дно, держится за сваю
и ждет, где мелькнет загорелое тело, и тут же, пока кислород
есть в легких, – за ним. Руки, ноги по-лягушачьи загребают…
Мальчишки из соседних сел мордышских пацанов иногда обзы-
вали водяными.
14
Вечером Игнат с реки таскал воду на полив. Железные дуж-
ки ведер резали ладони… В жаркую погоду полив – то была об-
щая повинность... Воду носили все, у кого были силы. Бабы и
женщины, то есть дачницы, делали это с изяществом и даже лег-
ким кокетством. В красивых сарафанах, с прямой спиной… Ма-
ма с коромыслом на плече и чуть покачивающимися ведрами...
Это женское искусство ему не далось, ведра ходили ходуном,
вода проливалась, деревянные изгибы коромысла норовили то
сломать ключицу, то подрезать шею.
После полива надо пригнать скотину, распущенную из стада
пастухом. И это тоже их дело – девчонок и мальчишек, парнями и
девушками они становились, только переделав домашние дела,
когда их отпускали погулять в клуб. Игнат помогал пригнать ско-
тину родственникам, что жили на другом конце села – у пруда.
В то лето все намучились с молодой непоседливой овцой.
Не желала идти в хлев на ночь, ни на хлеб, ни на хлыст не реаги-
ровала. Игнат знал, что ребята и девчонки собирались в тот вечер
идти в другое село, и он не хотел отставать. Как назло, строптивая
овца отбилась от своего гурта, забралась в чужой огород, ломала
все планы Игната. Разозленный, он не стал направлять ее хворо-
стиной к дому, поймал за задние ноги, перехватил поудобнее и,
водрузив непрерывно блеющее животное себе на плечи, почти
бегом пустился в сторону овечьего ночного пристанища. Овца на
насилие ответила… Пришлось бежать на речку отмываться, чтоб
не несло за версту овечьей мочой. В итоге в большую деревню
Раменье, что по ту сторону Нерли, все ушли без него. По темно-
му, в миг ставшему незнакомым лугу пришлось топать одному.
Прислушивался к каждому шороху. При звуке голосов у неболь-
шого оврага достал перочинный нож, раскрыл, так и шел с ним
наизготовку. Голоса оказались парня с девушкой, которые, зави-
дев в полумраке одинокую фигуру Игната, приумолкли и немного
уклонились с проселочной дороги.
У лав – главный мордышский пляж, клуб, место сбора мо-
лодежи и взрослых мужиков, здесь играли в карты – в козла и
подкидного дурака, договаривались о походах на соседние села.
Август завершал свой бег сухой жарой. Даже старшее поко-
ление, всегда повторявшее, что конец купанью после Ильина
дня, тянулось к прохладе реки.
15
Запыхавшаяся Нина прибежала на речку к лавам и сразу к
Игнату, который на этот раз пришел купаться вместе с матерью
и даже бабушкой.
- Наши войска заняли Чехословакию, – сказала она и тут же
вся залилась краской. Днем она никогда не подходила к Игнату,
а тут к тому же просмотрела, что он был вместе с родными.
- Война будет, надо в Москву возвращаться, – тут же завол-
новалась бабушка Нюра.
Обошлось без войны. Чехов вернули в лоно правильного
социализма быстро и решительно. Игнат в событиях не смог
разобраться, но энтузиазма по поводу оккупации Чехословакии
не испытал.
* * *
На следующее лето Игнат впервые не поехал в Мордыш.
Неторопливый состав провез его через Смоленск, Минск, Вар-
шаву в ГДР. Кирхи, ратуши, черепичные крыши Саксонии. Ак-
куратные, ухоженные каналы этнографического местечка Люб-
бенау-Фенау. По берегам керамические фигурки гномов. Европа
из книжек обрела физическое, осязаемое лицо домов, прохожих,
подстриженных деревьев и косуль, гуляющих в парках.
* * *
Директор школы грузный, тяжелый Лев Исаакович Ройз-
ман спал между двумя перинами более шумно, чем жил. Он
постоянно ворочался с одного бока на другой, издавал носом то
свист, то храп, но главное периодически выкрикивал во все
горло команды: «Вперед! За Родину! За Сталина!» Ночью в нем
просыпалась война и не отпускала его до утра. Его командные
лейтенантские крики эхом отдавались в узких улочках чере-
пичного смирного Шпремберга. Игнату было стыдно перед ме-
стными гедеэровскими немцами, он брал подушку и накрывал
седую голову Льва Исааковича, тот ненадолго затихал. Саксон-
ская необъятная подушка будто возвращала его в состояние
контузии. Затем он все также во сне приходил в себя и вновь
шел в атаку.
16
Лев Исаакович знал немецкий язык и днем вежливым, тихим
голосом подолгу разговаривал с хозяевами, у которых они с Иг-
натом жили. Школа № 407, в которой старый фронтовик дирек-
торствовал, регулярно устраивала обмен школьниками со шко-
лой из маленького Шпремберга. Школьников сопровождали ди-
ректор и две-три учительницы, Ройзман предложил поехать в
ГДР Екатерине Васильевне, мать Игната отказалась, попросив
взять вместо нее сына.
Из ГДР Игнат привез матери маленькую красную чашку, ко-
торую подарили во время экскурсии на фарфоровую фабрику,
а себе купил ярко-голубые джинсы с узорным цветным ремнем.
* * *
Осенью пришло письмо от Лидки Громовой: «Почему ты
перестал писать Нине? Она так ждет твоих писем.»
О чем ей писать? Про «Постороннего» Камю? Про «Ворота
Расемон» Рюноске Акутагавы? Про выставку Ван Гога? Про не-
познанные смыслы истории? А она будет отвечать – про здоровье
Митрича, про ремонт дороги в Боголюбово, про подснежники в
Козловом лесу… Письма закончились, поездки в Мордыш тоже.
Предстояло завоевать большой мир. Игнату снились синее
море, черные горы, желтые пустыни. Неброские, будто раз и на-
всегда подаренные ему пейзажи владимиро-суздальской земли
казались недостойным фоном для будущей жизни.
* * *
Ничего не будет. Только давние письма и воспоминания.
И все… И свет нежности, который не хотел уходить, не хотел
рассеиваться… Он оставался внутри, а впереди перед мыслен-
ным взором – темная пустота. Зови, кричи, плачь… Даже эхо
не откликается. Пусто. Пошла в хлев. Маленький, недавно ро-
дившийся теленок смотрел на нее с ожиданием огромными, без-
защитными глазами. Обняла его и заплакала. Не слышала даже
как в хлев прохромал Митрич. Теплая, тяжелая рука отца легла
на плечо. Только и сказал:
- Будет тебе.
17
Дрожь пробежала по всему телу. «Пап-ка…». И заревела в
голос. Отец чуть прижал сильными, заскорузлыми пальцами ее
плечо.
Сквозь маленькое оконце пробился случайный солнечный
луч, упал на бархатистую мордочку теленка, тот моргнул и по-
тянулся к Нинкиной руке.
* * *
В зале было шумно, и Игнат не расслышал ни имени, ни фа-
милии своего соперника. Он не спеша вышел на ковер и увидел,
что перед ним стоит Седой, который за то время, что они не ви-
делись, пошел сильно вверх и теперь был выше Игната ростом.
Игнат вмиг почувствовал, что и физически Седой его превосхо-
дит еще больше, чем это было в их школьные годы. Игнат
нередко выигрывал схватки за счет борьбы в партере, в случае с
Седым партера надо было избегать любым способом. Прямое
силовое противоборство не давало ему шансов. Оставалось –
подловить противника на пару классно отработанных, любимых
приемов.
Седой сразу узнал своего давнего недруга и сразу оценил
свои преимущества. Ощущение превосходства подстегнуло чув-
ство злости и желание мести – за удар в челюсть, за сочинения
ушастого, которые на уроках литературы всегда учительница
как самые лучшие читала перед его сочинениями, за внимание
одноклассниц, за то, что его команду так и не удалось подчинить
себе.
«Надо поймать его на болевой, а затем он у меня будет дол-
го плясать…», – крепко прихватив рукав самбистской куртки,
определил для себя цель уверенный в победе Седой. Прыжок,
ноги на противника.., падение на спину, рука между ног, если
очень резко и очень сильно рвануть – разрыв связок… Уходит
черт... Седой мотал по татами более слабого противника.
И вдруг чуть не пропустил подножку. Волна ненависти накрыла
Седого.
«Он меня на болевой ловит, – схватил тактику Седого Иг-
нат. – Только не это, ломать будет, и судья не поможет», –
и вскинул ногу, чтобы перебросить в падении противника через
18
себя. Ушел. Длинных трудно ловить на этот прием. Игнат ока-
зался на ковре, удержания избежать не удалось. И тут же, как
только они встали в стойку, рука Игната оказалась будто в же-
лезных тисках, они вместе падают… Игнат рванулся так, что не
заметил как сам себе прокусил губу.., невероятное усилие, в тот
момент он перестал быть самим собой… На долю секунды на
ковре был волк, отгрызающий лапу, попавшую в капкан. У Се-
дого слезы набухли. Ушастый вывернулся.
Время закончилось. По очкам победил – назвали фамилию
Седого.
- Еще увидимся, – с улыбкой змеиного добродушия сказал
бывший одноклассник, уходя с ковра.
* * *
В газете «Правда» Игнату попалась статья, что человек мо-
жет жить лет до 160 и ученые работают над тем, чтобы жизнь
длилась именно столько… Игната охватил ужас, так как первым,
кому ученые продлят жизнь, будет, несомненно, Леонид Ильич
Брежнев. Игнат превратится в древнего старика, а править в
стране будет все тот же Леонид Ильич.
Но осенью 1982 года Леонида Ильича не стало, в 1984 ушел
сменивший его Андропов, в 1985 страна проводила Черненко.
В анекдотах поминали гонки на лафетах… Игнат изучал исто-
рию и культуру черепичной Европы, но после ГДР попасть за
кордон не мог. Он упорно создавал тексты о реальности, в суще-
ствовании которой подчас сомневался. Но чужое прошлое было
более познаваемо, чем свое настоящее. Из ХIХ века Игнат дви-
нулся в ХVIII, рациональность европейской истории увлекала
своей почти математической логикой и осмысленностью чело-
веческих судеб…
Но маг по фамилии Горбачев своим генсековским ключом
стал приоткрывать двери благополучного советского лагеря.
Знакомые из Академии наук, еще вчера известные лишь колле-
гам по сектору и друзьям по курилке, вмиг благодаря одной
громкой публикации превращались в оракулов мудрости и в
звезды публичной жизни. Игнат давил в себе приступы зависти
и упорно дописывал книгу про дворцовые интриги восемнадца-
19
того века. Как-то в телевизионном репортаже про удачливых
кооператоров мелькнула узкая физиономия Седого. Незримая
нить не отпускала их друг от друга. И даже телевизор подсвечи-
вал их неразрывную связь.
* * * Дворницкую приобрел по случаю. Деньги дали предки. Их
же связи помогли наладить поставки из Италии одежды секонд
хенд. Седой открыл маленький кооперативный магазин и вскоре
понял, что значит – настоящие деньги. Они пошли.
Седой нанял охранником мрачного парня, знакомого ему со
школы. Тот воевал в Афгане, был в плену, выжил, приняв ислам.
И это все, что удалось узнать про бывшего однокашника Сашку.
Тот всегда молчал. На праздник ВДВ берет не надевал, в фонта-
нах не купался, водку не пил. Седой с трудом выносил присут-
ствие Сашки. Но так как платил он ему самую малость, а тот
всегда легко управлялся со случайными хулиганами и бомжами,
наведывавшимися в магазин, и делал массу мелкой работы, то
приходилось сносить его мрачную рожу.
Седой уже не стоял за прилавком, но в тот день заболели обе
его продавщицы и, не желая терять день, Седой сам обслуживал
покупателей. Перед закрытием вошли пятеро чеченцев. Дверь за
собой аккуратно заперли и спокойно объяснили, сколько он
должен платить им в месяц. А они будут его надежной крышей
от всех неожиданностей.
После их визита в отчаянии он решил снизойти до разговора
с Сашкой. Хоть и тупой, но охранник все же. Да и с кем вообще
можно было советоваться?
Тот, неожиданно перейдя на ты, буркнул:
- Найди Игната Широкова, если чем сможет помочь, не от-
кажет. Даже тебе…
- А пошел ты! – и уже про себя «Придурок!» – подвел черту
под разговором Седой. В тот же момент он принял решение.
Сашка на другой день уволился, бросив на прощанье:
- Под бандитами ходить не буду.
Вечером Седой лежал в джакузи и смотрел на себя в зерка-
ло. Самосозерцание всегда доставляло ему удовольствие. Но
20
не сегодня. Теплые струи мягко и упруго бодали мышцы. Ка-
фель на стенах с фигурами древнеегипетских богов, стереому-
зыка с ласковыми мелодиями «Depeche Mode», любимые симво-
лы его успеха не могли отвлечь от угрюмой мысли «Что де-
лать?» Решение он уже принял – идти под чеченов. И все же…
Не хотелось ни делиться деньгами, ни попадать в кабалу…
Плавающая в зеркальном отображении фарфоровая кошка-
копилка.., раскосая, растянутая физиономия получеловека-
полузверя, покачивалась и будто злорадно ухмылялась. В румя-
ной смазливости привычных черт почудилось вдруг сходство с
Игнатом. «Придурок-охранник накаркал… К Широкову иди…
Идиот»… Седой поймал себя на сильном желании вскочить и
размозжить о стену фарфоровую копилку. С трудом удержал
себя. Повернулся на живот. Закрыл глаза. «Лучше спать, все
равно никаких идей нет.» Но сон не шел.
Безотказное средство от бессонницы – набрать привычный
женский номер, сесть в машину и привезти к себе до утра любую
из своих многочисленных знакомых, у кого есть время и желание.
При мысли, что придется выдавливать из себя хотя бы пару
слов, отдернул руку от матового тела телефона, будто обжегся.
Проклятье. Загнали в угол.
Перевернулся на спину и тут же наткнулся на розовую ко-
шачью ухмылку. Из темного круга потолочного зеркала в отбле-
ске желтоватого ночника выплыла вновь физиономия копилки.
Подарила ее недолгая, очередная ночная дура с романтикой вче-
рашней пионерки. И вновь почудилось сходство с Игнатом.
Вмиг вскочил. Изо всей силы швырнул в бешенстве лицо врага в
темный угол. Копилка жалобно прозвучала разбившимся фар-
фором и рассыпавшимися монетами.
…И отпустило.
В голове холодными буквами отпечаталось: «Надо им поста-
вить условие. Чтобы у магазина.., что на углу открылся у самого
метро и перехватил уже часть клиентов… Пусть у него возникнут
проблемы. Какие? Это их дело. Из любого дерьма надо пытаться
извлечь пользу.» – Уже четко и спокойно сформулировал Седой.
Лег на безразмерную постель. И не желая напрягаться на разговор
и уговоры, набрал номер одной из своих продавщиц и приказал –
взять такси и приехать к нему. Дорогу она знала.
21
* * *
Ловкий аппаратчик, самовлюбленный прожектер и физиче-
ский трус Михаил Сергеевич Горбачев крушил систему и уповал
на созидательную энергию многомиллионного джина, которого
выпустил на свободу. Сам он говорил, говорил, говорил, а у
джина появились новые поводыри, и Михаил Сергеевич со
своими заклинаниями скатывался к одиночеству и безвластию.
Многих новых вождей народа Игнат знал лично и с недо-
умением читал и слушал призывы, рациональность и обоснован-
ность которых казались ему сомнительными. Испытывая интуи-
тивную нелюбовь к большим скоплениям людей, тем не менее,
стал ходить на митинги демократов.
Там красивые умные фразы выстраивали Гавриил Попов и
Леонид Баткин, с комсомольским задором призывал к демокра-
тии еще недавно полное воплощение карьерной правильности –
Сергей Станкевич, но кумиром всех митингов был Ельцин. Как
только он подъезжал к собравшимся, взрыв эмоций выливался
в скандирование: «Ельцин! Ельцин! Ельцин!». И уже было не-
важно, что скажет неладно скроенный, но крепко сшитый ора-
тор. Его рубленые фразы то и дело прерывались неистовыми
аплодисментами. Игнат уходил с митинга с недоумением и с
неуменьшавшимся недоверием к вождю российской демократии.
Но в Игнате самом было нечто, что притягивало людей и
вовлекало его в поток, который, наверное, можно было назвать
политикой. Приближались выборы в народные депутаты РСФСР.
Сугубо вторичная роль всех структур Российской Федерации не
вызывала сомнения. Но зачем эту площадку отдавать национа-
листам с их мутными идеями? Предложение баллотироваться в
депутаты Игнат слышал от многих, и он окончательно покинул
французский восемнадцатый век ради гораздо менее понятного
двадцатого.
Телефон превратился в хищное животное, постоянно требо-
вавшее крови. Злобный звонок черного уродца обрывал нор-
мальный ход жизни, пришло сообщение от друга, имя которого
тут же забывалось, о выдвижении кандидата в депутаты в поме-
щении кинотеатра где-то в районе Беляево. Игнат ехал, высту-
пал, проигрывал… Вновь звонок. Вновь речь перед избирателя-
22
ми… Вновь неудача. ДК в подмосковных Липках, НИИ косми-
ческих исследований… Игнат не упускал ни одного шанса, но
все шансы были не его. Выступление в кинотеатре – проигрыш,
в доме культуры в Подмосковье – проигрыш.
«Усомниться в самом себе – высшее искусство и сила», –
писал мудрый книжник Фейербах, сомневаться в себе – теперь
для Игната было непозволительной слабостью. Он должен был
уверенностью в себе заразить массу чужих людей. И только в
этом случае мог победить.
Дискуссия в помещении райкома партии на Севастополь-
ском проспекте. Незнакомые люди инженерного вида предло-
жили приехать на смотрины на большой оборонный завод. Им
навязывали выдвижение кандидата от райкома партии, райко-
мовца не хотели, а из своих заводчан противопоставить ему бы-
ло некого. Вот и позвали познакомиться с заводским активом
демократического варяга.
В скромном заводском клубе разговор получился на удивле-
ние на одном языке. Самым сложным вопросом оказался:
- Кто лучше Горбачев или Ельцин?
Как думал, так и ответил:
- Оба – хуже.
На удивление с ответом большинство согласилось.
А затем на большом собрании трудового коллектива рабо-
чие, инженеры, техники, конструкторы поднятием руки сделали
его, Игната, кандидатом в народные депутаты. Когда он увидел
как лес рук поднялся в его поддержку, то почувствовал, что его
перпендикулярные уши стали багрового цвета и их сияние,
наверное, было заметно с самого последнего ряда зала голосова-
ния.
* * *
Снег хлопьями сваливался с грязного неба и мелкими кляк-
сами растекался по асфальту. Редкие иззябшие прохожие не-
охотно брали листовки с обещаниями демократии, свободного
рынка и жизнеописанием Игната. Лишь пару раз люди сбросили
с себя наваждение мокрой непогоды, услышав, что человек из
листовки и человек на их хмурой улице – одно и то же лицо.
23
Женщина в дешевом пальто с авоськой, в платке, чужеродно
смотревшемся даже на этой убогой, но все же московской улице,
понуро шла мимо, не поднимая глаз. «Ей не до выборов», –
мрачно подумал Игнат и все же окликнул прохожую чужим для
него словом «гражданка» и столкнулся глазами с голубым не-
бом, обрамленным светло-серым ободком перистых облаков.
- Нина…
- Игнат…
В кафе с дежурным названием «Ветерок» они пили корич-
невый приторный кофе… У Нины был муж – алкоголик-
созерцатель. Он хорошо играл на баяне. Нина пела, он играл,
любви не было, но песни звучали красиво. Когда вернулся из
армии, предложил пожениться и уехать в Москву. Уехала в Мо-
скву и теперь – сидела с Игнатом в кафе…
Нина обещала раздать его листовки всем родителям ее по-
допечных детсадовцев, всем соседям по дому и даже отвезти
пачку листовок Лидке, жившей также на территории избира-
тельного округа Игната в Марьиной роще. Его команда попол-
нилась еще одним человеком, неразговорчивым, но исключи-
тельно исполнительным.
* * *
Они зашли в подъезд многоэтажки. Игнат остался внизу,
а Нина стала обходить квартиры, приглашая на встречу с канди-
датом в народные депутаты. В одной квартире затертыми магни-
тофонными голосами пели «Биттлз» и перекрикивалась веселая
компания. После недолгого колебания Нина позвонила в весе-
лую квартиру. Два слегка пошатывающихся парня пригласили
ее к столу. Нина отказалась, тогда пригласили заодно и кан-
дидата.
Нина спустилась вниз и рассказала Игнату о приглашении…
Бывшие десантники, воевавшие в Афгане… Ей надо ехать,
но ненадолго почему бы не пообщаться…
Звонок… и веселая компания пополнилась Лидкой. Двух-
метровый капитан-десантник – ее муж. Лидка смеется:
- Твой оглоед не пошел ко мне на свадьбу и тебя не пустил.
Вот и не познакомилась с моим Славиком.
24
Лидка забросила руки, как мяч в баскетбольную корзину,
и повисла на гиганте.
- А теперь, видишь, как славно все получилось.
- Игнат, мы тебя изберем! Правда, мужики?
Разнести мужики могли все что угодно! А вот чем они мог-
ли помочь на выборах?
А через полчаса Лидка скомандовала мужикам разъезжаться
по домам, а Игнату и Нине:
- Я вам в маленькой комнате постелила, – как о чем-то само-
собой разумеющемся заявила Лидка.
Осточертело ходить по подъездам, раздавать листовки на
перекрестках…
Игнат не ответил американцу, приглашавшему приехать в
Университет Энн-Арбор читать лекции, пропустил сроки подачи
документов на стажировку во Францию. Он ходил по подъездам
и повторял пункты своей программы, смыслы которой от беско-
нечного повторения стали уплывать от него самого.
Он как-то сказал Нине, что готов сойти с дистанции, сказал,
не задумываясь о ее реакции, просто он ей все говорил, а она на
все его слова отвечала молчанием, которое он понимал как со-
гласие и поддержку. На этот раз она ответила:
- Ты не можешь этого сделать, слишком много людей наде-
ются на тебя. И в Мордыше тоже.
- Мордыш – это аргумент, – посмеялся про себя Игнат, но с
дистанции не сошел.
Сейчас он шел за Ниной в маленькую угловую комнату,
а сам не мог отделаться от мыслей, чем могут помочь ему эти ли-
хие десантники и его новый друг – двухметровый капитан ВДВ.
Они с Ниной иногда целовались чуть более умело, чем тогда
в Мордыше, но никогда не шли на нечто большее. Не было ни
места, ни времени. А может быть, боялись и стеснялись.
От нее пахло молоком и детской чистотой…
Мысли о делах, усталость и волнение – у Игната ничего не
получалось. Нине пора было уходить, но она не могла его оста-
вить в таком потерянном состоянии. Наконец, под утро все про-
изошло. Перед тем как ненадолго заснуть, Игнат поцеловал ее
закрытые глаза и тихо вымолвил:
- Нам будто по семнадцать лет.
25
Ночь неловкой нежности закончилась… Утро было серым и
нежеланным.
Возвращаясь домой, Игнат дремал на заднем сиденье такси,
и ему впервые снилась Нина.
Два дня Нины не было, а потом она пришла в дешевых тем-
ных очках со смешной пластмассовой оправой. Игнат осторожно
снял очки с ее лица. Черный свежий синяк Нине подарил алко-
голик-созерцатель, с похмелья вспомнивший о воспитательном
долге по отношению к жене.
…Нина присела на корточки, собрала сухие листья, скрю-
ченные как иссохшие пальцы ветки, потерла спичку о свои воло-
сы и зажгла костер. Она любила тепло живого огня и приобщала
к своей любви Игната. Легко переносила холод, а ладони всегда
были теплыми и сухими. Она будто забирала жар костра и дол-
го его хранила в своем теле.
Нина не верила в счастье с Игнатом. Он был для нее неж-
ным омутом. Бросилась. И будь как будет. Она никому не зави-
довала. Да и кому вокруг было завидовать? Лидке что ли? Жила
ее подруга от одной войны до другой, как и положено жене
офицера.
* * *
После смерти бабушки дед потерял интерес к жизни. Спал,
лежал и смотрел в потолок в одну точку. Наверное, вспоминал.
Весь исхудал, перестал брить бороду. Глаза выцвели и будто
никого не видели. Но один раз едва заметным жестом остановил
Игната и поведал тихим, шелестящим шопотом, говоря о себе,
будто на всякий случай, в третьем лице. Слова были простыми и
отрывистыми, но картинка быстро сложилась….
Не сойдясь по цене с субподрядчиком, Евграфыч долго во-
дил его за собой по стройке, показывал возведенные этажи, рас-
хваливал просторные подъезды, наконец, затащил его по лесам
на самый верх… Васька, не понимая ничего в их споре,
с тупым любопытством следовал за дедом и его коренастым,
упрямым собеседником. В том месте, где леса сужались до од-
ной доски, Евграфыч вдруг гибко, совсем не по-стариковски,
26
извернулся, а его рука молниеносно вскинулась, и крепыш-
субподрядчик получил сильный, но будто случайный удар в лоб.
Тут же вторая рука Евграфыча довершила дело, придав ускоре-
ние толчком в грудь уже потерявшему равновесие телу. Вскрик
и звук глухого удара о затоптанную до каменной твердости зем-
лю. Взгляды Евграфыча и Васьки пересеклись, глаза из-под
мохнатых седых бровей и губы одновременно сказали:
- Забудь… Оступился он.
Маленькое васькино сердце захолонуло, холщевая рубашка
прилипла к спине. Евграфыч еще раз внимательно посмотрел на
Ваську, привычно буркнул:
- Смотри, устрою тебе щипанцирванцы, – и пошел вниз.
Евграфыч получил очень хорошие деньги за Дом России на
Сретенском бульваре.
Дед будто исповедался за себя, за Евграфыча, за всю семью,
а через три дня отошел.
* * *
Наступил день, когда десятки тысяч неизвестных Игнату
людей должны были решить его судьбу. Он, Нина, его команда
сделали, что могли. Теперь люди из подъездов должны были
сделать свой выбор. И люди подарили ему победу…
В МГУ на журфаке, потом в помещениях Верховного Сове-
та СССР на Новом Арбате собирались его товарищи из «Демо-
кратической России», кипела подготовка к Первому съезду на-
родных депутатов РСФСР.
Новые товарищи, впрочем, не жаловавшие это слово, упорно
обсуждали Декларацию о государственном суверенитете РСФСР,
Игнат никак не мог понять, что за суверенитет так необходим их
эфемерной республике. Он хотел бороться за демократию в
СССР, а все эресефесэровские структуры ему виделись лишь как
временные конструкции, подсобный материал для строительства
светлого здания Демократии. Превращать их в нечто сущностное
казалось опасным абсурдом. Его страной был Союз.
«Но может быть я засиделся в восемнадцатом веке?» – сам
себе задавал он непростительно интеллигентский вопрос.
27
* * *
Вопросов было много, а откровенно обсудить их было не с кем. Изредка встречался с великаном-десантником.
Капитан и полузабытый однокашник Сашка столкнулись у него в дверях.
- Седой, он – умная, – Сашка запнулся, – …сволочь. – Опять помолчал. (Не умел и не любил долго говорить.) – И хитрая. Теперь он с бандитами. Пересечешься, осторожней. Он опасный, как гюрза. Ну, хорошо. Я пошел.
- Предупредил, спасибо, – нашелся, что сказать, Игнат, хотя и был в некоторой растерянности от появления Сашки и от его невразумительной информации,
- А ты в Афгане не был? – вдруг вмешался в разговор капи-тан. – Лицо мне твое знакомо.
- Был, – ответил и повернулся к выходу. - Подожди, брат, – с дружеской, но чуть заметной коман-
дирской интонацией остановил Сашку Слава. – Ты пришел пре-дупредить, а о чем непонятно.
Сашка потоптался на месте и продолжил свою односложную речь:
- Седой лег под чеченцев. Они – его крыша. У метро был магазин маленький, торговал бэушными вещами, вчера сгорел. По его заказу сожгли. Ну, я пошел.
- А куда пошел? – все с той же доброй настойчивостью спросил капитан.
- В Афган поеду, к Ахмад Шаху Масуду. Тошно здесь, а там война… – Широко улыбнулся и шагнул за порог с таким видом, будто за порогом уже простирался Афганистан.
* * *
Первый съезд народных депутатов РСФСР… Все встали и долго стоя аплодировали. Порыв всеобщего братства и едине-ния. Декларация о государственном суверенитете РСФСР при-нята! Приоритет российских законов над союзными утвержден высшим законодательным органом Российской Федерации. Те-перь оставалось избрать Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР…
28
После избрания народных депутатов РСФСР Ельцин не спе-
шил пообщаться со своими сторонниками из «Демократической
России». Он будто выдерживал паузу. От лица Ельцина демокра-
тами руководили Николай Травкин и Михаил Бочаров, имевшие
большую известность в качестве союзных депутатов. Его кабинет
председателя Комитета по строительству и архитектуре сторожил
Коржаков, с добродушно-хитрой улыбкой умело отстранявший
рвавшихся к Ельцину российских депутатов.
Даже во время заседаний съезда будто незримая стена отде-
ляла Ельцина от остальных депутатов. Подойти к нему и войти в
его узкий круг – это была фигура высшего политического пило-
тажа.
Его первое выступление на съезде явилось блестящей инс-
ценировкой. Проход Ельцина через затихший зал... Прямая,
высокая фигура, непроницаемое лицо. Стать и поза. Большой
политик и статисты – пронеслась в головах у многих в крем-
левском зале грустная мысль. Загадочное слово «харизма» вмиг
нашло воплощение. Чеканные фразы про государственный су-
веренитет… Сам Ельцин никогда в жизни не смог бы так напи-
сать. Писали другие… Это было не важно. Сцена была постав-
лена потрясающе. Сам себе режиссер и актер, Ельцин выиграл.
Среди всех депутатов никого не было, кто мог бы с ним потя-
гаться. С этим в душе согласились даже многие из его против-
ников.
И тем не менее выборы председателя пришлось повторять и
повторять. Ночной подсчет голосов и, наконец, победа и танцы в
Кремлевском дворце под звуки ламбады из маленького радио-
приемника.
Проклятье осознанной необходимости уходило, на смену
ему шла свобода слов и действий, только за слова и действия
нужно было отвечать, прежде всего, перед теми людьми, кото-
рые проголосовали за тебя, сделали тебя депутатом и подарили
тебе исключительную свободу.
Грановитая палата, Архангельский собор, брусчатка, от-
шлифованная историей… Заседание съезда длилось и длилось,
и в Кремль Игнат ходил каждое утро как на работу. Наконец,
съезд завершился, а калейдоскоп революционных дней продол-
жился.
29
* * *
Лихорадка встреч, переговоров, интервью прерывалась са-
мыми неожиданными командировками. Только на самом деле
никто никого не командировал. Появлялась возможность по-
ехать в зарубежную страну и имевший страсть к путешествиям
Игнат не мог удержаться и соглашался, а вескую политическую
причину всегда можно было придумать. Оформление не занима-
ло много времени. Предложений было невероятное количество,
срабатывало и то, что в отличие от большинства своих коллег
Игнат знал языки.
До депутатства ему удалось съездить благодаря маме только
в одну страну, которая к 1990 году перестала существовать.
Группа российских кооператоров, уже предпочитавших на-
зывать себя бизнесменами, хотела вновь открыть Русскую Аме-
рику – проехать по Аляске и Калифорнии. С собой они позвали
Игната.
Рейсовым самолетом долетели до Магадана. Там пару дней
ждали чартера до Анкориджа. Делать было нечего. Новоявлен-
ные Рокфеллеры и Морганы пили водку и смотрели на видео
воодушевляющие фильмы про однообразные действия совер-
шенно голых людей. Игнат бродил среди балков, в которых
непонятным образом люди переживали колымскую зиму, ржа-
вых гаражей, брошенных баркасов и дырявых лодок. Местные
бичи и чайки с ленивым любопытством косились на его чуже-
родную фигуру. При отливе обнажалось почти на километр
прибрежное дно серого, грязного цвета. Обилие ржавого мусо-
ра говорило о том, что город непутевый, но не бедный. Впро-
чем, в своих умозаключениях Игнат вполне мог заблуждаться.
На Дальнем Востоке все зыбко, даже география. Взглянешь на
карту и ясно, что Магадан – на материке. А если в нем пожить,
почувствуешь, что он – на острове. И связь с материком только
по морю и по воздуху.
Магаданский аэропорт «Сокол», хоть и расположен на ко-
лымской трассе, привыкшей задерживать в местных краях при-
бывших из центральной России, отпустил новых русских амери-
канцев на Аляску.
30
* * *
За окном многоэтажной гостиницы разворачивалась живая
экранизация картины Рокуэлла Кента – неспешно проплывали
льдины, скупые лучи северного солнца пронизывали волны за-
лива Кука… Для Игната открытие Америки началось с Аляски.
Даун-таун, по нашему деловой центр города, и масса коттеджей
с небольшими зелеными участками, все это зажато между двух
рукавов залива Кука и суровыми горами Чувач. Наверное, жить
в Анкоридже комфортно, но ходить по нему быстро становится
скучно.
На лужайке перед гостиницей хронически спали два эски-
моса в теплой, но неэкзотической одежде. На окраине – огром-
ный бревенчатый дом, товарищи бизнесмены на второй же день
увлекли Игната его посетить. На грубых тесаных лавках сидели
крепкие аляскинские мужики, пили пиво и глазели. На подиуме
беспрестанно раздевались и извивались, демонстрируя разные
части тела, молодые женщины. Между лавок в одних стрингах
также ходили девушки. Засовываешь за стринги двадцать долла-
ров, и она минут пять вьется около тебя, задевает твое лицо рас-
пущенными волосами, улыбается только тебе, но от протянутых
мужских рук ловко уворачивается. Игнат помог товарищу по
путешествию перевести на английский предложение встретить-
ся. Девушка, не переставая изгибаться и пританцовывать, объяс-
нила, что днем она работает в офисе и учится в университете и у
нее есть бой-френд, так что «Спасибо, не надо».
За ужинами и деловыми обедами как мантру Игнат произно-
сил фразы об инвестициях в России, но и сам себе не мог объяс-
нить, как местные предприниматели, в основном средней руки,
могли что-либо создать у него на родине. Говорить с местными
вполне доброжелательными американцами было трудно. Как-то
за ужином оказался за одним столом с отставным морским пехо-
тинцем. После того, как тот рассказывал час про выращивание
бройлеров, свой нынешний бизнес, Игнат почувствовал что его
мозг закипает, он постарался сменить пластинку и, чтобы поль-
стить американцу, а заодно подтолкнуть его к суждениям на ин-
тересовавшую Игната тему, заявил, что бройлерный бизнес хо-
рошо строить в стране с глубоко укорененной правовой культу-
31
рой. И в качестве затравки и иллюстрации пересказал роман
Фолкнера про бедного фермера Минка, который допустил по-
траву луга богатого соседа. А затем подчинился постановлению
шерифа и, не жалея сил и времени, выстроил соседу ограду.
И только завершив всю работу, засел в кустах и пристрелил бо-
гача, так как был обижен и приговор считал несправедливым.
Бравый отставной морпех выслушав рассказ, заключил: «Этот
Фолкнер – не американец». Игнат понял, что лучше еще раз по-
вторить мантру про то, как чудесно и главное прибыльно выра-
щивать бройлеров в России, например, в Магадане, отличное
местечко и поюжнее чем Анкоридж к тому же...
Путешествие по Аляске и Калифорнии было лучезарным и
бессмысленным. Деньги у бизнесменов оставались, и они решили
поехать дальше в Техас и вернуться домой через Мехико. Игнат,
которого всюду представляли как чуть ли не самое значительное
лицо в новом российском парламенте, являлся классной торговой
маркой. Его, конечно же, просили продолжить путешествие.
Предложение было более чем заманчивым, но то ли воспо-
минания о магаданских балках, то ли ощущение, что в смутное
время не гоже долго пребывать вне непредсказуемой родины,
привели Игната к категорическому «нет».
Удалось взять билет на чартер Сан-Франциско – Хабаровск.
На подлете к Чукотке стюардесса сказала Игнату, что с ним хо-
чет поговорить командир корабля. Он знал о депутатском стату-
се Игната и передал ему короткую, тревожную и неожиданную
информацию, только что им самим полученную: Михаил Горба-
чев тяжело заболел и сложил с себя обязанности Президента
СССР. Игнат подчеркнуто сердечно поблагодарил командира,
которого явно обескуражило мимолетное выражение лица Игна-
та: промелькнуло чувство облегчения. Игнат благодарил интуи-
цию или потусторонние силы за то, что услышал новость по до-
роге в Хабаровск, а не в Хьюстон.
В аэропорту Хабаровска царила нервозность, летали слова:
ГКЧП, танки, чрезвычайное положение. Мелькнула мысль о том,
что могут арестовать в Москве прямо в аэропорту.
Но в Домодедово до Игната никому не было дела. Зал для
важных персон работал в обычном режиме, не исчезли даже бу-
терброды с дефицитной рыбой.
32
На казенной машине Игнат доехал до Белого дома и оказал-
ся в эпицентре революционного сопротивления. Что делать ни-
кто из депутатов не знал, но все находились в состоянии нервно-
го ожидания. В туалете на четвертом этаже Игнат наткнулся у
писсуара на депутата с калашниковым за спиной. Подумалось:
«Не дай Бог не туда нажмет».
Когда по внутреннему радио в Белом доме раздался звеня-
щий комсомольский голос советника Президента России Сергея
Станкевича с призывом всем женщинам и детям срочно поки-
нуть Белый дом в связи с приближением к нему танковых ко-
лонн, родилось ощущение полного фарса. Ни одному слову это-
го патетического барабанщика Игнат не верил. Буфетчицы,
уборщицы, женщины-депутатки остались на местах, а детей в
Белый дом никто не приводил.
В Белом доме действовали сразу несколько штабов, у засе-
давших там были напряженные, суровые лица, в глазах свети-
лась приобщенность к секретам особой важности. Игнат потол-
кался в одном штабе, во втором, рассказал, как большевики во
время корниловского мятежа направляли агитаторов в войска,
выдвигавшиеся на революционный Петроград. Возможно, рас-
сказал не зря.
Ближе к вечеру один из штабов призвал депутатов-
демократов разбиться на тройки и на казенных «Волгах» отпра-
виться в войска проводить агитацию. Тройкам вручались лис-
товки с призывом Ельцина не подчиняться ГКЧП.
Игнат с товарищами беспрепятственно проехал до Гольяно-
ва, где их «Волга» стала преследовать БРДМ. Бронемашину уда-
лось остановить. Молоденький лейтенант разговаривать отка-
зался, но предложил следовать за БРДМ до расположения части,
где обещал доложить о депутатах командованию.
На КПП депутатские удостоверения не помогли, но лейте-
нант сдержал слово: минут через пятнадцать майор и два капи-
тана вышли на беседу. Они прочитали листовки, но брать их с
собой не стали. Имя Ельцина на них не производило магическо-
го действия. На слова о всенародно избранном пожали плечами,
сообщив, что в их части голосовали почти поголовно за Жири-
новского, а при подсчете оказалось, что больше всех набрал
бывший союзный премьер Рыжков. ГКЧП у офицеров вызывал
33
не энтузиазм, а недоумение. Трясущиеся руки и.о. президента
страны Геннадия Янаева в телевизоре видели, судя по выраже-
нию их лиц, комментарий по этому поводу был на солдатском
языке, но до депутатов они его не донесли. Сошлись на том, кто
в стране власть – непонятно, но в людей у Белого дома солдаты
и офицеры стрелять не будут, если, конечно, в них тоже никто
не будет стрелять.
С чувством исполненного долга Игнат и его товарищи вер-
нулись в Белый дом.
Поздно вечером один из депутатов сообщил Игнату, что у
главного входа его давно ждет женщина.
- Красивая.., – мечтательно протянул небритый демократ с
завязанным раз и навсегда галстуком.
Игната ждала Нина. Она принесла хлеб и десяток сваренных
вкрутую яиц. Вместе они всю ночь продежурили у стен Белого
дома. Было холодно, хорошо и страшно. Когда на Арбате разда-
лись выстрелы, «Что, совсем сдурели?» – зло подумал Игнат.
Продолжения не последовало. Игнат смотрел на людей у Белого
дома и каждому хотелось пожать руку. Только на спектаклях
Таганки и «Современника» приходилось видеть одновременно
столько родных интеллигентных московских лиц.
Утром стало ясно, что Демократия победила и можно было
ехать спать. Игнат уже хорошо усвоил: Родина и Демократия
нуждаются в нем в моменты опасности, плоды победы поделят
без проблем и без него.
* * *
Поздно вечером Игнат шел по подземному переходу от быв-
шего музея Ленина к ближайшему входу в метро. У грязных лот-
ков и торговых киосков шевелились плохо одетые, с землистым
цветом лица люди-тени. Освещение было случайным и сумереч-
ным. Маленький старичок застенчиво предлагал избранным про-
хожим одну единственную большую книгу. Торговец по неволе
озяб и измучился от стояния с книгой, которую никак не мог про-
дать. Непроизвольно Игнат взял в руки «Восточные сказки» с
красивыми иллюстрациями, взглянул старику в его грустные,
чистые глаза, подумал: «Мой избиратель» и купил книгу.
34
По щербатому асфальту струилась вода, хотя дождя не было
давно. Игнат спешил на встречу с Ниной с целью предложить ей
работу в Верховном Совете. Мысль о том, что она ждет от него
другого предложения, он привычно отгонял.
Перед сном открыл случайно купленную книгу и стал про-
сматривать иллюстрации в стиле средневековых миниатюр. Уз-
кое лицо персонажа, змея на брусчатке и название сказки «Ко-
роль змей» остановили внимание.
«Посреди широкой рыночной площади бородатый факир
выводил на длинной старинной дудочке мелодию, которая заво-
раживала стоящую вокруг толпу, а главное большую гюрзу, по-
качивавшуюся в такт музыкальным переливам. Факир и тан-
цующая змея будто находились за невидимой стеной, очерчен-
ный ею круг никто не мог и не смел пересечь. Лишь изредка
монеты пролетали сквозь стену и с легким звоном падали на
отполированные камни мостовой. Жгуче черные глаза факира
неотрывно следили за движениями сверхопасной танцовщицы.
Не только мелодия, но и взгляд диктовали змее все ее движения.
Люди, затаив дыхание, следили за необъяснимым таинством,
развертывавшимся перед их глазами. Факира в городе знали, но
никто не поддерживал с ним отношений. По мнению горожан,
в базарный день на площадь для их развлечения приходил маг
и кудесник. Давно уже забылась история, как однажды ночью
тогда еще молодой факир защитил красивую девушку от напав-
шего на нее пришельца с чужим узким лицом и длинными бе-
лыми волосами. Факир и чужестранец долго боролись в темноте
узкого переулка. Никто не мог взять верх. Но спасенная от наси-
лия девушка позвала ночную стражу, и чужестранца задержали
и поместили на годы в тюрьму. Девушка стала женой факира и
родила ему мальчика с такими же огненно-черными глазами как
у отца. А чужестранец спустя много лет в базарный день вышел
из тюрьмы и пришел на площадь. Он постоял за невидимой сте-
ной. Понаблюдал за факиром и змеей, и вдруг вошел в круг и
выбил старинный инструмент из рук факира. Змея мгновенно
метнулась в сторону людей, за спинами которых скрылся узко-
лицый незнакомец, но рука факира остановила ее бросок. Он
одному ему известным способом убил гюрзу, но она успела его
ужалить. Люди разбегались в ужасе. Факир лежал под палящим
35
солнцем рядом с длинным телом гюрзы. Он был еще жив, когда
на площадь прибежал черноволосый мальчик, немедленно при-
павший губами к ране на руке факира. Сын знал, что делать. Он
сплевывал и сплевывал кровь и яд из раны отца. Затем на тележ-
ке уже вместе с матерью они отвезли факира домой, на окраину
города. А в городе началось невообразимое: из окрестных лесов
и болот потянулись в него смертоносными лентами змеи. Будто
огромная армия двинулась на город – тихая, беспощадная и ко-
варная. То на одной, то на другой улице раздавался крик. Жали-
ли воинов и торговок, ремесленников и музыкантов, придвор-
ных шаха и его родственников. В городе началась паника. Люди
хватали скарб и спасались подальше от городских стен.
Мальчик спас отца, но он был очень слаб и не мог двигаться.
Когда факиру рассказали, что происходит в городе, он сказал сыну:
«Беги со всех ног на площадь. Быстро, быстро. Только не наступи
ни на одну змею и не попадись в руки беловолосому чужестранцу.
Подбери на площади мою дудку…» – «Что ты говоришь? Ты по-
сылаешь его на смерть», – перебила факира жена. «Это единствен-
ный способ спастись. Змеи убьют всех в городе, а затем сами пре-
вратятся в людей, только в душе останутся змеями, а своим шахом
изберут беловолосого. Он – воплощенная змея, он – король змей.
Возьми дудку и играй как можно лучше, как можно чище. И дви-
гайся из города в горы, по дороге, а потом подымайся по тропе, по
которой мы с тобой ходили до камня над водопадом».
Мальчик вскочил, поцеловал плакавшую мать и стремглав
полетел на площадь. Множество змей встретилось ему на доро-
ге, но ни одна не успела его ужалить, так стремительно он бе-
жал. А отец лежал и, не отрываясь, смотрел в одну точку, и в
этой точке пересеклись его воля и воля беловолосого чуже-
странца, и никто из них не мог встать на ноги. Мальчик добежал
до площади, поднял дудку и заиграл. Мелодия необыкновенной
красоты зазвучала над городом. Мальчик двинулся по пути, ко-
торый ему указал отец. А за его спиной раздавалось шуршание
ползущих змей, одна за другой они присоединялись к этому пре-
смыкающемуся шествию. Все до одной выползли они из города
и двинулись за мальчиком в горы. На узкой тропинке они стали
срываться и падать в бездонное ущелье. Как только мальчик до-
брался до камня над водопадом, прямо у его ног сошла лавина и
36
с грохотом унесла вниз всех остававшихся еще змей. Ни одна из
них не спаслась. Тогда же ночная стража задержала беловолосо-
го чужестранца, и о его судьбе более ничего не известно.»
* * *
А через три дня Игнат смотрел на бумагу с размашистой
подписью Президента, он был назначен руководителем группы
наблюдателей в Нагорный Карабах.
Бумага не порождала сомнений. Предки были крестьянами и
солдатами. …Наследственный фатализм действовал как патен-
тованный транквилизатор и пункт из старого солдатского устава
о беспрекословном выполнении приказов командира.
Игнат шел за Ельциным как за судьбой, а тот бросал Игната
как проверенную боевую пешку, не задумываясь и не выделяя
его из общей массы депутатов-демократов.
Игнат прочитал Железноводское коммюнике, подписанное
президентами России, Казахстана, Армении, Азербайджана,
представителями Карабаха, пункт за пунктом… Нина отыскала
большой атлас СССР. Игнат уткнулся в незнакомые названия
Мардакерт, Мартуни, Физули, Агдам. Агдам ассоциировался с
липким портвейном. Оказывается это был большой город в
Азербайджане почти на границе с Карабахом.
- Возьми меня с собой, – вдруг несмело попросила Нина. Она
наклонила голову и ее русые волосы чуть задели щеку Игната.
Карабах – не Париж, рассудил Игнат и настоял на своем,
зайдя в полдвенадцатого ночи в кабинет к Руслану Хасбулатову,
избранному Председателем Верховного Совета вместо Ельцина,
ставшего Президентом Российской Федерации. Убедив Руслана
и уже выходя из его огромного кабинета, Игнат сам заколебался.
Он вспомнил про маленьких детей Нины, которых видел всего
один раз в жизни. Но пересматривать принятые решения Игнат
не любил…
* * *
Шла вторая неделя на Кавказе, а Игнату казалось, что он
здесь родился и никогда отсюда не уезжал.
37
Долгие уговоры, согласования, просьбы и терпение, терпе-
ние… и безнадежное упорство привели к тому, что делегации из
Армении и Азербайджана встретились в Казахе, маленьком
пыльном райцентре недалеко от границы между вчера еще брат-
скими республиками.
Пустой стол как ничейная полоса. По левой стороне – армя-
не, по правой – азербайджанцы, в торце – Игнат. За его спиной
Нина ведет протокол.
Как прекратить информационную войну? Путем возвраще-
ния к жесткой цензуре? Нечего обсуждать хорошо это или пло-
хо. Организовать цензуру с одинаковыми критериями запрета в
двух республиках невозможно. Точка.
Противостояние перерезало большой регион транспортными
блокадами. В Степанакерт, столицу Карабаха, не идут поезда из
Баку. Нахичевань отрезана армянским Зангезуром от основной
территории Азербайджана, сообщение самой Армении с боль-
шим миром оставалось только через Грузию. Надо пустить хотя
бы по одному составу. Для пробы. Все от этого выиграют. Игнат
еще не научился понимать, что «все» и политики – это совсем
разные категории.
Железноводское коммюнике подписали Аяз Муталибов,
Президент Азербайджана, и Левон Тер-Петросян, Президент
Армении…
Стали обсуждать детали и это уже было хорошим призна-
ком… Тут в комнату вошел посторонний молодой человек, ска-
зал что-то на ухо одному из членов армянской делегации и тут
же вышел.
Депутат парламента Армении от партии дашнаков широко-
плечий Армен встал и громко сообщил, что впервые за время
конфликта в заложники захватили ребенка, и пригрозил, что пе-
реговоры будут прекращены, если мальчик не будет освобож-
ден. Ему парировал азербайджанский депутат, член руководства
радикального Народного фронта Гасан. Свое эмоциональное вы-
ступление он закончил:
- Вы хотите войны, вы ее получите!
Крики, шум, обвинения…
Игнат молча и зло смотрел на разгневанных мужчин. Он
вспомнил себя одиннадцатилетним и вдруг остро почувствовал,
38
что это он сам – тот мальчик, которого захватили чужие воору-
женные люди. И никто его не может защитить. Щемящее чувство
полной, абсолютной беззащитности не отпускало. Желание спа-
сти мальчика, чего бы это ни стоило, было нестерпимо сильным.
Игнат уже знал, что в делегациях представлены разные по-
литические силы. Люди Муталибова вряд ли вообще занимают-
ся захватом заложников. К этому бизнесу скорее причастны воо-
руженные отряды, связанные с Народным фронтом. С другой
стороны, нельзя, чтобы армянская сторона сейчас пошла на рез-
кие ответные действия… При эскалации жизнь человека, в том
числе ребенка, неизбежно подешевеет. О судьбе мальчика поли-
тики быстро забудут.
В Карабахе, у Игната все больше складывалось мнение, наи-
большим влиянием пользовались дашнаки, они больше всего кон-
тактировали с федаинами, люди и оружие поступали через них.
Решение пришло – надо говорить не с руководителями деле-
гаций, а с самыми непримиримыми противниками и добиться от
них взаимных обещаний.
Шум чуть стал стихать, и тут Игнат предложил после окон-
чания переговоров отдельно обсудить, как можно спасти маль-
чика. И обсуждать не всем, а только Армену и Гасану с его уча-
стием. Предложение было неожиданным и его приняли.
Переговоры закончились, подходил к концу и совместный
обед. Только трое мужчин, неуловимо похожих уверенностью в
себе и печатью принадлежности к политике, уединились и спо-
рили, не повышая голоса.
Деревянная скрипучая веранда на втором этаже старого пар-
тийного дома. Игнат, Гасан и Армен сидели за длинным столом
и тихо беседовали. Со стороны они смотрелись как три давних
друга, которые встретились после долгой разлуки и никак не
могли наговориться. Над их головами шумели зелеными длин-
ными иглами сосны, ветер доносил запах где-то неподалеку жа-
рившегося шашлыка. В стаканах в изящных подстаканниках ос-
тывал чай, теряя вкус и запах.
Впервые в заложники взяли ребенка. И им троим нужно бы-
ло договориться о согласованных действиях, чтобы его высво-
бодить. Рядом с ними по деревянной столешнице бесшумно
прополз зеленый богомол. На хищной треугольной голове выде-
39
лялись неподвижные глаза. Над столом крутилась стрекоза, ве-
село шелестели ее прозрачные с изумрудным отливом крылья.
Богомол подбирал поудобнее позицию для охоты, молитвенно
сложенные передние конечности с шипами уже были наготове к
смертельному захвату. Глаза мужчин невольно сошлись на ма-
ленькой фигурке замершего зеленого убийцы. Гасан успел мах-
нуть рукой и стрекоза поднялась над столом на безопасную вы-
соту, а Армен смахнул со столешницы богомола.
На этой старой веранде они хорошо понимали друг друга, но
что будет, как только они уйдут с этой территории мира. Они –
заложники ситуации или им удастся прорвать неумолимую за-
кономерность эскалации и спасти одного, всего одного ребенка.
Глухим, сдавленным голосом Гасан сказал, как поклялся:
- Обещаю, мальчика освободят.
Армен в ответ:
- Отпустим всех заложников, только мальчика отдайте це-
лым и невредимым.
Игнат:
- Сорвется, в Москве на телевидении говорю о заложниках,
о мальчике, обо всей подноготной конфликта…
После переговоров Игнат – в Ереван, оттуда в Москву, он
хотел доложить о ситуации лично Ельцину.
Молодой человек, что сообщил Армену о захвате ребенка,
предлагает ненадолго свернуть с трассы, заехать в село, своими
глазами посмотреть на заложника, что сидит у армян.
- Как мальчика отдадут, мы его сразу освободим. А ты под-
твердишь, что видел его. Тебе поверят, – видимо, для большей
убедительности молодой человек перешел на ты. Впрочем, они
были почти ровесниками.
* * *
Небольшая поляна, грузовик с людьми в кузове, газики, легко-
вушки, несколько мужчин тихо, но оживленно что-то обсуждают,
перемежая армянские слова русскими ругательствами. К Игнату
подошел милиционер с автоматом за спиной, предупредил:
- Там выше дорога простреливается с азербайджанской сто-
роны. Поехали со мной в газике, в нем безопаснее.
Игнат пожал плечами и предложил Нине пересесть.
40
Газик проскочил открытый участок дороги, резко то сбав-
ляя, то набирая скорость. Нина и Игнат стукались головами и
влетали всем телом друг в друга и в борта машины.
- Ралли Париж – Дакар – Баку – Ереван через Степанакерт, –
попытался пошутить Игнат.
Будто отреагировав на шутку, милиционер вдруг сказал:
- Ты многим здесь мешаешь…
Сумерки и открытое место закончились. В миг опустилась
ночь. Газик остановился за деревьями. Милиционер вышел, пе-
редернул затвор автомата и молча пошел вниз, туда, где явст-
венно слышались выстрелы.
Игнат почувствовал острое желание как можно быстрее уе-
хать из этого глухого, горного леса. Ему здесь нечего было де-
лать. Здесь говорили автоматы.
Впереди дорогу перегородил застрявший грузовик. Отстре-
ляв все патроны вернулся милиционер, оказавшийся начальни-
ком местного отдела МВД. Они вместе стали толкать грузовик.
Порвались брюки по шву.
Иссине-черная ночь, едва ползущие, ослепшие из-за выклю-
ченных фар машины и время от времени сухой треск автомат-
ных очередей…
Когда добрались до горного селения, в доме, где находился
заложник-азербайджанец, Нина зашила порванное.
И вновь разбитые дороги. Ночной серпантин.
Эта бесконечная, безразмерная ночь уже должна была до-
ползти до предрассветных часов, но она только меняла оттенки
темноты и никак не хотела заканчиваться, готовя все новые эпи-
зоды невыдуманного триллера.
- Что это за город? Мы же ехали в Ереван… – Уже зло
спрашивал у сопровождавшего Игнат. – Что нам здесь делать?
В ответ неловкое молчание и непонятный нараставший гул
города, который почему-то не спал. Площадь. И толпа детей и
подростков на площади. Ноемберян. Именно из этого города
мальчика взяли в заложники.
Одной трагедии мало. В здании райисполкома к Игнату бро-
сается изможденная женщина. Мать, которая просит, умоляет
его:
- Сын потерпит, девочку-невесту освободите…
41
Стоит на коленях, руку целует, а Игнат в разведсводке чи-
тал, как машину с молодоженами захватили. Знал, что нет уже в
живых ни сына этой женщины, ни невестки, знал, только не мог
сказать и не хотел говорить эту проклятую правду.
А на площади стоят дети и требуют, чтобы им дали оружие.
И за все он в ответе. Затем его и заманили сюда. Москва во всем
виновата. Ты – из Москвы. Ты и отвечай.
* * *
Машина, БТР, вертолет, самолет, гостевой дом… И все вре-
мя вокруг люди, люди, люди. Чужие люди. Пыльный номер в
гостинице на одну ночь …
Игнат рядом и будто его нет. У него лицо чужое.
«…Вы очень многим здесь мешаете», – что сказал потом ка-
питан милиции, Нина не расслышала. Это была угроза или преду-
преждение? Важно было понять – по лицу, по жесту… Не успела.
«Разнорабочая, штукатур, нянечка в детском саду... – Ва-
нечке и Маше по тому же пути идти? Я хочу для них другой
судьбы. Вспомнила, как бригадир в подсобке ударил ее по лицу,
когда она оттолкнула его перегарную рожу от себя.
- А в армянской церкви можно помолиться?
…Он – добрый, ласковый, а имя – колючее. И по-другому
не назовешь. Одно имя на все случаи жизни.
В Мордыше делать нечего, в Москве – плохо.»
* * *
Члены его группы один за другим уезжали в Москву и
больше не возвращались. Телекамеры, слепящие софиты, первые
полосы газет закончились. Обстрелы, шлепки «Алазани», поезд-
ки в села, чтобы проверить данные об очередном заложнике.
Будничную лямку переговорного процесса и наблюдения, как
ситуация сползает от мелких боестолкновений федаинов с при-
данными силами азербайджанской милиции к большой войне,
тянули офицеры Генштаба и МВД, Игнат и пара его упрямых
товарищей из числа депутатов. Большинство депутатов – членов
группы разумно решило, что нет никакого смысла продолжать
42
подставлять свою голову. Сам Игнат чувствовал, что как когда-
то в студенческие времена в схватке с Седым, он ведет борьбу с
противником заведомо более сильным. Но он продолжал упи-
раться. Его больше не приглашали на офицерское собрание, му-
жики в военной форме понимали, что делает в Карабахе Игнат,
он ценил и уважал их тяжкую работу. Солдаты, офицеры внут-
ренних войск и он с остатками своей группы пытались не допус-
тить неотвратимое – не допустить Большой войны.
Приходилось вести борьбу на три фронта. В Москве главный
враг – безразличие политиков. Здесь на Кавказе – разожженная
демагогами ненависть и маскируемое красивыми словами жела-
ние власти и денег.
Жизнь простых армян и азербайджанцев, их детей и женщин
обесценивалась. Когда в редких интервью Игнат, на вопрос, что
здесь в Карабахе делают его группа наблюдателей и внутренние
войска СССР, отвечал: «Мы защищаем людей», – журналисты
морщились и старались убрать эту неуместную патетику. По-
следний выхлоп осмысленной романтики был в августе 91-го.
Осень поменяла смыслы. О сути новых Игнат не догадывался.
Удивляло, что в Москве никому не было дела до происходяще-
го в Карабахе. Звонки, телеграммы, редкие приезды в первопре-
стольную – и не дозвониться, и не достучаться. Иногда в высоких
кабинетах все-таки принимали, скучно слушали, чтобы тут же за-
быть и вернуться к более важным делам. В обиженной голове
Игната после очередной московской неудачи вдруг сложились ум-
ные слова, перемешавшие его новый опыт и давние академические
штудии. Государство – это ни Ельцин, ни Хасбулатов, это Res
Publica, Общее Дело, дело всех нас. Депутатство поможет мне объ-
яснить моим согражданам, что нам нельзя отдавать государство
людям, которые хотели бы его превратить в свою вотчину.
В вотчинном государстве господа, опричники и холопы.
А мы – не рабы, рабы не мы… Теория.
Гасан и Армен слово сдержали. Мальчика вернули, отдали
заложников, что были у армян, в том числе крестьянина, которо-
го видел Игнат в горном селении.
Но на изменение общей ситуации сил не хватало. В Караба-
хе жаркое дыхание приближавшейся Большой войны ощущалось
все сильнее.
43
***
«Его жизнь как натянутая тетива лука. А я одна из стрел в его колчане. Когда отправит в цель и в какую цель, не знаю, а может, и он сам не знает.»
Вспомнила, когда в Мордыше клуб в церкви закрыли и цер-ковь стояла совсем брошенная, холодная, вместо окон – пустые проемы, будто незрячие глаза. Ветер пролетал сквозь колоколь-ню и оставшийся почти без крыши купол жутковато позванивал железными лохмотьями. Как решилась зайти внутрь, сама не поняла. И вдруг на стене увидела полустершийся образ и ста-ла молиться богородице:
- Мать родная, дева Мария, помоги. Сил нет больше терпеть, хоть на одну минуточку дозволь увидеть его. Ничего больше не прошу – увидеть и все, а дальше хоть умереть…
Сказала и сама испугалась – жить-то хотелось. - Вот и помогла Богородица, услышала меня, глупую…
и что теперь? Кто поможет, кто подскажет? Иду как овца.
***
Главнокомандующий внутренними войсками СССР гене-рал Саввин вдруг прилетел в Карабах. По прилету, как положе-но, накрытый длинный стол с зеленью, бастурмой и тутовой водкой. Во главе стола Саввин, начальник района чрезвычай-ного положения генерал Жинкин, Игнат, далее офицеры. Старший по званию, да и по возрасту генерал Саввин поднял рюмку и, не выпив, поставил на стол. Потом уже наедине с Иг-натом сказал:
- Я из семьи староверов. Не употребляем мы. Бородачи в камуфляже. Встреча с Аркадием, руководителем
федаинов. Саввин договорился со всем армянским руководством в Карабахе и гражданским, и военным об отводе отрядов федаи-нов. Неожиданно согласился с его предложениями и министр внутренних дел Азербайджана. Требовалось усиление группи-ровки внутренних войск. Саввин приказал полку внутренних войск из Нижнего Новгорода выдвигаться в Карабах. Новоиспе-ченный глава местной администрации Борис Немцов погрузку в эшелон остановил. Немцова поддержал председатель Верховно-го Совета России Хасбулатов.
44
Шифротелеграмма Игната в Москву «Во исполнение Же-лезноводского коммюнике…» Погрузка полка возобновилась. И вновь Немцов, и вновь Хасбулатов.
С Ельциным не соединяют. Соединили с Руцким. Вице-президентом. Герой с мутной биографией орал в трубку:
- Ни одного русского солдата не оставлю в Карабахе! И дальше мат. Рядом стояли офицеры и генералы. Игнат в
ответ рявкнул: - Пошел на х..! Мне здесь виднее! Бросил трубку, и генералу Саввину и другим военным, буд-
то извиняясь: - Поговорили…
*** Руцкие, Ельцины, Немцовы, Хасбулатовы отдавали стра-
ну… Сдать, отдать, предать было легче и выгодней. Вот и сдава-ли. Сопротивление было не в чести. Игнат вместе с генералом Саввиным улетел в Москву прорываться к Ельцину, а через день разбился вертолет, на борту которого были его наблюдатели, генерал Жинкин и руководители из Баку, люди Муталибова, с вертолетом разбился и весь железноводский процесс.
Русские уходили с Кавказа.
***
Глыба мрачного, грязно-серого здания запирала маленький дохлый сквер. На углу Игната ждали студенты с лицами узников Освенцима. Они провели его в общагу мимо малобдительной охраны.
- А кому принадлежат кафе-бар, магазины, номера? - Говорят, есть какой-то генеральный директор, который ез-
дит на крутой иномарке. Его чеченцы называют Седым. Мы его не видели.
- Седой? – улыбнулся Игнат. - Вы его знаете? - Может быть… Ребят-студентов выживали из их же общежития. Игнат ис-
кал подходы, чтобы помочь своим вчерашним избирателям.
45
***
Лидка неожиданно заявилась в Белый дом. В коридорах и буфете уважительно смотрели на ее большой круглый живот –
у нее пошел девятый месяц. - Может, вы поженитесь, – вполоборота завелась она – А то
ты просто товарищ Рита. Только кожанки не хватает. – Нинка не отвечала.
- Ладно, – уже примирительно сказала Лидка, – крестной
будешь? - Что спрашиваешь?
Маленький кудрявый человек предложил Игнату свои бес-платные услуги по политической раскрутке. Он непонятным об-
разом договаривался с журналистами, и они в своих материалах стали цитировать Игната.
Так продолжалось почти месяц. Маленький человек так же неожиданно, как появился на небосклоне Игната, вдруг попро-
щался с ним навсегда. Напоследок объяснив, что у настоящего политика всегда на первом месте его собственные интересы, на
втором – интересы его группы, той что его поддерживает и про-двигает, на третьем месте – интересы страны. У Игната все пере-
путано, он слишком часто забывает про свои интересы. Вывод – в политике он не добьется большой карьеры. Поэтому маленький
человек уходит. Нина слышала разговор и разговор ей не понравился.
***
«Он не принадлежит мне, но и себе он не принадлежит.
Служит идее. Служит государству… А у нас есть государство?
Вновь его посылают в горячую точку, теперь на Северный Кав-
каз, где что-то страшное произошло между ингушами и осети-
нами. Остаться в Москве, слушать, что врут СМИ, как они врали
про Карабах, и умирать от страха за него. Лучше быть рядом…»
***
- Кто тебе штаны будет зашивать, если ты их вновь порвешь?
- Если б не ты и не Саввин, и штаны некому было бы носить.
46
От Хасавьюрта дорога – сплошной лед. Водитель угрюмо
молчал, как он удерживал «Волгу» – загадка. Лишь раз она по-
шла юзом, развернулась и ушла в снежный кювет. С ближайше-
го поста подошли чеченцы с автоматами за спиной, и помогли
вытолкать машину на дорогу. Надвинув шапку на глаза, Игнат
толкал машину вместе со всеми. Нина стояла в стороне.
Водитель и люди с поста перебросились парой слов.
- Ну, да про тебя спросили и про Нину. Я ответил, что вы
брат и сестра из Пригородного района, глухонемые… Прости,
я так на всякий случай сказал, чтоб к вам с расспросами не по-
лезли. Все обошлось...
А через полчаса машину обстреляли. Водителя-ингуша уби-
ли сразу. Игнат выскочил с заднего сиденья, отодвинул тело,
чтобы сесть за руль. И получил прикладом по голове.
Нину увели. Несколько часов ее не было, затем ее едва жи-
вое тело сбросили в яму.
Ее лицо было застывшим и отрешенным. Глаза будто смот-
рели неотрывно в одну внутреннюю точку.
- Нина, – не сказал, выдохнул Игнат и чуть прикоснулся к ее
руке. Взгляд Нины вернулся из небытия, и она улыбнулась ему,
как будто хотела поддержать, ободрить его. Ему пришлось резко
отвернуться. Чувства вины и горя гнали слезы и остановить их
не было никакой возможности.
Человек с автоматом на краю ямы с кем-то перекрикивался,
передергивая затвор. Он выпустил очередь прошившую землю у
их ног. Отошел, опять кому-то крикнул. Когда он вновь появил-
ся на краю ямы, его автомат вновь выдал очередь, но Нина опе-
редила пули, предназначенные для Игната. За долю секунды до
выстрелов она вскочила и всю очередь забрала себе. Лохматого
окрикнули, он закинул автомат за спину и скрылся…
Игнат почувствовал тяжесть Нины и как быстро стала ув-
лажняться горячим его одежда на груди, животе, ногах. Он по-
ложил ее на землю. А сам, не понимая, что и зачем он делает,
вскинул себя в нечеловеческом рывке вверх, впился руками в
край ямы и очутился на поверхности.
Он услышал, как резко хлопнула автомобильная дверь.
Раздался жалобный рев насилуемой шестерки. …И все
стихло.
47
Игнат нашел лестницу, вызволил тело Нины, затем долго
шел вдоль дороги, прячась от машин и случайных прохожих.
На блокпосту российской армии на границе Чечни с Ингушети-
ей у него с трудом отобрали тело.
- Кто она тебе… Вам? – спросил лейтенант.
- Мы из одного села, – ответил Игнат, вдруг почувствовав
жуткое нежелание говорить с кем-либо из двуногих созданий.
Но он должен был продолжить жизнь, но уже без нее и ее
беззаветной любви.
Круглолицый лейтенант не стал больше задавать вопросы,
достал металлическую фляжку, налил жидкость с родным рез-
ким запахом в кружку. Молча протянул ее Игнату. Тот продол-
жал стоять истуканом.
Тогда лейтенант вздохнул, будто хотел выругаться, на-
стойчиво сунул кружку в руку незнакомцу в окровавленной,
грязной одежде:
- Выпей, брат.
***
«Нет тебе дороги домой». На него строго смотрели одинако-
вые серо-голубые глаза Евграфыча и молодого деда Василия. За
их спинами толпились односельчане – женщины, дети, мужики
и все смотрели на него одинаковыми серо-голубыми глазами,
голубизна которых уходила и оставалась лишь серая сверкаю-
щая сталь непримиримого осуждения. «Ты не уберег нашу Ни-
ну», – молча укоряли его тихие жители Мордыша.
На миг Евграфыч и красноармеец Василий расступились,
и навстречу Игнату вышел Митрич в выгоревшей гимнастерке.
Он протянул Игнату старый автомат Калашникова с круглым
патронным диском и тихо сказал: «Держи, сынок».
Затем повернулся и заковылял на своей деревяшке по обо-
чине дороги по направлению к Мордышу. Фонтаны светло-
желтой пыли взмывали вслед за неправильной поступью старого
солдата. Отец Нины шел не останавливаясь.
Пыль не спеша оседала за ним, размывая своей грустной
желтизной четкую линию голубого горизонта…
48
Игнат открыл глаза. Сонной одури не было и в помине. Но сон и явь сомкнулись железной хваткой. Его руки, ноги, легкие знали что делать, не дожидаясь приказов от головы. Он не шел, а скользил над поверхностью пола и земли. Молодой солдатик дремал у входа в блок-пост. Игнат взял из его спящих рук авто-мат, прихватил запасной рожок и пошел в Чечню. Потрепанная знакомая шестерка дежурила у крутого поворота дороги. Четве-ро бандитов поджидали жертву в подходящем месте. Они не ус-пели рассредоточиться, прикидывали, кому где встать. Игнат получил облегченную задачу. Двумя короткими очередями он решил ее. Для верности, сделал в каждого по контрольному вы-стрелу. Лохматый, с зеленой лентой на лбу успел посмотреть в серо-голубые глаза Игната. В них не было мысли, они были ча-стью неба, на которое Игнат отправлял тех, кто забрал у него женщину, безмерную ценность которой он осознал только про-щаясь с ней навсегда.
Умирая чеченец ответил на короткий вопрос Игната, от кого шла в Москве информация. Лохматому уже было все равно, он успел выдавить из себя: «Там контора Седого. От него все…»
Так совпало, что это был сороковой день – в ночных ново-стях передали, что в районе Таганской площади в подъезде дома нашли тело умершего от ножевых ранений владельца большой торговой сети и информационного агентства… Было высказано предположение, что смерть связана с его профессиональной дея-тельностью.
А за три часа до сообщения в морозном московском воздухе будто электрический разряд пробежал. Порвалась небесная нить. Нож отсек пуповину, не один год привязывавшую друг к другу двух людей.
***
Кладбище в Мордыше на косогоре над старицей. Там совсем рядом могилы Евграфыча, Василия, Митрича и Нины. В отрес-таврированной церкви молодой священник каждый год 12 де-кабря во время службы поминает Нину Панфилову….
Игнат забрал двоих погодок Нины и уехал жить в Мордыш. Он добился того, чтобы в селе вновь открыли начальную школу и стал ее директором и учителем.
49
СТУДЕНТКА
Исаак Львович возвращался из Нью-Йорка. Его приняли все
самые крупные реэлтеры города: Лэрри Сильверстайн, Джэрри
Спейер, Роберт Тишман, Иешуа Апфельбаум, Арон Симонович.
Эти старые евреи обладали огромными состояниями и возмож-
ностями. Пришлось задействовать все американские, израиль-
ские, парижские, кое-какие московские и даже одесские связи,
чтобы добиться этих встреч. И вот они состоялись. Исаак Льво-
вич, сам реэлтер со стажем, рассказывал старшим коллегам про
ситуацию с недвижимостью в Москве, отвечал на вопросы, если
они были. Ни о чем не просил и даже ничего не предлагал. Сде-
лал все так, как рекомендовали умные люди. И сам понимал, что
выиграл. Его приняли в круг, а дела будут позже.
Теперь он сидел в бизнес-лондже аэропорта имени Джона
Кеннеди и никак не мог понять, зачем он возвращается в Моск-
ву. Он продолжал раскручивать свой бизнес, но в последнее
время в его мозг закрадывались, как он сам считал, ненужные
вопросы.
Вылет самолета задерживался, и Исаак Львович пил текилу
со случайно подвернувшимся малознакомым человеком, у кото-
рого наблюдалось одно прекрасное качество – он был изуми-
тельным собеседником: молчал и слушал, слушал и молчал.
К тому же с особым изяществом употреблял текилу – не быстро,
не жадно, но и не отставая от Исаака Львовича. Размеренными
движениями, как мастер чайной церемонии, сыпал соль на но-
готь большого пальца, выдавливал немного лимона и спокойно
опрокидывал текилу санрайз. Человек обладал приятной, но со-
вершенно незапоминающейся внешностью. Исааку Львовичу
показалось, что лет десять назад то ли на совещании, то ли на
приеме они общались. Человек подтвердил, что да, виделись,
не уточняя, где и при каких обстоятельствах. Исаак Львович был
опытным дельцом, авантюрность и осторожность в нем сочета-
лись в нужных и все время меняющихся пропорциях. Но тут до-
верие и симпатия его накрыли как волной, текила закрепила
50
впечатление. Хотелось говорить и говорить и даже делиться
нематериальным. Вообще-то Исаак Львович давно уже не разго-
варивал, а обменивался информацией. Но в последние месяцы
его внутренняя невозмутимость была повреждена и даже разба-
лансирована. И вот теперь он дошел до кондиции, близкой к из-
ливанию души.
Они так хорошо сидели в бизнес-лондже, что через час им
сказали, что текила кончилась. Уже почти подружившиеся Иса-
ак Львович и человек, имя которого он знал в начале их ожида-
ния отлета, но уже забыл по прошествии затянувшегося време-
ни, без излишнего трагизма перешли на местный Smirnoff.
О политике поговорили ритуально. Обсуждать было нечего,
по всем пунктам они были одного мнения, как и большинство
россиян интеллигентного происхождения.
Незаметно перешли на личное. Исаак Львович спросил со-
вета у мудрого собеседника, что ему делать в ситуации, суть ко-
торой он изложил, не вдаваясь в лишние детали. Хотя эти
ненужные детали высвечивались в сознании с излишней ярко-
стью. Исаак Львович не потерял над собой контроль, уже очень-
очень давно такого с ним не происходило. Он просто подчинял-
ся несформулированному умыслу. Да и рассказ был настолько
личный, что никак не мог навредить, в случае чего, его деловой
репутации.
Два года тому назад Исаак Львович познакомился с девуш-
кой. Об обстоятельствах знакомства говорить он не стал.
Все началось в модном обувном магазине. Черноглазая то-
ненькая продавщица с мягкими южными интонациями так тро-
гательно помогала найти нужный фасон и нужную модель, что
Исаак Львович пригласил девушку поужинать. Та согласилась и
даже явно обрадовалась предложению. Эта нескрываемая ра-
дость еще более воодушевила Исаака Львовича.
Повел в ресторан «Недальний Восток» на бульварном коль-
це недалеко от Никитских ворот. Пару раз в зале мелькнули
знаменитые лица, качественность которых была неоднократно
подтверждена их появлением в телевизоре. Живое сосущество-
вание в одном пространстве с великими мира сего привело Ма-
рину (так звали девушку с Галичины) в состояние замешательст-
ва и восторга.
51
Девушка ему нравилась все больше и больше. Она рассказа-
ла про папу и маму, которые остались на Украине в городе Луц-
ке, про то, что из Луцка вся дельная молодежь уезжает. Там хо-
рошо, но скучно и нет работы...
Исаак Львович мог под настроение провести вечер с жен-
щиной и даже все успешно завершить в номере очень приличной
гостиницы. Но Марину он решил пригласить к себе домой.
Исаак Львович понял, что черноокая галичанка явно не по-
дозревала, что в сочетании коньяк, ликер и немного пунша мо-
гут нанести сокрушительный удар по здравомыслию и даже по
вертикальному положению. Поэтому пунш от девушки отодви-
нул, а вечер предложил продолжить в другом месте.
...Своему изысканному собеседнику Исаак Львович расска-
зал только, что помог красивой девушке поступить в универси-
тет, платил за обучение, снял квартиру… Все было хорошо. Но
недавно тяжело заболел, позвонил, попросил Марину приехать,
та сослалась на подготовку к сессии, рекомендовала выпить ас-
пирин. Позвонил еще. Очень плохо, муторно и маетно на душе
было. (Впрочем, о своем тогдашнем неприличном психологиче-
ском состоянии распространяться не стал). Марина отвечала, что
она не врач. И лучше вызывать не ее, а врачей.
Звонил еще и еще. Плохо было, совсем плохо. А ей некогда.
В конце концов выздоровел. Но было пусто, скучно и глупо.
Марина позвонила сама через неделю и попросила заплатить
за следующий семестр обучения в университете. Марину было
жалко, но платить Исаак Львович не стал.
И сейчас он сидел в лондже и спрашивал себя и собеседни-
ка, что ему делать.
- Заведи другую… Студентку, – последовал совет человека,
неувлеченного ни Петраркой, ни гендерным равенством.
- Пробовал, не помогает.
Смирнофф, еще Смирнофф. Хорошо... И голос тихий, успо-
каивающий, почти убаюкивающий у собеседника.
Вдруг обстановка сменилась. Уже Москва. И зачем-то Иса-
ак Львович едет на метро. Не узнает ни названия, ни сами
станции. Понял, что куда-то не туда заехал, сказывалось отсут-
ствие привычки пользоваться подземным видом транспорта.
Вышел на улицу и у первой попавшейся прохожей спросил, как
52
найти нужное, но потерянное, да и вообще, где тут Садовое
кольцо.
Девушка с простым веснушчатым лицом взволнованно и пу-
таясь, будто на экзамене, объясняла ему, как вернуться на путь
истинный. Затем совсем смутилась и вдруг уткнулась ему лицом
в дорогой кашемировый шарф. Она глотала слезы, а вокруг
стояли такие же простые подружки и сочувствовали. Исаак
Львович положил девушке руку на плечо и стал произносить
случайные, первые попавшиеся на язык успокаивающие слова.
Только кто кого успокаивал, он уже не понимал. Наступало об-
легчение, Исааку Львовичу стало даже лучше, чем с текилой и
умелым нью-йоркским собеседником…
Только прекрасная явь оказалась сном. Голоса диспетчера и
собеседника синхронно ему об этом сообщили. Так не вовремя
объявили посадку.
Исаак Львович на всякий случай проверил наличие бумаж-
ника с кредитками и двинулся к самолету.
Если в аэропорту Кеннеди есть задний двор, то именно там
осуществляется посадка на рейсы Аэрофлота. Исаак Львович
отругал себя за то, что дал согласие лететь этим рейсом. Но вре-
мя рейса было удобное, и хотелось хоть раз воспользоваться бо-
нусом. От бонусов, даже мелких, Исаак Львович не любил отка-
зываться.
Бандерлоги из секьюрити отделили его от милого собесед-
ника. Исаак Львович пошел по обычному коридору, а брата по
текиле направили вместе с арабами и прочими мусульманами на
спецпроверку. Огорчительно улыбнулись друг другу. И каждый
своей дорогой пошел на досмотр. Увиделись вновь уже только в
салоне самолета.
Но там с собеседником тепло поздоровался какой-то амери-
канец, они уселись рядом и его друг, которого Исаак Львович
после их разъединения почему-то прозвал полковником, стал
также внимательно молчать и слушать, слушать и молчать.
И даже пили они с американцем все ту же текилу. Исаак Льво-
вич усмехнулся над самим собой и тут же забыл про задушевно-
го собеседника-полковника.
Зато вспомнился давно читанный роман «И умереть некогда».
Герой романа зарегистрировался, но не сел на самолет, который
53
при взлете разбился. В газетах сообщили о его гибели, а он на по-
следние деньги купил машину и стал работать в провинции так-
систом, жить по поддельному паспорту, полученному в антинаци-
стском подполье, нашел любовь… У Исаака Львовича не было
второго паспорта на другое имя и он не участвовал в силу запо-
здалого рождения в Движении Сопротивления и вообще во Вто-
рой мировой войне. Начать новую жизнь хотелось, но как – он не
знал. Правда можно было закончить старую… Дурная мысль
мелькнула и тут же была припечатана: «Не дождетесь!». Фраза из
хорошего анекдота, только – кто не дождется? Не только друзей
настоящих нет, но и врагов стоящих… Так, людишки.
Год назад его финансисты перемудрили с оптимизацией нало-
гов. Как назло, нагрянула проверка из налоговой. Пришли по на-
водке. Грозил срок за уклонение… Слишком хитро закрутил опти-
мизацию… Сбежал в самый тяжелый момент помощник, потом
уже выяснил, что он-то и слил информацию, на счетчик молодого
человека, конечно, поставил, впрочем, это было не к спеху.
А тогда пришлось прямо перед Новым годом посылать
юриста в налоговую с обговоренной очень немалой суммой.
Исаак Львович терпеть не мог такие лобовые варианты, но иного
хода не было. Сам на тот невеселый момент находился с Мари-
ной в Варшаве.
Обошлось…
Исаак Львович полулежал в удобном кресле, не спалось,
кинолента воспоминаний беспорядочно прокручивалась в соз-
нании, неспешно освобождавшемся от алкогольного тумана.
Один раз встретился глазами с нью-йоркским собеседником,
Случайный взгляд полковника Исааку Львовичу показался изу-
чающим.
Исаак Львович не знал, что делать с миллионами, обладате-
лем которых он стал еще в девяностые, а деньги все прибывали.
Тратить было особенно не на что. В бизнесе для него главное
был вкус победы. Давались победы исключительно тяжело. Тем
ценнее был результат. Посмеивался над геройством, которое ему
показывали по телевизору, ему были смешны повадки разного
рода шварценеггеров с их любовью к безопасному адреналину.
В бизнесе ты одновременно волк и заяц, и любишь или не лю-
бишь ты адреналин, он тебе обеспечен нон стоп.
54
…Исааком его назвал в честь Исаака Ньютона отец, учитель
математики в средней школе. Отец ко всему кроме математики
относился скептически. И в имени помимо почтения к великому
Ньютону был привкус фронды ко всему посконно-советскому.
Под конец жизни отец затосковал. Он не мог смириться ни с
наступившей старостью, ни с приблизившейся смертью. Его ес-
тественно-научный атеизм помогал жить, но не мог помочь уме-
реть. Человек решительный, старый математик пошел искать
Бога и с этой целью даже устроился на работу в синагогу. Бога
там не нашел, но зато, как он сам выразился, в синагоге оказа-
лось слишком много евреев.
Исаак Львович дремал, просыпался, опять дремал…
Неспокойные сны сменялись не менее неспокойными мыс-
лями, но затем нежданно вспомнились картины из почти забыто-
го прошлого. Проплывали вершины, покоренные в юности:
Гваргишер, Близнецы, Трапеция… Облака подпирали его пятки,
облака хотя и клубились, и не стояли на месте, казалось, облада-
ли большой плотностью, хотелось прыгнуть вниз и покачаться
на их мягкой упругости. Траверс по кромке горного хребта, ухо-
дящие глубоко вниз пропасти и руки на почти остром лезвии
скалы, завершавшей Большой Кавказский… И спуск вниз после
минутного победного пребывания на вершине… Снежные цир-
ки, щемящее чувство счастья и восторга, сияющая, белоснежная
красота и желание кричать во все горло, так, чтобы вибрировали
легкие и эхо перекатывалось от вершины к вершине. Ледоруб
острым концом в снег, рукоятку в упор, намертво зажать двумя
руками, ноги вперед и вниз, по снежному склону, на скорости,
так, чтобы снежный шлейф вздыбился вверх…
Потряс головой. Что это посетило? Альпинизм оставил дав-
ным-давно, а тут вдруг нахлынуло, будто соскучился и завтра
вновь идти на восхождение. Впрочем, горы своей красотой, сво-
ей возможностью избавиться от всего полностью не отпускают
никого из тех, кто приобщился к их религии восхождения к не-
бесам...
Исаак Львович любил свою просторную квартиру в тихом
Даевом переулке. Кабинет от спальной отделял огромный во
всю стену аквариум. Иногда он сидел в кабинете и посматривал
55
сквозь аквариум, как в спальне полураздетая (стиль у нее был
такой) плавает Марина. Он покупал ей новые вещи, включая
нижнее белье, и она перед зеркалом их без конца примеряла.
Отражение в зеркале тоже было видно сквозь аквариум, так что
в его спальне оказывались сразу две точеные девичьи фигур-
ки…
Помимо Марины его слабостью были книги. Книжные шка-
фы стояли всюду, даже в спальне до потолка стеллажи, разде-
ленные двумя деревянными дверями, за одной дверью – ниша с
баром и маленьким сейфом, за другой – миниатюрная туалетная
комната со всем необходимым.
Исаак Львович нередко жил на автомате. Он долго просчи-
тывал ходы, мог полночи не спать, искать выход из очередной
безвыходной ситуации. Утром развивал бешеную активность.
Уже не вспоминая о ночных мучительных размышлениях.
- Yes, получилось. – Кулак к небу, а если наедине, то жест
мог быть и покруче – из давних времен отношений в обычном
московском дворе. За жида и жиденка он всегда отвечал, и не
только жестами. Иногда подходящий момент для ответа прихо-
дилось ждать годами. Но момент приходил… Память не подво-
дила, а прощать Исаак Львович не был обучен.
Гостиная – потолок и стены облицованы диким камнем,
массивный камин, дубовый паркет и потолок с деревянными пе-
рекрытиями… массивные стропилы. В детстве зачитывался
Вальтером Скоттом… Обставлял и обустраивал квартиру ис-
ключительно для себя, гостей не любил приглашать. На показ
не жил. Большую часть девяностых проездил на «Волге».
«Не дождетесь.., не дождетесь», – не отпускала привязав-
шаяся фраза.
Не успел войти домой, позвонила Марина. Она плакала, по-
том стала громко кричать: «Мне что, на панель идти?!» По ин-
тонации показалось, что уже сходила... В бешенстве бросил
трубку.
На кухне налил себе рюмку коньяка, посмотрел на себя в
зеркало – темные мешки под глазами, красные прожилки на
желтоватых белках, нижняя губа под своей тяжестью потеряла
форму... Вылил коньяк в раковину из светло-серого камня с при-
чудливым естественным рисунком.
56
Путь от кухни до кабинета показался слишком долгим. Сел на айпаде просматривать личную почту. Ничего.
Сын жил в Австралии, регулярно поздравлял с праздниками и присылал фотографии детей. Исааку Львовичу очень хотелось увидеть внуков воочию, но смутное предчувствие нежеланности его приезда удерживало от поездки. Праздников давно не было и писем тоже.
* * *
И был вечер, и было утро… и был джет лаг. Огромный эк-ран в полстены – любимая игрушка Марины. Лег читать и так со светом ночника и напольной лампы из пакистанского оникса и заснул. Полвторого ночи проснулся… Правая часть головы раз-ламывалась.
Не квартира, а музей одиночества, и он в нем хранитель. Сам же тщательно и любовно подбирал для музея экспонаты. Прежде ими любовался, пока в эту ночь не понял их сути. И все в миг осточертели. К тому же дошло, что главный экспонат – сам хранитель.
…Картина «Аллея любви»… Нити дождя, чугунные фонари, уходящие в мокрые, сомкнутые кроны осенних деревьев, и две изысканные фигуры – он и она, будто фитиль внутри пятна све-та, так похожего очертанием на огонь свечи… Какого черта ку-пил у грустного, полупьяного художника на Крымской набереж-ной? Тоже мне ценитель, Третьяков!
И дальше были бессонные, бесконечные ночи. Круги под глазами становились все темнее и темнее.
* * *
Спасопесковская площадка, прием в американском посоль-стве. Знакомые, полузнакомые и вовсе новые (но по цвету и ри-сунку все в основном старые) лица, подобия лиц и просто хоро-шо упакованные родственники Вия. А вот и любезнейший нью-йоркский «друг». Полковник улыбался как родной. Чувствова-лось, что у него наготове всегда большой набор улыбок.
Фразы он произносил с интонациями, приличествующими светскому рауту, оттого безальтернативность предложения зву-
чала особенно впечатляюще.
57
- Вы контролируете большое количество офшорных компа-
ний. Перебросить небольшую сумму в нью-йоркский банк, у Вас
же там знакомый… к тому же (пауза), соотечественник (улыбка
из набора), председатель Наблюдательного.., не составит ника-
кого труда. Сумму мы Вам, конечно, предоставим, притом на-
личными, так проще... Какому юрлицу в США деньги перевести
также скажем… Как Вы решили проблемы с налоговой извест-
но, все зафиксировано и показания имеются. Впрочем, Вы – че-
ловек умный, это я Вам так, по дружбе, сообщаю. Кстати, и со
студенткой – Марина ее зовут? – можем помочь, у нас хорошие
психологи. Ей все объяснят.
Любезному другу, полковнику, ответил, что подумает. Ду-
мать было не о чем. Предложение было провальным. Прощай,
Америка, Израиль и свободная жизнь. «Предложение, от которо-
го нельзя отказаться». А сколько их может последовать? Попал-
ся на крючок? Скорее на крюк – под ребра.
В тот же вечер позвонил своему давнему, еще с университе-
та знакомому, предложил встретиться.
* * *
Военные лагеря в Федулово под Ковровым, смуглый парень
из ИСАА (Института стран Азии и Африки при МГУ), его за
глаза называли испанцем. Но оказалось, что у этого испанца
мать – армянка, отец – азербайджанец. Были в одном взводе и
отделении, Фархад, так звали испанца, на марш-броске сбил но-
гу, Исаак, тогда еще не Львович, забрал у него автомат, а под
конец почти тащил и самого Фархада. После университета Фар-
хад надолго исчез, случайно встретил его в баре шикарной гос-
тиницы в Гонконге, вовремя сообразил, что узнавать нельзя.
Только на секунду глазами уперлись друг в друга и тут же отве-
ли их. Затем уже в Москве лет через семь Фархад сам нашел
Исаака Львовича.
С тех пор изредка встречались. Оба неплохо справлялись
каждый со своим одиночеством, но магнит взаимной приязни не
ослабевал. Вот и общались за необязательной рюмкой.
- Я больше русский, чем многие русские, для меня другой
земли нет. Ты же свободный человек, гражданин мира… Только
58
что мне там делать? В этом свободном мире. В Израиле что ли
на пятачке топтаться. - Людей там умных и нормальных еще много, но не они ре-
шают. К тому же в Системе – иерархия и у каждого своя функ-ция. Надо встречаться с главным. На встречу с тобой не пойдет и нечего пытаться. 20 декабря – наш праздник. После концерта будет банкет, я постараюсь тебя подвести к нему. Придумай, как попасть… Там бывают люди не из Системы.
* * *
Человек с видом бульдога не первой свежести. Фархад пред-ставил и отошел, мгновенно образовалось вокруг них пустое пространство.
Исаак Львович отчеканил в стиле бывшего отличника свой многократно вызубренный урок.
- Нельзя так переводить деньги. Отследят и будет неизбеж-ный провал.
И тут же контрпредложение – вывести на мусульманина – через хавалу сложнее, дольше, но в сто крат надежнее.
- Извините, не пойму, о чем вы говорите, – бульдог проде-монстрировал улыбку. Исаак Львович уже видел такую и повер-нулся спиной. Регулируемая пустота тут же закончилась, ряды сомкнулись. Светское действо продолжилось.
Испанец выдернул окаменевшего Исаака Львовича из-за уже ненужного стола, попытался встретиться глазами с главным, глаза пропали. Видя по состоянию… каков результат, все равно попросил слово в слово пересказать. Перепроверять – профес-сиональная привычка. Только все выслушав, предложил:
- Тогда тяни время и упорно уточняй технические детали, одновременно старайся подкорректировать план. Как? Ты в бан-ковских проводках разбираешься, а не я. Но не доводи до прямо-го отказа. Система разотрет. – Задумался, потом добавил:
- Тем более тебя. Не на одном, так на другом очки наберет. (Это уже будто произнес про себя и про свое.)
- Удачи. С наступающим, кстати. Прощальный холодок в голосе как знак – больше не звони,
все, что мог и даже больше того сделал. Шаг от Исаака Львови-ча, вдруг обернулся, на секунду прижал к груди и тут же исчез.
До Даева переулка водитель довез слишком быстро.
59
Дурацкий аквариум, книги, в которых ничего нет. Что ему Библию или «Смерть Ивана Ильича» перечитывать? Сел писать письмо сыну, писал долго, получилось искренне и эмоциональ-но, даже грубо. «Какого черта за столько лет ни разу не прилетел в Москву, не пригласил меня в Сидней? Я должен был напраши-ваться? Или ты, австралийский рафинированный джентельмен-дизайнер, стесняешься русского отца, якшавшегося с бандитами, чтобы заработать, в том числе, тебе бабки на учебу за бугром? Или ты мне мать не можешь простить?» Написал и будто спо-ткнулся. Выругался. Все делитнул. Оставил только: «Поцелуй за меня внуков», отправил в Сидней или где там находился на тот момент сын со своей электронной почтой. По Интернету заказал билет на ближайший рейс в Минводы. Позвонил адвокату. При-казал составить завещание, тот взмолился – на кого завещание составлять на сына, на внуков, на Марину. Бросил трубку. Адво-кат опытный, через 15 минут перезвонил, извинился, предложил срочно приехать. Уже без злобы в голосе Исаак Львович пред-ложение отклонил: «Потом».
Когда потом? Но адвоката видеть не хотелось. Пусть будет, как есть по закону – сын, внуки. Жене (столько лет в разводе, а бывшей ее никогда не называл) что-нибудь отпишу просто за-пиской. Да и что я засуетился. В Минводы можно и не лететь. Только в Москве уже нечего делать. А горы лечат…
Вспомнил отца… Его слова в их последнюю встречу. Ста-рик шутил над самим собой, для своих восьмидесяти выглядел неплохо, правда перед расставанием сказал:
- Смерть всего лишь один из барьеров в жизни, который нужно взять. Только это барьер... последний. Тем более его надо взять достойно и не задерживаться перед ним в бессилии и не-нужности.
Завел до предела все часы дома… В Минводы улетел утренним рейсом.
* * *
В аэропорту нанял машину с водителем и поехал в Баксан-ское ущелье. В студенческие годы он ходил здесь на восхожде-ния. Двухголовая гора Эгиз-Тау, самая первая его вершина Гвар-гишер, там за перевалом Донгуз-Орун, затем Трапеция…
60
Через день Валерий Максудов зашел в отдел ГУВД к двою-
родному племяннику.
- Слушай, что-то у меня сердце не на месте. Я вчера отвез
пассажира в район Шхельды, немолодой человек, небедный,
расплатился очень щедро, даже чересчур.
- Так что тебя беспокоит, дядя.
- Плохое с ним бы не случилось в тех местах.
- О себе он ничего не говорил?
- Нет, молчал всю дорогу, думал и ничего не говорил.
- Заявление напиши.
- Я к тебе как к человеку пришел. А ты мне заявление пиши!
- Не сердись. Не сердись, сейчас в Баксан другу позвоню.
Ты только поподробнее опиши, что за человек, как выглядел и
что ты вдруг за пассажира беспокоиться стал?
Валерий вспомнил про модную спортивную куртку на пас-
сажире, про крутой мобильный (вроде как айфон), он его достал,
смотрел на него, но не позвонил, спрятал в карман. В городе
около спортивного магазина остановились. Он ледоруб купил.
Да и по виду вроде как нерусский, может, еврей.
Через три дня Валерию позвонил племянник из ГУВД.
- Со скалы сорвался твой пассажир. Насмерть…
- Не сорвался. Он знал, зачем ехал. Моя вина…
- А ты-то причем, дядя?
- Поговорить с ним надо было. А то он молчал, я молчал.
Как его звали?
- Исаак Львович.
61
АРГЕНТИНА…
Зеленая с желтоватыми проплешинами прерия уходила под
копытами неистового от ощущения собственной силы высокого
гнедого скакуна. Хулио на молодых, незнающих усталости но-
гах пружинил в такт скачке, привставая на стременах и направ-
ляя бег коня вдоль линии, оставлявшей пламенеющее солнце
впереди и справа…
Ветер наполнял легкие запахом трав. Сердца коня и Хулио
бились в едином ритме. На горизонте со стороны солнца появи-
лась точеная фигурка бегущей девушки. Этот стремительный
силуэт Хулио тут же узнал и повернул в ее сторону стремитель-
ный бег коня.
И вдруг ощущение счастья исчезло. Пришла пошлая, неле-
пая боль от стремян, впивающихся в переднюю часть лодыжек.
Ноги налились тяжестью. Гнедой стал закидывать голову, хри-
петь... Расстояние между Хулио и безумно знакомой фигуркой
увеличивалось…
Хулио просыпался, отдирал от тела липкую простынь, плел-
ся на ненадежных ногах в туалет. Вновь проваливался в зыбкий
сон, столь зыбкий, что, открывая глаза, не мог понять – спал ли
он вообще.
Среди этого липкого бреда раздался телефонный звонок,
и спокойный голос Рафаэль назначил ему встречу в холле ма-
ленькой гостиницы на rue des Ecоles.
Жена не менее спокойным голосом, будто и не спала, спро-
сила из соседней комнаты:
- Кто тебе звонил?.
Хулио не готов был к изложению правдоподобной версии и
ограничился хамоватым замечанием:
- Люди.
У Веры, видимо, не было желания продолжать диалог. Она
ответила молчанием, но Хулио показалось, что она его ответ
приплюсовала к какому-то тайному виртуальному счету.
62
* * *
Как назло, в этот день нужно было забрать сына из муници-
пального бассейна. Машина была в автосервисе. Такси не оста-
навливались. Хулио перебегал от стоянки к стоянке. Ругал Па-
риж. Названивал жене, чтоб она забрала сына. Все не складыва-
лось. Тело будто исчезло и на стебельке позвоночника лишь по-
качивалась огромная, набитая тяжелыми мыслями и неуверенно-
стью голова.
Его и Веры девятилетний сын Эухенио – был проблемным
ребенком, капризным, упрямым и ленивым. Он во всем походил
на Хулио и у них были совершенно одинаковые глаза – большие,
миндалевидные, темно-темно карие. Как-то в хорошую минуту
Вера сказала про них с Эухенио: «Вы – два фаюмских мальчи-
ка». Эухенио всегда опаздывал и любил злить отца. Хулио сры-
вался и кричал на сына. Обычно в ответ сын начинал сам кри-
чать, а потом плакать. Но один раз, Хулио тогда раскричался
совсем не по делу, вместо ответного крика Эухенио спокойно
улыбнулся, его глаза позеленели и вдруг сквозь знакомый фа-
юмский облик проступили скифские черты лица Веры. Хулио
ударил мальчика по лицу, а затем бросился на него с ремнем.
Вера всегда не вмешивалась в его воспитательный процесс, но
тут она загородила забившегося под стол сына, а когда Хулио
гаркнул на нее, чтоб она убралась к чертовой матери, Вера не то
ударила, не то толкнула его и сделала это так быстро и неожи-
данно, что он грохнулся на пол. Поднявшись, Хулио схватил
Веру за руку, выкрутил ее так, как ему самому много лет назад
выкрутили руку полицейские при аресте... Все эти дурацкие и
постыдные воспоминания крутились у него в голове, пока так-
сист несся по периферии, затем проскакивал по незнакомым Ху-
лио улицам, в общем старался так, будто был послан самой Ра-
фаэль... Таксист совершил невозможное, и Хулио влетел в кро-
шечный холл неприметной гостиницы в тот момент, когда там
появилась Рафаэль... Пробившийся сквозь жалюзи луч солнца
поиграл на медных завитках ее неподчиняющихся даже корот-
кой стрижке густых волос. Выходя из гостиницы, она похлопала
его по щеке маленькой смуглой рукой. Сказала:
- Извини, я спешу, давай завтра, в семь.
63
- Может быть, пообедаем вместе, – предложил Хулио, из
всех его женщин ему интересно было разговаривать только с
Рафаэль, ну, иногда еще с женой. Но Рафаэль было всегда неко-
гда, а Вера давно уже сама не изъявляла особой склонности к
разговорам с ним.
- Хорошо, – неожиданно согласилась Рафаэль. – Только мо-
гу я тебе куда-нибудь позвонить? Завтра в первой половине
дня… Обрадованный Хулио тут же назвал телефон товарища, к
которому он должен был зайти по поводу своей будущей моно-
графии.
…Высокая худая Вера смотрела на него зелеными, слишком
понимающими глазами и говорила:
- Тебе надо готовиться к семинару. Я заберу Эухенио сама.
Не беспокойся. – И аккуратно и холодно целовала его в щеку.
«Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью», –
мелькнули строки из Гумилева. Нет, она не колдунья. Слишком
технократична. Она все знает, все слышит, все понимает и даже
все прощает. И молчит, молчит. Все время молчит. Произносит
только маленькие, совсем необходимые фразы. Бред…
В Москве она знала всех его друзей, только с Карлосом Ху-
лио ее не познакомил. Карлос был слишком опасен. Но Карлос –
единственный, кто смог бы угадать, что такое его жена Вера.
* * *
Станция метро Одеон, отсюда совсем недалеко до прокля-
той rue Maze. Как часто там приходилось обедать, ничего де-
шевле той проклятой столовки в районе Латинского квартала он
не знал. Он бросил Революцию, вместо Аргентины поехал в Па-
риж со своей русской женой. Знаменитый и влиятельный исто-
рик-марксист помог найти работу Вере, а не ему. В итоге он чи-
тал лекции каким-то остолопам в Ницце, работал в издательстве
в Барселоне и обедал в Париже на улице Мазе. Жизнь проходила
в поездах.
Рафаэль часто появлялась в Европе, он не мог понять, чем
она занимается и как зарабатывает себе на жизнь. Но чувство-
64
вал, что она из его прежней жизни, что она принадлежит Рево-
люции и лишь изредка в маленьких недорогих отелях ему.
Они смотрели друг другу глаза в глаза, как дети, играющие
в глазелки, будто ожидали, у кого первым взгляд подернется пе-
леной отплывающего разума. Ни у кого он больше не видел,
чтобы в уголках широко открытых глаз в момент экстаза про-
ступали слезы…
Рафаэль уничтожила всех его подружек. Как только он уз-
нал ее, все другие ему стали скучны. В Рафаэль не было ни
фальши, ни кокетства, ни вульгарности. Только страсть, которая
вспыхивала как пламя и не уходила до тех пор, пока не выжжет
все в двух телах, будто существовавших исключительно одно
ради другого.
Хулио ненавидел английское слово секс. Это слово осквер-
няло его культ Любви. Культ, в котором он был единственным
жрецом. Он догадывался, что где-то есть еще жрецы. Карлос вне
всякого сомнения тоже был жрецом этого культа. Но Хулио
не хотел знать про других. Его мир состоял только из него и мо-
лодых красивых женщин. И то с одной, то с другой он служил
великому культу. И это не мешало служить Революции, а иногда
даже помогало. Так как Революция и Любовь привлекали всегда
самых свободных.
Он летел из Буэнос-Айреса домой, в Европу. Когда он во-
шел в самолет, на соседнем с ним кресле уже спала маленькая
смуглая женщина. Она действительно спала, а не пыталась за-
дремать в ожидании взлета и чувства страха. Хулио стал рас-
сматривать лицо спящей и тут же был поражен тем, что как
только его взгляд остановился на точеном профиле незнакомки,
ее губы напряглись, глаза не открылись, но сквозь ресницы
мелькнул острый и быстрый, как лезвие предсмертного ножа,
взгляд. Мгновение – и губы, и ресницы вернулись в прежнее со-
стояние. «Я не вызвал у нее опасений», – подумал тогда Хулио и
тут же почему-то с сожалением добавил про себя: «И интереса
тоже». И продолжил изучать лицо, а затем и руки женщины с
явными признаками индейского происхождения. В то же время
в форме рук было что-то аристократическое…
- Вы всех женщин моложе 80 столь пристально изучаете? –
раздался голос на хорошем испанском.
65
«Она меня переиграла.., сквозь свои густые черные ресницы
она продолжала следить за мной, а я подумал, что она вновь за-
снула», – признался себе в поражении в случайном поединке
Хулио. И тут он сделал шахматный ход, неожиданный для само-
го себя. Он был мастером «науки страсти нежной», но тогда он
забыл про «науку», про свои познания в психологии и про то,
что семье он сказал, что прилетит на день позже и собирался
провести вечер и ночь с очередной симпатичной шатенкой. Все
его женщины были шатенками.
Он не стал ни мудрить, ни умничать, а лишь чуть прикос-
нулся к точеной маленькой руке и сказал:
- Простите, я не хотел Вас обидеть.
Женщину звали Рафаэль.., а через час полета их губы встре-
тились.
* * *
…Телефон в кабинете у заместителя директора Дома наук о
человеке зазвонил, когда их беседа приближалась к концу.
- Это тебя… – с небольшим удивлением зам., хороший зна-
комый Хулио, протянул ему черную трубку. Голос Рафаэль был
как всегда ровный и спокойный, лишь чуть-чуть более ровный и
спокойный, чем обычно.
- У меня СПИД, но, думаю, у меня есть еще время. Прощай.
Я любила тебя. – И далее только гудки, трубка повешена.
- Что-то случилось? – из ватного далека прозвучал ненуж-
ный, неузнаваемый голос.
- Да. – И тут же: – Нет. Все нормально. – Встал и пошел в
Париж, который умер.
«Может быть, это отговорка, жестокая легенда, чтобы
скрыть нечто совсем иное... Нет, это правда. Один раз таким
родным, но непривычно грустным голосом она сказала: “Иногда
мне приходится делать совершенно отвратительные вещи. Но
так надо. Прости меня”.» – И больше никогда не возвращалась к
этому признанию. Хулио понял, что на расспросы не получит
ответа. Беспощадность Революции к ее служителям он знал.
«Все кончено», – мелькнула в голове бессмысленная фраза.
Затем она возвращалась вновь и вновь.
66
Тенистый, спокойный Бульвар Распай вполне дружески по-вел Хулио по направлению к Тур Монпарнас. Несмотря на давно исполнившиеся сорок лет, Хулио двигался всегда легко. Поход-ка выдавала в нем почти профессионального игрока в баскетбол, к тому же посещающего тренировки по боксу. У него не было седых волос. Высокий широкоплечий блондин с чертиками в глазах, с рельефным рисунком губ, всегда готовых к улыбке. И тут он поймал себя на том, что не может избежать подшарки-вания, а отображение в витрине магазина выдало заострившиеся черты абсолютно семитского лица.
В городе некуда было идти. Хулио преодолел дружескую инерцию Бульвара Распай, развернулся напротив входа в ши-карный отель…
Лысый участливый зам. по-прежнему сидел за своим столом ученого вдовца:
- Мне нужен отпуск, – ультимативно попросил ссутулившийся Хулио.
- На неделю дам просто так. Если две или больше – объясняй, что произошло и зачем отпуск…
- Я напишу на неделю…
* * *
Хулио договорился со своим либеральным начальником о незапланированном отпуске и уехал в горы, где у них с Верой был маленький дом. Он решил вытравить тоску ядом преднаме-ренного одиночества. Сосны, ковер из опавшей хвои, замшелая скала, запиравшая их участок, и голубое холодное озеро в кило-метре от насквозь деревянного, выстроенного по его замыслу и прихоти дома… Все, что нужно для самолечения.
Но полная внутренняя необустроенность организма про-должась.
Неожиданно по ночам здесь в Вогезах к нему стал прихо-дить его друг Карлос. Первый раз он привиделся Хулио в тю-ремной камере-одиночке… Карлос бросал ему фразы: «Ты стал маргиналом, Хулио. Ты вымучиваешь тексты, а они никому не нужны. Время больших текстов закончилось. Их производи-тели и потребители – маргиналы. У них головы повернуты в ХIХ, а не в ХХI век». Хулио не успевал ответить, как люди в форме уводили Карлоса.
67
За маленьким бюро, купленным по случаю на рынке Бергер, иногда работала Вера, Хулио в него не заглядывал. В одном из закрытых ящиков бюро, на запасной ключ от него Хулио слу-чайно наткнулся, лежала книжка-ежедневник в красивом кожа-ном переплете.
В ежедневнике оказались старые записи Веры. «…Надо ре-комендовать Жаку Люка из Тулузы, он смышленый, хорошо продвигается в изучении русского языка, кажется, он из потом-ственной офицерской семьи. Тереза явно левых, если не левац-ких взглядов, хорошо бы заинтересовать ею Жака. Они по-прежнему неохотно берут девочек, но шанс есть...»
Хулио понял, что это были отрывочные записи, связанные с ее работой. Вера изучала своих студентов и через ему неизвест-ного Жака пыталась продвигать их в структуры, которые она предпочитала не называть в дневнике.
Что-то в этих продвижениях зацепило Хулио, что – он пытался понять, но в дневнике ничего больше не было ни про Жака, ни про студентов. Пометки для памяти о политических событиях, о назна-чениях в МИДе, в Министерстве обороны… Все на французском. Но потом пошли целые страницы на русском языке о чужой для него, прежней жизни Веры… Даже самых любимых авторов Хулио не читал с таким самозабвением, как дневник своей жены.
«...А в Можайске сирень зацвела. Когда жила там, такая тос-ка была, все мечтала вырваться, сбежать куда подальше, чтобы не видеть своих дурацких подружек, тупых ухажеров, а теперь они кажутся мне такими родными, и так хочется вновь каждый день смотреть не на Сену, а на маленькую Москву-реку с моста, что вел к Ильинской слободе…
Бегали смотреть на зэков, которые иногда работали на стан-ции – грузили цемент или уголь.
Храм Никольский на горе... И синее-синее поле цветущей люцерны…»
* * *
Дневник вызывал картины незнакомой жизни, в которой
переливались, переходили друг в друга синее, голубое, сирене-вое, и по этим чуждым далям и чуждым людям тосковала незна-
комая девочка, ставшая женщиной и его женой.
68
* * *
Она ходила в красную старую школу рядом с полуразру-
шенной церковью. В классе ее не любили, но уважали, а многие
и побаивались. Она была безупречной отличницей и дочерью
очень строгой и очень справедливой учительницы начальных
классов.
Максим был сыном матери-одиночки, отмотавшей уже
большой срок и завершавшей его на химии. 101-й километр по-
селка время от времени притягивал таких, не зэковская биогра-
фия матери, а сам Максим был причиной своих бед. Высокий,
худой, отчужденный и напряженный, он никому не делал плохо-
го, но его невзлюбили все мальчишки, а за ними и девчонки.
С ним никто не дрался и никто не мерялся силой, но всем было
понятно, что стальная спираль вкручена в худую фигуру и луч-
ше под нее не подставляться, если она разожмется. На уроках
физкультуры он все схватывал быстрее всех. Правда, как-то раз
его случайно заметили рано утром в воскресенье на школьном
дворе подтягивающимся на турнике. Он делал это один. Слух
тут же прошел, что делает он это каждый день еще до уроков.
Любви данный факт ему не добавил.
Пару раз взгляды Веры и новичка встретились. Никто из
мальчишек даже из старших классов так не смотрел. Взгляд был
тяжелый, пристальный, но когда, сама не понимая почему, Вера
улыбнулась, новичок тут же ответил открытой и неожиданно
беззащитной улыбкой.
* * *
Вера опоздала на предпоследний автобус, а последний сло-
мался и где-то застрял. Вера пошла ночевать к знакомым матери
в Ильинскую слободу за Москвой-рекой. У моста она и напоро-
лась на группу местной шпаны. Самый старший схватил ее за
руку и потащил вниз под мост. Вера не могла заставить себя за-
кричать, она лишь изо всех сил укусила за руку, вырвалась и по-
пыталась убежать. Ей поставили подножку, она упала. И вдруг
ее загородила фигура пацана, которого она мгновенно узнала
даже со спины.
69
- Отпусти ее, Мокрый, – сказал Максим.
- Натянем и отпущу, – сказал самый старший из шпаны, за-
жимая левой рукой кровь на прокушенной правой.
- Отпусти, – повторил Максим и вытащил заточку.
Вмиг образовался полукруг, шпана попятилась от Максима.
Напротив него стоял Мокрый, который мерзко осклабился и
протянул:
- Ба-а, у Химика зазноба есть.
* * *
Хулио оторвался от дневника и можайской жизни. Налил
полбокала вина и, не чувствуя его вкуса и запаха, выпил. Вино
помогло смыть в сознании образы жизни, которые его раздража-
ли и мешали ему думать. Остался только простой мужской во-
прос, что это за героический Максим, про которого она так под-
робно написала.
Хулио убеждал себя, что гораздо важнее возвращение к не-
му во снах и мыслях его старого знакомого Карлоса.
Для него уже давно идея Революции и реальность СССР ра-
зошлись. Еще будучи студентом он понял, что в Советском
Союзе Революция тихо умирала, задушенная сытыми бюрокра-
тами из ЦК, наглыми и трусливыми циниками из КМО и комсо-
мола. Но он был абсолютно уверен, что Революция не умерла
у него на Родине.
Все эти пророческие сны, конечно, бредятина. Но почему бы
не найти Карлоса? Интуиция иногда срабатывает самым неожи-
данным образом. Карлос слишком доверяет этим арабам. Им
плевать на наше дело, мы – были тактическими союзниками,
а стратегически мы – конкуренты, если не враги.
- Будущее принадлежит исламу, ждите… Вашу умму надо
взорвать изнутри, за это просто никто всерьез никогда не брался.
Может быть, мне взяться?
…Конечно, я давно отошел в сторону, но Карлос нужен
этому миру, без него и его ребят буржуйская сволочь совсем
оборзеет. Так они хотя бы боятся, что в любой момент любой из
них может получить в самый неожиданный момент и без всяких
предупреждений пулю в лоб или пластит под задницу.
70
…Затем Карлос исчез из его снов. Попытки дневных споров
с ним не помогали. Споры оказывались пустыми, а сны Карлоса
не возвращали. Но мысль «Почему Карлос так настойчиво ви-
делся ему в камере» не отпускала.
В последнюю ночь перед возвращением привиделось ник-
чемное плюгавое создание – то ли черт, то ли инопланетянин.
В потустороннюю нечисть Хулио не верил, инопланетянами
не интересовался. Остроухий ублюдок что-то упорно бубнил про
дневник Веры.
Своего он добился: даже крутые виражи на узком шоссе
не смогли отвлечь Хулио от вопросов по поводу дневника.
В его мыслях была Вера, в неотступных видениях Рафаэль.
Если он долго не встречался с Рафаэль, сон превращался в
пытку.
Теперь он не встретит ее больше никогда.
В самом начале их знакомства Рафаэль сказала ему: «Нико-
гда не пытайся найти меня. Это моя задача. Это я тебя буду на-
ходить, куда бы ты не уехал».
Хулио не знал ни фамилии Рафаэль, ни ее близких, ни ее ад-
реса, ни номера телефона. Он только до мельчайших деталей
знал ее маленькое, смуглое, индейское тело. Он, бездарный ху-
дожник, превращался в величайшего живописца, когда требова-
лось описать ее тонкого рисунка губы, ее точеную будто отли-
тую из неведомого живого металла грудь. Ни одна мышца
не нарушала гармонию ее тела, ее гибкость и сила казались су-
губо природными. Пару раз он видел случайно, как она бежала.
Было ясно, что подобно своим предкам десятки километров пре-
рии она преодолеет не переводя дыхания и не сбиваясь со стре-
мительного, неудержимого темпа…
Теперь Хулио засыпал часа на два, потом просыпался, думал
о статьях, о жизни, о Рафаэль, сил, чтобы встать и записать мыс-
ли, не было. Мучительно хотелось просто не думать. Ни о чем. Ни
спорт, ни другие женщины не помогали. Принимать снотворное
он боялся, как боялся наркотиков и крепких напитков. Хуже всего
было с женой, она никогда не отказывала, была точна и преду-
предительна, но его преследовал страх, что в самый неожиданный
момент он наткнется на ее взгляд, невозмутимый и изучающий.
Вера не была фригидной, все с ней было в порядке. Но ему каза-
71
лось, что даже в минуты любви она контролирует себя и сама себе
в нужный момент отдает приказ – теперь можно – «Вперед».
У нее все происходило в лучшем виде.
Было противно говорить о своих проблемах, и все-таки Ху-
лио сдался и начал ходить к дорогому и знаменитому психо-
аналитику. Хулио убеждал себя: «Это не сдача, не проигрыш,
я просто использую все формы сопротивления, чтобы забыть
Рафаэль. Но я не хочу ее забывать. Я хочу ее увидеть, говорить с
ней, прикоснуться к ее руке…»
Психоаналитик вел с ним беседы. Хулио сам изучал психо-
анализ, уважал Фрейда и Лакана. Он был согласен с очень мно-
гими выкладками того и другого, ему нравилось разгадывать
ребусы чужого подсознательного. Но оказываться самому объ-
ектом изучения… Психоаналитик все больше напоминал ему
священника на исповеди и следователя на допросе. Ни к свя-
щенникам, ни к следователям Худио не испытывал ни доверия,
ни симпатии…
Как-то раз он опоздал на сеанс и, извиняясь будто нашко-
дивший школьник, выдавил из себя:
- Я должен был передать ключ от дома жене, она опоздала и
вот…
Психоаналитик тут же изрек:
- У вас серьезные проблемы с женой – почти полгода мы с
вами общаемся, и вы только в первый раз сказали, что у вас есть
жена.
Хулио соврал – он опоздал не из-за жены… Больше он не
приходил к знаменитому врачевателю.
Хулио писал книгу про самозванцев на Руси. Книга встала.
Он мучительно пытался понять, как найти Рафаэль. И все боль-
ше и больше подозревал Веру…
Сны изводили его. Они отличались патологическим разно-
образием. Он даже летал во сне. Предпринимая загадочное уси-
лие организма, он отрывался от земли и с некоторым напрягом
барражировал невысоко над улицами. Как-то раз он подхватил с
собой в воздух незнакомую женщину, ей понравилось и, когда
он опустил ее на землю, она попыталась продолжить знакомст-
во. Хулио пришлось с неприличной стремительностью ретиро-
ваться, но со вкусом одетая незнакомка следовала за ним. В ито-
72
ге он удерживал дверь калитки, незнакомка настойчиво пыта-
лась ее открыть, рядом стояла Вера и молча и насмешливо смот-
рела на его усилия...
Наяву Хулио старался бывать там, где должна была поя-
виться Вера. Благо у него был очень свободный график работы.
Вера не любила заниматься шопингом, и тем не менее он заме-
тил, что периодически она заходит в большие магазины. Азы
слежки Хулио знал от родителей, старых коминтерновцев, от
старших товарищей, что-то понял сам, скрываясь от шпиков во-
енной хунты. Навыки не забылись. Только теперь он сам высту-
пал в роли шпика. Его это не смущало. Наоборот, все более раз-
горался азарт. Он даже стал реже думать о Рафаэль. Хотя жже-
ние в районе сердца напоминало о потере, и слезы среди бессон-
ницы по-прежнему приходили к нему.
«Я схожу с ума, – говорил он сам себе, – зачем я слежу за
Верой? В чем я ее подозреваю? Своей абсурдной слежкой я буд-
то хочу отомстить ей за то, что произошло с Рафаэль. Это дейст-
вительно безумие».
В «Галерею Лафайет» Хулио заехал за галстуком и вдруг в
толпе увидел прямую, безупречную спину своей рыжеволосой,
высокой жены. Так не ходят по магазинам – слишком спокойно,
слишком несуетливо. В руках у Веры была модная коричневая
сумка, которую Хулио никогда не видел у супруги. Значит,
все-таки что-то покупает, хотя и не говорит мне. Хулио наблю-
дал за женой издалека, рискуя потерять ее из виду. В итоге так и
случилось. Негритянка в алом как флаг на баррикаде платье на-
валилась на него безразмерной грудью и стала спрашивать что-
то про отдел детских вещей, а сама слишком в упор смотрела
ему в глаза. Хулио успел включить защитную реакцию и, скор-
чив вежливую гримасу, пробормотал, что плохо говорит по-
французски. Оторвавшись от алой груди, Хулио рванулся в том
направлении, куда прошествовала Вера. Галерея Лафайет будто
сомкнула ряды. Впереди было множество спин – прямых, суту-
лых, женских, полудетских, изредка мужских… Веры среди них
не было. Хулио замедлил шаг, выбирая точку, удобную для на-
блюдения за торговым залом. И вдруг увидел элегантно одетую
русскую женщину, лет 37. Хулио ни на секунду не сомневался,
что перед ним была русская. Он слишком долго прожил в Рос-
73
сии, чтобы не распознать соотечественницу Веры. Вдруг его
мозг пронзила мысль: «Она должна быть не одна, ее может кто-
нибудь подстраховывать». В магазине стало душно, а запах ко-
жаных изделий стал слишком назойливым.
В отделе галстуков Хулио приник к зеркалу и стал приме-
рять ядовито-желтый экземпляр. Теперь он мог внимательно
осматривать весь торговый зал. Краем глаза он ухватил, стоя-
щего рядом с ним мужчину. Высокий, худой со стальной пру-
жиной внутри… Тот не делал вид, что выбирает галстук. Он
просто скучал и ждал, вероятно, спутницу – жену, лицо к ней
приравненное, что-то в этом роде. Скучал он старательно и
почти натурально. «Лишь бы не заметил, что я наблюдаю за
залом», – подумал Хулио и стал завязывать узел на отврати-
тельно желтом галстуке. И вдруг он увидел Веру и русскую
даму, на одно мгновение они оказались вплотную друг к другу,
и вот они уже идут в разные стороны. У них одинаковые мод-
ные коричневые сумки. «Они поменялись ими», – не увидел, но
сообразил Хулио.
Вера уходила от галстуков, от него, от скучающего мужчи-
ны в стиле славянского Рембо и вдруг резко повернула и пошла
прямо на них. Хулио едва успел загородить себя вертящимися,
примерочными зеркалами, так что за происходящим он мог на-
блюдать только через отражение в одном из скрывавших его
зеркал. Он видел только приближающиеся ноги Веры. Его про-
бил пот, так как не более полутора метров отделяло их друг от
друга. Хулио хотел повернуться к прилавку и тут увидел, что
Вера падает, незнакомец ее подхватил. Из-за зеркал пришла еле
слышная русская фраза:
- Я так скучаю, Максим.
И ответ:
- Терпи, скоро будем вместе.
Хулио никогда не слышал такой ласки и боли в голосе своей
технократичной жены.
Почти наобум он пошел из магазина, не пытаясь преследо-
вать никого из троицы. Единственно, он пытался проложить курс,
противоположный тому, по какому следовала Вера. Он спустился
на лифте на автостоянку, но ошибся этажом. Прошел несколько
метров, увидел машину с дипломатическими номерами и, не до-
74
жидаясь ее хозяев, вернулся к лифту, чтобы сбежать на свой этаж
и забаррикадироваться в своем видавшем виды вольво.
…Весь наш роман, наш брак, наши дети – все это выдумка
КГБ. И моя жизнь – это тоже их задумка. Неплохая работа…
Она устроилась на работу раньше, чем я. Она всегда так
предупредительна, она никогда не сердится. Institut des langues et
civilizations orientales, где профессорствует Вера, готовит кадры
для МИДа, министерства обороны, спецслужб. Она – хороший
преподаватель, она хорошо знает своих студентов. У нее слиш-
ком понимающие, слишком умные глаза.
…Ваше счастье, что я не шпик и с французскими спецслуж-
бами ни в какие игры никогда играть не буду.
Зачем он согласился на правила их любви, которые продик-
товала ему Рафаэль. Он чувствовал в глубине души, что он –
дезертир с корабля Революции. А она, маленькая Рафаэль, – бес-
страшный солдат Революции, и она отдала Революции все.
«Никогда не пытайся найти меня. Это моя задача. Я тебя бу-
ду находить, куда бы ты не уехал…»
И затем откуда-то со стороны пришли слова: «Если в этой
жизни больше нечего делать, нужно вернуться в Революцию...»
И затем уже решительно сказал себе сам: «И появится шанс уви-
деть Рафаэль. Я найду ее. Она же сказала: ”У меня еще есть вре-
мя”».
Хулио забронировал каюту на судне, которое через три дня
отплывало в Аргентину.
75
СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
Здания – параллелепипеды и пирамиды. Расставлены в един-
ственно верном порядке. Цвета серого, бледно-лилового, ромаш-кового и нежно-чахоточного. Город красив и отличается обили-ем монументальной пропаганды. Домов с тёплой водой, телефо-ном, телевизором и дрессированным консьержем много. Гово-рят, в них должны жить люди. Говорят – значит, знают. Люди слушаются и живут. Мы тоже.
Все улицы и проспекты параллельны, но сходятся в одной точке. Так надо. Город подобен связке, пучку, охапке лучей, стремящихся в бесконечность. Фонтаны, балконы, мансарды, деревья не наблюдаются. Из всякой живности только опрятные сизари молчаливо пасутся на свинцовых площадках. Всё изме-ряется квадратными километрами. Только жилплощадь в погон-ных сантиметрах.
Новостройки имеют хронический характер. За горизонт убе-гают башенные краны, нефтяные и прочие вышки. И всё же у Города есть черта. За ней незнаемое и непостигаемое, но наше. Не лирика, а народный, православный, истинно славяно-тюркский эпос. Короче, степь. Слухи о её скифском происхож-дении в начале нашей эры распустил ненародный сказитель Александр Блок. Местами полынная, местами откровенно лысая, удушающая степь заполняет собой самый большой материк на-шей благоустроенной планеты. Наши предки завоевали про-странство, за это у них и у нас отобрали время. Над каждым за-воевателем висит проклятье. Можно убить шаманов, но духи, которые им подчинялись, останутся.
Степь тонкой ленточкой пляжа проникает в Город. Пляж – место загадочное и потому всеми любимое. Он старый и потас-канный. Тела там сдавлены, почти вжаты друг в друга. С одной стороны, тяжёлая и беспрекословная истинность серобетонного Города, с другой – ужасная голубая бездна беспутной стихии. Мы задыхаемся в Городе и боимся моря.
Мы не хотели быть детьми, теперь мы не хотим быть взрос-лыми.
76
Каждый день мы приходим на пляж. Чтобы затеряться в
толпе и насладиться одиночеством. Чтобы соблазнить женщину
и излюбить её до полного изнеможения. Чтобы подставить
солнцу свой накаченный культуризмом мускул. Среди нас есть
любители тепловых ударов, они наслаждаются сумерками зату-
хающего сознания. Их приводят в чувство, отливая остуженной
кипячёной водой.
Нам хочется прийти на пляж навсегда, зарыться в песок,
уйти в него, превратиться в спящего. Заснуть надолго и ждать,
ждать... Но это болезнь. Здоровые понимают – есть и всегда бу-
дут только качалки, старики, расползшиеся животы, растёкшие-
ся бабьи груди, грибки, грибок и мороженое.
Узоры причудливых крепостей бегут по кромке влажного
тяжёлого песка и мутной в прибрежье воды. Карапузы возводят
изысканную готику и заслоняют её от моря каскадами голланд-
ских плотин. Нас они не допускают в свои игры. Мы отгороже-
ны от прошлого и от будущего. У каждого поколения свой набор
аттракционов, свои шлягеры и потаённое томление. Общее
только хоровое пение по престольным праздникам.
Город, пляж, степь.
На круглой цивилизованной планете всё имеет конец. Степь –
не исключение. Далеко на востоке её запирают чёрные гладкие
скалы. Там живёт в ссылке Баба-Яга. Её настоящее имя произно-
сить теперь не принято. Однако до сих пор у неё не перевелись
поклонники. Самые отважные и настойчивые из них отстаивают
раз в год очередь длиной в марафон, проникают в стейтбилдинг и
после прохождения тридцати кабинетоинстанций получают трёх-
килограммовую стопку бумаг с разрешающими печатями. Они
садятся в длинные железные повозки – автокары и едут через
желтизну степи. Верблюжьи колючки и тощие ящерицы смотрят
им вслед. Чёрные горы преодолеваются ползком. Дальше идёт
сплав на утлых гуттаперчевых лодках. По холодным потокам
мыльного цвета надувные посудинки проносятся к закоптелой
избушке на курьих ножках.
В былинные времена Баба-Яга была самой лихой чувихой
Города. Тогда ещё разрешали петь поодиночке, и она выдавала
грустные песенки про заблудившегося в тёмном лесу домашнего
таракана и про Гулливера, попавшего в государство лилипутов-
77
людоедов. Баба-Яга звалась Машенькой и пользовалась всеоб-
щей любовью. Жирноголовые начальники даже перестали хо-
дить в балет. Изысканные бесполые танцовщицы не выдержива-
ли конкуренции. Но на концерты Машеньки набивалось геге-
монское простонародье, и слуги народа из высоких офисов чув-
ствовали себя неловко. От публики в зале их не отделяли ни
скромный Т-образный стол на сорок персон, ни система пропус-
ков, ни полуавтоматическая секретарша.
Концерты пришлось отменить... Машу во избежание недо-
разумений поместили в самый секретный изолятор в обезьяньем
питомнике. За ней присматривали неразговорчивые, вежливые
орангутанги. Особой предупредительностью отличался один: он
был не очень лохматым, но зато на нём было много кожи. Увы,
Машенька нарушила режим, стала петь, орангутанги пристра-
стились танцевать. Неверных человекообразных объявили зай-
чатиной и отправили на пироги. Маше в метрике исправили имя
и сослали как Бабу-Ягу за чёрные горы.
Теперь раз в пять лет добравшимся до её избушки разреша-
ется спеть одну балладу. А иногда в знак высочайшей милости
ей дозволяют просунуть в окно руку в обязательной замшевой
перчатке. Но поклонников становится всё меньше.
А Город долго будет жить, выплёвывать сажу и стряхивать в
море пепел и перхоть. Громады железобетона ещё сильнее про-
ткнут небеса, но как-то летним светлым вечером придет тайфун
с нежным женским именем, и голубые валы затопят город. По-
плывут канцелярии и офисы, промокнут насквозь и опадут ко-
митеты и бюро. Ворохи бумаг закружатся в водоворотах, зато-
нут и послужат пищей прозрачным головоногим. В глубине,
в местах скопления безукоризненных бланковых документов с
круглыми печатями и непромокаемой меловой основой, вырас-
тут колонии кораллов. Голубые струи захватят Город и на тыся-
чи километров вокруг оросят пожухлую степь.
А Город устоит. Мы спасём его, спасём детей и женщин.
Светопреставление будет весёлым и солнечным. По бывшим
улицам и проспектам поплывут гондолы. Виноградные лозы
цепкими лианами оплетут наклонившиеся баррикады этажей.
В Городе появятся ундины с запёкшейся солью на посереб-
ренных губах. Избранным счастливцам они со смехом предло-
78
жат слизнуть горьковатую морскую соль языком или растопить
её поцелуем. Километровые воронки стадионов покроет свер-
кающая гладь, и лишь бывшие трибуны будут возвышаться зе-
лёными островами с проросшими тополиными ветвями вчераш-
них скамеек. Проносясь гибкими телами над волнами, мы будем
отгонять касаток от детских площадок, где дельфины пристроят-
ся катать карапузов верхом и в деревянных каноэ. Оставленные
в покое стейтбилдинги тихо разрушатся и превратятся в разва-
лины замков. Их обнажившиеся недра обнаружат потаённые са-
ды с экзотическими растениями. На окнах и подвесных балконах
выставят послушные растения ламсидории, которые будут скло-
няться по слову своей хозяйки. Лимонные и мандариновые де-
ревца высадят на крышах домов.
Через степь пойдут караваны. И в карих глазах верблюдов,
этих философов-стоиков безжизненных плоскостей, зажгутся
искры эпикурейского счастья.
И мы окунёмся в поток времени, ощутим его ток в своей
крови. Смерть будет приходить как спасительный отдых. На-
слаждение утеряет вкус наркотического дурмана, его чистой
радостью будут наделены все бронзовые жители голубого Горо-
да. И мы будем распевать псалмы Дилана Томаса, забытого про-
рока воцарения счастья. И бородатые пришельцы с ликами хри-
стианских святых тихими паломниками войдут в наш Город...
За Машенькой пошлют наивную яхту с алыми парусами... Всё
это будет!
Но подрастут карапузы и построят большие голландские
плотины, а ночью мне приснятся бесхозные, бродячие духи дав-
но убитых шаманов.
79
СТАРАЯ ПЕСНЯ – ФИЗИКИ И ЛИРИК
Он был нищим. Нищий, саларье, служащий интеллигент...
сейчас много названий, но суть одна. Одна, один, одно и то же.
Долго так. Уходить? Он ходил... и увидел, что до тридцати лет
не сумел расстаться с короткими штанишками и яркими кар-
тинками. Это не испугало. Испугался, когда узнал, что умст-
венные способности – средние, а средних людей, оказывается,
не бывает. Впрочем, страх – это прекрасно: обязательно нач-
нешь действовать, опять шевелиться. Ни вдаль, ни вверх пути
уже не было – остались щели. Щели издали хорошо пахнут
и манят, вблизи подступают тошнота и омерзение. Конечно,
все равно полез. Но есть люди, которые не пьянеют даже от
материнского молока. Он был из таких. А может быть, просто
он нигде не вышел за рамки. Убегал – в отпуск, насиловал
себя и пишущую машинку – после работы, от мазохистки сбе-
жал, позабыв галстук и кальсоны. И был прав: за рамками тоже
пусто. Единственное ощущение – падаешь, выпадаешь. Потом
обнаруживаешь, нет, ничего не было, даже не сместился с
места.
Пустота пришла на Землю. Ее открыли, вот она и нахлы-
нула. То теснились, жались друг к другу, забавлялись игрушка-
ми: войнами, чувствами, мыслями, верами. В темноте, да не в
обиде.
Знание сделало Землю взрослой и голой, такой, какая она
есть на самом деле. Люди вымерли, потому что захотели остать-
ся детьми.
Он тоже был мертвым... с рожденья. Но кроме людей есть
еще звезды. Они, может быть, тоже пустые. Но пока этого не
открыли. О них просто никто ничего не знает. Главное: звезды
светят. И среди людей остались живыми только те, кто думал о
звездах. Эти люди открыли, что, познав бесконечность времени,
познают бесконечность пустоты. Ничто уничтожат ничем, все
уничтожат всем. Открывая закономерности, которые вечны, они
80
сами становились вечными и живыми. В них даже шумела
кровь, бурлила горячая, красная, густая. Двигателем их организ-
ма был мозг, не сердце.., но двигатель работал.
А иногда звезды срывались с неба и падали. Падали в горо-
да. Разграфленные, разровненные, напоминающие не то классы
на асфальте, не то скопище индивидуальных туалетов, в каждом
из которых сидит майор Джеймс Бонд. Они падали на Землю и,
все думали, исчезали. А они жили и светились, так как по-
другому не умели. В серых (а серы-то все города) тоскливых го-
родах вспыхивали магниевой вспышкой, проносились прозрач-
ным, звездным лицом, а потом...
Потом их тушили белыми крахмальными подушками, пот-
ными мужскими телами, кипами бумаг или кипами пеленок.
Их сияние прикрывали непроницаемыми для глаз очками. Но
иногда случалось непоправимое: в них влюблялись.
И как раз бедняге-интеллигенту повезло, как везет само-
убийце, застрелившемуся с первого раза. На него свалилось не-
излечимое счастье. Он с ним не боролся, покорился даже без
ропота. Может быть, потому, что все понял. Но он решил сохра-
нить его... и ее. Для этого нужна была всего-навсего Гармония.
Сейчас Гармония – соответствие обстановки и чувств, мыслей и
вещей, как было раньше, Бог знает... знал.
Ездить пришлось долго. Охотились в Мексиканском заливе
на акул, убили меч-рыбу с бензиновыми разводами на белом
брюхе. Бродили по Дрезденской галерее, сотрясаемой керзовы-
ми сапогами и крепкой речью, от которой сыплется штукатурка
и краснеют уши у Сикстинской мадонны. Наконец, жили в Ав-
стралии с аборигенами, поедавшими земляных червей под звуки
блюзов из транзисторного приемника фирмы «Сони». Ия все с
любопытством осматривала и старалась понять. Он ей помогал,
разъяснял, сам удивлялся, сколько он знает.
И, наконец, понял, что все это ни к чему. Ведь все, о чем он
говорил: литература, искусство, история не имели никакого зна-
чения в мире.
Мир – огромный шар из мяса, крови, костей и железа, за-
ключенный в тонкую оболочку мысли. Когда он катится, остав-
ляет неровный след с грязными разводами там, где порвалась
оболочка. А оболочка всегда драная, в лохмотьях, правда, лох-
81
мотья раскрашены нежными красками. Эти-то краски и есть ис-
кусство и литература, а след, на который никто не обращает
внимания, – история.
Шар все катился... по инерции. Медленно. Часть оболочки с
него содрали, спрессовали, смешали с железом и нитротолуо-
лом, а теперь срочно наращивали эту часть. Зачем? Знали только
физики. Они создавали свой мир, цельный и единый, способный
лететь, а не тащиться, проваливаясь в ухабах и смердя гнилью.
Он чувствовал, видел и боялся этого созидания, не мог его по-
нять. Первое, что он не смог объяснить Ие.
А ее глаза все тускнели. Становились обычного, земного
цвета. Она тосковала, хотела вернуться. Помочь он ей не мог.
У него была только Земля, ни Вселенную, ни даже крошечную
галактику он не мог подарить.
А мир все кроили и перекраивали, выбрасывали мясо кило-
тоннами. Образовавшийся вакуум наполняли пластмассами. По-
требовалось сияние, ибо и физики желали красоты, совершенно
своей, непохожей на красоту разлагавшегося мира. С риском для
жизни они добывали звезды, а потом решили собирать падшие.
Отыскали Ию. Нашли случайно, когда его не было рядом. С ней
долго говорили. Ее не уговаривали, не соблазняли, не принуж-
дали силой, к чему им эти атрибуты прошлого. Просто они гово-
рили дело. Получалось сухо, скучно, неумело: не было привыч-
ки говорить. Но в их речах она услышала о том, чего никогда
не было у него. Вселенная и Будущее.
Потом в ее блестящих глазах звезды сверкали слезы, но от
этого только больше увеличивалось сияние, и только больше ее
ценили физики.
Через год, на следующей стадии переработки мира, его раз-
ложили на составляющие, прежде ознакомившись с причудли-
вой картиной извилин головного мозга и с таким атавизмом, как
любящее сердце.
82
МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ – КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Ненависть, ненависть, ненависть... Как она рождается? Как
она пожирает людей? И как она уходит? Она расползается по телу страны, как гангренозные пятна. Её лечат хирургией танков
и спецподразделений внутренних войск. А ведь только что, два-три года тому назад, было по-
другому. Ростки ненависти были совсем слабыми, почти нераз-личимыми. Только мы в них не вгляделись. Не поняли себя, не
поняли друг друга.
* * *
Фанагория, 1987 год. Холмы неправильными уступами спу-скаются к дороге. Пыльная усталая трава почти не оттеняет её
след. Случайная акация на берегу... И дальше море, зажатое в рукаве Керченского пролива. На песчаном покатом дне часто
попадаются куски амфор. Здесь под водой и песком лежат квар-талы античного города. Вся портовая часть заселена только ме-
дузами. Голубыми прозрачными телами они зависают над зелё-ным ковром водорослей, нежно шевелят щупальцами в такт
морским течениям, иногда море выбрасывает их на берег, и го-
лубые грибы их тел быстро тают на солнце. Лишь мутноватые лужи-желе напоминают об ушедшей красивой жизни.
Тихий закоулок моря. Среди холмов выцветшие палатки ар-хеологов. Аккуратные квадраты раскопов. Загорелые обнажён-
ные парни зачищают глиняные площадки до блеска. Столь неж-но обработанный материк выдаёт все свои безыскусные тайны.
Здесь лепились глиняно-плетнёвые дома ионийских греков, ко-торые переселились на берега Понта Эвксинского после того,
как персы в 495 году до н.э. разгромили и разграбили их родину. С тех пор люди не стали лучше и разумней. Безумие по-
прежнему временами закипает в их душах. Самая непознанная страна – всегда твоя собственная, ибо в
ней ты можешь познать то, что не удастся больше никому. Ведь свою землю ты несёшь в руках, ногах, сердце.
83
Так странно: жителями моей великой дикой страны были
греки, ещё до нашей эры читавшие Платона и Аристотеля. На-
ивное изумление перед известным поражает воображение.
День второй, третий. Пятый век до Рождества Христова,
первый век нашей эры, восемнадцатый, двадцатый... Каждый
день с помощью лопаты я помогаю археологам погрузиться
вглубь веков. Наверное, это счастье – прожить жизнь, наслажда-
ясь мёртвой гармонией античного мира. Тмутаракань для гру-
бых эстетов из Института археологии, скучная экзотика почти
новейших времён. Они предпочитают оставаться вечными со-
временниками Страбона.
Мара, Маруся Крымова...
Одесский голос ленинградца Розенбаума басом сипит из
разбитого магнитофона. По скукожевшемуся к концу сезона ла-
герю носится чёрный поросенок Борман, а за ним немецкая ов-
чарка и глупая рыжая колли. «Взять его, взять его», – ревёт, пе-
ребивая Розенбаума, самолечащийся наркоман Джимми Уксус.
Археологическая экспедиция – всегда подарок. Людей экспеди-
ции отбирают самородок к самородку. Руководитель с громкой
фамилией Долгорукий – сухой, с офицерской, старорежимной
вежливостью и устойчивым запахом местного вина, которое ар-
хеологи называют писистрат. Длинноволосый, с глазами навы-
кате, как у Надежды Константиновны Крупской, Володя Биби-
ков – философ, как и положено несостоявшемуся медику. Он
однообразно шутит, а сам попадает под безжалостный обстрел
Джимми Уксуса.
- Если тебя съест уссурийский тигр, у него наутро начнётся
белая горячка.
Проехали. Писистратом экспедицию снабжает Лёха. Он –
местный археологический браконьер. Перерыл весь Таманский
полуостров. Теперь решил податься в честную археологию. Ра-
ботает у Долгорукого. А в ноябре думает поступать на рабфак в
МГУ.
Амфоры, монеты, гробницы – добыча браконьеров. Мы ис-
следуем сточные канавы. Бедные хибарки, убогая утварь. Бед-
ные демократы раскапывают себе подобных.
Рассыпанная жизнь Бибикова и Уксуса песчаными ручейками
стекает по общему направлению. Грешная, но безвредная. Лопа-
84
тами они вылавливают крупицы нашей истории. Для них история
заканчивается у края раскопа, у меня она там начинается.
Тысяча девятьсот восемьдесят седьмым летом от Рождества Христова Москва ощетинилась злобными слухами. Бабки на
лавочках, мужики в курилках зашелестели словами: «Крым... автономия... фашистские пособники... крымские татары... да
не бывать тому!» «Они всё погубят, – говорили либеральные интеллигенты. –
Зачем они вылезли со своей автономией. Никто им не позволит в Крыму татарскую республику».
«Выслать их, откуда пришли! Ишь чего захотели, республи-ку им подавай. В войну наших людей убивали, а теперь респуб-
лику требуют!» – резал правду-матку лихой таксист. А всё началось ещё весной. В Крыму, в Узбекистане, в Крас-
нодарском крае прошли митинги крымских татар. Составлялись петиции. Выбирали делегатов от народа. В июле в Москве со-
бралось более 200 таких делегатов. Добивались они права на возвращение в Крым и воссоздание Крымской автономной рес-
публики. Поддержку и понимание искали всюду: обращались
к писателям, режиссёрам, в представительства союзных респуб-лик. 26 июня представителей крымских татар принял тогдашний
первый заместитель Председателя Президиума Верховного Со-вета СССР П.Н. Демичев, вместе с ним были секретарь ЦК
КПСС Г.П. Разумовский и заместитель заведующего орготделом К.Н. Могильниченко. Обещали, что крымско-татарская пробле-
ма будет рассмотрена. В Президиум Верховного Совета СССР с просьбой восстановить права крымских татар обратились пи-
сатели Сергей Баруздин, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава и Анатолий Приставкин.
Шестого июля крымские татары провели демонстрацию на Красной площади. После демонстрации Демичев вновь принял
руководителей крымско-татарской делегации и заверил их, что вопрос всё решается, решается.
* * *
- Ты мне ответь, что они делали в войну? Они наших убивали?
Были карателями – пусть тогда сидят и не квакают... – Лёха накло-няется и всматривается в дорожную пыль, прибитую дождём.
85
- Слабоват дождь, вот если бы ливень прошёл. Вон там бли-же к источнику главная улица Фанагории проходила, в порт ве-ла, после сильного дождя там часто монеты вымываются... А, чёрт, может, и сегодня повезёт. Ладно, я сказал тебе – помогу, значит помогу. Вчера Джимми и Бибиков пристали – достань, достань писистрата. Я пока проходил – к одному, к другому – час находишься пока литр вина достанешь. Потом с Джимми наквасились у одного друга – куда уж идти...
Там левее чинары после шторма мы хорошие вещи откопа-ли. А на том холме немца нашли: сапоги, фляжка, автомат, даже часть мундира – бои тут такие шли. И наших до сих пор нахо-дим. А что твои крымские татары тогда делали?
* * *
Глаза слезятся. Чёрная тюбетейка на крупной стриженой голове. Он ничего не говорит. Медленно, неуверенно идёт в ого-род. В своём беспамятстве и глухоте он ближе к Аллаху, чем ко мне, бледнолицему любопытствующему гяуру. «Где бабушка Соня?» – кричит мой провожатый. Силенция. Он не с нами. И всё же медленные шаги куда-то ведут старика. Грядки ухо-женные. Домик чисто выбелен.
В 1930 году старик был секретарем райкома партии в Кры-му. Его жена, бабушка Соня – Солия по-татарски – в 1926 всту-пила в комсомол, в 1930 закончила совпартшколу, а в 1931 стала членом партии. Зыбкие картины прошлого. И среди них чёткие даты советской биографии.
Воевал. Прошёл всю Отечественную. Потом боевой капитан разыскивал свою сосланную семью в Казахстане. Рассказывает его жена Солия Халилова. Наше прошлое слишком долго было постыдной тайной.
- Работала инструктором райкома партии. Когда началась война, мужа забрали на фронт офицером. Эвакуироваться не ус-пела. Машин не хватало. Пешком пошла с тремя детьми. Оста-ваться нельзя было. Беженцы стремились уйти из Крыма, а он их не отпускал.
Укрыл один русский. Он знал, кто я. Когда немцы пришли, хозяин мне всё говорил: уничтожь партбилет, найдут его – и те-бя, и меня повесят, дети погибнут и твои, и мои.
Солия вздыхает и переводит дыхание.
86
- Собралась как-то к себе в родной аул Сюлташ рядом с Бахчисараем. На дороге – виселица. Узнала повешенных: рус-ский, татарин, цыган. Повернула назад: страшно стало. Я боя-лась всех: немцев, своих татар, русских, добровольцев, партизан. И всё время мука – чем накормить детей. Сожгли несколько та-тарских аулов... Страшно.
Наконец немцев из Крыма прогнали. Я вернулась в свой дом, а через пару дней пришли солдаты: надо собираться, уезжать – куда скажут. Одела детей. Солдат говорит: подожди. У тебя фа-соль здесь, положи в мешок, возьми с собой. Вещи брось туда же. Пожалел меня. Я ничего не понимала. Если бы не солдат, в дороге умерли бы. 23 дня в поезде ехали. В степи выгрузили.
Передником глаза вытирает, молча смотрит на глухого мужа. - Он на фронте был, воевал, не знал, где мы... Меня вызва-
ли в комендатуру, расспрашивали, в каком райкоме партии ра-ботала, ругали, что партийный билет не сохранила. Потом дали две буханки хлеба. Сказали, чтоб приходила в комендатуру, рассказывала, что татары говорят между собой. Страшно было и голодно. Дети голодали, я согласилась. Через две недели ме-ня нашёл человек, с которым я говорила в комендатуре. Стал вопросы задавать про людей. А я ничего ответить не могу. Не слушала я, что люди говорили, да и все говорили одно и то же. Что ему пересказывать. Говорю: ничего не слышала я. Хлеб, конечно, хотелось получить, но о людях зачем плохое говорить. Ещё пару раз меня вызывали. Хлеб больше не дава-ли. Потом про меня забыли.
Солия устала рассказывать, ей давно не приходилось гово-рить так много. Но она покорно ждёт, готовая ещё терзать свою память.
- Сходите к учительнице Газие Джамилевой, она всё знает. Газия, Газия Джамилевна...
Солие удивительно, что её жизнь интересна чужому челове-ку, и ей тяжело не вспоминать, а именно говорить. Усталые зем-ляные руки. Она извлекает из уснувшей памяти самые тяжёлые навязчивые сны-воспоминания, которые не уйдут до самого её последнего дня; это уже не память – это она сама: её старость, её болезни, её боль. Доброта солдата, выгоняющего её из дома... Момент узнавания искажённых лиц повешенных... Голодные дети и хлеб, предложенный за предательство.
87
* * *
Лёха молчит. По пыльной дороге мы идём в лагерь. Чёртово
слово. Выбросить бы его из русского языка. Лёха домой не по-
шёл. Чешет со мной к археологам. Там базар-вокзал. Писистрат
и нормальная жизнь.
- Посадил дед Репку, Репка отсидел и замочил Дедку. Слы-
хал такую сказку? А эту знаешь? Чебурашка и крокодил Гена
пошли грабить «Берёзку». Гена на шухере остался, а Чебурашка
внутрь полез. Кричит из магазина: «Есть кирзовые сапоги! – Бе-
ри! – Не могу, в них мусор. – Выброси его! – Не могу, он меня за
уши держит».
Проехали. Ноу проблем! Лёха теперь сыплет про свои
прежние подвиги.
- Сказано же: не давите мне на мораль! Шары на лоб и по-
гнал. Кореш не вписался в поворот. Повис на знаке, я под мото-
циклом лежу. Нормально! Синяками отделались.
Когда сезон закончится, археологи уедут в Москву. Нач-
нутся шторма, и на фанагорийские холмы приедут другие лю-
ди. Море перевернёт песок, обрушит берег. Теперь ситом про-
севай песок. Часами. Без устали. И будут монеты, старинные,
дорогие. А можно намыть кое-что и получше. Раз Лёхе попался
гранат, а на нём лев с поднятой лапой нацарапан. На другом
камне – воин в хитоне копьё держит, копьё змея обвила, рядом
женщина держит чашу, и змея голову в чашу опускает. Змея –
наша жизнь.
На следующий вечер я Лёху не дождался и к Газие Джами-
левне пошёл один. В посёлке учительницу все знают.
Руки перебирают коричневые тёплые зёрна. Семейный круг
зажат в круг света. Зелень вьюнка и винограда обрамляет уют.
Выйти из темноты в чужой мир? Войти и стать надолго его
должником... Принять на себя груз страданий, не разделяя их...
Я стоял в темноте и не решался войти в освещённое про-
странство.
- Чем обязаны визитом? Мы ко всяким гостям привыкли...
Недавно гости приходили с обыском...
Просторная мазанка в посёлке Сенной. Что можно искать в
этом доме? Крымских татар. Но их не надо искать, они сидят пе-
88
ред домом: дети, старуха, женщина, мужчина. Страшные крым-
ские татары, напугавшие Москву летом 1987 года.
Тёмные средиземноморские глаза татар смотрят на меня.
Люди у стола ждут. Выносят фрукты, угощают. Я стою, а надо
мной будто звучит голос из динамика, и будто это мой голос,
только не живой, а металлический, без интонаций, с чеканной
дикцией: «Как известно, постановлением Государственного ко-
митета обороны от 11 мая 1944 года крымские татары были пе-
реселены из Крыма в районы Средней Азии... Это решение мо-
тивировалось сотрудничеством части татарского населения с
немецко-фашистскими оккупантами... Это решение, как теперь
представляется, отражало суровые условия войны, конкретную
обстановку в Крыму и настроения того времени».
Голос грохочет, заполняет всё пространство над маленьким
виноградным двориком, над посёлком, летит над проливом, над
Крымом, над Чёрным морем, над затихшей ночной сушей. «На
территории Крыма крымско-татарскими националистами были
сформированы отряды самообороны. По имеющимся данным,
действовало 10 крымско-татарских добровольческих батальонов
по 200–300 человек и 14 рот этого же назначения. При активном
участии этих формирований были разгромлены партизанские
базы, выжжены населённые пункты вблизи лесных массивов и
истреблены их жители. Так была создана "мертвая зона" вокруг
партизанских отрядов».
По имеющимся данным... Кто их имеет? Где имеющимся?
Тайна! Но зато вся страна знает: «В процессе карательных опе-
раций с участием крымско-татарских националистов были ис-
треблены 86 тысяч мирных жителей Крыма, 47 тысяч военно-
пленных и 85 тысяч человек угнано в Германию. Уничтожались
в основном русские, украинцы, греки, евреи и цыгане. В совхозе
"Красный"... преступники из 147-го и 152-го крымско-татарских
батальонов соорудили печи, в которых круглосуточно сжигались
живые люди...» Круглосуточно... сжигались... живые, живые
люди!
- От этих фактов трудно уйти...
- А это факты?
89
Сейчас мне придётся ответить за всё: ведь я – москвич,
член партии и к тому же историк. Депортация сотен тысяч не-
винных людей, преследования, многолетняя ложь и в послед-
нем акте никак не завершающейся трагедии заявление ТАСС,
которое продолжает звучать у меня в ушах: «...10 крымско-
татарских добровольческих батальонов...» С заявления ТАСС и
завязался разговор. Самые чёрные слухи поползли вслед за его
публикацией. А затем ещё статьи в центральной и местной
прессе, выступления по радио и телевидению накаляли обста-
новку, разжигали страсти. В Крымске на стройкомбинате изби-
ли женщину-татарку только за то, что она попыталась защи-
тить свой народ, рассказать, что было на самом деле. А что бы-
ло на самом деле?
К моим собеседникам присоединились двое парней, крепкий
коренастый Сервир и худощавый, быстрый в жестах и взглядах
Меджид.
Опять обвиняют весь народ, а не тех преступников, которые
сотрудничали с фашистами. Много ли было таких? Даже если
согласиться, что цифры в заявлении ТАСС правильные, получа-
ется в добровольческих батальонах было не более 1% всех
крымских татар. За что страдают и страдали остальные.
Сейчас всюду говорят, что Асанов Амет – сын фашистского
пособника, но ведь и он, и вся их семья давным-давно отреклись
от предателя...
Из сёл в Крыму пошли к властям обращения: не давать
крымским татарам автономии, они зверствовали на стороне фа-
шистов во время войны.
ТАСС заявляет, что при участии крымско-татарских форми-
рований вокруг партизанских отрядов была создана «мёртвая зо-
на». Так в той зоне сплошь татарские аулы: Авджикой, Аргин,
Бикж-Каралез, Ени-Сала, Куртулук, Улу-Узень, все и не назо-
вёшь.
Газия Джамилевна уходит в дом и возвращается с рукопи-
сью, отпечатанной на машинке на пожелтевших листах.
- Вот комментарий профессора Музафарова к сообщению
ТАСС, тут всё подробно сказано. Профессор много лет изучал
историю крымско-татарского народа. Он знает правду.
90
- И возьмите вот это, – чернобородый Меджид протяги-
вает три потрёпанные скреплённые друг с другом школьные
тетради.
Сервир, Меджид, Газия Джамилевна – члены инициативной
группы движения крымских татар за возвращение их на родину
и восстановление Крымской автономной республики. Они были
в числе тех крымских татар, что приезжали в Москву добиваться
выполнения их требований. С закрученными назад руками их за-
совывали в милицейские машины. Их отлавливали и высылали
из Москвы. Меджид работал водителем автопогрузчика, после
возвращения из Москвы его уволили.
Меджид и Сервир – новые люди в движении. Сервир при-
знаётся, что даже крымско-татарский язык он знает не очень хо-
рошо. До недавнего времени его не очень заботило, кто он по
национальности. Его сделали крымским татарином власти, кото-
рые запретили ему жить и работать на его родине. Ощутив соб-
ственную гражданскую неполноценность, он пришёл к людям,
которые объяснили ему смысл слова «борьба».
Как всякий прирождённый горожанин, я далёк от земли. Не
чувствую её, не понимаю, и лишь безнадёжная усталость при-
гибает к земле, заставляет искать помощи и защиты у деревьев,
травы, у мирных деревенских запахов. Город обескровливает
душу. Но уж вовсе в автоматического истукана превращает чу-
жой инородный город. Сквозь случайно свалившееся на меня
туристическое раздумье прогулок по Парижу летом 1985 года я
вдруг ощутил, что задыхаюсь в уютной тесноте прекрасной
парижской чрезмерности. Невозможность променять бестолко-
вую, суматошную Москву на изящный Париж меня поразила.
Не внешние, а внутренние узы держат человека. Нежданное от-
крытие собственного патриотизма, неосмысленного, невырази-
мого, совершенно нутряного меня поразило. И теперь, слушая
крымских татар, я понимал их тоску, подступавшую к горлу и
вскипавшую ненавистью.
* * *
Мотоцикл Сервира проскакивает одну за другой длинные
улицы Сенного, летим по шоссейке, крутой поворот налево.
91
Сервир уже обо всём договорился: нас ждут. За столом у перси-
кового деревца два старика. Крепкий плотный Закирия и высо-
кий измождённый Халил-ага. Старики не спешат рассказывать,
угощают пловом, арбузом. Сервир уехал по делам. Застучал
дождь по листьям, по деревянному столу. В доме ремонт, всюду
цемент, вещи набросаны. Присесть негде. Вышли опять на ули-
цу. Не размокнем. Дождь чуть накрапывает. Закирия всё пытает-
ся понять, о чём надо рассказывать, потом махнул рукой и стал
говорить о чём хочется.
О том, как старшие родственники, крестьяне из Капсихора,
спасали в 1919 году красный десант Мокроусова, Папанина и
Белякова. О том, как сослали его семью в Северный Казахстан:
попали в подкулачники, так как отец повздорил с местным ак-
тивистом. О том, как в буран унесло палатку, в которой они
жили, и первую казахстанскую зиму домом им служила яма в
земле. С другом Мишкой Заикиным они украли у одного му-
жика горшок с маслом. Мишка до сих пор вспоминает этот
горшок. Кулак и подкулачники, выгруженные из крымского
эшелона на станции Шахтанды, они поставили точку № 33, за
колючей проволокой соорудили бараки из дёрна, стали обжи-
вать степь. То была первая поднятая целина. Голодно было.
Весной, когда в степи пошёл в рост щавель – лошадиное ухо,
Заикин предложил подлезть под проволокой, в степи подкор-
миться, потом вернуться. Так и сделали. Ягоды нашли, стали
траву собирать. И тут их случайно заприметил кто-то из лагер-
ного конвоя. Прискакал верховой, набросил верёвку на одного,
потом другого мальчишку. Привязал верёвку к луке седла и
поскакал в лагерь, они бегом за ним. В лагере их стал избивать,
прибежали родители, избил и их.
«Самым лютым конвойным за их жестокость потом аукну-
лось. В 1934 – начале 1935 года колючую проволоку сняли,
расконвоировали. Тогда некоторых конвойных убили, другие
прижились, женились на бывших спецпоселенках. Колхоз об-
разовался, разбогател быстро: народ отборный, работать умели.
А томило всё-таки в Казахстане. И ударился я в бега вместе с
братом. Год-то был 37-й. В дороге мы потеряли друг друга. По-
том уже узнал: его поймали, закинули в лагерь на Печоре. Его
война только освободила, штрафником на фронт попал. А я то-
92
гда добрался до Петропавловска. Есть хотелось – умру, думал,
от голода. На вокзале парень незнакомый трёшку дал. Подкор-
мился немного и дальше. В Горьком арбузом угостили. Тем и
жив остался. До Москвы побоялся ехать.
Как подъезжать стали, спрыгнул с поезда, да шибко о шпа-
лы ударился. Кто подобрал меня – не знаю. Но не обидели, сда-
ли в Даниловский детский распределитель. Так в Москве очу-
тился в первый раз в жизни.
В распределителе отоспался: день и ночь спал и всё сны ви-
дел про горы свои, про море. Откуда – я не сказал, только тетку,
что в Капсихоре осталась, назвал. Одели, накормили и в Крым,
в тамошний распределитель. Декрет Ленина детей беспризорных
защищал тогда. В Крыму сам начальник детского распределите-
ля меня домой отвёз. Пожил я, пожил у тетки – рада она была,
что и меня увидела и весточку от родных получила, а через год
затосковал по родителям, по брату. В 39-м вернулся в Шахтан-
ды. Отец ремешка под задницу дал. Как за что? За то, что из
Крыма в Казахстан вернулся.
А брата я больше никогда не видел. Он в Югославии в тан-
ке сгорел при освобождении Белграда. Я на фронте тоже тан-
кистом был. Как ушёл добровольцем, попал в Хвалынский
учебный полк в школу сержантов-водителей. А брат, как из
штрафников его перевели, в училище танковое даже попал.
Я знал, что он танкист, и после ранения, перед тем как в часть
возвращаться, просил, чтобы с братом в один экипаж. Да не
судьба. В какой части служил? 3-я ударная армия 1-го Белорус-
ского фронта, 150-я стрелковая дивизия, 469-й полк. Командир
пулемётного расчёта.
Как-то раз меня к себе вызвал командир полка, в конце вой-
ны это было, не в 44-м, а в 45-м, сидят он и майор из особого
отдела. Переговаривались тихо. Мне ничего не сказали. Потом
уже узнал, командир полка объяснил, что я – не из Крыма. Бер-
лин брал, а рейхстаг штурмовать не пришлось, наш батальон
один из флангов прикрывал, чтобы немцы со стороны к рейхста-
гу не попытались прорваться. Помню из домов, дотов солдаты
выходят, по обочине дороги оружие выкладывают, мы пистоле-
ты себе забирали. 2 мая праздновали Победу, грохот стоял, как
в самом страшном бою. Залпы вверх из всех видов оружия.
93
Осколки и пули потом вниз сыпались. Своими осколками себя
убивали.
Потом на даче Геринга стоял к северу от Берлина. Там с
американцами подружились, мы к ним кино ездили смотреть,
они шорты дарили, чепуху всякую. Некоторые приглашали к
ним в Америку приехать. Простые парни. Англичане – те высо-
комерные очень. С ними снюхаться не получалось. Я и позже
часто в английскую и американскую зону заезжал, участвовал в
демонтаже германских военных заводов.
Как демобилизовался, работал в геологоразведке в Саратове.
Заочно автодорожный институт закончил. Старостой группы
был.
Старик мне всё доказывает и доказывает, что он – совет-
ский, а что доказывать, а какой же он ещё? Мы все советские,
хотим того или нет. Страна-то у нас одна – советская, и другой
страны у нас нет, и другого названия у неё нет. Вот если рассы-
плется по нашей же воле, то мы будем узбекскими, украински-
ми, литовскими, российскими. Разбежимся, вот только куда бе-
жать, всё равно соседями останемся.
В 55-м году уехал Закирия в Ташкент. После того как закон-
чил в 64-м институт, работал директором автобусного парка
№ 18, возглавлял спецавтобазу № 12, под началом лично у
Ждеббарова, свояка Рашидова, ходил. Грех жаловаться, в Узбе-
кистане хорошо жил. Вот только с возрастом болеть стал. Кон-
тузия напомнила о себе. Всё пошло-поехало. Аллергия, хрони-
ческий бронхит, головные боли, гастрит.
- Дядя Тохтар давно мне говорил – чистый ты из чистых,
можешь ехать в Крым. В 72-м через начальника ОблГАИ позна-
комился с Беловым, начальником РОВД Киевского района Сева-
стополя, просил помочь. Он нормально к просьбе отнёсся, толь-
ко помочь ничем не смог. А в 79-м всё бросил: в Крым нельзя,
так всё куда поближе переберусь, и приехал сюда, на Тамань.
Футболили меня из райисполкома в милицию, из милиции в
райисполком. Три месяца прописывался. В конце концов первый
секретарь райкома партии Куюмжиев помог. Прописался, сто-
рожем на работу устроился. Зато живой, болезни отпустили.
Утопическая империя создавала идеальных подданных. Она
лишала людей собственности, национальности, привязанности к
94
родным и близким, обрекала их жить в будущем, а не в настоя-
щем. Только будущее никогда не наступало. Мираж коммуни-
стического счастья убегал вперёд. Гонка за ним обрывалась
лишь смертью, но новые поколения подхватывали и подхваты-
вали эстафету. Бег стройными рядами продолжался несокруши-
мо. Даже те, кто хотел бежать в противоположную сторону,
не имели такой возможности и подчинялись общему курсу.
Теперь люди тысячами и миллионами сходят с дистанции,
сошли и эти два старика. Они выбрали национальную тропу сво-
его народа.
Халил-ага, как и Закирия, – фронтовик. На фронте с 16 июля
1941 года. 30 июля был первый раз ранен. Крым освобождал в
звании лейтенанта. Был ранен, но в госпиталь не пошёл. Мечтал
увидеть родных. 18 мая получил отпуск, 19-го приехал в Гурзуф
и нашёл дом пустым и разгромленным. На полу подобрал фото-
графии детей. Уходя на фронт, оставил двоих и беременную же-
ну. Узнал, что всех крымских татар увезли. Поехал в Симферо-
поль, оттуда в Бельбек. На станции встретил семью казанских
татар, люди сказали, что последний эшелон с сосланными уже
ушёл. Лейтенант сел на шпалы и заплакал.
Вернулся в часть, а в октябре 44-го получил пакет для даль-
нейшего прохождения службы в Средней Азии, отправили в
Ашхабад в лагерь для запасников.
В 45-м демобилизовали, где мать, дети, жена – не знал, ни-
каких сведений, ничего. Жил некоторое время у знакомых в
Кибрае, недалеко от Ташкента. В конце концов в комендатуре
мне сообщили, что моя мать на поселении в Горьковской облас-
ти. Выдали мне литер, и я поехал к матери. Тогда же я узнал, что
дети все умерли, и старшие, и тот, кем беременна была, а жена
жива, в Марийскую АССР её сослали. В комендатуре в Йошкар-
Оле мне сказали, чтоб на работу устраивался, мол, потом и жену
заберёшь. Я, агроном по специальности, не мог работу найти,
а когда приискал работу, стал разрываться: контора в одном
месте, жена – в другом, сам я – непонятно где. В спецкоменда-
туре говорили: поедешь к жене без разрешения, двадцать пять
лет получишь. Поехал и двадцать пять лет не получил. Дальше
что... Работал, работал, бригада была коммунистического тру-
да... Благодарности получал... А в 77-м взял двух внучек и прие-
95
хал в Крым. Меня выписывать на старом месте не хотели, гово-
рили: в Крыму всё равно тебя не пропишут. Да я уж решил.
Поселился к одному старику, он собирался мне дом продать,
сыновья его приёмные написали расписку, что не возражают.
Не вышло. Пришли главный инженер колхоза, бухгалтер, потре-
бовали, чтоб я освободил дом, так как он совхозный и его кра-
сить надо. Потом участковый милиционер приказал вытащить
все мои вещи из дома. Так и выгнали с внучками на улицу.
Я договаривался о продаже дома в одном месте, в другом. Люди
соглашались, власти запрещали. Наконец, нашёл пенсионерку,
бывшую учительницу, она у детей жила, дом ей был не нужен,
заплатил деньги, въехал с внучками. И опять началось. Пред-
седатель колхоза запретил огород сажать. Свет, воду отрезал.
В стакан подсолнечное масло наливал и фитиль жег: внучке-то
уроки готовить надо. Даже пенсии лишили: два года восемь ме-
сяцев не получал – нет адреса и человека нет.
Всюду писал, за помощью обращался и в обком партии, и к
Брежневу, и к Косыгину, и в «Правду» – всё бесполезно. Жил
чем? Цветы собирал в горах, травы, продавал на базаре. Упирал-
ся, упирался – из дома всё равно выгнали. Приехала учительни-
ца, вернула деньги... За что со мной так? Воевал, социализм
строил, как все... Какая на мне вина – не понимаю. Душа болит...
На родину хочу вернуться и не могу. Через пролив только на
Крым смотрю...
Время пьяной безмятежности, время медленного соскальзы-
вания в пропасть, время безгласия и полудумия закончилось, но
его токи и страхи всё ещё живы в нас. Призыв по капле выдав-
ливать из себя раба всё ещё не потерял смысла. Капли капают,
раб не исчезает, слишком много рабского социалистическая им-
перия заложила в души. Простым людям империя не оставила
ничего, кроме задавленного, затравленного, но живого и неунич-
тожимого национального чувства и страстной жажды социаль-
ной справедливости.
Старики бормотали мёртвые слова про строительство социа-
лизма, но их слезящиеся глаза загорались только тогда, когда
они произносили слово «Крым».
Магия национального патриотизма уже раздула угли. Пахло
пожаром. Топлива для него хватало: «великий кормчий» загото-
96
вил его на много лет вперёд, а его ущербные последователи кое-
что добавили. Да и факелы для национального пожара засвечены
уже давно. Потрёпанные тетради Меджида лишний раз служили
тому подтверждением.
* * *
Крупный круглый почерк бежал по школьным клеткам. На-
ивный рассказ про наивного человека, сохранённый для тех, ко-
му всю жизнь не хватало наивности. Крупный почерк человека,
привыкшего к иным орудиям труда, чем ручка и бумага. В век
компьютеров наша история живет фольклором и рукописными
летописями. Мы продолжаем повторять заклинание «рукописи
не горят». Горят! Не только рукописи, но и люди, и крупный,
круглый почерк ведал об этом.
Муса Мамут родился 20 февраля 1931 года в деревне Унджи
(в 44-м году на деревню навесили новое имя, теперь это село
Колхозное) Балаклавского района Крыма в семье пастуха Ягьи
Мамута. Депортация выбросила семью Мамутов в Узбекистан.
Там от голода вскоре умерли две сестры и два брата Мусы. По-
разному встречали крымских татар в Узбекистане: делились по-
следним и забивали кетменями за мелкое воровство на бахчах,
усыновляли детей умерших родителей и не принимали больных
в больницы – пусть подыхают фашистские прихвостни. Муса,
мальчишкой начав работать грузчиком на хлопкопункте, полу-
чил на свою долю избиения до потери сознания. Бил бригадир
по указанию спецкоменданта за то, что опоздал на ежемесячную
регистрацию в комендатуре. Спецпоселенцам крепко вдалблива-
ли в память их полное бесправие. Впрочем, после 1956 года
жизнь Мусы Мамута покатилась по обычной советской колее,
ни взлётов, ни падений: работал слесарем, трактористом, техни-
ком – честная трудовая лямка. Рабочим человеком, частью аван-
гарда советского общества Муса Мамут был, а вот полноправ-
ным гражданином так и не стал.
Когда в апреле 1975 года Муса с семьей переехал в Крым и
купил дом в деревне Беш-Терек (ныне Донское) Симферополь-
ского района, в нотариальном оформлении купленного дома и
прописке было отказано, а затем против Мусы Мамута и его же-
97
ны Абдуллаевой Закии было возбуждено уголовное дело по об-
винению в нарушении паспортного режима. Не прописали,
а теперь за это судить – всё логично, на то и статья есть 196-я
Уголовного кодекса Украинской ССР. 23 апреля 1975 года Мусу
Мамута арестовали. В мае следующего года Симферопольский
районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы.
На беду или на счастье освободили Мусу досрочно «за добросо-
вестное отношение к труду и хорошее поведение». Вернулся
Муса к семье в Беш-Терек и вновь ему отказывают в прописке,
требуют власти, чтоб убирался из Крыма. Письма во все извест-
ные советскому человеку инстанции не помогли. Вновь возбуж-
дают дело: обвинение всё то же – нарушение паспортного режи-
ма. Паспортный режим как петля-удавка на шее нашей: кого на-
до – держит, кого надо – удушит. Но есть предел у несвободы.
Когда 23 июня 1978 года в 10 часов 30 минут утра участко-
вый милиционер пришел за Мусой Мамутом, чтобы доставить
его к следователю, Муса облил себя бензином и зажёг прямо
перед своим-несвоим домом. За всех крымских татар, за их по-
пранные права принял страшную смерть Муса Мамут. О чём сам
он и сказал в последние мгновения своей жизни.
После биографии Мамута в мятых тетрадках шли стихи, по-
эма, как сказал Меджид, написанная зэком: «Кто сжег себя своей
рукой, Тот в памяти людской Навек останется живой».
Но как гнетут память чёрные камни зла! Суетливую жизнь,
что длится как сплошной квартирный обмен, отягощать ещё чу-
жими болями. От своих-то не знаешь, как избавиться. Если и
нужна история, то лучезарная история античности с красивыми
богами и красивыми подвигами. Борьба с Ксерксом не то, что с
участковым милиционером. Даже в романтической археологиче-
ской экспедиции скучно.
Людям скучно от самих себя. Бездельничают исключитель-
но тоскливо и бестолково. Как обрести счастье? Лучший день
двадцатидвухлетней девочки Кати – когда она приняла «джеф» и
под кайфом чистила картошку. А неудавшийся режиссёр Веня
боится садиться на иглу и пить «джеф». Слабеющими руками он
поддерживает в себе самоуважение тем, что пишет пьесы, кото-
рые, увы, никто не ставит и не печатает. Инженер Владик борет-
ся с внутренней унылостью с помощью застарелой инфантиль-
98
ности. Он упрямо ходит последние лет двадцать пять в цветной
панамке и в пионерских шортах, ему все окружающие кажутся
взрослыми и умными, он постоянно задаёт вопросы про то, что
знает лучше всех: его волнует происхождение десяти тысяч гли-
няных китайских солдат императора Цинь, фамилия архитекто-
ра, что построил Грановитую палату в Московском Кремле и в
Боровске, судьба Тьмутаракани и несчастных ионийских греков,
так пострадавших от проклятых персов. Владик дружит с нищим
драматургом Веней и очень обеспокоен тем, что в штабах засели
курносые, так он называет евреев. Когда Веня объяснил Владику
насчёт своего еврейского происхождения, Владик надвинул па-
намку на нос, чтобы спрятать в неё своё недолгое пионерское
смущение.
Бедные люди своим землеройным трудом во славу археоло-
гии, они оплачивают южное солнце и море. Со всех сторон их
подстерегают опасности, лишь Бибиков и Уксус бесстрашно
бродят в кумарах. Здесь отдых для неприкаянных людей. Можно
ночью собрать рюкзак и уйти, а символическую плату за труд
подарить начальнику, всё равно он от неё не разбогатеет.
Ни к кому не обращаясь, Бибиков повторяет: «Вова, хочешь
пива бочкового?» Нет ни пива, ни Вовы.
Уксус рассказывает девицам: «Волосатые в Лапландии зава-
лили беса и продрали всей толпой...», – те прыскают и, набросив
на себя одеяла, идут к ямке у моря загорать.
Осенний бриз пробегает по телу гусиной кожей.
Днём к раскопу подъехала милицейская машина, крепкий
капитан с бравым казацким чубом из-под фуражки решил поди-
виться археологии.
- Много работы?! – задал он утвердительный вопрос.
- Да че у нас работа, вот у Вас сколько-о-о.., – протянул из
канавы Джимми.
- А тут ещё крымские татары, – подсюсюкнул кто-то сбоку.
- Да, ошибка вышла, пустили их сюда, – мотнул чубом капи-
тан. – Да ты, – множественным «ты» объединяя всю нашу кам-
панию, заверил он, – не боись, мы с ними справимся.
Подивился, провёл разъяснительную работу и печатным ша-
гом направился к машине.
99
- Цементовоз! – прицелился лопатой в сторону газика
Джимми.
Владик глубоко вздохнул и спросил, не потомки ли крым-
ские татары евреев, основавших Хазарский каганат, набегавший
неразумно столько раз на Русь, пока им до основания не отом-
стил князь Олег.
- Да иди ты туда-сюда! – вдруг прорезался мрачно копавший
Лёха, – пошли с нами вечером, я тебе покажу хазар.
* * *
Поворот, ещё одна улица, ещё поворот. Маленький посёлок
в темноте развёртывается всё новыми и новыми улицами. Ус-
нувшие палисадники с осенними цветами. Нас обгоняет легко-
вушка, одна, вторая... Сервира окликают. Степь и сторожевые
кусты. Из полутьмы близ домов выступают люди, здороваются с
Сервиром, пристально смотрят на незнакомых.
Увитый виноградом двор, скамейки, доски на кирпичах, им-
провизированный зал для заседаний, в освещённом месте – стол.
Прямо перед столом усаживаются старики – совет старейшин,
люди помоложе – в глубине двора. За столом – Газия, Сервир,
Меджид, члены инициативной группы. Тишина, напоённая ды-
ханием людей и моря. Чуть охлаждённый йод сентябрьского
Причерноморья проникает в лёгкие, разливается по телу, про-
буждая тревогу и нетерпение.
Повестка дня, председатель. На голосование ставится во-
прос, принимать ли предложение местных властей впредь про-
водить сходки в клубе. Предложение отклоняется: кому инте-
ресно, пусть приходят и слушают, мы не прячемся, а в клуб не
пойдём, нам так свободнее. Потом пошли сообщения с мест: се-
дой крестьянин пересказал письмо от родственников о сходке в
Крыму, милиция окружила, собиралась вмешаться, но люди
мирно разошлись, обошлось без столкновения.
Сервир, помрачнев от непривычной роли чтеца и от ощуще-
ния ответственности, зачитал отрывок из повести Чингиза Айт-
матова «И дольше века длится день».
- Это из нас пытались сделать манкуртов, – объясняет Сер-
вир. – Нас лишили родины – Крыма и нас хотели заставить за-
100
быть наш язык, наши обычаи, забыть Крым. Не получится! Мы
остались крымскими татарами и мы вернёмся к себе!
- В Крым! В Крым! Крым – наша родина, – загудели в ответ
голоса. И будто чтобы доказать, что прошлое не забывается, его
можно уничтожить только вместе с людьми, пришедшими из
этого прошлого, на свет один за другим стали выходить старики
и размеренными голосами рассказывать, как их уничтожали.
Вдруг забилась в плаче женщина у стены:
- Я – математик, учительница, почему мне не дают рабо-
тать? Я не могу больше ходить на виноградник. Зачем я учи-
лась?
Её успокаивают. Рассказывает Халил-ага спокойным, тихим
голосом, и от этого спокойствия напряжённость становится зло-
вещей. Беззащитность голоса и облика старика, дважды изгнан-
ного с его родины, взывает к мести. Кожей начинаешь чувство-
вать, как рождается это страшное чувство. Оно заползает в души
молодых сильных мужчин и прорывается криком:
- Если война, пусть не надеются, что я пойду за них воевать!
За кого за них? За русских? За советских? Крикнул один,
а что думают другие? И вновь будто горячая волна отхлынула.
Старик продолжает рассказ.
Сходка закончилась. Молодая женщина спросила у меня,
как подписаться на журнал «Гласность».
* * *
Прошло три года. Ненависть уже дала свои кровавые всхо-
ды. Кровь увлажнила землю, и поднялся красный туман. Вновь
слепые ведут слепых, и хмурое утро может закончиться ночью.
И всё же это утро.
А поэму про Мусу Мамута, переписанную от руки, написал
русский.
101
ЛЮДИ У ОЗЕРА
Далеко на востоке огромной страны среди сопок и тундры
живёт озеро Пекульней. Скуден и суров его быт. Большую часть года лёд и снег закрывают его. Не успеет насмотреться в пас-мурное чукотское небо, как уже зима гонит бураны по безмолв-ной телькепской тундре. Тянутся долгие месяцы холода и мрака, и лишь воспоминания о счастливых летних днях согревают за-мерзшее, ушедшее в себя озеро.
Рядом с Пекульнеем тяжко дышит Тихий океан. Даже в полный штиль крутые валы прибоя набегают на берег. Лишь чуть голубеют воды в солнечные дни. Всё же лето есть лето. В эту пору веселеют звери. Выбираются из норок евражки, ме-стные приполярные суслики. На берегу реки, вблизи ольховых зарослей, собираются компании зайцев. Даже киты утрачивают серьёзность. Отдохнув от заплыва Калифорния – Чукотка, зате-вают любовные игры. Невероятной свечой вздымаются из воды огромные тела. Рывок, громкий всплеск – и вновь влюблённая пара скользит бок о бок в мелкой воде. Приходит любовь, и за-бываешь про свою невероятную тяжесть, земное притяжение и солидность самого большого живого создания планеты.
Август. Месяц праздников и свадеб. Чукчи подгоняют к бе-регу озера оленей. После долгой, многомесячной разлуки воссо-единяются семьи. На время «летовки» даже дети приезжают в тундру. В стойбищах справляют вылгыкоран матгыргын – празд-ник молодого оленя.
Чукчи – оленеводы и рыбаки – не нарушают хмурой и пота-ённой жизни Пекульнея. Годами кормил и поил он смуглых темноволосых людей, одетых в кухлянки, камлейки и торбаса. Свыкся с ними и почитал их за своих детей. Беспокойство вызы-вали у него пришлые люди, построившие на косе дом под назва-нием «Ихтиологическая станция», а на северном берегу – высо-кую стальную башню. Сильные, уверенные в себе парни бура-вили землю, устраивали взрывы, загоняли в земную толщу при-боры с радиоактивной начинкой. Говорили, ищут нефть. Пе-кульней старался всех их запомнить в лицо. Одни пришлись ему
102
по нраву, других – невзлюбил. Иной раз подговаривал медведя выбрать рыбу из сетей бурильщиков. Тот рад стараться: и рыбу вытаскивал, и сети так запутывал, что мужики матюгами исхо-дили, приводя их в порядок.
Всякий народ попадал на буровую. Пожужжит, пожужжит вертолёт, выбросит из своей пасти новых, незнакомых людей, а тех, к кому присмотрелся, с кем свыкся, заберёт.
На ихтиологической станции народу меньше – всего четыре человека и состав постоянный. А как холода наступали, домик вообще пустел – до следующего летнего сезона. Но летом вре-менами не по себе было Пекульнею: чудилось, смотрят из доми-ка немигающие глаза, изучают самое что ни на есть нутро тунд-рового озера.
На станцию ихтиологов Охотскрыбвода и буровую номер тридцать три Чукоткой нефтегазоразведки мы с Вадимом по-пали благодаря разговорчивому неугомонному Жене Маркину. Охотскрыбвод во всех близлежащих водах представляет в пер-вую очередь именно он, Женя Маркин, выпускник Астраханско-го института рыбного хозяйства, старший рыбинспектор, страж и надёжа рыбного поголовья. Из года в год просчитывает он стадо нерки в Пекульнейском озере, даёт рекомендации о нор-мах отлова, воюет с браконьерами... За пять месяцев полевого сезона накручивает сотни километров на моторке, попутном вездеходе, пешком. Повёз он нас на Пекульней не на экскурсию, а желая помочь поскорее выбраться из одного из самых глухих углов Чукотки. Мы с Вадимом выполняли подсобную работу в экспедиции московских антропологов. Они замеряли у чукчей длину носов, ширину скул... Народ замерялся неохотно, экспе-диция задерживалась, а нам, временным работникам, пора было возвращаться. Наше нетерпение Маркин хорошо понимал. Сам Женька в этом году решил закончить сезон пораньше и съездить в родные рязанские места. Не доверяя капризному Абрамову, командиру единственного на весь Беринговский район верто-лёта, Женька хотел воспользоваться транспортом буровиков. И нам это присоветовал. Слова: «конец вахты, буровой мастер, нефтегазоразведка» звучали убедительно.
Ранним утром мы отправились в путь. Женька вёл моторку мастерски. Русло реки Майны, текущей из Пекульнея в Беринго-во море, он знал до мельчайших подробностей. Ни напряжения,
103
ни сосредоточенности, будто уверен, что лодка сама знает своё дело и приплывёт куда надо. Крутил головой в нашу сторону и, соскучившись по слушателям, рассказывал:
- Пекульней – озеро особое. Сюда на нерест заходит крупней-шее на Чукотке стадо нерки. Сто десять тысяч голов. Придёт ры-ба, отложит икру и стоит над ней. Сторожит потомство. У самой тело разрушается, рёбра проваливаются, хвосты отпадают... Ко-нец ей, всё детям отдала. Мальки потом последние остатки дое-дят. Тут в озере особенно не разгуляешься. Мальки два года в Пе-кульнее живут, после в море уходят. Много мелочи гибнет. Пита-ния не хватает. Всё дело в питании. Вот если б всех сохранить...
- Всех не надо, – вдруг куда-то в сторону, на ветер обронил Вадим.
- Да, я понимаю, что не всех, – покосился Маркин на подня-тый воротник моего спутника. А про себя, верно, подумал: му-жик как мужик, борода лопатой, ватник не первой молодости, а рассуждать берётся, будто в академиях науку изучал.
- Способ есть один – простой очень, – продолжал Женька чуть свысока. – Фертилизировать озеро: внести в него азот и фосфор. В Канаде уже давно так делают. Где-то на Ванкувере. Результаты потрясающие.
Вадим опять хмыкнул: - Так что потрясает-то? - Водорослей в пять раз больше, живности всякой, планк-
тон... – Тут Маркин спохватился, что с нами толком не познако-мился, обернулся к Вадиму. – У тебя верхнее образование? – спросил.
- Угу, – тот качнул головой. - Кандидат биологических наук, – добавил я. - Здорово! – оживился Маркин. – И чем занимаешься? - Морскими котами... - А на Чукотке раньше был? – кандидатство Вадима не то
удивило, не то насторожило нашего рыбинспектора. - Только на острове Врангеля, да ещё раньше на Камчатке и
на Курилах. Я в ТНИИРО (Тихоокеанский научно- исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии. – Е. К.) в Пе-тропавловске работал.
- И променял Камчатку на Москву? – это Женьке Маркину не понятно. Он человек романтический, чего не скрывает, хотя
104
самого слова «романтика» чурается. Старое слово, шестидеся-тых годов.
- Здесь неделями туман, дождь. Мрак. Погода – оторви и брось. А выйдет солнце: красота! Никуда отсюда не поеду. Пти-цы, зверьё. К нашему балку на озере прошлым летом медведь повадился. Утром просыпаюсь, смотрю: сидит у порога и рыбу чифанит, что мы вялить повесили. Не знали, как отвадить. Не убивать же дурака. Я его во всех видах снял. И фото, и кино. Да скучно получилось. Друзьям в Магадане показал, они – ну, медведь, ну и что? Хитрость какую-то надо знать, чтоб интерес-но было, как в жизни.
Пятнадцать километров по озеру проскочили незаметно. Крутой разворот, лодка причалила к берегу. На узкой косе, дале-ко вдающейся в воды Пекульнея стоит маленький домик, балок по-местному. Это и есть ихтиологическая станция. Любопытст-вуя, мы с Вадимом забрались вовнутрь. Чисто оструганный стол, лавки. Отдельная комната для науки. Оборудования небогато. Набор реактивов, десяток пробирок, самодельный аппарат для получения дистиллированной воды. В трехлитровой банке пла-вают годовалые мальки нерки.
Маркин забрал вещи, оставил записку: «Уехал в Рязань»... И снова чихает мотор, и водяная пыль летит в лицо.
- Так что, вы точно решили проводить фертилизацию? – ин-тересуется Вадим.
- Конечно. Я на этот год уже выписал сто двадцать тонн азо-та и фосфора. Да не прислали. Такой почин! А раскрутить всё никак не удаётся...
Мелкие редкие волны медленно движутся по поверхности Пекульнея. Озеро почти замерло.
- Откуда ты знаешь, что у канадцев на Ванкувере опыт удал-ся? – спрашивает Вадим.
- Я у ребят в Магадане перевод статьи читал... Да что в Ка-наде! У нас на Камчатке в три озера: Мак-Мак, Чистое и Очен уже внесли удобрения. В одном даже гидрохимические анализы начали, да вулкан сыпанул, всё озеро пеплом накрыл.
У Вадима глаза непроницаемой темноты. Два месяца я с ним скитаюсь по Чукотке, а всё никак не привыкну ни к выражению его лица, ни к интонациям речи. Чего он хочет? К чему стремит-ся? Почему, написав превосходную диссертацию, служит в кро-
105
шечном музее Дарвина экскурсоводом? Знает он, чувствуется, очень много, но всё больше молчит, лишь изредка бросает реп-лики, обращаясь то ли к самому себе, то ли к невидимому нам, простым смертным, собеседнику. Вопросы его произносятся как бы сами собой. По инерции.
- Допустим, опыт окажется удачным. Биомасса в озере уве-личится в десять раз. Через два года серебрянки (нерки-двухлетки) выйдут в море и уничтожат в определённом ареале запасы пищи других ценных пород рыб. Может такое быть?
Маркин нахмурился, видно, про море он ещё не думал. Про-бурчал:
- Не знаю, – затем наклонился к рулю и резко поддал газу. Мотор взревел. Дискуссия закончилась. Возможно, она была неуместна в присутствии Пекульнея.
Кусок вывернутой наизнанку тундры. Грязюка – в сапогах не проползёшь: трактора наработали... Среди хлама, деревянных домишек, труб и коричневых луж торчит буровая. За ней пуза-тый барак «Пентагон», обиталище работяг-буровиков. Аристо-краты-геологи, электро- и газокаратажники живут в отдельных домиках.
Тёмно-бурая плешина вертолётной площадки. Вот наш трамплин и зыбкое основание присутствия на буровой. Впрочем, это мои проблемы: я вечно доказываю кому-то своё право на существование.
Вадим стрельнул у мужиков сигарету, спросил, где море, и ушёл в туман. Будто к себе домой. Без ружья, без спичек, без ножа.
На пригорке из тумана высунулась его голова в брезентовом капюшоне, качнулась пару раз в разрыве серой пелены и вновь затонула. Тюленей пошёл смотреть. Каждое лето Вадим в экспе-диции. Нанимается рабочим-подсобником или лаборантом к бо-таникам, орнитологам, антропологам, геодезистам. Они делают своё дело, а он – их и своё. По старинке, одиноким Паганелем, изучает фауну севера и воздействие на неё человека.
Говорят, некоторые люди страдают комплексом Джордано Бруно: хочется взять и взойти на костёр – за идею и мечту. Ва-дим не боится риска или очень по-особому понимает его. Его слова: «Люди могут причинить зло, а тундра или зверь – нико-гда. Только не делай глупостей и подлостей». Идея у него есть,
106
а вот мечта... Я не очень понимаю смысл его многокилометро-вых прогулок по тундре... И потому хожу за ним.
Дошли до берега моря. Евражки, чавкающая топь, безвкус-ная вязь тёмной ягоды шикши остались позади. Здесь иной мир. Иные запахи и миражи. Длинная песчаная полоса пляжа, грани-ца между морем и тундрой.
Здесь тебя настигают географические галлюцинации. Из ту-мана пунктирными линиями высовываются меридианы. Округ-лость земли выпирает из-под ног. Скользишь, расползается пе-сок под подошвами. Лишь бы тяготение удержало, а то сорвешь-ся и поминай как звали. Кто в космосе тебя будет ловить и воз-вращать?.. Балансируешь и вжимаешься в землю.
Тихий океан и ты – точкой на его берегу. В глубине суши сам себе кажешься больше и плотнее, а здесь географическая опреде-лённость давит на психику. Карта и пейзаж совмещаются. Стоишь нос к носу с мысом Наварин. Сам себя кнопкой к карте пришпилил.
Бредём на север. Молчим. Метрах в сорока от берега всплыл кит, громко вздохнул, обдав нас тяжёлым запахом дыхания.
Вновь тишина. Лишь шум Берингова моря и неожиданно резкий звук наших шагов по песку. Ни ветра, ни чаек.
Кости. Обглоданные медведем, ещё не отшлифованные до-ждём и ветром. Кости моржа. Целый остов...
Туман смешивается с постепенно сгущающейся темнотой. Пора назад.
...Прыгаем с кочки на кочку, пружиним на мху, в низинах бредём по воде. Час, наверное, уже идём. Буровой не видно. Пе-реходим один за другим два ручья вброд. Вода выше колен, а мы не в болотниках. К морю шли – таких ручьёв не попадалось. И шикши здесь гораздо больше.
Вадим стал прихрамывать: каждое лето обострение застаре-лой болезни. Распухают ноги, кожа со ступней отваливается кусками, а лечиться всё недосуг – экспедиции. Темп он явно сбавил. Впрочем, в каком направлении спешить – непонятно.
Наконец, наткнулись на наезженную тракторную колею. Шлёпаем по ней. Кроме, как на буровую, ей вести некуда. Толь-ко буровая всё не показывается. Молчим, но каждому ясно – за-блудились.
Гряда невысоких сопок преграждает нам путь. Подымаемся. Туман остался за водоразделом. В сумраке льдисто поблёскивает
107
огромное озеро. Трехвершинная заснеженная сопка мрачно вздымается среди тёмной тихой воды. Куда мы попали? Это не Пекульней. Совсем к чёрту на кулички забрались.
- Вернёмся к морю, – говорит Вадим. Он прав, море теперь у нас единственный ориентир. Колею
бросили. Прочёсываем тундру. Вдруг буровая, ведь не иголка же, вынырнет из тумана... Из тумана вынырнул тихий равномер-ный гул: работал дизель.
На вертолётной площадке встретили двоих бурильщиков с ружьями. Минут за пять до нашего возвращения сюда медведь подходил. Вадим пожал плечами:
- Что ж, бывает. - А бывает – костей не оставляет, – вдруг в ответ прозвучал
несмешливый голос круглолицего парня с пшеничными усами. Я почувствовал себя нашкодившим школьником, а Вадим
и ухом не повёл. Сел на завалинку под лампой, достал книжку о мифологии палеоазиатских народов... Круглолицый оказался нашим соседом по кубрику. Звали его Саней Беспаловым, на буровой он числился кочегаром. Разговаривать с нами Саня не стал. Исчез в темноте, а через пять минут вернулся увешан-ный едой, как сказочный Дед Мороз – подарками.
На буровой мы проводили лето. Наступил сентябрь, нача-лись штормы. Через узкую горловину и длинную протоку, кото-рую почему-то зовут рекой, океан нагонял дикую, чужую воду в Пекульнейское озеро.
Маркин беспокоился за икру и будущих мальков. Долгую зиму им предстояло провести в одиночестве, без присмотра. Зимние обследования Охотрыбвод здесь не осуществляет. А не мешало бы, считает Женька, давно пора изучить границы про-мерзаемости нерестилищ.
Вадим совершил свой непонятный поход и затих. Залёг на кой-ку и почти не вставал. Он ходил и лежал одинаково упорно. Жень-ка хлопотал, искал дело. Лазил на буровую: кинокамерой виды снимал. Раздобыл инструменты и мастерил какое-то приспособле-ние для моторки. Пару раз смотался на ихтиологическую станцию. Когда в субботу буровой мастер и несколько мужиков поехали на тракторах в Майнопыльгино, посёлок в тридцати километрах от буровой, мы с Маркиным к ним присоединились: сплошная облач-ность, дождь накрапывает – вертолёта можно не ждать.
108
Суббота – единственный день в неделе, когда без специаль-ного разрешения поссовета в посёлке продают спиртное. В мага-зине народ гудит нетерпением. Бутылку водки или две бутылки бормотухи в одни руки. Больше не дают. Светлоглазый человек в морской фуражке со снисходительным осуждением смотрел на жаждущих. Разговорились. Начальник Майнопыльгинской рыб-базы Геннадий Константинович Ефремов охотно рассказывал о проблемах посёлка и своего рыбного хозяйства.
- Пьют много. Работа тяжёлая, а после неё и деть себя неку-да. Ничего, вот скоро телевидение до нас дойдёт, культуры больше будет... Как сам? Да ничего, привык уже, я четвертый год здесь командую.
По серой скользкой гальке, мимо баржи, когда-то самоход-ной, а теперь застывшей у берега, мы шли во владения Ефремова.
- Раньше плавал... - Надоело море, на сушу потянуло? - Да нет, так получилось. Это выражение я уже слышал. На Чукотке много людей со
сложной судьбой. «Так получилось», что жизнь сорвала с места и погнала, погнала... Лишь на самом краю света цепляется чело-век за почву и останавливается. Дальше идти некуда.
Рыббаза – большой деревянный сарай. Тихий и безлюдный. Путина закончилась, рыба уложена в чаны для соления. Лишь в одном цехе три женщины завершают обработку красной икры. Я пытаюсь представить, что творилось здесь недели три тому назад: надо поставить утомлённых жизнью бичей к длинным столам для разделки рыбы, вооружить их острейшими ножами и заставить работать в темпе чаплинских «Новых времен». Основ-ной контингент работников Ефремову присылает Магаданрыб-пром: человек пятнадцать на разделку и мойку. Пять-шесть че-ловек даёт совхоз. С местными легче, они сноровистее в работе, жильём их не надо обеспечивать, да и народ в общем-то по-смирнее, чем вербованные бичи.
- Работники у меня, сам понимаешь, – контора свободный труд, – грустно повествует Геннадий Константинович. – У одного семьдесят профессий в трудовой книжке записано, у другого – пятая трудовая книжка, у третьего её вообще нет. Ставишь их на разделку, даёшь нож и думаешь, ну, Господи, помоги и спаси, чтобы себя не порезали, а главное – друг другу кровь не пусти-
109
ли... Да... Вот если б зимний лов наладить, мы бы от сезонников и сезонности избавились. Техника нужна, свои вездеходы, буры. Зимой хорошая рыба идёт – корюшка, сиг, ряпушка, чир. С тех-никой можно не только из Пекульнея брать. И так в нём стадо мельчает. На других бы озёрах лов наладили: на Ваамочке, Кай-пыльгино, Ильмейских. В Ильмейских – отличный чир, в Кай-пыльгине – сельдь. Но это всё проекты. Пока вот наш основной фронт... – Ефремов взял со стола разделочный нож, показал мне, затем с чуть заметной досадой положил его обратно.
- Технологический процесс осуществляется у нас в основ-ном вручную. Самые сложные операции делаю сам, жена и те две женщины, которых вы видели. Я здесь и за бондаря, и за мастера компрессорного цеха.
Проходим мимо огромных чанов, в которых под тузлуком – соляным раствором – томится рыба, мимо большой холодильной камеры...
Самый светлый и чистый цех – икряной. - Восемьдесят рублей золотом за килограмм икры нам нем-
цы платят, – гордо сказал Ефремов, и я невольно вспомнил его прозвище «Берлин». Так его бичи окрестили. – Доход мы боль-шой даём, а можем ещё больше. Молоки выбрасываем, а их надо морозить и продавать за то же золото. За границей они сейчас почти как икра ценятся. Вообще, при обработке много теряется: сердце, печень, внутренности. Пристройку бы сделать, у меня и смета есть на шесть тысяч; установить мясорубку, добавлять соль... Получали бы ежегодно отличную подкормку для скота. Да вот совхоз людей не даёт, а бичи мои строить отказались. Мол, мы на рыбу приехали, а топором махать дураков нет. Ни-чего, наладится со временем, – оптимистично завершил свой рассказ Геннадий Константинович.
На обратном пути я поведал Маркину о своём новом знако-мом. Вот, дескать, ещё деловой человек, объедините свои уси-лия, ведь одно дело делаете, оба Пекульнеем живёте.
Женька только рукой махнул: - С Берлином дело иметь? Да ни за что. – И начал мне пле-
сти про долгую склоку между директором совхоза и начальни-ком рыббазы. Я невольно вспомнил о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Затем не выдержал, спросил:
110
- Но сарай-то надо построить для мясорубки? Ведь человек из бросового сырья предлагает полезный продукт получать! Можно сказать, делать деньги из ничего...
Тут Женька начал мне травить про атлантическую флоти-лию, которую собираются перевести на Тихий океан. Будет, мол, налажена переработка и молок, и сердец на промышленной ос-нове. Плавучие фабрики, цивилизации и прогресс... Так мы с ним и беседовали: я ему про сарай, а он мне про флотилию.
Семнадцатый день нет вертолёта. Мы выпали из дела и из времени. Вынужденно отдыхающие, праздношатающиеся и сво-бодно лежащие пассажиры. «Пентагон», кубрик, койка. Три раза в день пища в соседнем бараке. Столько дней бездельничать, а куда денешься? Наиболее философски к ситуации относится Саня Беспалов. Он тоже ждёт вертолёта. Кочегару летом на бу-ровой делать нечего, но трудодни идут. Каждое утро медлитель-ный Саня привстает с койки, раскрывает свой личный вахтен-ный журнал, ставит закорючку и вновь укладывается, рабочий день начался.
- Был у нас тут помбур Гаритуллин, – раздаётся мягкий Санькин баритон. – Всё приговаривал: голубые джинсы, синие «Жигули»... Кусков тридцать мужик заколотил. И на джинсы, и на «Жигули» уже хватало, нет, все тянул... Так повязала его наша повариха Мироеда Квазимодовна – Мира Сигизмундовна по паспорту, – женила на себе и увезла в Белоруссию картошку копать и свиней выращивать.
- А что, чем плохо? – спрашивает наивный Маркин. Санька фыркает и отворачивается, не понимает рыбинспек-
тор красивой жизни. Но Женька уже завёлся. Это у него просто, с полоборота, и получай монолог на тему о смысле жизни.
- Так у них же любовь была? - Угу, любовь. Мироеда на десять лет старше его... А он пол-
года из тундры не вылезал. Забыл, как и баба-то пахнет, тут зна-ешь, какая любовь начинается. Вот у моего напарника, – Санька кивнул на койку, которую теперь занимал Вадим, – тоже, ска-жешь, любовь была? Притащил из посёлка чукчанку, поселил её в кочегарке. Не здесь же ей жить. Старых ватников набросал в угол и жратву ей туда таскал. Повариха чукчу в столовую ни в жисть не пустит. Полтора месяца любовь крутил, а потом выгнал...
- Сволочь он, твой напарник, – только и ответил Маркин.
111
- Ну, ты тоже не святой... – огрызнулся Санька, но продол-жать не стал. Зачем ему с рыбинспектором ссориться? А под-кузьмить его хотелось, ой, как хотелось.
Беспалов – родом кубанский казак. У него под Новороссий-ском дом, десяток баранов, сотня-другая индюшек, куры, сад... На Чукотке Саня тоже уже порядком врос в почву. Перебрался сюда не один, а с женой, братом, тёщей и дюжиной других род-ственников. Саня твёрдо знает, что ему в этой жизни надо, по-тому говорит солидно и не спеша. Ему спешить некуда. Санька, убеждённый браконьер и добытчик, возводит здание собствен-ного благополучия, проматывая ровно столько, чтобы не пропал вкус к жизни, а добро продолжало откладываться, росло семей-ное имущество... Узнав, что кто-то купил у чукчанки пыжик за двадцать рублей, схватился за голову:
- Пузырёк одеколона ей в зубы – и пусть сто раз спасибо скажет. Двадцать рублей. С ума сойти.
Так мне говорил Санька вечером, а ночью на буровой про-изошёл сильный выброс газа. Фонтан подожгли, пламя рвалось в небо и грозило бедой. Буровые, бывает, красиво горят. Хотя ко-чегара никто не звал, он натянул свои галоши-скороходы и по-шлёпал на буровую. Медлительность исчезла, движения стали точными и уверенными. Была опасность, и сильные, ловкие руки Саньки могли пригодиться.
- Зачем пошёл? – потом, когда всё кончится, пламя потушат, укроют «квадратом», спрошу я Саню.
- А помбуры – салаги, – отмахнётся он. Пёстрая у кочегара мораль.
К Саньке в комнату часто заходят свободные от работы му-жики. Заходят просто так, отдохнуть после вахты, поговорить о домашних делах, о бабах и политике. Санька во всём знает толк, к его мнению даже буровой мастер прислушивается. Лишь непокорный Маркин всегда гнёт свою линию! Вот и нападает на него кочегар.
- Ты мне всё-таки скажи, – в который раз пристаёт он к Маркину, – ну, что ты нас гоняешь? Десяток рыбин тебе жалко?
- Покупай лицензию и лови, – с назиданием в голосе отвеча-ет Маркин.
- Лицензии твои в Шахтёрском и Анадыре, а здесь – какие лицензии?
112
- И здесь будут. А вас не ловить, не штрафовать – мигом Пекульней без рыбы останется.
- Да ты скорее своей «хвертилизацией» оставишь, – обидел-ся Саня. – Перетравишь химией всё озеро, и нерку угробишь, и остальной рыбе конец придёт. – Он уже наслышан про мар-кинскую идею.
По-мужицки недоверчиво относится Саня к проектам обла-годетельствовать всё человечество единым махом, с сегодня на завтра. Считает Беспалов, что сейнерами, неводами и вообще большой государственной сетью ловить надо не то, чтобы по-меньше, а поразумней. А то навалятся давай-давай, план огром-ный, а его ещё с жару, с дуру перевыполнят, к тому же. Через год, смотришь, кончилась рыбка нототения, как и не было такой. А то везде лежала, даже на Чукотку завозили. Бывалый человек Саня Беспалов, много видел, много слышал. Из пришлого наро-да на Чукотке все не лыком шиты. Недаром весь Союз с запада на восток и с востока на запад не раз проехали.
Саньку поддерживает Вадим. Спор как на озере завязался, так до сих пор развязаться не может.
- Спешишь ты, Маркин. Неужели эксперимент надо сразу на таком озере проводить? Почти пятьсот квадратных километров? С Аральским морем вот так же поспешили. Переселили севрюгу. Будущий гигантский улов уже подсчитывать начали. Да не про-шёл номер. Мальков выпустили, а с ними и особого паразита, какого в Арале никогда не бывало. Севрюга не больно прижи-лась, а вот местному шипу, рыбе ценной и хорошей, плохо при-шлось. Управился с шипом севрюжий паразит. А ведь всё было сделано из лучших побуждений.
- Ну, что ты сравниваешь? – вскипает Маркин. – Тут дело верное, а там... Там – не знаю, как они так напортачили. Всё-таки я не понимаю, против чего ты возражаешь? Ты же учёный человек. А тут арифметика! Вносишь суперфосфат, нитраты, и в планктоне число бактерий и всяких там сине-зелёных увеличи-вается в десять раз. Да, вспомнил: в Атлантике, где-то недалеко от Англии, распылили удобрения на два гектара моря – так плотность фитопланктона знаешь как подскочила?
- Читал, – как всегда равнодушно роняет Вадим. – Есть та-кая переводная книжка «Биосфера и место в ней человека». Ав-тор Дювиньо, кажется...
113
- Да не читал я её, – перебил Маркин. – Я об этом от наших
парней в Магадане слышал. – Он правду рассказывал, как на са-
мом деле было, а ему всё про книжки толкуют.
Поделился с людьми мечтой. Думал, поймут. Поверят, что
можно взять, поднатужиться, раз, и сделать жизнь прекрасной.
А они, как вороны, накинулись. Это не так, то не так, там про-
верь, здесь просчитай... Хороший человек Женя Маркин, вот
только никак в толк не возьмёт, что в хозяйственных делах меч-
та, не подкреплённая строгим расчётом и всесторонним науч-
ным анализом, обязательно обернётся крахом. Вроде всё мелочи.
Как-то не успели или забыли объяснить рязанскому парню
Женьке Маркину, что за красивым словом «ихтиолог» скрывает-
ся не романтика, а научные знания. Много сил и энергии затра-
чивает человек, и нехорошо становится на душе, как подумаешь,
что во зло может обернуться столь кипучая деятельность. Но
ведь без кипения тоже никуда. Без мечты знания – лишь эрудит-
ский набор для кроссвордов, пища для унылого скепсиса.
Разговор прервался. Ввиду установившейся тишины несвяз-
но бормотавший в углу радиоприемник обрёл дикцию. Тёплый
дачный голос с большим знанием дела объяснял, в какое время
лучше всего у клубники подрезать усы. Магадан ретранслировал
московскую передачу: советы садоводу-любителю.
Делать нечего. Сеет дождь. Анекдоты все рассказаны, байки
про бичей и про охоту надоели, вот и тянется учёный спор, то
затухает, то опять разгорается. Будто время от времени подлива-
ет кто бензина в тлеющие угли. Может быть, это вода пекуль-
нейская докатывается до нашего кубрика и воспламеняет стра-
сти...
Чёрт его знает, сколько там воды за стеной барака и где она.
Пятый день идёт дождь. Может, суши-то и осталось всего ост-
ровок вокруг буровой, а мы тут – суперфосфат, нитрат, биосфе-
ра...
Слова жаркого спора повисели в воздухе и забылись, а жаль.
Жаль, что доводы Маркина, Вадима, Саньки ушли бесследно,
растворились в прокуренном воздухе нашего обиталища. Могли
бы они пойти в дело.
Общее дело, которое касается всех: и Саньки, и Вадима,
и меня – пытается осилить один Маркин. Он – представитель
114
государства, ему вроде бы и карты в руки. Но нет патента на ис-
тину ни у какого представителя. Лишь частицы её живут в каж-
дом из нас. Перетопить бы, переплавить наши личные, частные
правды в общем котле споров, чтобы родилась нужная нам всем,
впитавшая опыт и пот каждого истина. Без этой высшей, стоя-
щей над нами истины мы все будто недотёпы, ни себя, ни друг
друга не понимаем, и реки текут не туда, и пашни не родят. Вот
и с этим озером может произойти неладное.
Часто так бывает: решения всех проблем ждут от государст-
ва, оно, мол, обережёт и сохранит. Но государство – тоже люди.
Прежде всего, люди. Обученные и недоученные, добрые и злые,
великодушные и своекорыстные. Чтобы они были только доб-
рыми, великодушными и умными, мы должны им помогать. Мы
все. Бурильщики, кочегары, чукчи, русские, татары... Но есть и
особая ответственность. Ответственность интеллигенции, той
большой группы людей, которым народ предоставил возмож-
ность получить образование. Нам, интеллигентам, легче, чем
кому бы то ни было, разобраться в проблемах озёр и нереста
нерки, экологического баланса и рационального планирования.
Наше образование дорого стоит, но ещё дороже стоит наше мол-
чание, наше нежелание вмешиваться в борьбу, нежелание от-
стаивать наше учёное мнение. С цифрами и фактами в руках
Маркина можно убедить не пороть горячку, не проводить непод-
готовленный, непродуманный эксперимент. Начни серьёзное,
крутое дело – и к тебе сам придёт Саня Беспалов, не пропащий
ведь он мужик, не его мораль: гори всё синим пламенем, моя
хата с краю. Ключи от больших и малых проблем у Вадима, и от
него зависит: уйти в пустыню скепсиса и эрудитства или пойти
по пути истинного научного поиска и подвижничества.
Так получилось, что у озера мы прожили почти месяц. Лишь
тринадцатого сентября прилетел вертолёт. Санька погрузил два
увесистых персональных ящика, мы закинули свои рюкзаки, на
мачте «Пентагона» прощально прополоскался выцветший флаг,
и земля поплыла в сторону. Мы развернулись над озером и по-
летели. С вышины Пекульней казался беззащитным.
115
Туман заглотнул посёлок, сопки, тундру, лагуну. Даже шум океана растворился в тумане, стал тише. Одежда отсырела, кожа на лице съёжилась.
Ветер нагнал на отмель жёлтую пену – в хлопьях тихоокеан-ской накипи разбитые деревянные ящики, останки насквозь про-ржавевшего баркаса, искорёженные железные бочки. Санька Тегререт подходит к затерявшемуся среди природного хаоса и цивилизованной свалки «Прогрессу». Толкает его ногой. Пена налипает на сапоги. «Не придёт начальник, – со смутной надеж-дой думает Санька, – ещё день дома...»
Но из-за сараев, в которых прячутся от непогоды лодки, вы-нырнула маленькая фигурка Корчагина. В совхозе он замдирек-тора по хозяйственной части. Человек обязательный. Вот и сей-час пришёл вовремя. Быстро спускают лодку на воду. Мотор прочихивается, получает свой бензиновый паёк. И погнали...
«Прогресс» буравит неподатливую тёмную воду Хатырки. Река Хатырка, посёлок Хатырка, и почему это слово так приле-пилось к самому краю географической карты? Хатырка, Берин-гово море. Тихий океан, а дальше белая полоса полей.
Лодка идёт быстро. Время от времени Корчагин привстаёт, проверяет, не потерял ли он фарватер. Подул ветер, в тумане появились разрывы.
Санька нахохлился. В его голове ворочаются дезертирские мысли: «Вот если сейчас лодка со всего маху наскочит на мель, а в борт ей ударит волна, она – точняк – перевернётся. “Прогресс” вытащим, просушим у костра. А потом? Корчагин, наверное, всё равно поедет в пионерлагерь и в бригаду. Только зря продукты для мальцов подмочим. Нет, лучше не перевора-чиваться. Да и не перевернётся этот проклятый “Прогресс”. Ус-тойчивый».
Ещё один крутой вираж. Остров. А вот уже видна и рыбал-ка. Сети, старая, перевёрнутая кверху днищем лодка, вешала для вяления рыбы. Стада не видно. Неужели ушли?
В балке – маленьком домике, где всё пространство занима-ют стол и нары, – пусто.
ТЕГРЕРЕТ И ДРУГИЕ...
116
Понятно, бригада не может долго задерживаться на одном месте. Не перегонишь оленей вовремя на новое пастбище, они быстро съедят всю растительность, и несколько лет тундра будет стоять голой.
Все это так, но Саньке-то куда деваться? Вчерашний школь-ник, он отработал в оленеводческой бригаде чуть больше меся-ца. Воспользовавшись тем, что стадо проходило недалеко от по-сёлка, отпросился на пару дней домой. Все сроки возвращения давно прошли. В посёлке Саньке делать нечего. Вплоть до нояб-ря – когда забой оленей, он должен находиться при стаде.
Истины все простые, и сомнению их не подвергают ни начи-нающий оленевод Санька Тегререт, ни молодой замдиректора Александр Корчагин. Страшно вот только идти одному в тундру вдогонку за бригадой. Но эмоции – дело личное. Страх – на-столько неуважительная причина, что и упоминать это слово вслух на Чукотке не принято. И уж тем более чукче-оленеводу. Даже если оленеводу едва исполнилось семнадцать и тундры он по-настоящему ещё и не нюхал.
Корчагин завозит продукты в совхозный пионерлагерь у из-лучины реки и пока хватает бензина в одном из баков (второй на обратный путь) подымается вверх по Хатырке. Дальше Санька пойдёт один.
Тундра гасит звуки. Нога уходит в мох, в переплетение тра-винок бесшумно. Вода окатывает холодом щиколотки, а то и колени. Опасность подкрадывается неслышно. Она неощутима, но неотступна, как вечная мерзлота, скрытая совсем неглубоко у тебя под ногами.
Корчагин завёл мотор, и два человека разошлись, каждый по своим делам.
Рано или поздно оленевод обязательно оказывается с тунд-рой вот так, один на один. Туман или пурга могут отрезать от товарищей по бригаде, и расстояние в километр, в пятьсот, даже в сто метров превращается в пропасть, один край которой озна-чает для тебя жизнь, а другой – смерть. Сумеешь преодолеть пропасть, найти в себе силы, о которых ты раньше и не подозре-вал, – вернёшься в ярангу
1. Запаникуешь, заплутаешь – одним
меньше.
1 Яранга – переносное жилище из оленьих шкур.
117
Долгое время на Чукотке люди, олени, волки, гуси жили единой семьёй. Царствовал простой принцип – выжить и оста-вить потомство. Чукча рождался в тундре, рос в яранге, с дет-ских лет ходил за оленями. В тундру не надо было приходить. Она составляла всё содержание жизни. Бросать чаат (аркан), снимать шкуру с оленя, выделывать пыжик, ставить ярангу, шить торбаса
1 специально не учились. Профессиональное уме-
ние тогда было просто умением жить. С тех пор многое изменилось. Рождаются чукчи теперь чаще
всего в посёлках под присмотром врачей. Ходят в ясли, сад, затем в школу. В хатырском интернате спортзал со шведскими стенка-ми и кольцами для баскетбола, уроки английского языка и алгеб-ры, чистые простыни и компот на обед. Не роскошь, скромный интернатский быт, обычные школьные занятия. Уроки, перемены, домашние задания и просто отдых. Жизнь как у всех, как в филь-мах, что крутят в клубе. Есть связь с материком, иногда два раза в месяц прилетает вертолёт из райцентра. В Беринговском поси-дишь неделю, две, зимой иногда и месяц и попадёшь в Анадырь, а оттуда уже до Москвы рукой подать. Основное средство пере-движения теперь в тундре не олени, не собачья упряжка, а везде-ход. И всё же тундра остаётся тундрой. И непросто выдержать её, сжиться с ней после того, как все детские годы тебя окружал ци-вилизованный мир. Стать оленеводом – это не просто выбрать тяжёлую и опасную профессию. Это значит выбрать судьбу, судьбу человека на перепутье: год ты – тундровый кочевник, ме-сяц отпуска – современник эпохи НТР.
От первобытно-общинного строя в социализм гигантский скачок. За шестьдесят шесть лет всё изменилось на Чукотке. Иные люди, иная культура, техника. В бригадах – рация, везде-ход, суп из пакетиков. Только тундра не поддалась, осталась прежней. Первобытной. И по-прежнему сложные у неё отноше-ния с человеком. А посёлки, форпосты наступления цивилиза-ции на тундру, решая одни проблемы, создают новые.
Хатырка на крайнем юго-востоке Чукотки – один из таких форпостов. Тундра спускается с пологих сопок и подступает сю-да с севера, запада и юга. Лишь на востоке лиман, отделённый узкой галечной косой от неспокойного Берингова моря. В посёл-
1 Торбаса – сапоги из оленьих шкур.
118
ке можно увидеть «гордый вызов суровому краю», как пишут местные газеты, а можно грязное пятно на прекрасном лике при-роды. Всё зависит от точки зрения.
Цивилизация отвоевала для себя этот маленький островок, где люди отгородились от тундры оштукатуренными стенами, паровым отоплением и запасом продуктов, привезённых с мате-рика. Посёлок возник всего лет тридцать тому назад. Создали колхоз, вслед за ним, точнее из него, вырос и посёлок.
Колхоз у чукчей Хатырки складывался долго и трудно. В соро-ковые годы в общественном пользовании находилось оленей две-сти, не больше. Люди кочевали по тундре семьями и особого смыс-ла в объединении не видели. Коллективное начало было гораздо сильнее в морском зверобойном промысле. Каждая байдара – гото-вая бригада. Энтузиасты колхозного дела ухватились за эту идею. В сорок седьмом году сшили из моржовых шкур лодку, стали ос-ваивать охоту на морского зверя. Южные чукчи испокон веков пасли оленей и в море не выходили в отличие от эскимосов и своих северных собратьев, которых так и звали «береговые чукчи».
Лет десять существовала в Хатырке морзверобойная брига-да, уходили в море на 80–100 километров, били моржа, ларгу, лахтака – это разные виды нерпы. Не стояло на месте и олене-водство. Уже в 1950 году у колхоза было четыре стада оленей, по восемьсот в каждом. Председателем колхоза, его настоящим хозяином стал тогда мудрый и уважаемый человек – Константин Аверьянович Релькеу. Время правления Релькеу для стариков-чукчей теперь всё равно что легенда о золотом веке для древних греков. Он был дотошным человеком. На оленях или пешком добирался в бригады. Вездеходов в колхозе не было. Сам пред-седатель просчитывал стада, следил за правильностью выбра-ковки. В посёлке при нём тоже был порядок. Бездельников Рель-кеу терпеть не мог и спуску им не давал. Завёл звероферму, что-бы и женщинам, и мужчинам в межсезонье было дело. В путину все как один выходили на рыборазделку.
Богател колхоз, набирал силу. Но умер Релькеу, и молодой колхоз стал захлёстывать излишний хозяйственный энтузиазм. Слишком уж энергично взялись за моржа и лахтака. Повыбили их. Не помогали походы и за сто километров. Купили новые де-ревянные вельботы с мощными моторами, собирались заменить вёсельную байдару, да так они и не пригодились. По сей день
119
лежат на берегу лимана, уткнувшись в галечник, грустным па-мятником былым прожектам.
Колхоз стал совхозом, но на это преобразование мало кто обратил внимание. Заметили хатырчане другое. Год–два – и но-вое начальство, смотришь, заседает в доме правления. В брига-дах оленеводы шутили: присылайте хоть фотокарточку нового директора, а то сменят – так и не узнаем, кто нами руководил. Действительно, директора в Хатырке не задерживались.
Посёлок притягивает к себе людей. А производства, реаль-ного дела в нём, считай, что и нет. Посёлок важен не сам по се-бе: он существует из-за девяти десятков оленеводов, берегущих двадцать пять тысяч оленей, главное богатство этой земли.
Тундрой измеряются здесь люди. Там все точки отсчёта, там главное совхозное, мужское и человеческое дело. В Хатырку оленеводы приезжают отдохнуть или подлечиться. Они здесь гости. И подобно гостям немного смущаются, если их присутст-вие в посёлке затягивается. Но где же дом у оленевода?
Санька Тегререт не ответил мне, только недоуменно пожал плечами; этот же вопрос я задаю другому «гостю» из тундры. Миша Эвныто, 18 лет, после школы год отходил пастухом. С прошлого лета в посёлке первый раз.
- Дом? Там, где бригада. - А здесь? Задумался. - Здесь мать, сестра... И тут тоже. Поглядывает искоса, пытается угадать, правильно ли ответил. Мы сидим на крыльце совхозной столовой: Миша Эвныто и
его друг – Паша Нутевъентын. Наш разговор то замирает, то снова чуть разгорается.
- Миша, много тебе пришлось учиться, когда пришёл в бри-гаду?
- Ну. На Чукотке говорят не «да», а «ну», упрямое такое, настой-
чивое «ну», будто упряжку понукают. - А чему именно? - За оленями ходить. - А что означает «ходить за оленями»? - Ну, делать всё, что надо. - Ясно. Трудно было? - Ну, так, – и смеётся.
120
Чукчи вообще часто смеются, и не всегда догадаешься, что за их смехом.
Нутевъентын два года отходил оленеводом. Я на него по-сматриваю с особой надеждой, но он молчит. Будто заснул или оцепенел. Плохо дело, если человек долго пребывает в таком состоянии. Позже я узнал, что, вернувшись из тундры, Паша об-ратился к совхозному начальству с просьбой послать его учиться в институт. Дирекция схватилась за голову.
- Да ты что, Паша, ты же десятилетку закончил еле-еле. Ка-кой институт?
Несколько дней поупрямился Пашка, потом сдал позиции: ну, не в институт, так хотя бы в Провиденское училище. Новая задача начальству. Совхоз задыхается, не хватает оленеводов, а парень просится учиться на вездеходчика. Всем и самому Пашке ясно – учиться ему всё равно на кого и где, лишь бы не возвращаться в тундру. Вот и тянет дирекция с выдачей ха-рактеристики, надеется, может, одумается Пашка. Пока же Ну-тевъентын работает подсобником в совхозе. Топит баню, убира-ет помойки. Нужные это всё занятия. Только не его, не Пашкино это дело. Может быть, потому, что не его, и получается баня хо-лодной, а мусора в Хатырке не убавляется.
Даже в клубе Пашка будто лишний. Сидит в сторонке, как старичок, не танцует, его никто не приглашает, и сам он ни к кому не подходит. А пары кружатся, скользят в разгорячённом воздухе. Суббота – день праздника. Под смуглой кожей полыха-ет огонь азарта. Быстрее, быстрее ритм. «Держи меня, соломин-ка, держи!..» Хоть раз в неделю пусть внешний ритм сольётся с током крови в молодом теле. Медленность существования выво-дит из себя.
Ещё немного, и клуб взорвётся. Белый типовой домик с тру-дом вмещает столько энергии. Трудно дышать. Лёгкие в тоске бьются о тесные рёбра. Парни расступаются, в центре пляшут одни женщины и девчонки. Орлиный индейский нос и нечаянная голубизна глаз. Традиция долгой независимости дала открытый взгляд, а смоляные волосы – словно дар Ворона, героя чукот-ских сказок. Неспокойный дух отцов и мягкая женственность матерей. Бронзовые лица, отчеканенные студёным ветром.
Пашка всё сидит. Неприкаянный он, потерянный... Был такой обычай у чукчей: если заболевал человек или несчастья начинали
121
его преследовать, он менял имя и тем самым заводил себе нового духа-покровителя. Может быть, почувствовал Нутевъентын, что неладное с ним творится, поменял имя. Был Андреем, а теперь вот все зовут его Павлом. Да не помогло старинное поверье.
На исходе июль. Пора белых ночей близится к концу. Нерпа и кета уже прошли, сетки ставят в основном на горбушу. Накра-пывает дождь, но на берегу маячат фигурки наиболее упорных рыболовов. Когда проходишь мимо, здороваются. Старуха с та-туированным лицом улыбается и произносит несколько фраз. В ответ я лишь киваю головой и смущённо развожу руками. Кроме первого слова «етык», чукотского «здравствуй», я ничего не понимаю.
Ловят рыбу почти исключительно люди старшего поколе-ния. У молодёжи терпения, что ли, не хватает. Тяжко часами на-блюдать за сеткой, распутывать её, забираться в студёную воду. Терпение в работе, терпение жить не сразу приходят.
У устья ручья, впадающего в лагуну, встречаю фельдшера местной больницы Леонида Андреевича Рантувье. Ему около пятидесяти. Прекрасно говорит по-русски и по-чукотски. Выше на сопке у него стоит шалашик, рядом с которым тлеет костёр.
- Мать уху приготовила, – кивает Рантувье в сторону шалаша. Я рад приглашению. Его мать, с которой мы обмениваемся
только кратким «етык» и широкими улыбками, подаёт кружки и металлическую миску. Пока я ем, меня изучает огромный лох-матый пёс. Леонид Андреевич ловит рыбу только вечерами.
- Штук семь-восемь за вечер беру, мне больше не надо. – Про себя удивляюсь: как-никак у фельдшера десять детей.
- Есть люди из пришлых, – с грустью замечает он, – ловят сотнями. Вынимают икру, а рыбу бросают. На моторках, на вез-деходах ходят, помешать им трудно.
На протяжении столетий обитания в этом крае у чукчей сложилась своя этика отношений с суровой, но и очень хрупкой природой Приполярья. Они знают или интуитивно угадывают возможные нормы эксплуатации тундры, рек, моря.
- Богатая культура у чукчей, – я пытаюсь вызвать на разго-вор Леонида Андреевича.
Отношение к природе – ведь это тоже культура. Мудрость чукчей заключена не в толстых фолиантах, а в умении ловить рыбу, резать кость, охотиться в утлых байдарах на китов и мор-
122
жей. Выделанный чукотским способом пыжик лучше и мягче обработанного с помощью чудес современной химии.
Шипят угли крошечного костерка. Пламя дрожит, извивает-ся и всё же упорно подымается вверх. Из серой мороси выступа-ет коренастая фигура в брезентовом, военного образца дождеви-ке. Оленевод-наставник Иван Васильевич Кауныто. Кружки вновь наполняются чаем. Разговор возобновляется. Кауныто охотно отвечает на вопросы, не спешит, русские слова не поспе-вают за его мыслями. Фельдшер помогает, переводит, добавляет от себя. Вскоре их речь сливается для меня в единый рассказ.
И воспоминания о прошлом Хатырки, и раздумья о будущем бегут по кругу, чтобы замкнуться на одном и том же – вот умрут старики, кому останутся стада? Пятьдесят-шестьдесят лет луч-шим оленеводам, кто придёт им на смену? Молодёжь в оленево-ды идти не хочет. Если идёт, то, как говорится, в порядке дисци-плины, а не по своей охоте.
- С тундрой на одном языке говорить надо. А наши дети и нас, и тундру перестали понимать. Чужие они в тундре, – сетует Кауныто, – отдежурят своё, ложатся у костра и книжки читают. «Спидолу» слушают. О футболе говорят, об оленях нет. Оленя приучать к себе надо, любить его. Тогда он будет узнавать пас-туха, слушаться. Если всё время книжку читать, книжка тебя будет знать, оленю чужим останешься.
- Когда за оленями ходишь, нет у тебя свободного времени. Тундра не город: пришёл с работы и телевизор смотришь. – Вто-рит Рантувье...
- Двое из пастухов при стаде, двое отсыпаются, ночью сто-рожили. Остальным отдыхать некогда. Вперёд на сопки иди, смотри, нет ли волков. В августе-сентябре вдвоём стадо не удержишь, олень разбредается, грибами лакомится, ягодой. У молодых пастухов собак обученных мало, а без собак совсем трудно. Что говорить, плохо учит интернат трудиться. Вот и по-лучаются они у нас инкубаторские.
Сказали. И вдруг разом заулыбались: довольны, что точное слово нашли.
- Не может школа семью заменить. Учитель физкультуры чаат бросать не научит, зоотехник всех секретов ягельных мест не раскроет. Оленевода отец должен учить. Семья должна быть...
123
В яранге, где женщина есть, всегда теплее. А у нас? В бри-гадах часто восемь мужчин, одна женщина – так нельзя. Стари-кам тяжело, а что уж молодым... – веселые искры мелькнули в карих глазах Кауныто.
Высказал пришлому человеку то, что считал нужным, по-благодарил хозяев и исчез в пелене дождя.
Леонид Андреевич тоже встаёт. Рыба идёт в определённые часы, и чай распивать некогда. Лицо Рантувье меняется, стано-вится отрешённым, загадочная чукотская улыбка более не вол-нует его черты. В глазах застывают созерцательность и ожида-ние. Нить разговора обрывается. И если сейчас неосторожным словом я задержу Рантувье, он обязательно ответит (чукчи очень вежливы), но полностью уйдет в себя. Так темноглазая нерпа-ларга иногда выныривает совсем близко от берега. С дружелюб-ной усмешкой рассмотрит тебя, поведёт усами, а когда ты нач-нёшь суетиться, прилаживаться с фотоаппаратом, она неулови-мым движением соскользнёт в волну, будто её и не было.
Рантувье возвращается к своей сети, длинным четырёхмет-ровым шестом отправляет её в воду, затем пристраивается на-против на гладком валуне ждать. Ритм жизни здесь задаётся природой. Старики чукчи об этом не говорят и вряд ли это осоз-нают, они просто умеют жить в ладу с собой и со своей землей. Умеют подчиняться глубинной интуиции, которая долгое время передавалась из поколения в поколение. Настоящие люди – луо-раветланы, так когда-то очень давно чукчи называли себя.
Я иду по кромке берега, оставив Рантувье дожидаться: сего-дня горбуша зайдёт к нему в сеть...
Больница, поссовет, клуб, столовая, библиотека, дирекция совхоза. Хатырка – маленький посёлок, но учреждениями и удобствами не обижен. В квартире врача, куда меня временно поселили, стоит телефон, который исправно доносит по вечерам голоса московских друзей. Библиотеку здешнюю одобрил бы и заядлый столичный книгочей. На полках стоят «Игра в бисер» Г. Гессе и повести Хулио Кортасара, Ясунари Кавабата и «Бе-лый дом: президенты и политика» историка-международника из Института США и Канады Эдуарда Иваняна. На чукотском, правда, всего две книги: народные сказки и роман Рытхэу.
По будним дням центр общественной жизни посёлка – сто-ловая. Еда здесь сносная. Вот и стекается сюда почти всё хатыр-
124
ское население. Много женщин; коренастые, плотные чукчанки средних лет. Старухи с синими полосами родовой татуировки на лице. Симпатичные стройные девчушки-школьницы, среди них много метисок: мама – чукчанка, отец – русский из Ивановской области или украинец, или северокавказский джигит. На краси-вые имена папы не скупились, вот и выросли в тундре Розалия и Гульнара, Руслан и Элеонора...
Хатырское начальство обедает и завтракает тоже в столовой. Споры, начавшиеся на заседаниях рабочкома, завершаются здесь. Даже за столом у «главных» – экономиста, бухгалтера, инженера-механика – вид озабоченный. Особенно лихо прихо-дится директору. Любой совхоз – государство в государстве, и тем более затерянный в пространстве и даже во времени ха-тырский совхоз имени Жданова. Директору приходится зани-маться строительством и рыболовством, воспитанием и техни-кой безопасности, разбираться в некробакте-риозе – копытке, говоря по-местному, и в особенностях национальных отношений на Крайнем Севере. Пойди пойми, что творится в душе у нераз-говорчивого Корауге или пенсионера-наставника Чау-чау. А по-ка не поймёшь, как определить, кого назначить бригадиром, ко-му доверить людей и стада? Курс этнопсихологии ни в каких институтах не читают. Приходится полагаться только на при-родный ум и интуицию.
Люди – всегда главная проблема, за какой хозяйственный гуж ни ухватись. Но ведь есть ещё особо капризные на севере машины и тысячеголовый скот, который должен жиреть и раз-множаться, а он вместо этого слишком часто болеет и гибнет. За пять лет только один раз совхоз выполнил план по сдаче мяса. Хлопот хватает с 25 тысячами оленей, а тут ещё 12 буренок и неугомонный бык Борька.
- В этом году травы у нас нет. Все сенокосы занесло илом, – вводит меня в курс совхозных проблем Владимир Васильевич Петров, главный зоотехник и он же и.о. директора совхоза (ди-ректор Лиханов улетел в отпуск на материк). – Коров кормить нечем. Из Омской области должны получить комбикорм, а где сено взять, ума не приложу.
До поры до времени холмогорское стадо во главе со своим хулиганистым предводителем (Борька уже троих обитателей Хатырки порядком помял) бродит по помойкам посёлка. Чтобы
125
вялить рыбу, хатырчане вынуждены подвешивать её повыше над окнами и дверями, так как буренки не брезгуют и балыком.
- Зато с рыбой нынче у нас полный порядок, – продолжает Виктор Васильевич, – 15 тонн по плану, а мы взяли 25. Жаль, нет у нас в совхозе большого холодильника. И для рыбы, и для мяса нам нужен. К примеру, откладываем забой оленей до нояб-ря, ждём, когда мороз ударит, а самый вес у них в августе-сентябре. У нас вообще нет холодильников, да и в Беринговском их не хватает.
- Забой только в Беринговском производится? - Только там. И мы, и из Майны (Майнопильтыно – сосед-
ний посёлок километров в 150 к северу от Хатырки) – все туда гоняем. Теряем на этом, конечно. Как-никак 650 километров от нашей самой дальней бригады до Беринговского.
Петров говорит быстро, конкретно, проблемы не скрывает, но и не слишком откровенничает. Беседуя со мной, он не забы-вает о текущих делах. Обсуждает с председателем райсельхоз-управления бурятом Батьмой Бальжиевичем Даржиевым сроки просчёта оленей в бригадах, связывается по телефону с Сельхоз-техникой, которая безбожно затягивает поставку труб для ото-пления, успевает заметить краем глаза несмело просунувшуюся в дверь кудлатую голову юноши и спросить:
- Что, готов отправляться в тундру? Застенчивый молодой чукча, почти мальчик, заходит в ка-
бинет. В ответ на обращённый к нему вопрос он кивает головой, вздыхает, говорит:
- Да, – а в лице недоумение и... никакого энтузиазма. Но не-уверенное «да» решает дело. Тут же, в кабинете с деревянной обшивкой оно превращается в заявление о приёме на работу пастухом в пятую бригаду. Дверь за новоиспечённым оленево-дом закрывается, и я спрашиваю Петрова:
- Не хочет идти в тундру? Петров пожимает плечами: - Хочет – не хочет, идти надо. Оленеводов не хватает. Да и
нечего здесь болтаться, баклуши бить. – Жёсткий человек Пет-ров, жёсткий, энергичный, дело своё знает. Сила чувствуется в главном зоотехнике, завод на многие годы неуёмного труда.
Родом он из Иркутска. На Чукотке не новичок. Был в Про-виденском районе, теперь второй год в Хатырке. Есть у него за-
126
думка поехать поработать в Монголию. Интересно, да и деньги идут не хуже, чем на Чукотке...
Но есть ещё и нравственный аспект руководства людьми, он от некоторых начальников не то чтобы ускользает, а просто на-ходится вне поля их зрения. Как объяснить руководителю, что не может он быть временным. Олени не слушаются случайного пастуха, а мы хотим, чтобы люди отличались дисциплинирован-ностью, когда что ни год, ими командует другой человек. Власть можно получить быстро, моральное право на руководство людьми зарабатывается долго и трудно. Не ухватишь его на ле-ту, на полпути из Хатырки в Монголию.
На Чукотке такие люди не редкость. Боязнь риска не их недостаток. Посмотрел, повкалывал в Певеке, услышал, что в Провидении платят больше, да и охота лучше. Дождался окон-чания двухгодичного срока договора и полетел в Провидение. Рабочих рук, а тем более специалистов, везде не хватает. Два года отдал Провидению, смотришь – уже в Хатырку или в Бе-ринговский собирается. А тем временем хозяйство скрипит, как немазаная телега, хозяина просит. Устало оно от лихих конки-стадоров, джеклондоновских красавцев с мужественными складками у рта и авантюрным блеском в глазах. Разбавить бы их степенными, домовитыми мужиками...
В посёлке больше нечего делать. Я взбираюсь на корчагин-ский «Прогресс» и повторяю тот путь, что недавно проделал Санька Тегререт. Только подниматься по Хатырке приходится на несколько километров выше и на берегу нас ждёт вездеход, избавитель от томящих неизвестностью блужданий по тундре.
В восьмой бригаде одна молодёжь. Лишь пастуху-наставнику Ивану Борисовичу Вуквувье за пятьдесят. Между собой пастухи зовут его Стариком.
- Старик пошёл на култук хариусов ловить. - Старик велел утром подогнать стадо к берегу у обрыва. - Старик сказал, если завтра никто не придёт, ждать больше
не будем. Снимаем стоянку и уходим. В огромном медном котле варится оленина. Вода и мясо –
ни приправ, ни перца, ни соли. Готовят по старинке. В котле поменьше варится гречка из пакетов. Пойманные Иваном Бори-совичем хариусы коптятся на камнях прямо у огня. Пища про-стая до изысканности. В круг света входят двое, снимают ремни
127
с болтающимися ножнами охотничьих ножей, скидывают мок-рые куртки, резиновые сапоги. Закончилась смена. Двенадцать часов в стаде, теперь отдых. Чай, тепло костра, сон. А потом снова олени.
Собирая разбредающееся стадо, оленевод никогда не идёт пешком, всегда бежит. Незаметные, никому невидимые кило-метры бега по тундре. Точные, веками отработанные, проверен-ные действия. В пургу гони стадо против ветра, иначе разбежит-ся. Если валит снег и ни зги не видно, веди за верёвку ездового оленя, стадо клином потянется за ним. Угадывай, каким будет лето, чтобы олень успел ухватить все скромные лакомства тунд-ры. Не упусти дни, когда лопаются почки ивового кустарника – впрок оленю пойдут только молодые, нежные листочки.
Сейчас время повернуло к осени. Солнце закатилось, и воздух утерял свою прозрачность. Теперь поджидай волков. Это их час. Если не придут, жди после полуночи или уж совсем на рассвете. Волк правильный зверь, хлопот больше с бурыми медведями. По-рядка косолапые не знают, да и больше их, чем волков, в здешней тундре. А есть ещё росомаха, эта тоже своего не упустит.
- Пасти просто. День просто, два просто, три просто. Потом пурга, стадо разбегается, и как его собрать? – объясняет мне старший оленевод Мишка Нейкин.
Сквозь пламя костра светятся тёмным блеском большие гла-за Саньки Тегререта. Он только слушает, в разговор не вступает. Рано ему ещё об оленях рассуждать.
- Спать надо, – роняет Иван Борисович. День закончился. Отсчёт времени здесь ведётся не по будильнику, в тундре время осязается телом.
В палатке тишина. Старик и семеро парней спят рядом со мной на пушистых оленьих шкурах. Почему они решили навсегда прийти в тундру? Зов предков? Или их заставили? Просто больше некуда было идти именно этим хатырским парням – Саньке Тег-ререту, Мишке Нейкину, Андрею Ранаквыргину? Подкравшаяся ко мне незаметно дремота оставляет вопросы без ответов. Вдруг из тишины приходит протяжный гортанный звук. Просторная де-сятиместная палатка тут же съёживается, превращается в крохот-ный брезентовый треугольник, и распростёртые тела сонных лю-дей предстают беззащитными перед неведомой опасностью. Звук усиливается, приближается и вот уже заполняет палатку.
128
Брезентовые стены просвечивают. В углу различаю силуэт сидящей фигуры. Старик Вуквувье, раскачиваясь, поёт песню. Монотонная мелодия будто застыла на одной ноте, но времена-ми кажется, что звук плывёт, то удаляясь, то приближаясь. «Гымнан гыто тыль гыркыныгыт...» Слова любви повторяются в песне Вуквувье. Разобрать, к кому они обращены – к женщине, тундре, оленю, – мне не дано. А может быть, это обращение к доброму духу – кэлы, просьба защитить стадо от всяких напас-тей. От копытки и чёрного овода, от волков и снежных обвалов, от злого человека с ружьём, от неразумия начальства и от нера-дивости молодых пастухов. Когда-то кэлы, добрые и злые духи, на каждом шагу вмешивались в жизнь чукчей. Им приносили жертвы. Их ублажали шаманы. Шаманов давно уж нет, очистить тундру от кэлы гораздо сложнее. Пока в них верят старики, они будут жить.
Молодые о них почти ничего не знают, их мир чист и бездо-нен, не бродят в нём ни боги, ни черти, ни кэлы. Старики не рас-стались с духами, на пологе в яранге связки гыргырыт
1, храни-
телей домашнего очага, праздник молодого оленя для стариков не этнографический карнавал, а магическое действо, но есть тайны, которыми чукчи не любят делиться.
Ребята спали и не слышали песни. - Мы сами многого не понимаем в речах и песнях наших
старших, – признаются они утром. Признаются, грустно пока-чают головами и погрузятся в свои дневные проблемы.
Вышли на связь с Хатыркой. Батьма Бальжиевич писклявым в эфире голосом надсадно требовал произвести пересчёт оленей. Оставшийся за бригадира (бригадир болел в посёлке) ветеринар Серёга Нейкин кричал: «Шлите лодки, без лодок забой не нач-нём».
«Цифры – олени – мясо», – отвечало Райсельхозуправление. Даржиев должен был представить справку о поголовье в совхозе имени Жданова. Нейкин спешил забить заболевших оленей, а здоровых увести с потравленных участков. Вот и разрывалась «Гроза-2» от непосильных для её маленькой радиомощности взаимных обвинений. В диалог вмешался Петров. Наконец по-решили. Забой начинать немедленно, просчёт стада провести
1 Гыргырыт – деревянные фигурки.
129
потом, лодки придут в течение дня. Даржиев пока что получил предварительные данные. Рацию свернули. Она уступила место охотничьим ножам и длинным чаатам, ременным арканам для ловли оленей.
Санька Тегререт и Андрей Ранаквыргин подогнали стадо к реке. Маленькие лохматые собаки-оленегонки и пастухи зажали стадо на небольшом пятачке у обрывистого берега. Испуганные олени, предчувствуя недоброе, начали шарахаться из стороны в сторону. Их умело завернули и пустили по кругу. В центр его встали Сергей и Мишка Нейкины. Тело подано вперед, голова ушла в плечи, правая рука с чаатом откинута. Два брата будто приготовились к молниеносному смертельному прыжку.
Скорость бега оленей всё нарастает. Больных теперь вижу даже я. Вот хромает белолобая важенка
1, сбивается с шага круп-
ный самец, за ним припадает на левую ногу изящная двухлетка. Отсекают кусок стада. «Рэквыт!» – вдруг выкрикивает Вуквувье. Мишка Нейкин резко устремляется вперед. Свист рассекаемого воздуха. Важенка взвивается вверх, но аркан уже натянулся. Олениха с лёту падает на передние ноги, тут же вскакивает и начинает метаться. Череда судорожных скачков... Сильные руки смиряют её, подводят к берегу... Удар ножа должен приходиться точно в ямку над левой ногой.
В домашнего оленя старики запрещают стрелять из ружья. Как-то раз парни долго гонялись за хромоногим бычком, но шибко хотелось молодому пожить и уходил он от аркана. Пасту-хи с ног сбились, один не выдержал, принёс из палатки ружьё. Старик-наставник его отругал и прогнал. А олень всё не давался. Тогда отвлекли старика, подранили оленя, а потом закололи но-жом. За ужином старик обгрызал мясо с ноги и наткнулся на пу-лю. Тут же костью у костра получили нерадивцы по физиономи-ям. Ребята, посмеиваясь, рассказали мне эту незатейливую исто-рию, не называя бригаду, в которой она произошла.
Сейчас в ход шли только чааты и ножи. Арканы свистели, кровь орошала тундру. Стадо освобождалось от больных и сла-бых. Лихорадка кровавого праздника охватила людей и живот-ных. Заклание оленя для чукчи всегда большой день. Будет мя-со – будет жизнь. Каше из пакетиков пастухи предпочитают
1 Важенка – молодая олениха.
130
свежую кровь. Говорят, что, напившись её, холода не чувству-ешь даже в самый лютый мороз.
Но вот забой закончен. Стая подошедших из Хатырки «Про-грессов» уткнулась носами в глинистый берег. Серёга, Мишка, Андрей ловко орудуют ножами, снимая шкуры. Санька подошёл проститься. В его задумчивых и застенчивых глазах я замечаю какое-то новое выражение.
- Хочешь в посёлок? – Ожидаю в ответ привычное «ну». Санька смотрит в сторону, вздыхает и вдруг с неожиданным
для меня вызовом бросает: - Скучно там. - А здесь? Санька отрицательно мотает головой. Мне кажется, я пони-
маю его. Страшно, тяжко, порой тоскливо, но только не скучно. Похоже, Санька заболел тундрой и останется здесь надолго. Что за мысли бродят теперь у него в голове? То ли он решил, что мужчины должны остаться мужчинами, может, и правда это племя выродится, если весь груз опасности, риска и тяжкой фи-зической работы будет взвален на безразмерные плечи машин? То ли впервые ощутил себя частью того первозданного мира, от которого долго был отделён шведской стенкой, и теперь спешит наверстать упущенное?
Ребята погрузили туши оленей в лодки, забрались на везде-ход и отчалили. Подались кусты ольхи. Парни, усевшиеся на кабине, закачались в такт гусеничному ходу. Кочки, озерца, ру-чьи двинулись навстречу скрежету железа и запаху солярки. А впереди, пофыркивая уже с обычной, будничной интонацией, двигалось на запад стадо. За ним шёл Санька Тегререт, и перед его глазами плыли спины оленей, и далеко вдали голубели сопки родной, но ещё загадочной тундры.
133
САГА О ЛАЗАРЕ КАГАНОВИЧЕ
Самые большие профессиональные циники – следователи,
финансисты и гипнотизеры. Человеческие души для них –
не более чем глина в руках скульптора. Глина мнётся, разламы-
вается, и требуются особые ухищрения, чтобы она просто дер-
жала форму. Циникам безразлична история, ибо циническая ис-
тория бессмысленна, а всякая иная для них – невозможна или
смехотворна. Сегодня цинизм – мировое поветрие, но ещё не
мировая религия. Духовная драма массовой теологии «мёртвого
Бога» только разыгрывается. Бэконовские идолы рынка идут по
следу, по пятам, но ещё не одолели всех. В любом случае, союз
запредельного цинизма и заоблачной идеологии распался. Есть
надежда – навсегда.
Идеологическая история служила славным убежищем для
слабых духом, она возвеличивала интеллектуально инертных,
объявляя их человеческой нормой. Теперь слабым и инертным
плохо. Великая идеология покинула нас, раздавленная, оплёван-
ная и опровергнутая. Гималаи фактов, стронувшись с места, раз-
рушили её величественное здание. Новые идеологии похожи на
шустрых, весело переругивающихся юнцов.
«У нас отняли историю», – кричат одни. – «А идите вы со
своей историей», – отвечают другие. Знать всё и быть в состоянии
идти наперекор всему – в этом преодоление цинизма. А знать всё
просто не хочется, хотя бы из чувства самосохранения.
Я читал книгу Стюарта Кагана1 и боролся с рвущимся нару-
жу протестом. Уважаемые люди попросили написать послесло-
вие к этой книге. Какое послесловие? Её просто нельзя, не надо
печатать – истошно вопил во мне добропорядочный homo
sovieticus.
«Но ведь надо знать всё, – отвечал маленький, вчера родив-
шийся брокер. – От покупателей не отворачиваются!»
1 Каган С. Кремлевский волк. М. : Прогресс, 1991.
134
Когда-то Н.Г. Чернышевский в уединении Петропавловской
крепости любил беседовать с любознательным читателем, но ни
ему, ни другим великим русской литературы не приходило в го-
лову, что прежде, чем стать читателем, индивид должен стать
покупателем.
Книгу «Кремлёвский волк» купят, даже если я в послесло-
вии напишу – не покупайте. Её издадут, даже если я порекомен-
дую в максимально категоричной форме её не издавать. Главный
герой книги, Л.М. Каганович, неплохо котируется на рынке.
Громкую рекламу ему делают «Память» и иже с нею. Помните?
Рука тянется к кнопке взрывателя.., и медленно оседают на зем-
лю величественные стены храма Христа Спасителя. Каганович и
Троцкий – две ипостаси жидомасонского Люцифера в черносо-
тенной мифологии.
Дьявол ещё со времён Евы пользуется популярностью.
Яростное в своей нетерпимости к миру, «пошедшему не ту-
да», интервью Кагановича в «Аргументах и фактах» поддержало
его реноме на должном уровне. Интригующая таинственность
хорошо сработанного фильма ужасов окружает этого человека.
Политический деятель, переживший всё.., живой реликт,
хранящий в своей памяти больше, чем наши подчищенные, по-
догнанные под нужды дня архивы.
И вдруг находится внучатый племянник из Америки, кото-
рый, оказывается, ещё в 1982 г. разговорил «глыбу молчания».
Правда, дочь Л.М. Кагановича, Майя Лазаревна, отрицает, что
Стюарт Каган когда-либо встречался с её отцом. Отец Стюарта
подтверждает факт встречи.
Само повествование напоминает необработанные воспоми-
нания: множество ошибок в датах, в последовательности собы-
тий, в должностях и званиях известных людей. Документальная
беллетристика, не дотягивающая до исторической фантастики.
Семейные предания перемешаны со сведениями из американ-
ских энциклопедических справочников. На книге будто стоит
штамп «Сделано на Брайтон-Бич», то есть в квартале Нью-
Йорка, где обитают недавние выходцы из России.
Книга написана, конечно, не для нас, она написана амери-
канцем для американцев. Но между Россией и Америкой давно
уже переброшен «еврейский мостик». В одно и то же время одни
135
из «черты оседлости» уезжали в Брайтон-Бич, другие поднима-
лись в высшие эшелоны советской власти. По одну сторону Ат-
лантики евреи превращались в американцев, по другую – в по-
давляющем большинстве в коммунистов. И первые, и вторые
отказывались от своей культуры, забывали идиш, а иврита почти
никто из них толком и не знал.
Но есть абсурдная неуничтожимость голоса крови... Еврей,
вытравивший из себя всё еврейское, всё равно не переставал
быть евреем, что к ужасу для себя обнаружил Л. Каганович в
1961 г.
Семейные и национальные привязанности «кремлёвского
волка» С. Каган описывает с художественной достоверностью,
многие же ключевые моменты политической биографии Кагано-
вича его младший родственник или вообще упускает из виду,
или воспроизводит с таким количеством фактических ошибок,
что все старания редактора выправить их в примечаниях оказы-
ваются недостаточными.
Каганович не считал нужным прикрывать лицедейством
свой цинизм. Он первым публично стал называть Сталина вож-
дём. Нет ни одного свидетельства в пользу того, что Каганович
выступал когда-либо против террора. Даже В.М. Молотов
вплоть до осени 1936 г. смел пассивно противодействовать раз-
вязыванию репрессий, во всяком случае против старой партий-
ной гвардии.
В бытность председателем КГБ А. Шелепин говорил на
XXII съезде КПСС, что «Каганович до окончания судебных за-
седаний по различным делам лично редактировал проекты при-
говоров и произвольно вносил в них угодные ему изменения,
вроде того, что против его персоны якобы готовились террори-
стические акты».
Когда на январском пленуме ЦК партии в 1933 г. решалась
судьба группы «оппозиционеров» и Сталин добивался расстре-
ла, этому предложению решительно воспротивились Киров,
Орджоникидзе и Куйбышев; Калинин и Косиор их поддержива-
ли; Андреев, Ворошилов, Молотов – колебались, и только Кага-
нович оставался со Сталиным до конца.
Безразличный ко всему, кроме власти, Лазарь Каганович
первым из окружения Сталина стал делить людей на «своих» и
136
«чужих». Нормы внутрипартийной этики для него не существо-
вали, так же как и для его патрона. Большевизм для него был
удобной идеологической ширмой. Большевики породили совет-
скую тоталитарную систему, но подлинными создателями её как
уникальной государственной машины стали бюрократы типа
Кагановича. Каганович яростно боролся с органическими, по
сути, человеческими отношениями, которые складывались в
подвластных ему структурах. Везде, где он появлялся, он уст-
раивал погром среди своих подчинённых. И в этом он, пожалуй,
не знал себе равных.
Еще Фридрих Ницше отмечал, что «демагогический харак-
тер и намерение действовать на массы присущи в настоящее
время всем политическим партиям: все они вынуждены ради
названной цели превращать свои принципы в великие глупости
al fresco и писать их на стене». Большевистская партия соедини-
ла безудержную демагогию с террором как формой повседнев-
ной обыденной политики.
Но террор до середины тридцатых годов не распространялся
на самих членов партии. В преодолении этого барьера – боль-
шой вклад Л.М. Кагановича.
Стюарт Каган попытался взять неподъёмный вес. Хвала ему
уже просто за дерзость. Кто-то должен был стать первым и под-
вергнуться жестокой критике. Второму будет легче.
Неординарная, запредельная психика Л. Кагановича усколь-
зает от понимания обыкновенного человека. С. Каган лишь чуть
приоткрыл нам лицо под маской. Но для нас и эта попытка очень
значима, ибо психология тоталитаризма ещё жива, её ядовитые
гены сидят во многих из нас. Встреча с одним из главных зодчих
тоталитаризма состоялась.
Здравствуйте и прощайте, Лазарь Каганович.
137
О ФРАНСУА ФЮРЕ
Париж слишком красив, опасно красив. Своей красотой он
убаюкивает и усыпляет. Это чувствуют и понимают сами
французы. Именно поэтому они взрывают его привычный
шарм скандальными экспериментами. В конце XIX в. «желез-
ная дама» – Эйфелева башня – разбудила город своей экстрава-
гантностью. В 70-е гг. XX в. всех поклонников уютного Пари-
жа своим вывернутым наизнанку видом ошеломил Центр Пом-
пиду, по прозвищу Завод. Подобным же образом французы по-
ступают в отношении своей историографии: правильное ос-
мысление и протоколирование собственного прошлого перио-
дически взрывается дерзновенным покушением на, казалось
бы, общепризнанные истины. Историк Франсуа Фюре (1927–
1997 гг.) – из таких интеллектуальных бунтовщиков. Вместе со
своим соавтором Дени Рише в 1965 г. он посягнул на устояв-
шиеся каноны либеральной, республиканской и марксистской
историографии Великой французской революции.
Французы ниспровергают свои традиции, чтобы лучше по-
нять их истоки и тем самым ещё более укрепить эти самые
«ниспровергаемые» традиции. Фюре – революционер и одно-
временно глубокий консерватор в душе. И этот уникальный
сплав он ищет в сознании других людей. Его поиск интересен,
хотя далеко не всегда бесспорен.
Сам в молодости коммунист, Франсуа Фюре будто дальний
родственник российским либералам, учившим наизусть в совет-
ской школе: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в рево-
люцию дальше...», хочет подвести черту под историей одной
иллюзии – иллюзии, которая с 1949 по 1956 г. была и его собст-
венной. Интеллектуальная и психологическая история комму-
низма в XX в. – таков сюжет его книги1.
1 Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998.
138
Коммунизм умер. Это понимают в Париже, Москве, Таш-
кенте и даже в Пекине. Но отношение к факту смерти различное.
Принцип – о покойнике либо хорошо, либо ничего – не действу-
ет. Более того, о почившем продолжают громко говорить плохо.
Всё ещё сохраняется страх: вдруг совершится чудо, бездыхан-
ный гигант очнётся и вновь начнёт свою титаническую работу
по разрушению «старого мира». Не очнётся. Конечно, Россия –
страна чудес, но не в такой же степени.
В книге Фюре присутствуют неотрефлексированные страхи
и настойчивое желание понять причины столь большой привле-
кательности коммунистических идей для европейской интелли-
генции. Ему особенно удались портреты европейских интеллек-
туалов, служивших делу коммунизма, страдавших от этой во-
площённой утопии, боровшихся против социалистического ла-
геря, строительству которого ранее была отдана значительная
часть жизни. Георг Лукач, Борис Суварин, Пьер Паскаль – мало
известные в России герои.
Фюре разрушает легенды левой европейской мифологии.
Но, в отличие от своего труда 1965 г., в последней книге масти-
тый историк часто не прокладывает новых неожиданных путей,
а следует известными тропами времён «холодной войны».
К тому же в книге ощущаются характерные для многих ев-
ропейских интеллектуалов комплексы евроцентризма. Поэтому у
Фюре нередко проскальзывает мнение, что происходившее в Рос-
сии было периферийным для мирового исторического процесса,
но в силу макиавеллиевских ухищрений большевиков (например,
присвоивших идею революции) периферийная страна надолго
приковала к себе внимание миллионов во всём мире. Сложней-
шие вопросы: является ли Россия центром особой цивилизации
либо она – лишь особый сегмент европейской цивилизации; не
прекращается ли в конце XX в. история России в качестве особой
цивилизации и не начинается ли её новое существование в рамках
цивилизации европейской, – Фюре едва ли не понимает. Он, по-
139
ходя, роняет: «Место России до октября 1917 г. – на обочине ев-
ропейской цивилизации». Цивилизация – понятие, не выстраи-
ваемое исключительно по законам логики. Возможно, именно
поэтому Фюре спотыкается, вступая на чуждую ему почву. Под-
час, когда история ему не нравится, он объявляет её случайным
стечением обстоятельств. Франсуа Фюре – священнослужитель
картезианства. Историк рационализирует прошлое, чтобы его со-
временники имели силы и желание рационализировать настоя-
щее. Фюре – неутомимый труженик на этой ниве.
Есть в книге совершенно неожиданный парадокс. В 70–80-е гг.
многие коллеги по историческому цеху объявили Фюре реви-
зионистом, посягнувшим на святость революционного наследия,
а его предсмертная книга вдруг выявила, что всю свою жизнь он
хранил глубокий пиетет к революции. Для него истинная и
единственная настоящая революция совершилась в конце
XVIII в., большевики же всего лишь узурпаторы чужого слова и
чужого наследия. Но это война с тенями. Революционная тради-
ция действительно агонизирует. Её последние наследники –
преданный соратниками палач Пол Пот; провокатор вопреки
собственной воле, нелепый вождь усталых стариков Виктор Ан-
пилов; партизаны Боливии, подрабатывающие на охране
плантаций наркобаронов, – дискредитируют романтику револю-
ционного действия. Но все эти персонажи уже вне осмысления
автора книги.
Франсуа Фюре не успел ощутить, что со смертью комму-
низма в мире образовалось интеллектуальное и политическое
зияние. Долгое время коммунизм был органичен для европей-
ских культуры и цивилизации. Этого внебрачного ребенка ев-
ропейского духа постоянно отвергали и опровергали, но вместе
с тем он парадоксальным образом увеличивал динамизм циви-
лизации, тяготеющей к излишней комфортности. Сейчас встает
вопрос, не возникает ли угроза стагнации с исчезновением дав-
него раздражителя? Идеи социальной справедливости, соли-
140
дарности людей разной национальности, предсказуемого бу-
дущего, антиимпериализма не утратили своей притягательно-
сти, но они оказались отодвинутыми далеко на второй план в
европейской политической культуре. Часть идей из арсенала
коммунистической доктрины востребовал радикальный ислам.
Так уж получилось, что книга «Прошлое одной иллюзии» ока-
залась прощальной книгой Франсуа Фюре. В июне 1997 г. он
писал директору Московской школы политических исследо-
ваний, где книга выходила в серии «Библиотека», что хочет
обязательно приехать на презентацию её русского издания. Он
был прав в том, что его книга нужна русскому читателю. Да,
мы с ней будем спорить и не соглашаться, но она побуждает
мыслить, побуждает вопрошать собственное прошлое, ибо на-
писана настоящим профессионалом.
141
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. ВУЛЬФА
ОБ АКТРИСЕ АНГЕЛИНЕ СТЕПАНОВОЙ
Судьба человека, судьба страны, судьба ее интеллигенции –
они взаимосвязаны, это каждому ясно; особенно, когда речь идет о человеке заметном, активном, человеке, который всегда на сцене. Но самые простые истины труднее всего поддаются художественному отображению. Не имеет значения, идет ли речь о воплощении их в жизни или в литературе.
Публицисту и переводчику Виталию Яковлевичу Вульфу удалось написать книгу, в которой история нашей страны, на-шей интеллигенции, нашего театра высвечена через призму жизни одного человека – Ангелины Иосифовны Степановой, народной артистки СССР, делегата XXVII съезда КПСС
1.
В книге яркой, темпераментной, написанной отличным язы-ком опытного литератора, поразительно обилие новой или полу-забытой нами информации. Книга переполнена голосами людей, фотографиями, выдержками из писем, газет, воспоминаний.
Вахтангов, Станиславский, Немирович-Данченко, А. Фадеев, О. Ефремов... В неожиданных, но совершенно точно вкрапленных эпизодах – фигуры актрисы Германовой, генерального прокурора Вышинского и многих других. В. Вульф пишет об актрисе среди людей, а не в царстве бледных теней со знаменитыми именами. Во многом благодаря этому портрет А.И. Степановой получился честным, подчас жестким, отнюдь не глянцево-юбилейным. По-лучился литературный портрет, достойный прекрасной драмати-ческой актрисы. Ее личная жизнь описана без традиционных «умолчаний» и в то же время с абсолютным тактом.
Книга Виталия Вульфа вызывает немало размышлений: о месте театра и культуры в нашей общественной жизни, о силе и беззащитности людей искусства. Задумываешься о причинах высочайшего взлета Московского Художественного театра в тридцатые годы и о его же провалах в сороковые и пятидеся-
1 Вульф В. А.И. Степанова – актриса Художественного театра. М. :
Искусство, 1985.
142
тые... Описывая творческую биографию А.И. Степановой, автор книги, воспроизводя штрихи общественной атмосферы, в кото-рой жила актриса, показывает, как формировалась новая со-ветская интеллигенция, как она спорила со старой, критиковала ее, училась у нее, как тяжело, порой драматически тяжело, про-исходила перестройка «стариков». Через годы сложностей и по-иска новых форм сценического существования, как и новых форм общественного, театрального мировоззрения, проходил и Московский Художественный театр. Молодая Ангелина Степа-нова оказалась актрисой, остро необходимой режиссуре; создан-ные ею образы Ани в «Вишневом саде», Бетси Тверской в «Анне Карениной», Лиды в пьесе Корнейчука «Платон Кречет» притя-гивали зрителей, вызывали споры, подчас и протест критики, но чаще служили идеалом.
В книге чутко уловлен пульсирующий характер развития культуры: его, казалось бы, неожиданные изменения, которые, однако, отвечают переменам в общественном сознании. Автор честно отмечает те спектакли, те роли, что служили процессу самопознания общества, и те, что отвечали лишь сиюминутной политической конъюнктуре: быстро возникали, быстро стави-лись, быстро исчезали, оставляя в душах людей лишь сумрак недоумения и растерянности.
Вслед за Олегом Ефремовым Виталий Вульф показывает, сколь опасно для театра оказаться вне зоны критики, на некоем «особом положении». Он отдает должное А.И. Степановой, ко-торая умела сохранять себя и в периоды славы, и в периоды творческих и житейских сложностей, в моменты неудач и лич-ных трагедий. Он пишет о том, как самососредоточенность, цельность актрисы, ее верность театру, в который она пришла в молодости и с которым никогда не расставалась, помогли ей и помогли театру. Не случайно в тяжелые для МХАТа годы (пятидесятые–шестидесятые) наибольший успех выпал на долю спектаклей, где одну из главных ролей исполняла именно
А.И. Степанова: например, королевы Елизаветы в «Марии Стю-арт», Стеллы Патрик Кэмпбелл в «Милом лжеце»...
Стремление к истинности – в этом пафос творчества Степа-новой, в этом пафос работы В. Вульфа о ней. Наверное, прежде всего поэтому книга об актрисе явилась ценным свидетельством о нашем времени и о всех нас.
143
ФИЛОСОФИЯ-ЗОЛУШКА
«Какой поэт не чёрный и какого поэта не убивают...» – на-
писала Марина Цветаева. Список регулярно убиваемых в России долог и разнообра-
зен. Рядом с поэтами – философы. Впрочем, чаще им не давали родиться. Горе уму и горе от ума преследовали Россию.
И в советское время, и ныне, в постсоветское, кандидатов и
докторов философских наук – много, создающих философию – единицы.
Андрей Сахаров, Мераб Мамардашвили, Михаил Яковлевич Гефтер. Философ на одинокой даче, блуждающий по просёлкам
Подмосковья. Он открыт, он доступен, он – Философ. Он – гуру. В каждом из нас он видит, как брезжит философическая искра.
Чаще всего именно она нам так не нужна, так опасна для повсе-дневной жизни, завертевшейся в смерче bellum omnium contra
omnes. В нашей стране живёт один философ. Прозревая сквозь суе-
ту и слабость всякого, пришедшего к нему, он помогает обрести силу – пусть недолгим ощущением, что история не оборвалась,
она совершается и сегодня. Абсурд происходящего не абсолю-тен, есть логика событий и смысл в бессмыслице слов и хаоти-
ческих действий. Конец истории невозможен даже в России. Хо-тя именно наша страна не раз пыталась прервать историю, чтобы
запустить её с другого хода.
М.Я. возвращает нас в историю, из которой мы всё время выламываемся, разрушая себя, теряя самоидентификацию.
История в виде коллекции фотографий сегодня возникает, истории-движения – нет. Одинокий поиск М.Я. – связывание ра-
зодранных нитей человеческих судеб. А мы по-прежнему так быстро списываем в небытие людей – мёртвых и живых – будто
нас впрямь «тьмы, и тьмы, и тьмы...» Наших соседей, ханьцев, один миллиард сорок два миллиона
среди миллиарда ста пятидесяти миллионов всего населения Ки-тая. Общности-гиганты давно заставляют русских переощутить
себя, адекватно оценивая свою численность (малочисленность).
144
М.Я. обращался с письмами к Горбачеву и никогда – к Ель-
цину, и всё было недосуг спросить почему?
Философия в постсоветское время так и не перебралась с
обочины бытосуществования российского общества. Разве что к
золушке-философии добавилась золушка-литература.
Сегодня философия противостоит инфляции, коррупции,
массовой культуре, политиканам, финансовым спекуляциям,
пошлости, бандитизму, утрате ценностей и идеалов. Но проти-
востояние маргинализировано технически.
Есть книга «Из тех и этих лет», её тираж – 10 тысяч экземп-
ляров... Есть мысли, высказанные в «Итогах», и отдельно – мик-
роскопическое телевизионное время, отпущенное на мысль...
Осмысления новых форм несвободы, нахлынувших на стра-
ну, не происходит. Демроссийская интеллигенция по инерции
всё ещё борется со старой несвободой. От либерализма в России
есть только само слово, ибо свобода – всё еще чуждый странник,
встречи и длительного знакомства с ним опасаются даже наибо-
лее обеспокоенные правами личности политики. Выбирая себе
название, мои товарищи, члены парламентской фракции «Согла-
сие ради прогресса», дружно отвергли предложение включить
в название фракции слово «свобода». Нынешние политики под-
час очень чутко реагируют на предрассудки и предубеждения
народа.
Ныне получила распространение квазидемократическая
идеология, созданная и создаваемая новыми идеологами. Глуби-
на её измеряется впитанными с молодости заголовками запад-
ных фильмов: «Жить, чтобы жить», «Всё на продажу»... Баналь-
ности массовой культуры преподаются с экранов телевизоров
миллионам людей, не имеющих времени задуматься о собствен-
ной жизни в круговороте погони за сносным потреблением.
В добавление к идеологической мякине из макулатуры де-
шёвого чтива, рассыпанного на прилавках возле станций метро,
выплыли романы Владимира Суворова, офицера, изменившего
стране и присяге. Ему терять уже нечего. Но нам-то есть, что
терять.
Сегодня в России духовная субстанция уже уподобилась ша-
греневой коже. Принцип «ни табу, ни святынь» утверждается с
фантастической быстротой. Духовный хребет нации надломлен.
145
И суворовы его доламывают. Мы не задумались, почему Хомей-
ни приговорил Салмана Рушди к смерти. Остановились на пер-
вом эмоциональном протесте... Хомейни – человек иной цивили-
зации, его система координат нас никуда не выведет. Но всё-
таки следует признать: он защищал святую и неприкосновенную
основу, разрушение её было бы разрушением ислама, без кото-
рого не будет Ирана, а иранцы превратятся в мятущееся стадо
потребителей.
В России устойчивость нации тем более под вопросом, что
нации как таковой нет. Есть стыдливые русские и безумные шо-
винисты: первые не знают, куда идти, вторые целенаправленно
рвутся к пропасти. Есть борцы за создание малых национальных
государств на руинах государства российского и есть потерян-
ные армяне, грузины, евреи, украинцы, которым не дают пре-
вратиться в россиян, так как в России никак не научатся выгова-
ривать это слово.
Наша мука – в неспособности сочленять разнородное. Мы
унифицируем и складываем. Арифметика понятна, алгебра уже
непостижима.
Мы потеряли свою землю, а с экранов телевизоров самый
интеллектуальный из кандидатов в президенты вопрошал:
«А что такое Россия? Это Якутия, это Приморье, это Ивановская
область...» Кандидат, не знающий президентом какой страны он
хочет стать.
Мы жили в унифицированной стране. Унификация ушла,
а реальные скрепы, которые должны были сохранить Евразию,
освобождённую от хламид Советского Союза, никого не удер-
жали. Рационализм экономики и даже самосохранения отброси-
ли ради миражей и грубой корысти.
«Философ, ты не нужен. Тебе лучше не ехать в Грузию», –
сказали Мерабу Мамардашвили.
Кто осмыслит насилие? Оно отвратительно, оно вне фило-
софии, оно вне истории. Марксизм отброшен вместе с его наси-
лием в виде повивальной бабки истории. О ненасилии бубнят
даже политики. А добропорядочный обыватель вечером не смеет
выйти на улицу своего города. Насилие! А государства нет, оно
разложилось на составляющие: люди отдельно, функции от-
дельно. Жить можно и без государства. Живём ведь... Социа-
146
лизм «завершился» – государство «отмерло». Куда дальше, пока
сохраняется боязнь «внутреннего оккупанта» в лице государ-
ства.
Мы уже избрали человека, уничтожившего страну, чтобы
получить власть. Но оказалось, что власть ему не нужна. Его
путь – от миражей забытья к атрибутам власти и вновь в забы-
тьё. Он будто спасается от осознания совершённого преступле-
ния, возвращаясь в мир реальности лишь для того, чтобы наско-
ро насладиться дарами совершённого и тут же в страхе погру-
зиться в наркотический сон.
На этот раз среди духов революции витает и тень Расколь-
никова.
«Мертвые души» – старые и те, что пришли на их место, со-
всем новые, вчерашние, эмбрионы завтрашних. Была гниль, по-
том вдруг отчаянным порывом ветра-степняка иссушило всё.
Пустыня человеческого общежития. С кем говорить, с кем жить?
«Помнится, после войны приобрела популярность идея “все-
мирного правительства”. И разделяли её мудрые наивные люди –
Эйнштейн, Рассел, Бор. Идея не кажется мне реалистичной...
Это – страшная идея. Подчинить людей контролю, наблю-
дениям, согласованиям всеземного правительства, дать ему рас-
поряжаться всеми цивилизациями, всеми культурами, судьбами
всех народов с их прошлым – чудовищно! И я подозреваю, что
СОИ – дальний отпрыск той идеи, перевод её на компьютерно-
технологический язык, сохраняющий голую суть.
Представьте колпак над всей планетой, этакое сплошное
информационное поле. Возникла где-то, у кого-то ситуация, не
устраивающая мирового правителя, а по сути, экспертов, при-
ставленных к компьютерам, и в это место направляется смерто-
носный лазерный пучок»1.
Предупреждение об опасности накануне «Бури в пустыне».
Человек с ментальностью восточного деспота... Порыв к свободе
как порыв к абсолютной власти... Абсолютное, мгновенное, бес-
предельное богатство.
...Инфляция – вот враг. Нужен кодекс экономического пове-
дения. Рыночная игра без правил не может продолжаться беско-
1 М. Гефтер. Из тех и этих лет. М., 1991. С. 454.
147
нечно. «Декларация общенационального экономического согла-
сия», подписанная тремя заместителями председателя Верховно-
го Совета, одним первым и двумя заместителями председателя
правительства, двумя судьями Конституционного суда, предсе-
дателем Совета Федерации независимых профсоюзов России,
председателем Всеобщей конфедерации профсоюзов и прочая,
прочая... Правда, среди неприсоединившихся – «Соцпроф»,
Независимый профсоюз горняков, вне игры председатели Вер-
ховного Совета и правительства, нет подписи человека, наибо-
лее последовательно раскручивающего маховик инфляции –
председателя комиссии по социальным вопросам М.Л. Захарова.
Есть ощущение обмана и злонамеренности, нет понимания
происходящего. Бывший секретарь Совета безопасности, а ныне
председатель Федерации товаропроизводителей Ю.В. Скоков в
интервью газете «Правда» от 22 июля 1993 г. сетовал: «Финан-
совый капитал оказался оторванным от промышленного. Во
многом на этом жируют коммерческие банки, играя на процент-
ных ставках... Возникла игра на курсе рубля по отношению к
другим валютам... Обогащается какая-то небольшая группка
людей за счёт всех».
Спасение экономики воровскими методами на самом деле
разрушает остатки нравственного сознания тех людей, которые
составляют плоть экономики. Недоверие к государству как
субъекту экономической деятельности превзошло все мыслимые
пределы. Крах Внешэкономбанка с замороженными счетами
граждан и предприятий, павловский трюк с обменом 50- и 100-
рублевых банкнот, геращенковская реформа с изъятием накоп-
лений у самых обездоленных и неприспособленных...
Маргинализация свободного интеллектуального труда. От-
сутствие людей, имеющих достаток и досуг для размышлений и
поиска. Происходит интеллектуальное оскудение.
Преклонение перед случайной посредственностью. Стивен
Коэн, которого, к изумлению самого историка, слушают как
оракула и гиганта мысли. Разворовывают историю XX в., рас-
таскивая, разбазаривая богатейшие архивы СССР. Предательст-
во друзей и финансовое вероломство. Каждый – за себя и всё –
на продажу. «Эммануэли» изгнали Тарковского и Вайду. Звери-
ный прагматизм вчерашних коммунистических обывателей.
148
Надо использовать силу там, где она может быть ограничена
и контролируема.
Последовательность неудержимости не выпускает нас из
кругов ада Истории города Глупова. Спасительная разруши-
тельность философии нам ещё неведома. Академик Сахаров во-
площается в историю в облике Бориса Ельцина и Галины Старо-
войтовой. Философия через антифилософию.
Максимализм русской идеи до сегодняшнего дня так и не
удалось изжить. Карамазовщина сидит в нас, превращая россиян
в рэкетиров и гайдаровцев, заталкивая в ФНС и ДемРоссию.
Льва Шестова издали вчера.
Кто успел понять смысл его полемики с Белинским? Кто по-
смеет возразить, кроме циников, «неистовому Виссариону», его
максиме: «Если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень
лестницы развития, я и там бы попросил вас отдать мне отчёт во
всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случай-
ностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с
верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и
даром, если не буду спокоен насчёт каждого из моих братьев по
крови. Говорят, что дисгармония есть условие жизни: может
быть, это очень усладительно для меломанов, но уж, конечно, не
для тех, которым суждено выразить своею участью идею дис-
гармонии».
Скрепы государства-монстра распались, а вместе с ними
распались и человеческие личности миллионов. Рабы не умеют
жить в условиях свободы, они становятся опасными для окру-
жающих и для самих себя. Больно. Самое страшное предатель-
ство – близкого человека. Проклятый вопрос, неинтересный в
своей прозрачной простоте, – как верить остальным, если он/она
предали? Как избавиться от вопроса? Какой философ ответит за
неверие людям? Всем!
И ещё – о проблеме претворения философии в политику и
политики в историю.
Его давние собеседники – Маркс и Ульянов, он же Ленин...
Его любимая идея – Мир миров, общность равноразных. Гефтер.
Философ в неизвестной стране.
149
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
Калужское шоссе, Ватутинки, поворот к пионерскому лаге-
рю «Дружба»... Притормаживаю… Теперь надо сделать над со-
бой усилие и в очередной раз беспощадно объяснить себе: пово-
рачивать незачем. Михаил Яковлевич Гефтер больше не живет
на даче в старом писательском посёлке. Его путешествие по
Подмосковью и по жизни закончилось. И не обманывай себя
тем, что его голос продолжает столь явственно звучать.
Уход М.Я. обострил чувство одиночества, но ведь одиноче-
ство – это благо, это преддверие свободы. М.Я. как истинный
философ даже фактом собственного отсутствия пытается сде-
лать нас, его учеников, людей, его знавших и любивших, силь-
нее и свободнее.
Обаяние беседы с ним, с Учителем, – пожизненное богатст-
во, которое может уничтожить только твоя собственная деграда-
ция.
Но он видел то, чего я не могу увидеть, чего мы не можем
увидеть – и это невосполнимо.
Всё настойчивее говорят: России нужна идеология. Идеоло-
гия – продукт разложения философии, подгонка философии под
государственные и партийные нужды. Глупо критиковать идео-
логию как таковую, она неизбежна, но абсурдно призывать к
созданию китча в эпоху смерти искусства.
В нашу прежнюю идеологию была встроена великая утопия.
Уход коммунистической утопии ознаменован триумфом од-
номерного либерализма и наступлением агрессивного и одно-
временно закомплексованного фундаментализма. Униженные и
угнетённые утратили надежду на рационалистическое чудо. Мир
живет без проецирования себя в будущее. Самые умные и ак-
тивные суетливо обустраивают собственное настоящее. Будущее
150
потеряло смысл, никому нет до него дела. «Остановись, мгнове-
ние, ты – прекрасно».
Старшее, то есть моё, поколение достойно уважения только
в том случае, если оно способно возвыситься над собственным
эгоизмом, который уже никак не оправдывается эпитетом
«юношеский». Эпитет ушёл к другим. Нам простят другие столь
многочисленные грехи и, может, не столь решительно будут вы-
тряхивать из реальной жизни, если мы рискнём хоть немного
жертвовать своими интересами ради будущего, в котором будет
место детям, внукам, нации и государству, но не будет места
тем, кому сегодня пошёл пятый и шестой десяток.
М.Я. Гефтер был исключительно сильным и свободным че-
ловеком, он подчинял себе Время, а не зависел от него. Он был
последним утопистом ХХ века.
153
Уходит дождь
Уходит дождь,
Березы плачут.
Промыты стекла всех машин.
Я в Домодедово за счастьем
Привел свой старый лимузин.
Вам не везет, продали дачу
И дети будто инопланетяне
Блуждают. Виртуален мир.
А я надеюсь на удачу
И по боку осенний сплин.
Уходит дождь,
Березы плачут.
Душевной раною томим
Приемлю я любовь-расплату…
И хватит силы нам двоим.
2002
154
Я сплю на дороге
Я сплю на дороге –
Усталость пришла,
Гудят мои ноги,
В глазах маета.
Нас долго носило
По нивам чужим.
Усталые боги,
Попав в карантин,
Мы спим, где попало,
Но наша страна
еще не пропала.
Закончится сон,
Мы снова взлетим.
2002
155
Рыжие черти
Рыжие черти
По полю бегут,
Рыжие черти
Мальчишек зовут:
Бросить игрушки,
Уйти на войну.
Жаль нас так мало…
Рыжие черти.
Я вас не пойму:
Вы сами родились
В озимых, в хлеву,
Хлеб наш едали…
Что же вы сами войну проиграли.
Рыжие черти,
Сыграйте со мной,
Я уже старый,
Хотя не больной.
Мир нам верните, Чечню и покой.
Рыжие черти.
В атаку,
За мной!
2002
156
Вечер тонкой рукой
Вечер тонкой рукой
пытается лечить боль.
Она не уходит,
Она всегда со мной.
Она живет во мне
Как старость,
Которая ждет
У зеркала своего часа.
Вечер – мой друг и брат.
Я прячусь в его полумрак.
Ухожу от зеркал судьбы.
Только вечер знает, что
На этом свете
Есть еще ты.
2012
157
Город одиноких женщин
Крик грудь выворачивает наизнанку.
Смена никогда несменяемых впечатлений.
Танка.
А я иду за бубликом,
Мальчик,
И не знаю, что у меня
Никогда не будет наследника.
Не японская получается танка.
Давно оставшись без Бога,
Все пишут стихи,
Но Бог есть.
Он – последний мужчина
В городе одиноких женщин.
Но это голубиная песнь –
Танка.
2013
158
Осенний запах хризантем
Осенний запах хризантем
И мокрых дров..,
И старых мыслей листопад,
Унынье слов,
Свиданье будто ритуал…
И засыпая, угасал
День тихого отдохновенья…
Но не дождутся пораженья.
Уйти в осеннее забвенье
Я не спешу.
Я пули лью,
Точу кинжал.
Врагам ни слова не сказал
И даже смерть свою в бою
В удар прощальный обращу.
2013
159
Сентиментальная экология
Три маленьких елки.
Но уже без иголок.
За что их так?
У деревьев, лишенных листвы,
Скорбный шарм,
Декадентский изыск,
Обещание будущей жизни
В чуть набухших сосцах
Затаившихся на зиму почек.
У бедных покинутых хвойных
Все не так.
Голые ели.
Кто вас покинул, ограбил?
В полон отправил?
Сквер городской
Как чужбина для вас,
Клетка земли
И удушье асфальта окрест.
Но можно успеть
В мокрый песок
Опустить их усталые корни
И речною водой
Оросить пересохшие ветки.
И непричесанный ветер
Коснется их вернувшейся хвои.
2013
160
Я останусь в стране один
Я останусь в стране один
Охранять могилы и рощи,
Освящать чужие мне мощи.
И воистину Бог – един,
Всемогущ и убог...
Господин…
Предписал он служенье и кару
И нести за него тиару.
Пилигрим,
Священник и воин
Я остался один в поле – Овен.
Не свернуть мне с моих равнин.
Бог и я – один на один.
2013
161
Жизнь превратилась в будни
Жизнь превратилась в будни,
Любовь превратилась в секс.
Мне ничего не нужно.
Такой вот пошел замес.
Устали ползти трамваи,
И вечер под крышу залез,
Какие уж тут рубаи,
Москва съела последний лес.
Поэты нынче не в моде.
В отставке Мефисто
И пошлостью брызжит
Последний обрюзгший бес.
Его зовут Жириновский,
И жаль мне его до слез.
Уходит, уходит в будни
Поезд отгремевших гроз.
2013
162
Гендерная дурь
Гендерная дурь
Прет дуром
Содом и Гоморру
В каждый дом.
ЛГБТ –
Лозунг дня!
Последним могиканам в утешенье –
Шведская семья.
А нежное женское
Во всем этом
Кто защитит?
Обнаженным нервом
Соединит бусины слез
В ожерелья счастья
И тихих грез…
2013
163
Обычай чукчей
В летней холодной тундре
На кочках стынут грибы.
Подберезовики без берез.
Подосиновики без осин.
Только мухоморам тепло
Копить яд
Для предустановленных тризн.
Мой дух – ка устал –
Сказал Рагтытваль
И протянул сыну копье.
Я буду в яранге,
А ты вовне
Подыми копье
И помоги мне
И моему ка уйти.
В летней холодной тундре
Обагренный живой кровью
Полог яранги
Выпустил дух – ка
И сердце мужчины
В пространства
Бездонного неба.
2013
164
Солнцепоклонник
Наша маленькая звезда – Солнце,
Эсемеской бежит к нему моя молитва,
К глине земли прижимает меня
Выгоревшая ткань голубого небосклона.
Бог мой, огненный шар любви – Солнце,
Летнюю зелень плавишь,
Освящаешь предсмертное золото осени
Ожиданьем покоя вечной зимы.
Ты ведешь за собой стадо круглых планет
И песчинку моей жизни.
Лики твоих воплощений
Бодисатвы и младенцы Иисусы.
Наш золотой Будда,
Ты греешь прокаженных властью,
Забыв про свое всемогущество,
Забыв про нас, твое племя безвольных рабов.
Мы молим тебя,
Верни нам благословение любви и страстной неистовой силы.
Без тебя мы уходим в глину безвременья,
Без тебя у нас не родят сады
И руки врастают в спины.
Наша маленькая звезда – Солнце,
Верни нам надежду счастья.
2013
165
Река сверкала серебром
Река сверкала серебром,
А дым утюжил небосклон.
В спецовке черной, напоказ
Он уходил от женских глаз.
Семнадцать стукнуло ему.
И звезды, звезды на бегу
Срывал он жадно.
Шел февраль
Серебряный, лихой как встарь,
С холодной ласкою к лицу
Снежинок лед…
………………………………….
Была то сказка наяву.
2014
167
СОДЕРЖАНИЕ
Об авторе ………………………………………………….……….
Апология романтического реализма
3
Нина ………………………………………………….……….… 7
Студентка ………………………………………………….… 49
Аргентина …………………………………………………...... 61
Светопреставление …………………………………………. 75
Старая песня – физики и лирик …………………………... 79
Мои соотечественники – крымские татары ………..… 82
Люди у озера ………………………………………………...... 101
Тегререт и другие … ………………………………………… 115
Люди и книги
Сага о Лазаре Кагановиче ……………………………..…... 133
О Франсуа Фюре …………………………………..……....… 137
Рецензия на книгу В. Вульфа об актрисе Ангелине Степановой ………………………………………..
141
Философия-золушка ……………………………………....… 143
Памяти учителя ………………………………………...…… 149
Молитвы
Уходит дождь ……………………………………………..… 153
Я сплю на дороге ……………………………………………...
Рыжие черти ………………………………………………….
154
155
Вечер тонкой рукой …………………………………………. 156
Город одиноких женщин …………………………………… 157
Осенний запах хризантем ………………………………….. 158
Сентиментальная экология ……………………………….. 159
Я останусь в стране один …………………………………. 160
Жизнь превратилась в будни ……………………………… 161
Гендерная дурь ……………………………………………….. 162
Обычай чукчей ……………………………………………….. 163
Солнцепоклонник …………………………………………….. 164
Река сверкала серебром ……………………………………. 165
168
Е.М. КОЖОКИН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Корректор – Г.Г. Трошкина
Компьютерная верстка и правка – Е.А. Беркина
Издательский дом «АТИСО»
Объем: 10,5 п.л.; 7,0 уч.-изд. л. Тираж 200 экз. Формат А5 Заказ № 1635
Подписано в печать 14.07.2014 г. Отпечатано в типографии АТиСО
Адрес редакции: 119454, Москва, ул. Лобачевского, 90
Тел.: 8(499) 739-63-50. Факс: 8(499) 432-33-76