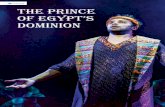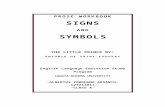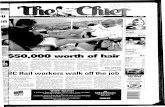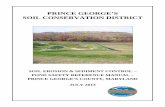Посадник и князь в Пскове XIV - XV вв (A Posadnik and a Prince in Pskov of...
Transcript of Посадник и князь в Пскове XIV - XV вв (A Posadnik and a Prince in Pskov of...
Работа, представляемая для оформления
соискательства
степени к.и.н. в СПб ИИ РАН
Вовин А.А.
Князь и посадник в Пскове XIV – XV
вв.
1
Введение
На первый взгляд, Псков выглядит одним из самых хорошо
изученных русских средневековых городов наряду с Новгородом.
Далеко не всем городам «посчастливилось» иметь такую обширную
историографию. Политические институты Пскова XIV – XV вв. всегда
привлекали внимание исследователей. Определенными вехами в
истории изучения системы управления городом стали работы Н.И.
Костомарова, А.И. Никитского, Н.Н. Масленниковой, Б.Б.
Кафенгауза, И.О. Колосовой, Ю.Г. Алексеева, В.А. Аракчеева.
Нужно также отметить археологов, чьи труды сыграли большую роль
в осмыслении псковских властных структур: В.Д. Белецкого, С.В.
Белецкого, Г.Я. Мокеева.
Основы изучения Пскова были заложены в работе Н.И.
Костомарова «Севернорусские народоправства во времена удельно-
вечевого уклада». В ней исследователь проводит мысль о
существовании особого типа государственности, сформировавшегося
в Новгороде и Пскове. Он заложил традицию демократического
взгляда на Псков и Новгород, во многом доминировавшего в
историографии XIX века. В представлении Н.И. Костомарова
Новгород и Псков были народоправствами, т.е. политическими
2
образованиями, в которых вся полнота государственной власти
принадлежала вечу, т.е. народу. Вообще, труд Н.И. Костомарова в
большей степени касается в части, посвященной Пскову, скорее
проблем его взаимоотношений с великими князьями. Собственно
внутренней истории Пскова исследователь уделяет мало внимания.
Псковичи предстают у него практически однородной массой. Их
посадники действуют главным образом в интересах всего Пскова,
который «унижается» Москвой. Работа Н.И. Костомарова в большой
степени построена на проведении широких исторических параллелей,
что позволило исследователю увидеть в Новгороде и Пскове
своеобразный аналог античных полисов. Наиболее важная идея,
появившаяся в работе Н.И. Костомарова и повлиявшая на всю
последующую историографию, это мысль о единстве политических
институтов Новгорода и Пскова.
Следующей вехой в изучении псковских политических стала
работа А.И. Никитского «Очерк внутренней истории Пскова». Эта
работа стала первой специальной монографией, посвященной
политической культуре Пскова. Автор, отказавшись от
умозрительного конструирования псковской политической системы,
подробно рассмотрел данные известных на тот момент источников.
А.И. Никитский первым обратил внимание на роль посадников,
противопоставив их вечу. Они, по мнению исследователя, будучи
представителями псковского боярства, выражали его интересы в
противовес народу. Более того, именно А.И. Никитский первым
обосновал аристократический характер правления в Пскове. По его
мнению, примитивное состояние городской общины не дало, в
отличие от Новгорода, сложиться «демократической» партии, и вся
власть была фактически в руках боярства, через их представителей
– посадников. Основой для такой концепции стали, прежде всего,
данные псковских летописей и анализ Псковской Судной Грамоты3
(далее – ПСГ). Вместе с тем исследователь прибегал к широким
аналогиям с Новгородом, делая на их основе серьезные выводы.
Так, он поместил в Псков боярский совет, единственные
свидетельства о котором можно найти в новгородских источниках.
Вообще всю систему управления Псковом А.И. Никитский считал
заимствованной из Новгорода в тот период, когда Псков был его
пригородом. Так, например, он считал малосущественной фигуру
псковского князя, объясняя это тем, что, будучи изначально
«слугой новгородского веча», он не воспринимался псковичами
серьезно, а после обретения Псковом независимости от Новгорода
стал всего лишь «слугой веча» псковского. Заметим, что такое
представление о княжеской власти в Пскове не находит
подтверждения в источниках. Для методики А.И. Никитского
характерно прямое, буквальное понимание летописных текстов,
следование за их формулировками.
Следующим исследователем, специально обратившимся к теме
псковской государственности, стала Н.Н. Масленникова. В своей
работе «Присоединение Пскова к централизованному русскому
государству» исследовательница рассматривает, прежде всего,
систему взаимоотношений Пскова с великими князьями. Однако
немалое место в ее работе занимает и внутренняя политическая
структура Пскова. На первое место в работе Н.Н. Маслениковой
выходит классовая борьба между представителями городских низов и
псковским боярством. Последнее, с точки зрения
исследовательницы, полностью контролировало всю власть в Пскове,
сделав вече послушным инструментом в своих руках. Особое
внимание, поэтому, Н.Н. Масленикова уделяет событиям 1483-
1486гг., которым в ее работе посвящена отдельная глава. Вместе с
тем исследовательница в противовес Н.И. Костомарову стремиться
показать закономерность, неизбежность и даже добровольность4
присоединения Пскова к Москве. Противоборствующие классы, по ее
мнению, имеют по вопросу присоединения к «централизованному
русскому государству» разные позиции, между которыми умело
лавирует великокняжеская власть.
Отдельно необходимо упомянуть В.Л. Янина, который никогда
специально не занимался Псковом. Его работы, однако, в
особенности «Новгородские посадники» и «Новгородская феодальная
вотчина», дали мощный толчок в развитии изучения политического
ландшафта Пскова. Его идеи были необычайно плодотворны. Метод
исследователя, называемый им самим комплексным
источниковедением, подразумевает широкое использование
археологических источников в дополнение к письменным. С его
помощью В.Л. Янину удалось доказать существование в Новгороде
влиятельной социальной группы бояр землевладельцев, связанных с
кончанско-уличанской системой. Исследователь пошел еще дальше,
предположив, что новгородское боярство, закрытая олигархическая
группа, фактически управляла Новгородом. Вече, по его мнению,
было собранием лишь малочисленной олигархической группы и
немногих представителей «черных людей». Здесь, надо сказать,
аргументация В.Л. Янина представляется несколько более зыбкой.
Так, например, в качестве одного из основных аргументов в пользу
олигархического характера новгородского веча он привел
исторические размеры площади перед собором св. Софии, куда, по
его мнению, не могло вместиться более трехсот сидящих человек.
Как недавно показал П.В. Лукин на основе анализа документов
ганзейского двора, новгородцы на вече не сидели, а стояли, или,
по крайней мере, не всегда сидели. Площадь в таком случае могла
вместить уже несколько тысяч человек. Нам известно, помимо
этого, из летописных источников, что новгородцы чаще собирались
на вече на Торговой стороне у Ярославова дворища, где5
пространства еще больше. Концепция В.Л. Янина, несмотря на
некоторую спорность конечных выводов, дала мощный толчок
дальнейшему изучению Новгорода и Пскова. Во второй половине
прошедшего века большинство исследователей этих городов в той
или иной степени разделяли идеи В.Л. Янина о всесильности
боярской олигархии и фиктивности власти веча. Нужно сказать,
что, даже среди тех, кто работает в рамках его концепций,
полного единодушия нет.
Б.Б. Кафенгауз, высказавший в своих поздних работах мысли,
созвучные идеям В.Л. Янина, оставался, тем не менее, сторонником
мнения о несколько более демократическом характере устройства
Пскова. Иными словами, он, признавая политическую силу
посадничества, не считал вече фиктивным органом, послушно
исполняющим волю «боярского совета». Его позицию по вопросу
распределения властных полномочий в Пскове можно считать
промежуточной: с одной стороны, взгляды исследователей XIX века,
видевших в Пскове своеобразный аналог греческого полиса, главную
роль в котором играло народное собрание – вече, с другой -
сторонники концепции В.Л. Янина, придерживающиеся мнения об
исключительно олигархическом характере псковской системы
управления. Б.Б. Кафенгауз подробно разработал вопрос о
псковских посадниках. Им впервые составлен перечень всех
упоминавшихся в источниках посадников; ученый рассмотрел
биографии некоторых из них, пытаясь вскрыть определенные
закономерности в карьере посадника. Посадничество Б.Б.
Кафенгауз, как и его предшественники, считал порождением
псковской знати, боярства.
К последователям В.Л. Янина можно отнести И.О. Колосову.
Исследовательница экстраполирует на Псков концепцию
посаднического правления, формирующегося на основе кончанского6
представительства и полностью впоследствии подмявшего под себя
вечевые вольности. Более того, в конфликте «несовместимых по
сути политических систем», т.е. вечевого строя и боярского
правления, И.О. Колосова телеологически видит причины конца
псковской самостоятельности. Работа исследовательницы построена
на анализе богатого летописного материала, позволившего
исследовательнице выстроить объективную картину развития
института посадничества. Вместе с тем И.О. Колосова активно
прибегает к широким обобщениям и не вполне убедительным
рассуждениям, основанным, в том числе, на работах В.Л. Янина.
Так, например, приняв в начале работы предположение о
тождественности новгородских и псковских властных институтов,
исследовательница в заключении предъявляет эту тождественность
как результат собственного исследования.
Несколько особняком стоит работа Ю.Г. Алексеева «Псковская
Судная Грамота и ее время». Автор ее рассматривает псковские
институты власти под своеобразным юридическим углом зрения, что
объясняется спецификой того источника, от которого автор
отталкивается. Роль князя, по мнению Ю.Г. Алексеева, растет на
протяжении XV века, роль же веча, напротив, ослабевает.
Свидетельством тому в глазах исследователя служат статьи 4 и 5
Псковской Судной грамоты, ограничивающие, по его мнению,
компетенции вече (в данном случае судебные) в пользу князя. Надо
сказать, что смысл указанных статей Псковской Судной Грамоты
может трактоваться по-разному. Так, например, А.А. Зимин понимал
их как лишь как разделение суда на княжеский и вечевой. В
отношении посадничества Ю.Г. Алексеев придерживается взглядов,
созвучных с взглядами В.Л. Янина и Б.Б. Кафенгауза.
Всех вышеуказанных исследователей вне зависимости от степени
близости их взглядов к концепции В.Л. Янина роднит еще одно.7
Речь идет об использовании новгородского материала, причем как
источников, так и концепций, для изучения Пскова. И.О. Колосова
прямо пишет, что «все исследователи отмечают принципиальную
однородность социально-политических структур Новгорода и
Пскова». Это утверждение нужно признать, несомненно, верным не в
смысле однородности структур, а в том смысле, что,
действительно, все или почти все исследователи псковских
политических институтов, как правило, отталкиваются от постулата
о тождественности или крайней близости псковских институтов к
новгородским. Причем такое мнение уже стало частью
историографической традиции, его никто уже не обосновывает, им
пользуются, как очевидным фактом. Разумеется, не все делают это
с такой элегантностью, как И.О. Колосова, которая, отталкиваясь
от «принципиальной однородности», приходит к выводу о
«тождественности псковского и новгородского посадничества». Ю.Г.
Алексеев, работа которого построена на анализе Псковской Судной
Грамоты с привлечением псковских актов, выделяет несколько
ключевых отличий Новгорода от Пскова, в частности, что
немаловажно, отсутствие в Пскове крупного землевладения.
Исследователь, тем не менее, фиксируя отличия, также не избежал
автоматического перенесения некоторых новгородских особенностей
на псковскую почву. В частности, он признает, как и И.О.
Колосова, «принципиальную тождественность» институтов, хотя и
выделяя при этом определенные различия между властными
структурами городов. При этом необходимо отметить, что Ю.Г.
Алексеев первым отошел от идеи о полной тождественности
псковской и новгородской политических моделей. Он высказал идею
об архаичности социального развития Пскова, его некоторой
отсталости от Новгорода.
8
Утверждение о «принципиальной тождественности» псковских и
новгородских институтов, которое стало расхожим мнением в
историографии, могло бы появиться как результат сравнительно-
исторического исследования. Однако, идя вглубь
историографической традиции, мы такого исследования не находим.
Зато мы можем наблюдать рождение и становление
историографического стереотипа. Первым в деле конструирования
псковско-новгородского единства был, как и во многом другом,
Н.М. Карамзин. Именно он был автором, возможно, первого
утверждения о тождественности их институтов. Основанием для
такого утверждения стало для него, вероятно, формальное сходство
псковских и новгородских институтов, а также мысль о
генетической связи между ними. Впрочем, настоящим творцом
концепции единства Новгорода и Пскова нужно, вероятно, считать
Н.И. Костомарова. Его «Севернорусские народоправства во времена
удельно-вечевого уклада» стали краеугольным камнем в
конструировании единства Новгорода и Пскова. Однако и здесь мы
не находим обстоятельного сравнительного анализа политических
институтов, позволяющего констатировать тождественность.
Единственным исследователем, кто попытался это доказать, был
А.И. Никитский. В его труде «Очерки внутренней истории Пскова»
делается попытка обосновать природу псковских политических
институтов заимствованием их из Новгорода. Однако это лишь
гипотеза, и даже если предположить, что недоказанный факт
заимствования имел место, это не означает, что заимствованные
институты были точно скопированы, и впоследствии их развитие
было идентично развитию новгородских.
Суммируя вышесказанное, нужно признать, что
сконструированный в XIX веке стереотип прочно вошел в
историографическую традицию и в XX веке воспринимался уже как9
непреложная истина. Янинская концепция олигархического
правления, основанная на широком новгородском материале, стала в
этом свете очень удобным инструментом для изучения Пскова. В
результате большинство исследований, затрагивающие псковские
политические институты, основывались на выводах, сделанных по
новгородским данным.
Таким образом, в историографии, несмотря на имеющиеся у
исследователей расхождения во взглядах на те или иные элементы
структуры управления, сложилась традиция изучения Пскова,
основанная на широких обобщениях и параллелях, проводимых с
Новгородом. Такие обобщения зачастую затемняли данные
источников, которые подгонялись под имеющуюся концепцию. Мне
кажется необходимым пересмотреть историю псковских политических
институтов, освободившись от давления новгородского материала.
Только после этого можно будет сделать вывод об общности или
различии структур управления двух городов, а также понять, какое
место занимает псковский «кейс» в истории русского
средневекового города.
§ Посадники.
Персональный состав псковских посадников изучен на данный
момент достаточно хорошо. Как подсчитал Б.Б. Кафенгауз, нам
известно 80 имен псковских посадников, которые мы можем
относительно датировать, и еще 3 имени, имеющих, возможно,
легендарную природу.1 Нам кажется целесообразным привести
1 Кафенгауз Б.Б. Древний Псков. Очерк по истории феодальной республики. М. 1969 С. 38
10
составленный исследователем список посадников с незначительными
уточнениями2
1 Борис 1308, 1309, 1312+2 Селила Олексич 1323+3 Селога (Шелога) 1327, 1330, 1337+4 Илья Борисович 1340, 1344, 13485 Володша
Строилович1341 без титула, 1343
6 Данила 1343 (Н1ми М. 1950 с. 459)7 Корман
(Постник)1343 без титула+ (посадник только в П2Л – с.26)
8 Иван 1348, 13499 Ананья 1367 (Н1ми М. 1950 с. 370)10
Леонтий Костромя
1367(ПСРЛ т.16 cn,/92), 1369
11
Матфей3 1375
12
Захарья (Фомич)Костроминич
1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401+
13
Ефрем Картач 1396, 1397, 1402, 1404, 1407+
14
Сысой 1397
15
Роман Сидорович 1397, 1402, 1404 (ПСРЛ), 1407+
16
Панкрат 1404, 1407+
17
Леонтий (Елентий) Лубок
1404 без титула (+-), 1407+
18
Юрий Филиппович(Казакович)
1406, 1407
19
Иван Сидорович 1407, 1410, 1411, 1416, 1417, 1426, 1427, 1431, 1434, 1435, 1441
2 Ларион 1406, 1410, 1416, 1417, 1419+2 Изменения, сделанные мной, выделены жирным шрифтам. Комментарии Б.Б. Кафенгауза «убит» или «умер» заменены мной на знак +, обозначающий смерть, вне зависимости от степени естественности ее причин, которая не представляется существенной для настоящего исследования. Нумерация Б.Б. Кафенгауза сохранена и используется нами в дальнейшем. 3 У Б.Б. Кафенгауза Григорий Остафьевич, князь. Это буквальное прочтение летописного отрывка, который А.Н. Насонов считал это опиской летописца, поменявшего местами титулы князя Остафия и посадника Матфея. Поскольку нам неизвестен ни один случай посадничества князя в Пскове рассматриваемого периода, следует, вероятно, присоединиться к мнению А.Н.Насонова.
11
0 Дойникович21
Феодос Феофилович
1409 без титула, 1410, 1416, 1418, 1424, 1426, 1436 степенной посадник
22
Сильвестр Леонтьевич
1409 без титула, 1417, 1424, 1426, 1428, 1432, 1434, 1435
23
Микула Павлович 1410 без титула (+-), 1416, 1418, 1421, 1425,1427+
24
Юрий ТимофеевичВинков
1410 без титула, 1417 без титула, 1423, 1424,1426, 1431, 1432, 1442, 1453 степенной посадник, 1460, 1461, 1464 старый степенной посадник, 1465(1467)+
25
Яким Павлович 1410, 1417 без титула, 1426, 1429, 1431, 1432, 1434
26
Федор Шебалкинич
1411 без титула, 1420 без титула, 1423, 1426,1428
27
Тимофей Тилка 1424 староста церкви Георгия, 1435
28
Иван Ларионович 1425 без титула, 1436
29
Макарий 1426
30
Тимофей (Поткин)
1436 без титула, 1441
31
Максим Ларионович
1443 сын посадника, 1444, 1444\45, 1456, 1460\61, 1462 степенной посадник, 1463 степенной посадник, 1464, 1465+
32
Федор Патрикеевич
1444, 1448, 1449, 1450 степенной посадник, 1456
33
Зиновий Михайлович
1447, 1456, 1461, 1462 степенной посадник, 1463 степенной посадник, 1475\76, 1483
34
Иван Агафонович 1447, 1463, 1464, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475\76, 1480, 1483, 1485\86
35
Леонтий Макарьевич
1448 без титула, 1456, 1464 степенной посадник, 1465 степенной посадник
36
Игнатий Логинович
1448 сын посадника, 1456, 1464, 1465 степенной посадник, 1467
37
Тимофей Власьевич (Васильевич)
1447 (П2Л), 1448 без титула, 1463, 1464, 1465 степенной посадник и староста церкви Троицы, 1466 степенной посадник, 1468 степенной посадник, 1470, 1471
38
Афанасий Юрьевич
1448 сын посадника, 1472
3 Стефан Юрьевич 1448
12
940
Стефан Аристович
1455
41
Алексей Васильевич
1458 степенной посадник, 1463, 1464 степеннойпосадник, 1465, 1466 степенной посадник, 1471, 1472, 1473, 1474, 1474 степенной посадник, 1475\1476, 1477, 1478+
42
Яков Иванович Кротов
1461, 1463 без титула, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1479, 1480, 1482, 1483, 1485
43
Кондрат 1462\1463 соцкий, судья, 1464
44
Федор Никифорович
1463 степенной посадник
45
Дорофей Ольферьевич
1463, 1464
46
Стефан Афанасьевич «Юрьев внук»
1463 без титула, 1466 степенной посадник, 1468 степенной посадник, 1470, 1471, 1473
47
Матута Дионисович
1463 без титула, 1471
48
Микита Ларионович
1464 посадник (по другим сведениям сын посадника), 1472, 1475\1476, 1477, 1483, 1485– 1486
49
Василий Алексеевич
1465
50
Зиновий Сидорович
1471, 1474 степенной посадник, 1476, 1477, 1480, 1483, 1485, 1486
51
Козьма Андронович Тилкин
1472, 1475\1476, 1486
52
Василий Сазонович
1472 боярин, 1477, 1480
53
Козьма Сысоевич(Ледович)
1473, 1474, 1477, 1479, 1480
54
Андрей Иванович 1473 сын посадника, 1476 боярин, сын попов, «рождьякон», 1477, 1485, 1486
55
Терентий Андреевич
1473, 1474
56
Леонтий Тимофеевич
1474, 1478, 1482, 1483 степенной посадник, 1485, 1486, 1495, 1496, 1497, 1498, 1509\1510
57
Василий Логинович
1475 посадник (по другим сведениям без титула), 1477, 1478, 1485, 1486
5 Дорофей 1476 без титула, 1480, 1485
13
8 Гаврилович (Быкович)
59
Стефан Максимович
1475\1476, 1477, 1480, 1483 степенной посадник, 1485, 1499
60
Моисей Федорович
1475\1476
61
Гаврила Картачев
1476, 1484+
62
Моисей Сосонок 1477
63
Иван Теншин 1476 без титула, 1501+
64
Филипп Андревич 1477
65
Кир Алексеевич 1477, 1480, 1483
66
Макарий Васильевич
1480, 1485
67
Филипп Пукышев 1480
68
Василий Епимахович
1484, 1495 степенной посадник
69
Елисей Каплин 1484
70
Григорий Яковлевич Кротов
1485, 1503, 1504
71
Василий Коростовой
1485, 1486
72
Григорий Хрусталев
1485 без титула, 1499, 1500, 1504
73
Яков Афанасьевич Брюхатый
1486, 1495 степенной посадник, 1499
74
Борис Андреевич 1498, 1500, 1504
75
Федор Гаврилович Сокиркин
1499, 1500, 1503
76
Петр Максимович 1499
77
Микула Сысоевич 1500, 1504
14
78
Юрий Елисеевич Копыл
1509, 1510 степенной посадник
79
Михаил Помазов 1509, 1510
80
Иван Яковлевич Кротов
1510 степенной посадник
Приведенная таблица является, конечно, весьма условной ввиду
известной условности летописных данных. Тем не менее, по ней
легко можно проследить пути развития посадничества в XIV – XV
вв.
Псковские летописи не знают посадников до 1308г., под
которым упоминается посадник Борис (№1) в нашем списке. Этот
факт, если и не ставит под сомнение само существование
посадничества в Пскове до XIV века, то, по крайней мере,
заставляет обратить на себя внимание. Новгородские летописи
сообщают нам имя Мирослава, которому было дано посадничество в
Пскове в 1132г.4 Это имя, относящиеся к XII веку, остается
единственным известным нам до начала XIV века. Если молчание
псковских летописей еще можно объяснить вообще скудностью
сообщений за XII – XIII вв., то известия новгородских летописей
особенно примечательны в этом отношении. Мы знаем из них имена
некоторых новгородских пригородских посадников – ладожских,
копороских, торжковских и пр., но практически ни одного имени
псковского посадника. Причем нельзя сказать, что новгородские
летописи не дают нам имен псковичей – они есть, однако никто из
них за более чем сто лет прямо не назван посадником. Первый
известный нам псковский посадник, Борис, упоминается не только в
летописях, но и в псковских актах.5 Его посадничество, как
нетрудно заметить, хронологически следовало за смертью князя
4 Новгородская первая летопись старшего и младшего извода. М. 1950г. С. 235 Новые псковски грамоты. XIV – XV вв. М. 1966 С. 318
15
Довмонта (1299), княжившего в Пскове более 30 лет и ставшего
одним из символов города. Именно его княжение заложило основы
псковской самостоятельности. Возникает резонный вопрос, а не был
ли Борис вообще первым псковским или, по крайней мере,
собственно псковским посадником? Однозначный ответ на него
получить сложно ввиду скудности источников, однако к
положительному ответу на него нас подталкивает не только
практически полное отсутствие упоминаний о посадниках за более
ранний период, но и само время посадничества Бориса. В начале
XIV века Псков начинает бурно расти, мы знаем это как из
археологических источников6, так и из письменных. Собственно
второе упоминание Бориса в летописи (1309г.) связано с
постройкой им стены Среднего города. Можно предположить, что
городской общине, до того сравнительно небольшой по объему, не
требовался специальный городской магистрат, она довольствовалась
периодически появляющимися в Пскове князьями, не отличаясь в
этом отношении от подавляющего большинства русских городов того
времени. Княжение Довмонта, укрепившего, без сомнения, мощь
Пскова и способствовавшее вместе с другими факторами его
территориальному, политическому и экономическому росту, заложило
основы псковской самостоятельности, которая требовала теперь, в
отсутствие князя специального механизма управления, которым и
стало посадничество, заимствованное или привнесенное, вероятно,
из Новгорода. Как же проросли эти новгородские семена на
псковской почве?
Как нетрудно заметить из приведенной выше таблицы, по
крайней мере, до 1343 г. количество посадников не превышало
одного. Нам известно три таких «единовластных» посадника: Борис
6 Плоткин К.М. Концы Пскова на начальном этапе сложения городской территории.// Древний Псков. Исследования средневекового города. СПб. 1994. С.32
16
(№1), Селила Олексич (№2) и Шелога (№3). Примечательно, что в
отношении всех троих нам известна дата смерти и, соответственно,
окончания их посадничества. Здесь важно отметить, что в отличие
от Новгорода, чьи источники пестрят выражениями типа: «отъяша у
… посадничество и даша ….» или «оставиша посадничество», в
Пскове нам неизвестен другой механизм смены посадника, кроме
естественного. Забегая вперед, нужно сказать, что это в равной
степени справедливо для всей псковской истории периода
самостоятельности, что делает, на наш взгляд, все предположения
об избрании посадников на вече7 или на кончанских собраниях8,
лишенными всякой опоры на источники.
Начиная с 1343 года, когда посадничества разных персоналий
накладываются хронологически друг на друга, можно говорить о
посадничестве нескольких человек одновременно. Вместе с тем,
первое упоминание нескольких посадников одновременно в одной
формуле относится только к 1404г9. Точное время оформления
института коллективного посадничества является предметом жарких
историографических споров. Кажется, однозначно решить этот
вопрос невозможно; ограничимся констатацией того, что оно
оформилось во второй половине XIV в.
Нетрудно заметить, что количество упоминаемых под одним
годом посадников неизменно растет. Так, за 1343г. упоминаются 3
посадника (№ 5, 6, 7), за 1397 – 4 (№ 12, 13, 14, 15), за 1407 –
6 (№ 13, 15, 16, 17, 18, 19), за 1463 – 8, достигая к 1486г.
максимального количества – 1610. Указанные числа не могут,
однако, быть признаны окончательными по следующим причинам. Во-
первых, это подтверждается тем фактом, что летопись не содержит
7 Никитский.А.И. Очерк внутренней истории Пскова. СПб, 1873 С. 1538 Колосова И.О. «А посадникам доложить господина Пскова на вече..»9 Псковсие летописи. Выпуск I. Л. 1941С. 2710 Кафенгауз Б.Б. Древний Псков. С. 59
17
ни одного упоминания об отрешении посадника от должности за весь
период с 1308 – 1510гг. Вместе с тем упоминается о смерти 16
посадников из нашего списка, и всегда они упоминаются как
посадники. Значит, как уже говорилось выше, посадничество было в
Пскове пожизненным. То есть, став посадником, человек оставался
им до самой смерти. Следовательно, например, Ларион Дойникович
(№20), упомянутый в качестве посадника в 1406 и 1410гг., был
посадником и в 1407, что увеличивает количество посадников в
1407 с 6 (см. выше) до 7. Во-вторых, как справедливо заметил
С.А. Никонов,11 мы не можем быть уверены, что летопись дает
полное число посадников, часть из которых могла выполнять какие-
либо функции вне города, не попав в число упомянутых летописцем
в связи с каким-либо событием внутри него. Таким образом, мы
можем констатировать лишь непрерывный рост количества
посадников, без точных цифр.
Увеличение количества посадников, конечно, не осталось без
внимания исследователей. Попытку объяснить причину этого явления
предприняла И.О. Колосова. В своих работах исследовательница
последовательно отстаивала мнение, что рассматриваемый процесс
напрямую связан с увеличением количества концов Пскова и ростом
числа представителей этих концов в посадничем совете Пскова.12
Вот как И.О. Колосова трактует изменение количества упоминаемых
посадников: «Уже с конца 50-х гг. наблюдается тенденция к
увеличению числа членов боярского совета. В начале 60-х гг. в
его составе уже не менее 10—12 человек. Для 70—80-х гг.
зафиксировано максимальное количество посадников—16. Увеличение
числа посадников было связано как с введением представительства11 Никонов С.А. Отражение института посадничества в псковском летописании 1-й половины XV века // Археология и история Пскова и псковской земли. Псков 2006. с. 141 – 15112 Колосова И.О. Псковские посадники первой половины XIV века // АИППЗ, Псков 1986 С. 32, Колосова И.О. «А посадникам доложить господина Пскова на вече…»
18
от двух запсковских концов — Богоявленского и Кузьмодемьянского,
так и с увеличением норм представительства от старых концов.
Можно предположить, что каждый из старых концов посылал в совет
по три своих представителя (т. е. всего 12), а каждый из новых,
запсковских — по два (всего 4)».
Кажется, впрочем, что количество посадников в кончанском
представительстве вычисляется исследовательницей, исходя из
количества упоминаемых за тот или иной год посадников таким
образом, чтобы получить заранее известный результат. Оставив в
стороне вопрос о боярском совете, который будет разбираться нами
ниже, обратимся к теме кончанского представительства. Как
неоднократно отмечали исследователи, понятие конец или концы
начинают упоминаться в псковских источниках довольно поздно,
начиная с середины XV века, причем львиная доля их упоминаний
приходится на летописные формулировки, описывающие различные
официальные церемонии: встречу Софьи Палеолог13 или отправку
посольства к великому князю или в Новгород. В контексте
внутренней жизни Пскова концы упоминаются лишь один раз в
рассказе о делении псковских пригородов между концами при помощи
жребия. Нужно согласиться с тем, что для позднего периода, т.е.
последней трети XV века, административное деление Пскова на
концы было реальностью. Однако у нас нет никаких оснований
полагать, что подобно Новгороду в Пскове деление на концы
предшествовало периоду роста города (1308 – 1465). Скорее,
учитывая позднее появление термина в источниках, стоит
предположить, что деление на концы было произведено уже во
второй половине XV века, когда потребовалось разделить уже
увеличившийся город на административные единицы, за образец для
подражания была взята новгородская система концов. Заметим, что,13 Псковские летописи. Вып. I. С. 74
19
к тому же, в отличие от разделенного Волховом Новгорода, в
Пскове не было таких естественных условий, которые могли бы
поспособствовать первоначальному разделению на концы. Более
того, Псков начала XIV века – очень небольшой город,
ограниченный Кромом и Довмонтовым городом. После постройки стен
Среднего города (стены посадника Бориса) вся жилая застройка
Крома и Довмонтова города была уничтожена, а его жители были
перемещены в пределы нового пояса крепостных стен.
Несмотря на все противоречия, идея о кончанском делении
Пскова, по аналогии с Новгородом, стала общим местом в
исследованиях средневекового Пскова еще с XIX в. Позднее
появление концов в источниках либо игнорировалось
исследователями, либо находило какие-либо подчас весьма странные
объяснения. Так, например, И.К. Лабутина писала: «Впервые такое
употребление [понятия концы – А. Вовин] встречается под
1449/1450г., но оно ни в коей мере не свидетельствует о
возникновении кончанской системы именно в это время, а говорит
лишь об отсутствии необходимости [выделено мной – А. В]
упоминания концов ранее».14 При этом исследовательница полагает,
что Псков подобно Новгороду образовался из соединения различных
концов. Такое объяснение, конечно же, вряд ли можно считать
удовлетворительным.
И.О. Колосова признает, что, возможно, концы сложились не
ранее конца XIV века, но при этом считает их основной
административно-территориальной единицей Пскова. Нельзя ни
обратить внимание на определенное противоречие, заключенное в
последнем высказывании.
При этом сложно отрицать рациональное зерно, содержащееся в
гипотезе И.О. Колосовой. Действительно увеличение количества14 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV – XV вв. М. 1985С. 130
20
посадников происходило одновременно с ростом города, параллельно
с ним. Увеличение населения города сопровождалось и его ростом,
т.е. все новые и новые территории, бывшие до этого псковским
посадом, окружались крепостными стенами (1309г. – 1375г. –
1465г.), а его жители из категории посажан переходили в
категорию мужей-псковичей.15 Нельзя, конечно, утверждать, что эти
явления непосредственно связаны, однако можно констатировать тот
факт, что с увеличением населения города увеличивалось и
количество посадников.
Исследователи давно отмечают наследственность
посадничества16. Б.Б. Кафенгауз вычленил 12 условных семей давших
Пскову суммарно 29 посадников. Для вычленения таких семей
исследователь пользовался таким ненадежным, по его собственным
словам, инструментом, как сопоставление имен и отчеств
упоминаемых посадников.17 Непонятно только, почему Б.Б. Кафенгауз
остановился именно на такой цифре: если воспользоваться его же
методом, то конечный список окажется длиннее. Ниже приводится
такой, расширенный мной, перечень семей посадников.18
1. Борис (№1) – Илья Борисович (№4) – Онтон Ильич («сын
посаднич»)
2. Леонтий Костромя (№10) – Захарья Костроминич (№12)
3. Ефрем Картач (№13) – Арист Картачев – Стефан Аристович
(№40)19 – Гаврила Картачев (№61)
4. Сидор - Роман Сидорович (№15), Иван Сидорович (№19)
15 Белецкий С.В. Средневековый Псков. Опыт периодизации.\\Древний Псков. Исследования средневекового города. СПб 1994 С. 4716 Никитский А.И. С. 146-14917 Кафенгауз Б.Б. С. 51-5218 Подчеркиванием выделены отдельные посадники и семьи, добавленные мной к списку Б.Б. Кафенгауза.19 Никитский А.И. С. 148
21
5. Ларион Дойникович (№20) – Иван Ларионович (№28), Максим
Ларионович (№31), Микита Ларионович (№48) – Петр
Максимович (№76)
6. Макарий (№29) – Леонтий Макарьевич (№35)
7. Юрий Тимофеевич (№24) – Афанасий Юрьевич (№38), Стефан
Юрьевич (№39), Стефан Афанасьевич («Юрьев внук») (№46)
8. Леонтий Лубок (№17) – Сильвестр Леонтьевич (№22)
9. Тимофей Тилка (№27) – Козьма Андронович Тилкин (№51)
10. Яков Иванович Кротов (№42) – Григорий Яковлевич Кротов
(№70), Иван Яковлевич Кротов (№80)
11. Иван Агафонович (№34) – Андрей Иванович («сын
посаднич») (№54) – Терентий Андреевич (№55), Филип
Андреевич (№64)
12. Игнатий Логинович (№36), Василий Логинович (№57)
13. Тимофей Власьевич (№37) – Леонтий Тимофеевич (№56)
14. Федор Никифорович (№44) – Моисей Федорович (№60)
15. Алексей Васильевич (№41) – Кир Алексеевич (№65)
16. Сысой (№14) – Козьма Сысоевич (Ледович) (№53), Микула
Сысоевич (№77)
17. Елисей Каплин (№69) – Юрий Елисеевич Копыл (№78)
Список, как мы видим, вырос до 17 семей и включает 49
посадников, что составляет 61% от всех известных нам имен (80).
На примерах семей Сысоя (номер 16 в списке семей), Лариона
Дойниковича (5) и Ефрема Картача (3) прослеживается долгое,
более чем вековое, непрерывное, по всей видимости, наследование
посадничества. Учитывая то, что нам известны имена не всех
псковских посадников рассматриваемого периода, которые могли бы,
возможно, заполнить существующие лакуны и связать семейными
узами неохваченных нашим списком посадников, можно сказать, что
посадничество постепенно становится наследственным, передаваемым22
в кругу нескольких семей. Учитывая то, что, как уже говорилось
выше, посадничество было еще и пожизненным, мы можем утверждать,
что, начиная со второй трети XIV века, оно трансформируется из
должности городского магистрата в патрициат, т.е. сословие, или,
вернее, протосословие.
Такое превращение делало вакантным место магистрата, и с
начала XV века появляется новая должность – степенной посадник.
Первое упоминание этой должности именно в такой форме относится
к 1436г., когда таким образом именуется Феодос Феофилович (№21).
Вместе с тем, есть все основания утверждать, что этот институт
сложился еще раньше – в конце XIV – начале XV века.
В летописных известиях начала XV века нередки упоминания
отдельно одного посадника по имени и с ним «всех посадников
псковских». Вероятно, в первом случае речь идет о неком
посаднике, имеющем особое значение. Подтверждение этому мы
находим и в актовом материале.
В договоре Пскова с Ливонским орденом 1417г.20 читаем:
Dar umme heft unsere herschaft uns utgesandt, de borgermeister von Pleskow
und alle Plekowe (нас послали наши власти, псковский посадник и весь Псков).
Очевидно, что в данном случае, под borgermeister von Pleskow
подразумевается не один из многочисленных уже в 1417г.
посадников, а особенный посадник, представлявший собой власть –
псковский посадник.
Прилагательное степенной, нужное для различения посадника
как магистрата и посадника, представителя посадничего сословия,
в этот момент еще не появилось, слово посадник обозначало и то, и
другое.
В этом смысле посадник употребляется и в 3-й статье ПСГ:
20 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. С. 318
23
А которому посаднику сести на посадниство, ино тому посаднику крест
целовати на том, что ему судит право по крестному целованию, а городскими
кунами не корыстоватися, а судом не мстится ни на кого ж, а судом не
отчитись, а правого не погубити, а виноватого не жаловати, а без исправы
человека не погубити ни на суду на вечи.
Здесь мы видим посадника, который может сесть на
посадничество, - странное на первый взгляд выражение, которое
легко объяснить, если принять во внимание двойное значение слова
посадник во время создания первой редакции ПСГ (1397г.). Однако
долго такая дихотомия значений существовать в языке не может, и
он вырабатывает прилагательное степенной.
Степенной посадник был уже в отличие от просто посадника, как
представителя сословия, именно должностью, сменяемым городским
магистратом. Это хорошо видно из списка Б.Б. Кафенгауза, где мы
видим, что большинство таковых, будучи упомянуты в какой-либо
год в качестве степенного посадника, затем именуются просто
посадниками, а степенными в свою очередь становятся другие. О
механизме такой смены у нас нет практически никаких данных, во
всяком случае, ничего подобного избранию источники не знают.
Единственным косвенным свидетельством может служить уже
цитировавшаяся выше 3-я статья ПСГ. Фразу а которому посаднику
сести на посадниство можно трактовать как своеобразный эллипсис,
т.е. а какому посаднику придет очередь сести на посадничество. Это,
однако, лишь предположение, но можно заметить определенную
закономерность в распределении этой должности между посадничьими
семьями в середине XV века. Источники упоминают только двух
человек (№44 и 80) сразу в качестве степенных посадников, не
упоминая их перед этим как просто посадников. При этом их
принадлежность к посадничеству очевидна ввиду того, что оба они
происходили из посадничьих семей (см. выше). Во всех остальных24
случаях в известиях за годы, предшествующие степенному
посадничеству того или иного из наших персонажей, он обязательно
упоминается как посадник. В таком же ключе стоит понимать и уже
много раз цитировавшуюся статью ПСГ. Из фразы а которому посаднику
сести на посадниство непосредственно следует, что степенным
посадником мог стать только посадник. Это служит дополнительным
доказательством того, что посадничество в целом было именно
сословной группой – его юридически закрепленным преимуществом
перед другими группами было исключительное право на занятие
высшей государственной должности.
Число степенных посадников, пребывающих одновременно в
степени, росло на протяжении всего XV века. В представлении
большинства исследователей максимальным количеством было два
степенных посадника одновременно. Лишь Б.Б. Кафенгауз признает,
что «летопись не дает на этот счет вполне точных указаний».21
Между тем, как нетрудно заметить из составленного самим
исследователем списка, в 1463г. упоминаются 3 степенных
посадника – Максим Ларионович (№31), Зиновий Михайлович (№33) и
Федор Никифорович (№44), такое же количество в 1466г. – Тимофей
Власьевич (№37), Алексей Васильевич (№41) и Стефан Афанасьевич
(№46).
Вместе с тем, действительно, чаще всего степенных посадников
было именно два. Возможно, в упомянутые годы (1463 и 1466) по
каким-либо политическим причинам потребовалось увеличение
количества степенных посадников. Вообще стоит, пожалуй,
согласиться с А.И. Никитским, полагавшим, что коллективное
степенное посадничество служило для уравновешивания интересов
различных посадничих кланов или семей.
21 Кафенгауз Б.Б. С. 54
25
Стоит отдельно коснуться понятий старый посадник (старые
посадники), встречающееся как в летописном, так и в актовом
материале, и старый степенной посадник, отмечаемое единственный
раз в П1Л применительно к Юрию Тимофеевичу (№24). Большинство
исследователей сходится на том, что под старыми посадниками
подразумеваются бывшие степенные посадники, имеющие особый
статус экс первых лиц города. Особого мнения придерживался Б.Б.
Кафенгауз, полагавший, что старый следует понимать как
«застаревший в должности», то есть не бывший, а опытный,
неоднократно становившийся степенным. Исследователь проводит
аналогию со старым конюхом из Русской Правды, которого никто не
пытался трактовать как бывшего.22 Несмотря на элегантность
аргументации Б.Б. Кафенгауза, мы примкнем в этом вопросе, не
имеющем большого значения для нашей темы, к мнению большинства,
т.к. контекст большинства употреблений «старых посадников» не
подтверждает его версию.
Здесь уместно поднять вопрос о существовании в Пскове
посадничего совета. Он, начиная с работы А.И. Никитского, стал
историографическим стереотипом в исследованиях по псковской
истории. Его существование никто даже не пытался оспорить. Между
тем источники не знают упоминаний такого властного института.
Иногда с ним отождествляют господу из ПСГ. Однако в этом
памятнике права она упоминается только в контексте принятия
судебных решений.
Так 10-я статья ПСГ гласит: О лешеи земли будет суд, а положат
грамоты и двои на одну землю, а зайдут грамоты за грамоты, а исца оба
возмут межников, да оба изведутца по своим грамотам, да пред господою
ставши межником межничество сьимут ино им присужати поле.
22 Кафенгауз Б.Б. С. 49
26
Речь идет о земельном споре. Иллюстрацию правоприменительной
практики по этой статье дает нам грамота 1483г.
Перед господином псковским Ярославом Васильевичем и перед посадники
степенные перед Левонтием Тимофеевичем и перед Степаном Максимовичем и
перед соцкими на сенех, стоя на суде игумен… и князь псковский Ярослав
Васильевич и посадники степенные и соцкие вспросили обоих с обою сторон:
снимаете ли с межников межничство…23
Грамота недвусмысленно показывает нам состав господы: в нее
входил князь, степенные посадники и соцкие. Ни о каком
посадничем совете, сформированном на основе кончанского
представительства, речь не идет.
Часто совет посадников исследователи выводят на основе
проведения аналогий с Новгородом. Так, И.О. Колосова пишет: «Все
исследователи отмечают принципиальную однородность социально-
политических структур Новгорода и Пскова».24 Затем
исследовательницей делается вывод, что если в Новгороде был
совет посадников, то он был и в Пскове. Думается, что такой
бездоказательный перенос новгородских реалий - тоже, заметим, не
бесспорных - на псковскую почву абсолютно недопустим.
Таким образом, единственным основанием предполагать
существование в Пскове посадничего или боярского совета может
служить летописные формулы-рефрены: «посадники и псковичи
послаша», «посадники издумаша». Понимание такого коллективного
«посадники» как свидетельства существования особого
коллективного органа исполнительной власти – следствие
буквального прочтения летописи, некритического отношения к
источнику. В таком случае более пространный вариант этой формулы
- А князь псковский, и посадники псковски, и боляря, и купцы, и добрые люди, и
23 ГВНП. С. 326 – 32724 Колосова И.О. «А посадникам доложить господина Пскова на вече..»
27
вси мужи псковичи – также следует трактовать в том смысле, что в
Пскове существовали еще отдельные советы бояр, купцов и «добрых
людей». Более подробно подобные формулы и их эволюцию мы
разбираем в разделе, посвященном княжеской власти. Здесь же
ограничимся утверждением, что перед нами лишь властная формула
легитимации тех или иных политических решений, нарративная
конструкция, придающая законность тем или иным действиям через
описание согласия различных социальных групп, к которым
относится и посадничество. Стоит добавить, что в отличие от
Новгорода, где тоже небесспорный совет господ имеет хотя бы
приблизительную локализацию – на дворе архиепископа,
предполагаемый совет посадников в Пскове остается вне
физического пространства. Идее о существовании в Пскове
посадничего совета противоречит и существование коллективного
степенного посадничества. Действительно, если предположить, что
одновременно сосуществовали три (не будем забывать еще и про
вече, речь о котором впереди!) коллективных органа власти, то
становится непонятным принцип разделения между ними властных
полномочий, и вообще сам смысл их существования.
Все вышесказанное, конечно, не может доказать отсутствия в
Пскове такого органа, как совет посадников, более того, можно
предположить, что представители сословной группы посадников
иногда собирались для обсуждения каких-либо политических
решений. Однако утверждение о постоянном функционировании в
Пскове такого органа исполнительной власти, принимающего все
оперативные политические решения, - исключительно умозрительная
конструкция, основанная на сомнительных аналогиях и лишенная
опоры на источники.
Ключевым вопросом для понимания сущности псковского
посадничества является вопрос о социальной принадлежности28
посадников. Выше уже немало говорилось о трансформации этого
изначально политического института в протосословие. Насколько
оно было открытым, можно ли было стать псковским посадником,
принадлежа изначально к другой социальной группе? Мы можем
проследить биографии лишь некоторых посадничих родов, не бывших
таковыми в XIV веке, но ставших посадничими в XV веке. Так,
например, самое раннее известие о Якове Ивановиче Кротове (№42)
называет его купецким старостой: «повелением раба божия старосты
купецкого Якова Ивановича Кротова и всех рядович купцов».25 Сам
он затем становится посадником, а его сын Иван Яковлевич Кротов
был степенным посадником во время известных событий 1510г. Можно
ли говорить о широкой возможности вхождения некоторых
представителей купцов в состав посадничего сословия? Наверное,
для этого у нас слишком мало данных, но даже этот единичный
случай показателен. Другим примером может служить упоминание
Андрея Ивановича (№54) как «сына попова» и «рожьдякона». Вместе
с тем, перед этим он назывался «сыном посадничим» и «боярином»,
что создает некоторое противоречие, которое А.Н. Насонов
объяснял одновременным посадничеством двух Андрей Ивановичей.
Как бы то ни было, вопрос о возможности «сына попова» стать
посадником остается открытым.
Приведенные выше примеры слишком малочисленны, чтобы делать
на их основе широкие обобщения, однако и говорить о том, что
посадничья сословная группа было сугубо закрытым социальным
слоем, также не приходится.
Вне зависимости от «демократического» или «олигархического»
взгляда на псковскую историю, исследователи единодушно
высказывают мысль о принадлежности посадников к псковскому
боярству как социальной группе, породившей посадничество как25 Псковские летописи. Вып. I. C. 60, 71
29
политический институт. Так, А. И. Никитский рассматривает
последнее как средство выражение интересов класса бояр, а во
введении двойного степенного посадничества видит попытку
подстраховать боярство от возможной измены какого-либо посадника
интересам своего класса. Вслед за ним все исследователи в XX
веке называли посадничество надстройкой боярской знати, ее
верхушкой. Последнее утверждение при внимательном рассмотрении
источников не находит в них серьезного подтверждения.
Прежде всего, стоит отметить, что лишь очень небольшое
количество посадников называются боярами в своей предшествующей
посадничеству биографии. К таковым можно отнести уже упомянутого
выше Андрея Ивановича (№54) и Василия Сазоновича (№52). Часто
встречается утверждение о принадлежности посадников к боярству,
основанное на толковании следующего летописного рефрена:
Юрия посадника Тимофеевича и иных боляр с ним26.
Подобного рода формулировка, свидетельствующая о соотнесении
посадников и бояр, действительно часто встречается в псковских
летописях. Однако стоит отметить тот факт, что первые упоминания
бояр вообще относятся к довольно позднему периоду – концу XIV
века:
1394г. Первое упоминание: Князя копороского оубиша Ивана и других
боляр27.
Если следовать логике, которой придерживаются исследователи,
трактуя «посадника и иных боляр», то получается, что и князь
копороский Иван тоже принадлежал к боярству, что сложно себе
представить в реалиях конца XIV века, ведь сочетание «князь
боярин…» сформировалось уже в конце XV – начале XVI века в
Московском государстве для обозначения служилых князей.
26 Псковские летописи. Вып. Ι. С. 3727 Там же. С. 25
30
Вероятно, в рассматриваемом отрывке «боляр» следует понимать как
«значимых людей» в самом широком смысле. Первым особенности
употребления термина боярин в псковском летописании отметил В. А.
Аракчеев, высказавший предположение, что он обозначал скорее
должность, а не поисхождение.28
То, что термин боярин имел самое широкое значение,
подтверждается и другими случаями его употребления в псковских
источниках первой половины XV века:
А немецких князей и боляр избиша много29
Очевидно, что, говоря о немецких боярах, летописец имел в
виду тяжеловооруженных воинов. Еще более интересен следующий
отрывок:
И оубиша … боляр много и сельских людей30
Здесь бояре противопоставляются сельским людям, т.е.
занимают место мужей-псковичей, отождествляются с ними, ведь
именно последних и летописи и ПСГ обычно противопоставляет
«сельским людям». В таком же духе трактуются два следующих
отрывка, помещенные в одну погодную статью за 1449г.:
а князь псковский и посадники псковские и бояре выехаша….
а князь псковский и посадники псковские и мужи псковичи…31
Здесь уже практически прямо ставится знак равенства между
мужами-псковичами и боярами. Близко к понятию бояре лежит и
понятие «добрые люди», которое начинает встречаться в летописях
примерно одновременно с боярами.
1453г. И князь псковский Василий Васильевич и посадник степенной
Юрий Тимофеевич и иных посадников и добрых людей и бояр много32
28 Аракчеев В. А. Средневековый Псков. Власть, общество, повседневная жизньв XV-XVII веках. 29 Там же. С. 3130 Там же.31 Там же. С. 5032 Там же.
31
1455г. И с ним бояр добрых людей много33
Мы не будем смело утверждать, что понятия мужи-псковичи,
добрые люди и бояре тождественны, однако нет сомнения в том, что в
первой половине XV века последнее понятие имело в Пскове весьма
широкий смысл и не обозначало узкую прослойку земельной
аристократии. Заметим, что в ПСГ понятие боярин не встречается
вообще, а в актовом материале прослеживается только начиная с
1463г.
От княжа псковского Ивана Александровича и от посадника псковского
степенного Максима Ларионовича и от всех посадников псковских и от бояр
псковских и от купцов и от всего Пскова34
Примерно начиная с середины XV века частотность упоминания в
источниках понятия «боярин» резко возрастает. Появляется
устойчивое сочетание «бояре со всех концов», они начинают
указываться как составная часть посольств.
1456г. И посадники псковские и боляря и вси мужи псковичи35
1460г. И посадники псковские и боляря изо всех концев36
1461г. И послаша послов в Великий Новгород, Юрия посадника
Тимофеевича, Максима посадника ларионовича и бояр со всех концов37
Вместе с тем «боляре» продолжают использоваться и в
расширительном смысле, например, по отношению к немцам: иных
немец боляр много38 (1463г.). Подводя промежуточные итоги, нужно
сказать, что у нас нет никаких оснований видеть в псковских
боярах, по крайней мере, до середины XV века некое подобие
новгородским, т.е. сложившуюся сословную группу, элиту,
вершителей судеб Пскова. Тенденции к укрупнению земельной
33 Там же. С. 5234 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. 1949 С. 31835 Псковские летописи. Вып. I. С. 5436 Там же. С. 5737 Там же.38 Там же. С. 67
32
собственности, возможно, и привели к некой консолидации боярства
во второй половине XV века, однако, как неоднократно замечали
исследователи,39 в Пскове до его окончательного присоединения к
Московскому государству не было служилого землевладения.
Боярство оформляется в устойчивую социальную группу не ранее
середины XV века, и уж конечно, оно не могло породить
посадничество, сформировавшееся до того – на рубеже XIV – XV вв.
Скорее оформление боярства стало следующим этапом в процессе
социально-экономической дифференциации населения Пскова,
наблюдаемом на всем протяжении рассматриваемого периода (1308 –
1510гг.), что нашло свое отражение в событиях 1483-1486гг.
Археологические данные подтверждают тезис о социальной
однородности населения Пскова начала XIV века. Так, в
соответствующем культурном слое не было обнаружено ничего
подобного новгородским боярским усадьбам. Напротив, как писал
Г.В. Борисевич, в раскопе, открывшем слой застройки начала XIV
века в пределах стены посадника Бориса, «поражает миниатюрность
дворов».40 Все дворы обладают практически равными земельными
придомовыми территориями. К схожим выводам приходит и К.М.
Плоткин, пишущий о равном «перераспределение земельных владений
в пределах городской территории между «мужами-псковичами».41
Ретроспективный анализ ситуации конца XV века, проведенный Н.Н.
Маслениковой на основе анализа писцовых книг XVI века показал
увеличившиеся наделы (за пределами собственно города, конечно, в
самой Псковской земле) землевладельцев, но несопоставимые с
владениями новгородских бояр.
39 Мартысевич И.Д. Комментарий к Псковской судной грамоте // ПСГ. М. 1951. С. 9440 Борисевич Г.В. О деревянном зодчестве Пскова. // АИППЗ. Псков. 1982 С. 2341 Плоткин К.М. Концы Пскова на начальном этапе сложения городской территории.// Древний Псков. Исследования средневекового города. СПб. 1994. С. 32
33
В некотором смысле мы можем обратиться к старому тезису А.И.
Никитского, который писал об архаичности псковской политической
культуры начала XIV века. Исследователь видел архаику в
доминирующей роли боярства, мешавшего развитию «демократической
партии». Мы же можем констатировать на материале как
археологических материалов, показывающих отсутствие выраженного
имущественного расслоения населения Пскова этого периода, так и
письменных источников, не знающих свидетельств о социальном (и,
соответственно, экономическом) неравенстве, что и система
управления была архаична. Город не был стольным, князья там, как
мы увидим ниже, бывали редко, посадник был один и пожизненный. В
этом смысле Псков мало отличался от тогдашних новгородских
пригородов или псковских пригородов более позднего периода. Рост
города сопровождался социально-экономическим расслоением
населения и, одновременно, развитием системы управления. Эти
вопросы должны изучаться комплексно. Чтобы понять причины
социальной дифференциации в Пскове XIV – XV вв., появления
различных социальных групп и, соответственно, понять их
происхождение мы должны ответить на вопрос об экономической
основе возвышения Пскова. Каковой она была, если нам не удается
найти в Пскове XIV – XV вв. крупного вотчинного землевладения?
Ответ на этот вопрос нужно искать, по всей видимости, в основе
экономического могущества псковской земли – торговле с
Ливонией.42 Дальнейшее изучение развития посадничества, боярства
и других социальных групп псковского общества, развитие которых
из социально однородной среды псковского населения начала XIV
века и привело, вероятно, к усложнению структуры управления,
неотделимо от изучения социально-экономического развития Пскова
в XIV – XV вв.42 Бережков М. H. О торговле Руси с Ганзой до конца XV в.
34
§ Князь
Князь одна из самых плохо изученных фигур псковского
политического ландшафта. В работах многих исследователей они
остаются своеобразными статистами, в то время как основной фокус
внимания направляется на социальный состав веча и складывание
боярской олигархии. Одним из первых к проблеме княжеской власти
в Пскове обратился А.Е. Никитский. По его мнению, власть князя
была изначально в Пскове слабой. Причиной этому служило
подчиненное положение последнего по отношению к Новгороду. В
князе, присланном из старшего города, псковичи видели лишь
«слугу новгородского веча». Соответственно, после обособления от
Новгорода псковичи продолжали взирать на князей как на главного
исполнителя роли веча, теперь уже псковского.43 Сугубо
подчиненное положение князя по отношению к вечу исследователь
иллюстрирует пассажем из Псковской I летописи (далее - П1Л), в
котором псковичи послаша князя Григория послом. По мнению А.И.
Никитского, приведенный отрывок однозначно указывает на
подчиненное положение князя по отношению к вечу. Фигуру князя он
рассматривает статично, без учета возможного развития института
княжеской власти.
Мы не можем согласиться с исследователем вот по каким
причинам. Во-первых, фразы псковичи послаша князя Григория и
последующая от Пскова целовал крест князь Григорий44 совершенно не
обязательно вслед за А.И. Никитским понимать буквально, как
принятое вечевым собранием решение отправить послом князя
43 Никитский А.И. Очерк внутренней истории Пскова. СПб, 1873. С. 12444 Псковские летописи. Выпуск Ι. С. 25-26
35
Григория, которому тот послушно подчинился. Речь, в данном
случае, может идти и о том, что решение князя Григория поехать
на заключение мира было лишь санкционировано, а не предписано
псковичами. Не стоит забывать, что князь Григорий вместе с двумя
посадниками поехал заключать мир с Новгородом, который
представлял посадник и тысяцкий, значимость которых в
политической системе Новгорода начала XV века вряд ли может быть
поставлена под сомнение. Следовательно, и заключение мира
следует понимать скорее как встречу высших должностных лиц,
имеющих право на принятие решений, чем как формальный акт
подписания договора «слугами веча». Князь Григорий, конечно,
вместе с посадниками были теми, кто мог представлять весь Псков,
целуя от него крест, что говорит об особом положении князя,
отличным от простой роли военачальника, которую ему приписывал
А.И. Никитский.
Вторым аргументом против концепции А.И. Никитского может
служить отсутствие прямых указаний на то, что в ранний период
псковской истории князья в Псков назначались из Новгорода.
Предположение исследователя о таких назначениях основано
исключительно на упоминаниях в новгородских летописях
пригородских князей. Между тем, в последнее время в
историографии преобладает мнение о том, что Псков вообще никогда
формально не был новгородским пригородом, что у него был
промежуточный статус младшего союзника.45
Следующим, обратившим пристальное внимание на проблематику
княжеской власти в Пскове, стал Ю.Г. Алексеев.46 Его взгляд на
фигуру князя в псковской истории коренным образом отличается от45 См.: Колотилова С.И. К вопросу о положении Пскова в составе Новгородской феодальной республики. // История СССР. 1975. №2. с. 145 – 152; Янин В.Л. Болотовский договор о взаимоотношениях Новгорода и Пскова в XII – XIV вв. // Отечественная история 1992, № 6. С. 3-1446 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная Грамота и ее время. С. 21
36
взгляда А.И. Никитского. В представлении Ю.Г. Алексеева князь –
самостоятельная фигура псковской политики, получившая в свои
руки широкие полномочия управления псковскими пригородами через
своих людей. По мнению Ю.Г. Алексеева, власть князя ограничила
полномочия веча, отобрав у последнего право суда. Ключевым
аргументом в пользу такой интерпретации стали статьи Псковской
Судной грамоты (далее ПСГ), посвященные разделению судебных
полномочий.47
Ст. 3. … а без исправы человека не погубити ни на суду на вечи.
Трактовка этой формулировки, завершающей, вероятно, текст
клятвы посадника при вступлении того в должность48, неоднозначна.
И. Энгельман49 понимал это как ни на суду, ни на вече. Здесь он видел
противоречие со следующей статьей, в которой, по его мнению,
запрещался суд на вече как таковой. Отсюда исследователь делал
вывод о разном времени создания статей. Как нам кажется, что 4-я
статья (А князь и посадник на вече суду не судять, судити им на оу князя на
сенях…) лишь устанавливает запрет посаднику судить суд на вече,
но не запрещает сам суд на нем или участие в нем в любом другом
качестве посадника. В.О. Ключевский также понимал этот отрывок
как ни на суду ни на вече. По его мнению, погубить на суду значило
выдвинуть несправедливое обвинение в преступлении, а погубить на
вече означало «политически очернить». Л.В. Черепнин и А.И.
Яковлев понимали этот отрывок скорее как на суду на вече, приводя в
качестве доказательств известные нам по летописям случаи такого
суда50. Ю.Г. Алексеев прямо не комментирует этот отрывок, однако
47 Речь идет, прежде всего, о формулировке князь … на вече суду не судит из 5 статьи Псковской Судной Грамоты48 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная Грамота. Текст. Комментарии. Исследование. С. 58. 49 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, содержащихся в Псковской Судной грамоте. СПб. 185550 Черепнин Л. В., Яковлев А. И. Псковская Судная грамота (Новый перевод и комментарий) // Исторические записки. Том 6. 1940 г. С. 263-297
37
далее он поясняет начало ст. 4 как запрет на вечевой суд вообще
и выражает сомнение в том, что тот когда-либо существовал.51 Мы
склонны согласится с трактовкой Л.В. Черепнина и А.И. Яковлева,
так как такое понимание более согласуется с нормой 4-й статьи,
гласящей:
Ст. 4. А князь и посадник на вече суду не судять, судити им оу князя не
сенех…
Эта норма лишь запрещает князю и посаднику судить суд на
вече. Нет никаких оснований утверждать, что она запрещает такой
суд в принципе. Это подтверждается тем фактом, что из летописных
источников, как уже говорилось выше, нам известны случаи
вечевого суда, причем в хронологический период, следующий за
1464г. - условной датой появления последней редакции Псковской
Судной Грамоты. В этом свете мнение Ю.Г. Алексеева считавшего,
что статья 4 отменяет вечевой суд, представляется недостаточно
обоснованным. Такое мнение идет вразрез и с зафиксированной 108-
й (третье и последнее прямое упоминание веча в тексте ПСГ)
статьей нормой, в которой как раз закрепляется право веча
изменять содержание ПСГ и устанавливается отчетность посадника
перед вечем. Речь, таким образом, вряд ли может идти о получении
князем всей полноты неразделимой судебной власти, тем более, что
даже в случаях с делами, входящими в юрисдикцию князя, суд по
ним проходил с участием посадника и господы. Случаи такого суда
известны нам и по актовому материалу.52
Конструкция Ю.Г. Алексеева имеет еще один существенный
недостаток. Она статична, в ней нет динамики, что, конечно,
легко объясняется спецификой источника, на котором построена вся
его работа, т.е. Псковской Судной Грамоты. Непреодолимые51 Алексеев Ю.Г. Псковская Судная Грамота Текст. Комментарии. Исследование. С.5952 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. 1949. С. 323
38
противоречия заголовка, невозможность серьезного
текстологического анализа ввиду наличия только двух поздних
списков, из которых один дефектен, дают богатую почву для
рассуждений о различных редакциях памятника, их напластований и
пр. В результате отдельные нормы права, содержащиеся в Псковской
Судной Грамоте, трудно, если не невозможно датировать. Памятник
этот, будучи одним из важнейших источников по нашей
проблематике, сам по себе, без поддержки данных других
источников существует в безвременном пространстве. Князь,
описываемый в работе Ю.Г. Алексеева, тоже несет в себе черты
князей разных эпох.
Есть несколько вопросов, связанных с княжеской властью,
которые до сих пор не изучались. К таковым можно отнести
проблему реконструируемого по летописи одновременного княжения
нескольких князей.
В статье за 1397г. мы читаем в П1Л (текст Псковской III
летописи (далее - П3Л) далее в смысловом отношении не
отличается, в Псковской II летописи (далее - П2Л) вообще
отсутствует):
Князь Иван Ондреевич и князь Григорий Остафьевич и посадник Захария и
мужи псковичи поставиша три костра.53
Как мы видим, в этот момент в Пскове было два князя
одновременно. Затем, в 1399г.
князь Иван Андреев сын … поеха изо Пскова, крестное целование сложив.54
И псковичи в этом же году
испросиша себе князя Ивана Всеволодовича … и приеха князь Иван
Всеволодович во Псков55
Далее в П3Л имеется сообщение, отсутствующее в П1Л:53 Псковские летописи. Выпуск Ι. С. 2554 Там же. С. 2655 Там же.
39
Тоа же осени выеха изо Пскова князь Иван.56
Через два года в 1401г.
приехав князь Данило Александрович во Псков от великого
наместником.57
На следующий год упоминаются два князя: недавно приехавший
Данило Александрович и князь Григорий.
при князе Данилии Александровичи и при князи Григории Остафьевичи.58
Еще через год (в 1403г.) мы встречаем и в П1Л, и в П3Л
следующее высказывание:
Князь Иван Всеволодович преставися.59
Затем, еще через год в 1404г.
князь Григорий пострижеся в мнишеский чин60
Картина получается следующая. С 1397г. по 1404г., т.е.
примерно в течение семи лет (учитывая известную условность
летописных дат) в Пскове было несколько князей. С 1397г. по
1401г. в Пскове было два князя, с 1401 по 1402 гг. три князя,
затем после смерти Ивана Всеволодовича и до пострижения князя
Григория Остафьевича снова два. Так получается, если судить по
П1Л. В П3Л картина несколько иная (не более 2-х князей в момент
времени) за счет вышеупомянутого дополнения про скорый отъезд
Ивана Всеволодовича. Вариант П1Л мне кажется более
правдоподобным по следующей причине. Если принять вариант П3Л,
по которому князь Иван Всеволодович недолго пробыл псковским
князем, то непонятно почему его смерть особо отмечается
летописцем. Это не характерно для псковских летописей,
фиксирующих, как правило, только смерть псковских князей (а по
П3Л в момент смерти князь Иван Всеволодович уже не был таковым).56 Псковские летописи. Выпуск IΙ. Л. 1950 c. 10957 Псковские летописи. Выпуск I. с. 2658 Там же. 59 Там же. С. 27.60 Там же. С. 28.
40
Даже если мы примем вариант П3Л, все равно остается два
князя одновременно. Всё сходится на фигуре князя Григория
Остафьевича, бывшего вторым князем весь рассматриваемый
семилетний период. В литературе можно встретить ставшую общей
точку зрения о том, что Григорий Остафьевич был не псковским, а
изборским князем. Такая точка зрения основывается на
предположении, что Григорий Остафьевич был сыном князя Остафия,
умершего в 60-е годы во время мора. В самом этом предположении
нет ничего сомнительного. Стоит, правда, отметить, что князь
Остафий первый раз упоминается под 1323г. как военачальник, т.е.
ему было не меньше 20 лет в этот момент. Пик же политической
активности Григория Остафьевича приходится, как мы видим, уже на
конец XIV века. Таким образом, теоретически князь Остафий мог
быть отцом князя Григория, но годился ему скорее в деды.
Князя Григория называют «изборским князем» вслед за князем
Остафием. А был ли сам Остафий таковым? Честь создания
представления о существовании особенных изборских князей
принадлежит, по-видимому, А.И. Никитскому. С его легкой руки оно
прочно закрепилось в историографии. Способствовали его
укоренению, конечно, и «перенесенные» на псковскую почву
новгородские пригородские князья. Теория об «изборских князьях»
базируется на единственном употреблении такого словосочетания,
которое мы находим в П2Л. Речь идет об описании осады Пскова
ливонцами и помощи, которую князь Остафий оказал псковичам.
Сравнение параллельных чтений П2Л, П1Л и П3Л дает интересные
результаты.
П1Л (Тихановский
список)
П2Л
(Синодальный
П3Л (Строевский
список)
41
список)1326г
.
(6831
)
И паки князь
Остафий подымя
изборян, овы на
конях, овы пешцев
и поидоша в помощь
псковичем
Тогда Остафий
князь изборский
подымя изборян
коников и
пешцев
И паки Остафий князь
подымя изборян, овы
на конях, овы
пешцев, тогда бяшеть
ему в Изборске, и
поидоша в помощь
псковичем
Как мы видим, П1Л и П3Л не называют Остафия изборским
князем. Причем последняя дает пояснение, что Остафию случилось
быть в то время в Изборске. Если бы он был изборским князем,
маловероятно, что он удостоился бы такого комментария.
Характерно, что князь Остафий, будучи упомянут дальше во всех
трех летописях, нигде не только не называется прямо изборским
князем, но и не упоминается больше вместе с изборянами или
Изборском. Приведенный выше отрывок из П2Л, вероятно, не что
иное, как результат сокращения, которое вообще характерно для
этой летописи. В результате такого сокращения князь, оказавшийся
в Изборске, превратился в «изборского князя». Вообще, учитывая
тот факт, что в самом Пскове на протяжении XIV века, если судить
по летописи, далеко не всегда был князь, то уж для псковского
пригорода Изборска князь в таком случае был непозволительной
роскошью.
Таким образом, следует признать, что князь Григорий
Остафьевич, родственная связь которого с князем Остафием далеко
не выглядит бесспорной, и который сам в летописях никогда не
упоминается как изборский князь, был князем псковским.
Соответственно, на рубеже столетий в Пскове было возможно
многокняжие. Последнее не укладывается в традиционные42
представления о княжеской власти, в которых фигура князя
занимает центральное положение в системе управления, являясь
верховным правителем земли. В этом свете утверждение Ю.Г.
Алексеева о том, что «позиции князя и его аппарата в Пскове
были, по всей видимости, более сильными» по сравнению с
Новгородом,61 выглядит несколько преждевременным. О какой силе
князя и его администрации можно говорить в условиях
одновременного сосуществования в Пскове нескольких князей? Здесь
скорее уместнее вспомнить о противоположной позиции, занимаемой
А.Е. Никитским, в которой князь предстает всего лишь «слугой
веча». Дествительно нет ничего удивительного в том, что таких
«слуг» могло быть несколько. Вместе с тем некоторая
искусственность конструкции А.Е. Никитского, уже отмечавшаяся
выше, не дает нам возможности присоединиться к его мнению.
Несомненно также значение князя в судебных делах, показанное
Ю.Г. Алексеевым. Помочь разрешить возникшее противоречие может
рассмотрение летописных штампов и заголовков псковских грамот, в
которых упоминаются или, наоборот, не упоминаются псковские
князья.
В псковском летописании мы часто встречаемся с формулой:
князь, посадник и весь Псков или князь, посадник и все псковичи (мужи-
псковичи). Она рефреном повторяется во всех псковских летописях в
контексте принятия тех или иных политических решений. Нельзя,
конечно, сказать, что формула эта предстает всегда в одном
неизменном виде – вариантов у нее много. Один из самых
распространенных отличается отсутствием князя (посадник и весь
Псков). Самый расширенный вариант мы находим в Тихановском списке
Псковской I летописи:
61 Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л. 1980 с. 14.
43
А князь псковский, и посадники псковски, и боляря, и добрые люди, и вси
мужи псковичи.62
При этом в П2Л более пространные формулировки зачастую
заменяются краткими весь Псков или псковичи. В случае с П2Л
краткость объясняется в рамках гипотезы Грабмюллера, согласно
которой Синодальный список был составлен одним из участников
брани о смердах для оправдания или высвечивания собственной
роли. Все события до 1462г. представлены в нем в весьма
сокращенном виде. Справедливость последнего утверждения
исследователя легко проверить при сличении Тихановского (П1С) и
Синодального (П2С) списков, восходящих к своду 1464г.
Тихановский Синодальный1455г
.
А посадники псковские и все
мужи псковичи много ему биша
челом63
А псковичи много ему биша
челом64
1456г
.
Посадники псковские, и
боляря, и вси мужи псковичи
прияша его с великой честью65
Псковичи …. прияша его
честно66
Многочленные формулировки Тихановского списка в Синодальном
сокращаются до одночленных. С точки зрения и А.Н. Насонова, и
Г.-Ю. Грабмюллера, между П1Л и П2Л существует идеологическая
разница. Первый видит ее в особенных «промосковских» настроениях
составителя свода 1483г. (т.е. П2Л), сознательно принижавшим
роль псковских республиканских институтов, максимально избегая,
например, упоминания веча. Г.-Ю. Грабмюллер же считает ее62 Псковские летописи. Выпуск I. Л. 1941. С. 5163 Псковские летописи. Т. Ι. c. 5264 Псковские летописи. Т. ΙI. C. 4965 Псковские летописи. Т. Ι. С. 5466 Псковские летописи. Т. ΙI. C. 49
44
памятником посаднического летописания. Ни та, ни другая
концепция не может объяснить замену более пространной
формулировки более краткой идеологическими причинами,
следовательно, можно предположить, что именно сокращение,
которое просматривается не только на уровне формул, но и вообще
во всем тексте, и было самоцелью такой замены. Значит, для
составителя свода 1483г. конструкция весь Псков была в
определенном смысле синонимична более распространенным
вариантам.
Одночленная формула весь Псков (или псковичи) встречается не
только в П2Л, но и в П1Л и П3Л наряду с более полными
вариантами. Следующей по степени распространенности формулой
является посадник и весь Псков (возможно, с сотскими). В динамике
изменения подобных формулировок легко увидеть определенную
хронологическую закономерность. Вплоть до середины XV века
означенная двучленная формула (посадники и весь Псков) остается
практически без изменений. Примерно с этого времени в нее
постепенно начинают включаться: князь (чаще всего), а также бояре,
житьи люди, купцы и пр. Это говорит, по всей видимости, об
определенной динамике развития представлений о власти,
отраженной в летописях.
Говоря о власти, мы должны понимать, что представления о ней
не равно соответствует политической конъюнктуре в конкретный
момент времени. По крайней мере, мы должны различать их и
автоматически не смешивать. Равно и в источниках они могут быть
по-разному отражены. В существующей историографии проблема
соотнесения реальной политики и представлений о структуре власти
применительно к Пскову XIV – XV вв. не разрабатывалась. Во
второй половине XIX века исследователи, как, например, А.И.
45
Никитский,67 обращаясь к формальной юридической стороне вопроса,
воспринимали подобные летописные формулировки нередко буквально.
В XX веке акцент исследования сместился скорее на реальную
политику, однако проблема интерпретации штампов осталась. Так,
например, Н.Н. Масленикова сообщение П3Л посадники и бояре и купцы и
весь Псков даша 50 рублев трактует как факт, что посадники, бояре,
купцы и все псковичи собрали 50 рублей.68 Последний пример
показывает, что исследовательница не пыталась критически
осмыслить подобные рефрены и понимала их буквально.
Сама частотность упоминания различных вариантов формулы
князь, посадники и весь Псков во всех псковских летописях наводит на
мысль, что перед нами не что иное, как описание «мистического
тела» псковской власти, т.е. не описание того, что, условно
говоря, было, а того, как должно было быть. Обратимся к
заголовкам некоторых дошедших до нас псковских актов, которые по
своей природе должны содержать представления о носителях власти.
Грамота Пскова Риге,69 датируемая началом XIV века,
начинается словами:
От посадника Сидора, и от Рагуила, и оть всех сотьских, и оть всех
плесковиц
В купчей князя Скиргайло на землю70 (70-80-е годы XIV века.)
От посадника Юрья от сотских и от всех плесковиц
В договоре Пскова с Ливонским орденом 1417г.71 читаем:
Dar umme heft unsere herschaft uns utgesandt, de borgermeister von Pleskow
und alle Plekowe (нас послали наши власти, псковский посадник и весь Псков)
67 Никитский А.И. Очерк внутренней истории Пскова. СПб. 1873. С. 116.68 Масленикова Н.Н. Присоединение Пскова к русскому централизованному государству. Л. 1955. С. 6969 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. 1949 С. 31770 Новые псковские грамоты XIV – XV вв. М. 1966 С. 4671 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. С. 318
46
В договорной грамоте Казимира с Псковом72 находим:
… от всего Пскова
В грамоте Пскова Риге73 1462-63гг:
От княжа псковского Ивана Александровича и от посадника псковского
степенного Максима Ларионовича и от всех посадников псковских и от бояр
псковских и от купцов и от всего Пскова
В грамоте Пскова Ивану III74 1477г.:
посадники псковские степенные и старые посадники и сыны посадничьи и
бояре и купцы и житьи люди и весь Псков
В грамоте королю Казимиру75 1480г.:
Се урядиша господине князь псковский Василий Васильевич и вси
посадники псковские и весь господине Псков
В договоре Пскова с Ливонским орденом76 1503г.:
Von dem fursten von Pleskaw Dimitre Volodimerewitz, von den borgermeistern to
Pleskaw de oversten, von olden borgermeistern, und von alle grote Pleskaw (от князя
псковского Дмитрия Владимировича, от степенных посадников, от старых
посадников, и от всего великого Пскова)
Картина, реконструируемая по актовым материалам,
принципиально не отличается от видимой в летописях.
Прослеживаются те же хронологические закономерности. В
частности, важным моментом является, на наш взгляд, то, что, как
и летописях, князь начинает включаться в подобные формулировки,
лишь начиная со второй половины XV века. Вероятно, это
свидетельствует о том, что в более ранний период, по крайней
мере, в XIV веке, князь не мыслился частью системы управления
Псковом, он был своего рода инородным телом: приглашенным
военачальником, судьей. Он не был, конечно, слугой веча, но в то72 Там же. С. 32173 Там же. С. 32374 Там же. С. 32475 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. С. 32576 Там же. С. 331
47
же время и верховным властителем псковской земли его тоже
считать нельзя. В рамках такой концепции вполне объяснимо и
«многокняжие». Нет ничего странного в том, что подобных
приглашенных князей было несколько. В XV веке ситуация начинает
меняться. Возрастает зависимость Пскова от Москвы, выражавшаяся,
в частности, в практике назначения московскими великими князьями
князей в Псков, сначала с одобрения его жителей, а затем и без
такового. Вместе с тем псковский князь или теперь князь-
наместник постепенно включается в систему управления Псковом. Он
приобретает определенные полномочия, закрепленные письменно – в
Псковской Судной Грамоте. Князь становится одним из центров силы
в Пскове, одним из его магистратов.
Этот процесс сопровождается и появлением ритуализированных
символических актов, сопровождающих его вокняжение. Прежде
всего, речь идет о крестоцеловании. Впервые эта процедура
упоминается в связи с приездом в Псков на княжение Александра
Тверского в первой половине XIV века.
псковичи прияша его честно и крест ему целоваша и посадиша его на
княжение.77
Как мы видим, речь идет лишь о целовании креста псковичами
князю, а не наоборот. Тем не менее, из описания того, как этот
же князь покидал Псков, можно заключить, что оно все же было
взаимным. Не желая подвергать опасности псковичей, летописный
князь Александр, объявляя о своем отъезде, обращается к
псковичам со следующими словами:
не буди вашего целования на мне ни моего на вас.
Перед нами, вероятно, судя по ее характеру, ритуальная
формула разрыва устного договора, фактически заключавшегося
между Псковом и князем. Такой договор, заключаемый между двумя77 Псковские летописи. Выпуск I. Л. 1941. С. 16
48
субъектами, свидетельствует о недостаточной инкорпорированости
князя в город, которая и вынуждает закреплять их отношения
взаимным крестоцелованием.
Взаимная присяга псковичей и князя упоминается на протяжении
XIV века, постепенно сменяясь на присягу князя ко Пскову. Причем
на протяжении XV века она начинает приобретать все более сложные
ритуализированые формы. В летописях мы находим устойчивые
нарративные конструкции, описывающие процедуру такой присяги:
И священноиноки и священники и дьяконы выидоша противу его с кресты
и соустрекали его у Старого Вознесеия и прияша его честно и посадиша его на
княжение во святеи Троицы; и крест целовал на вечи по пошлинной грамоте.78
Подобный текст с вариациями повторяется в летописи много
раз. Его можно было бы счесть штампом, готовой формулировкой,
описывающей процедуру поставления псковского князя, совершенно
необязательно выполняющееся с соблюдением всех действий,
зафиксированных летописью. Однако у нас есть основания полагать,
что речь все же идет о подлинной церемонии, без осуществления
отдельных элементов которой, вокняжения в глазах псковичей не
происходило. Так, описывая приезд в Псков в 1461г. князя
Владимира Андреевича в качестве наместника великого князя,
летописец ограничивается скупым замечанием:
И псковичи прияша его с великой честию.79
Здесь нет никакого упоминания ни встречи его всем
духовенством с крестами, ни посажения на княжение в святой
Троице, ни крестоцелования на вече. Уже через год псковичи
выгнаша из Пскова князя Володимера Андреевича, а невегласы псковичи,
злыя люди, сопхнувши его степени80
78 Псковские летописи. Выпуск I. Л. 1941. С. 81.79 Там же. С. 6180 Там же. С. 62
49
Похожая история произошла и с князем Иваном Михайловичем
Репней-Оболенским, приехавшим в Псков не пошлиною. Летописец
подчеркивает неполноту церемонии его вокняжения:
А противу его со кресты не ходили81
а то Репня не по крестному целованию оучал во Пскове жити82
Можно предположить, что и прочих необходимых ритуальных
действий совершено не было. Опять же менее чем через год князь
поехал
великомоу князю жаловатися на псковичь, что де его псковичи
бесчевствовали83
Как мы видим, князь, не прошедший необходимой процедуры
поставления, недолго оставался в Пскове, более того псковичи
даже могли обойтись с ним довольно неуважительно. Его княжеская
власть не была подтверждена крестоцелованием ко Пскову, как в
случае с прошедшими определенную процедуру князьями.
Княжеская власть в Пскове на протяжении XIV – XV вв. не
оставалась неизменной. Князь проходит путь от роли наемного
военачальника, приглашаемого и изгоняемого волею псковичей до
одного из важнейших городских магистратов, назначаемого великим
князем. Начиная с первой половины XV века, князья постепенно
включаются во властную структуру Пскова. Они приобретают право
суда, закрепленное в юридических документах. Во второй половине
XV века в псковской истории есть только небольшие отрезки
времени, когда в городе нет князя. Это лишь короткие промежутки
междуцарствий, а не десятилетиями пустующий княжеский стол. Хотя
собственно стол начинает упоминаться в псковском летописании с
XV в., в XIV псковичи сажали князя на княжение, а в XV уже на
стол. Княжеская власть становится воспроизводимой, регулярной,81 Там же. С. 9282 Там же83 Там же.
50
т.е. из эпизодического явления, которым она была отчасти в XIV
веке и ранее, превращается в политический институт, ставший
частью системы управления Псковом.
Заключение.
Итак, мы видим эволюцию псковских органов управления на
протяжении XIV – XV вв. Если в этот период Псков вошел небольшой
крепостью, ограниченной пределами кремля и Довмонтова города, то
к началу XVI века его население и территория увеличились во
много раз. В этом, вероятно, и стоит искать причины тех
изменений, которые произошли с псковскими институтами власти. В
начале XIV века Псков управлялся одним посадником, подобно своим
собственным пригородам в более поздний период. Носителями власти
в нем был посадник, представлявший собой пожизненного городского
магистрата, и, вероятно, все свободное мужское население города.
Причиной этому, по-видимому, может служить относительно
небольшой размер псковской общины и слабо выраженное
имущественное расслоение. Княжеская власть не была устоявшимся
политическим институтом в Пскове, в городе часто не было
собственного князя, а если и был, то его отношения с городом
носили договорный характер, скрепленный двухсторонней присягой.
Главной функцией князя, как это непосредственно следует из
источников, была оборона Пскова, он был в первую очередь
предводителем своей дружины. В этом свете не очень удивительно,
что на рубеже XIV – XV вв. в Пскове был семилетний период
«многокняжия», когда в городе одновременно было как минимум два
князя.
На протяжении XV века структура управления городом и землей
становится сложнее и более разветвленной. Князь интегрируется в
нее, княжеская власть становится подлинным политическим51
институтом Пскова. Теперь уже только он приносит присягу Пскову,
а псковичи ему нет. Процесс изменения княжеской власти находит
свое отражение и в формуле легитимации действий – из двухчастной
она становится трехчастной, то есть начинает включать в себя
князя, а затем еще более усложняется. Из приглашенного
военачальника князь становится органичной частью системы
управления Пскова. Растут и его полномочия. Вместе с этим,
изменяется и институт посадничества. Уже с середины XIV века нам
известно уже о двух посадниках, затем их становится еще больше,
а сам институт постепенно начинает оформляться в протосословие,
представители которого на протяжении XV века неизменно занимали
должность степенных посадников, получив в свои руки очень
серьезную власть. Господствующая на данный момент в
историографии концепция происхождения института посадничества из
псковского боярства не находит подтверждения в источниках.
Формирование боярства как сословной группы следует отнести, по
видимому, к более позднему периоду – середине XV века, времени,
когда посадничество уже консолидировалось. Очевидно, что
дальнейшее изучение развития структуры управления Псковом самым
тесным образом связано с процессами социально-экономической
дифференциации его населения и для понимания первого необходимо
самое тщательное изучение таких процессов.
52