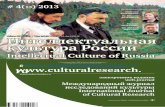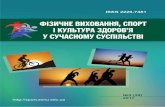Культура евр ср вв
Transcript of Культура евр ср вв
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
__________________________________________________________
Душин О. Э.
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
Санкт - Петербург2005
УДК 7.03ББК 71 Д 55
Рецензент:Доктор философских наук, профессор
Солонин Ю. Н.
Душин О.Э.Д История культуры. Культура европейского средневековья: Учебное пособие. – СПб.; СПГУВК, 2005-91 с.
Учебное пособие содержит предисловие с представлениемосновных направлений исследований в современной медиевистике. И две главы, в которых раскрываются основные принципы средневекового миросозерцания и демонстрируется значение данного наследия для развития европейской культуры, в заключение подводятся некоторые итоги. А также прилагается список литературы. Пособие предназначено для гуманитарного факультета.
2
УДК 7.03
ББК 71
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2005
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
4
Глава I. Место и значение Средневековья в истории
европейской
культуры
5
1.1 Границы Средних веков
5
1.2 История термина "Средние века"
7
1.3 Образы Средневековья в европейской культуре
7
3
1.4 Церковь и христианская религиозность
12
1.5 Города и городская культура
39
1.6 Университеты.
49
1.7 Становление английского парламента.
62
Глава II. Основоположения средневекового
миросозерцания. 65
2.1 Теоцентризм
65
2.2 Символический универсум
67
2.3 Иерархия мироздания
69
2.4 Христианский персонализм
71
2.5 Телеология истории
77
2.6 Традиция Слова
84
Заключение
87
4
Предисловие
Задача данного учебного пособия заключается не в
том, чтобы представить своеобразный скетч основных
событий и исторических свершений европейской культуры
Средневековья, хотя и подобный подход был бы вполне
оправдан, но более значимой представляется стратегия
понимания средневековой культуры в горизонте
становления европейского самосознания и в перспективе
формирования и развития основных принципов
миросозерцания. Именно такая методологическая
установка должна позволить увидеть и прояснить
специфику средневековой парадигмы европейской
культуры. Современная культурология, стремящаяся к
постижению исторических путей и исходных оснований
генезиса ментальных структур, не замыкается в каких-
либо узких рамках традиционного ранжирования
дисциплин на отдельные науки со спецификацией
теоретических постулатов и методологических правил.
Подлинное изучение культуры предполагает обращение к
самым разным областям знаний, к философским и
богословским учениям, к историческим и
социологическим исследованиям, только так возможно
реальное понимание процессов, определивших развитие
"физиогномики" европейца, только таким образом можно
преодолеть мировоззренческие стереотипы, сложившиеся
6
как в отношении эпохи Средневековья, так и по поводу
новейшей истории. При этом важно помнить ту
замечательную фразу, которую обронил в одной из своих
работ известный французский учёный Жак Ле Гофф (1924
- 2001): "очарование Средневековья … обусловлено тем,
что это одновременно и "наше детство", и "иное"".1
Подобное метафорическое сравнение, по сути, является
своеобразным лейтмотивом для деятельности любого
исследователя-медиевиста.
Глава I. Место и значение Средневековья в истории
европейской культуры
1.1 Границы Средних веков
Для определения исторических пределов эпохи
Средневековья можно выбрать самые разные судьбоносные
события, задающие перспективу развития европейской
культуры. Основанием для периодизации данного этапа
вполне могли бы стать факты, связанные с историей
становления христианской религии или с гибелью
античного мира. Это и 313 год, когда правители двух
частей - восточной и западной - Римской империи
Ликиний и Константин подписали в Медиолане (ныне
Милан) совместный эдикт о признании христианства в
качестве государственной религии, разрешив её1 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада.
Екатеринбург: Издательство Екатеринбургского университета, 2000, С.
35.
7
свободное вероисповедание наряду с другими культами.
Тем самым, христианство перешло от состояния тайного
религиозного общества, преследуемого и гонимого, к
статусу официального культа, а вскоре стало
господствующей религией. После чего, даже
преследования императора Юлиана Отступника,
попытавшегося восстановить языческие традиции Рима,
не оказали заметного влияния на жизнь Церкви. Это и
380 год, когда появился знаменитый указ императора
Феодосия, который возвёл христианство в
исключительную степень государственного признания.
Всем народам империи предписывалось исповедовать
только христианскую религию, другие культы
запрещались под страхом сурового наказания. Ещё одно
знаковое событие для судеб поздней Античности - это
529 год, когда по указу императора Юстиниана I была
закрыта легендарная Афинская школа философии,
последний оплот языческой мудрости.
Традиционная позиция в дифференциации
исторических парадигм европейской культуры задаётся
двумя важными свершениями - падением Римской империи
в 476 г. и открытием Америки в 1492 г. Именно эти
события послужили своеобразными вехами в понимании
перехода от Античности к эпохе Средних веков, а затем
к Новому времени. В некоторых новейших исследованиях
8
данные границы округляются 500 г. и 1500 г. Таким
образом, не погружаясь в тонкости учёных дистинкций и
исторических приоритетов, необходимо признать, что
период Средних веков охватывает, по меньшей мере,
целое тысячелетие. И его значение, бесспорно,
достаточно велико в общеевропейской судьбе.
Современные исследователи расширяют эти узкие
рамки вплоть до середины XIX века. Такова, в
частности, концепция "долгого Средневековья" Жака Ле
Гоффа. "Сохранность базовых общественных структур, -
как утверждается в его статье с символичным названием
"В поддержку долгого Средневековья", - позволяет
говорить о наличии неразрывных связей, скрепляющих
европейское общество на протяжении пятнадцати веков,
с IV по XIX в".2 Близкую позицию отстаивал и известный
социолог Норберт Элиас (1897 - 1990). "С точки зрения
развития человеческого общества в целом, - пишет он в
работе "О процессе цивилизации", - кажется очевидным,
что весь этот период, охватывающий Средние века и
Новое, представляет собой одну-единственную эпоху,
как бы одно большое "Средневековье". Не менее важно
понять, что Средние века в узком смысле слова не были
тем периодом статики, неким "окаменевшим лесом", как
2 Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М.: "Прогресс", 2001,
С. 35.
9
их иной раз представляют. Именно тогда в ряде
секторов началось движение, лишь продолжившееся в
Новое время. Уже в Средние века появляются фазы
экспансии и прогрессирующего разделения труда, здесь
мы находим социальные трансформации и революции,
совершенствование техники и технологии".3
1.2 История термина "Средние века"
Впервые о среднем периоде в истории европейской
культуры заговорили представители Ренессанса.
Предшествующая деятельности гуманистов эпоха
ассоциировалась в их понимании с торжеством "средней
и низкой латыни" (media et infina latinitas), которой
они противопоставили классическую римскую литературу
и собственную словесность, ориентированную на язык
Цицерона и Сенеки. В дальнейшем, данная антитеза
закрепилась в исторической науке, утратив при этом
свой негативный оттенок. Окончательная дифференциация
эпох была утверждена профессором университета Галле
Христофором Келлером (Christophorus Cellarius, 1634 -
1707). В своём исследовании "Всеобщая история,
разделённая на древнюю, среднюю и новую", вышедшем в3 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и
психогенетические исследования. Т. 2. Изменения в обществе. Проект
теории цивилизации. М. - СПб.: Университетская книга, 2001, С. 59 -
60.
10
1631 году, он использовал термин "Средние века"
(medii aevi) для определения исторического этапа от
основания Константинополя в 330 году до его падения в
1453 г.
1.3 Образы Средневековья в европейской культуре
Начиная с эпохи Возрождения, Средние века
воспринимались как "тёмное" и посредственное время,
выпавшее из единого пространства европейской культуры
и процесса развития западной цивилизации.
Ренессансные учёные отвергли средневековую
схоластическую scientia и видели свою задачу в
возрождении изящной латыни Древнего Рима. После
многовекового господства христианского мировидения и
представлений о человеке как о существе неизбывно
греховном и падшем, они стремились восстановить его
достоинство в новом земном предназначении. Помочь в
этом важном деле, должен был, согласно их пониманию,
комплекс гуманитарных наук, во главе с филологией.
В период научной революции XVII века эпохи Нового
времени негативные тенденции в отношении к
предшествующему этапу истории только усилились, что
было вызвано неизбежным противостоянием учёных и
Церкви. Христианские постулаты и основоположения
средневековой учёности не соответствовали духу и
11
букве новых открытий. Особенно не устраивало
естествоиспытателей торжество в университетах Европы
натурфилософии Аристотеля и физических теорий его
средневековых последователей, которые основывалась на
законах формально-логического дискурса и
созерцательных подходах. Идеи математической
исчислимости и активного экспериментального отношения
к миру заменили в новой науке устаревшие принципы.
Однако многие выдающиеся учёные сохранили
органичную связь с прошлым. Так, в частности, Р.
Декарт (1596 - 1650), родоначальник новоевропейской
философской традиции, прошёл школу иезуитского
коллежа Ла Флеш и остался верен средневековой
схоластической терминологии и даже, во многом,
проблематике. Это убедительно доказал в своих трудах
известный французский исследователь Этьен Жильсон
(1884 - 1978).4 В работе "Дух средневековой философии"
он поставил резонный вопрос: "Декарт провозглашал,
что его философия никоим образом не основывается на
теологии или Откровении, что он исходил только из тех
ясных и отчётливых идей, которые наш естественный
разум открывает в себе, когда он внимательно
анализирует его собственное содержание; но как это
4 См.: Жильсон Э. Учение Декарта о свободе и теология. // Жильсон Э.
Избранное: Христианская философия. М.: РОССПЭН, 2004, С. 7 - 320.
12
случилось, что эти идеи чисто рационального
происхождения обернулись теми же самими во всех
предметах, которые христианство на протяжении
шестнадцати столетий преподавало во имя веры и
Откровения?"5 Не менее запутанны нити, связывающие
немецкого философа и математика Г.В. Лейбница (1646 -
1716) с наследием средневековой схоластики. Если
учесть, что наряду с развитием новой науки в
университетских курсах того времени по-прежнему
господствовали средневековые учения, особенно томизм,
и идеи "второй" схоластики, составлявшие неотъемлемый
контекст развития экспериментального естествознания,
то станет более понятен тот накал борьбы,
развернувшейся между адептами двух мировоззренческих
парадигм. При этом движение к новым горизонтам
мировидения было естественно обусловлено преодолением
старого.
Решительный шаг на пути отрицания всех возможных
пережитков феодального прошлого был осуществлён в
период Просвещения. Яркий лозунг ("Раздавите
гадину!"), провозглашённый французским философом
Вольтером (1694 - 1778), призывавшим, таким образом,
бороться с католицизмом, стал основой для понимания
5 Gilson E. The Spirit of Medieval Philosophy. N. Y.: Charles
Scribner's Sons, 1936, P. 14.
13
значения всего средневекового наследия. Его было
необходимо ниспровергать, как и Церковь,
господствовавшую на протяжении "тёмных" веков. Время,
выпавшее из прогресса цивилизации, не могло быть
удостоено особого внимания. Однако в качестве реакции
на крайние оценки и подходы к Средневековью,
утвердившиеся в рамках просветительской идеологии,
движение романтизма сделало из этой эпохи чуть ли не
идеал для своего времени конца XVIII - начала XIX
веков.
Ожившие в сочинениях романтиков средневековые
легенды и предания, народные сказы и былины возродили
дух рыцарства, отважных приключений, заколдованных
замков, волшебных фей и спящих красавиц, невиданных
сокровищ и невероятных чудовищ. Всё это стимулировало
интерес к средневековому прошлому, к готической
архитектуре, к историческим событиям того времени.
Романтики впервые преодолели пелену негативного
отношения к культурному наследию Средневековья. Их
деятельность увенчалась успехом, и в XIX веке
сформировалась целая школа историков, работавших с
позиций романтического подхода. Но эта точка зрения
несла в себе и некоторые недостатки чрезмерной
идеализации и неадекватности в интерпретации
исторического материала. Так или иначе, романтики
14
сделали своё дело, Средневековье стало вызывать
интерес, оно обрело своё подлинное значение в истории
европейской культуры.
В конце XIX века начинается интенсивный рост
исследовательских программ в области исторической и
философской медиевистики. Отчасти это было
обусловлено энцикликой папы Льва XIII "Aeterni
Patris" ("Вечный Отец"), провозгласившей учение Фомы
Аквинского (1225/1226 - 1274) в качестве официальной
доктрины католицизма. В эпоху торжества в
западноевропейской мысли принципов иррационализма и
волюнтаризма А. Шопенгауэра (1788 - 1860) и Ф. Ницше
(1844 - 1900), католические богословы обратились к
теории гармонии веры и разума, которую отстаивал
Аквинский. В 1882 году в Лувенском католическом
университете (Бельгия) под руководством кардинала Д.
Мерсье была открыта первая кафедра томистской
философии. Вскоре подобные исследовательские центры
стали появляться и в других западных странах, включая
США и Канаду. Это - Академия св. Фомы в Ватикане,
Парижский католический институт, Католический
университет в Милане, Институт в Пуллахе (близ
Мюнхена), Институт средневековых исследований в
Торонто, Папская теологическая Академия в Кракове и
др. В итоге, сформировалось целостное направление
15
богословско-философской мысли, получившее название
"неотомизм". Примечательно, что участники этого
движения рассматривали в своих работах не только
проблемы истории средневековой теологии и культуры,
но и стремились отвечать на самые насущные вопросы
современности. Они обсуждали перспективы развития
демократии в западном обществе, статус личности и её
права, стратегии и принципы авангардного искусства,
тему ответственности художника и т.п. Они участвовали
и в философских дискуссиях с представителями других
школ и учений.
Параллельно с развитием неотомизма, в культуре XX
века сложилась мощная школа медиевистики. Её
становление было связано с деятельностью французских
историков Марка Блока (1886-1944) и Люсьена Февра
(1878 - 1956), которые в 1929 году основали журнал
"Анналы экономической и социальной истории". Издание
журнала прерывалось в связи с началом второй мировой
войны, менялись его названия, но он, несомненно,
сыграл фундаментальную роль не только в области
изучения средневековой Европы, но и в преобразовании
основных методологических принципов современной
исторической науки. В исследовательской стратегии
школы "Анналов" история перестала быть дескрипцией
абстрактных политических событий и всемирно-
16
исторических личностей, её новая интенция была
направлена на развитие социальной антропологии, на
экспликацию ментальных структур становления
европейской цивилизации, на изучение реальных
процессов жизни людей, восприятия ими пространства,
времени, труда. Эта школа воспитала многих выдающихся
французских учёных, её духовное влияние приобрело, по
сути, мировые масштабы, в частности, к её идеям
близки работы известного российского исследователя
А.Я. Гуревича.
Влиятельная школа медиевистики сформировалась в
отечественной исторической науке на рубеже XIX - XX
веков. Её активными участниками были И.М. Гревс (1860
- 1941), В.И. Герье (1837 - 1919), Л.П. Карсавин
(1882 - 1952), О.А. Добиаш - Рождественская (1874 -
1939), П.М. Бицилли (1879 - 1953). Примечательное во
многих отношениях диссертационное исследование Л.П.
Карсавина "Основы средневековой религиозности в XII -
XIII веках" соответствовало самым высоким стандартам
европейской науки того времени. Ещё более удивительно
то, что оно, возможно, послужило своеобразным толчком
для формирования его оригинальных религиозно-
философских воззрений. Как известно, талантливый
русский историк-медиевист впоследствии стал
выдающимся мыслителем.
17
Динамично развивалась в этот период и
отечественное византиноведение, одним из его ведущих
представителей стал, в частности, В.В. Болотов (1853
- 1900). Конечно, в данной области исследований
превалировали богословские и историко-церковные темы,
но появлялись и работы, посвящённые светской культуре
Византии, системе образования, правовому устройству.
Нельзя не отметить деятельность выдающегося
российского учёного С.С. Аверинцева (1937 - 2004). Он
совмещал в своих исследовательских проектах интерес и
к западноевропейскому Средневековью, и к
византийскому духовному наследию. Его многочисленные
работы убедительно продемонстрировали, что
средневековый мир как своего рода исток европейского
человечества обладает вполне определённым статусом в
истории становления культуры и в утверждении основных
диспозиций жизненного уклада Европы.
1.4 Церковь и христианская религиозность
Вехи становления христианства. Как бы не относились
современные учёные к христианской Церкви, все они,
безусловно, признают её выдающуюся роль в становлении
европейской культуры. Эта роль может рассматриваться
и в негативном смысле, и в позитивном, но она
остаётся несомненной в понимании процессов,
18
сформировавших мировоззренческие установки
европейцев. Эпоха Средневековья - период тотального
господства христианской идеологии с её
теоцентрическими доминантами и разнообразными
противоречиями. Для христианства данное время связано
с формированием главных догматических постулатов
вероучения, с развитием и утверждением канона и
мыслительного образца теологического дискурса, с
длительной традицией саморефлексии, с осмыслением
антиномий и парадоксов веры, возможностей её
примирения с разумом. Богословские споры, Вселенские
Соборы, Отцы Церкви и корпус патристики, символ веры,
становление церковной иерархии, зарождение
монашества, формирование института папства, конфликт
властей, окончательный раскол двух конфессий (1054
г.) - вот, что исторически задаёт первый этап
развития христианства. Он развернулся от III до XI
вв. Это - время утверждения и возрастания мощи Церкви
в социальном пространстве культуры. Как для
православия, так и для католицизма, наследие данного
периода наряду с Библией как Священным Писанием
составило основу святого духовного Предания,
определившего исходный кодекс христианского
вероучения.
19
Конечно, многое из того, что задавало перспективу
развития Средневековья, уже пережито и устарело.
Однако христианские постулаты, соответствующие
процедуры и практики "дрессуры" морального сознания,
принятые в Церкви, обрели особое значение в период
перехода от Средних веков к Новому времени. Этот
драматичный промежуток европейской истории отмечен
знаковыми событиями в становлении христианской
религии. Он охватывает этап от XII до XVI века.
Широкие еретические движения, "Авиньонское пленение
пап" (1309 - 1377), "Великая Схизма" (1378 - 1417),
"Флорентийская уния" (1439), падение Константинополя
(1453), начало Реформации (1517), Тридентский Собор
(1545 - 1563), жестокие религиозные войны - вот, что
составляет неотъемлемый контекст социально-
мировоззренческих трансформаций, развернувшихся в
европейской культуре между двух эпох.
Эпидемия чумы и ее значение. Необходимо отметить и те
события, которые, хотя и не имели прямого отношения к
жизни Церкви, сыграли особую роль в истории
формирования европейской цивилизации в данное время.
Это - ужасающая по своим последствиям эпидемия чумы
или, как называли её тогда "чёрной смерти". Она
появилась на Сицилии в 1347 году и вскоре
20
распространилась через торговые города Италии -
Венецию, Геную, Пизу - по всей Европе. К 1349 - 1350
г.г. эта страшная болезнь поразила даже жителей
Швеции, Ирландии и Польши. К концу четырнадцатого
столетия две пятых населения Европы погибло. Способы
противодействия распространению эпидемии были
несовершенны, а подчас просто абсурдны. Например, в
Милане те дома, в которых были обнаружены первые
больные, обнесли высокой глухой стеной, заживо
замуровав и умирающих, и здоровых людей, но и
подобные драконовские меры не спасли остальных
жителей города от эпидемии. Подчас жестокие порывы
ярости и преследований обрушивались на еврейские
общины, появлялись всевозможные домыслы о
причастности иудеев к распространению эпидемии среди
христиан путем отравления колодцев и т.п., и ни в чем
не повинные люди целыми семьями сотнями сжигались на
кострах.
Постепенно светские власти научились применять
более разумные методы противодействия эпидемиям.
Строго разделялись кварталы и районы городов, где
были зарегистрированы больные, отслеживалось
количество новых заболевших и умерших,
предпринимались все необходимые меры санации. В таких
практиках происходило утверждение, как указывает
21
известный французский ученый Мишель Фуко (1926 -
1984), "позитивных технологий власти",6 формировалось
дисциплинарное пространство социального тела городов.
Власть, тем самым, приобретала статус органа
всеобщего надзора и контроля, а ее главной
положительной функцией являлось, таким образом,
осуществление заботы о здоровье нации через
соответствующие государственные медицинские
учреждения и институты.
В ситуации надвигающейся смерти в обществе, с
одной стороны, возникает чувство моральной
вседозволенности, разрушаются традиционные
нравственные нормы и привычные границы поведения, то,
что в литературе именуется как "пир во время". Многие
христианские табу утрачивают свои господствующие
позиции. С другой стороны, религиозное влияние в
момент всеобщего кризиса и отчаяния приобретает
особенный характер, мистические ожидания конца света,
всеобщего Апокалипсиса становятся нормой повседневной
жизни людей, подчас религиозные практики и чаяния
верующих реализуется в достаточно жёстких и крайних
формах, в частности, в расширении движения
флагеллантов. Церковь не всегда поддерживала такого
6 Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в
1974 - 1975 учебном году. СПб: "Наука", 2004, С. 71.
22
рода рвение, опасаясь выхода ситуации из-под
контроля. Мистические учения вызывали подозрение в
отрицании официальной иерархии и в нарушении
догматического канона. Поэтому папство также
стремилось утвердить всё более сложные и утонченные
процедуры христианской религиозности, которые несли в
себе рационально-психологические способы реализации
социального контроля самосознания простых верующих.
Христианская религиозность и генезис капитализма.
Весьма интересен тот факт, что рационализация
установок нравственного сознания и всего устроения
производства и предпринимательства в XVI веке стала
возможной благодаря специфическим требованиям
протестантской теологии. Её главная особенность
заключалась в том, что она усвоила средневековые
мистические прозрения и чаяния народных еретических
движений о сверхъестественном статусе божественного
призвания и уникальном положении человека перед
Богом, отказавшись от особой миссии Церкви в делах
спасения и веры. Люди освобождались от внешних правил
и церковных процедур, но их земная деятельность
строго регламентировалась новыми теологическими
смыслами. Подобный тезис подчёркивается в работах
выдающегося немецкого социолога Макса Вебера (1864 -
23
1920). Однако он не считал себя первооткрывателем
этой концепции. Его предшественниками были Лэвли,
Метью Арнольд, Эдуард Бернштейн, можно вспомнить и
позицию Карла Маркса, который назвал Реформацию
"буржуазной революции № 1". Но позиция М. Вебера
была, безусловно, более разработанной и теоретически
выверенной.
В своём фундаментальном труде "Социология
религии" он признавал, что религиозная этика всегда в
той или иной мере поддерживала и служила
"рациональным экономическим целям, особенно
кредиторов".7 При этом он подчёркивал, что лишь
мирская аскеза протестантизма "указала путь в деловую
жизнь именно наиболее благочестивым и ригористичным
людям и способствовала тому, что успех в делах они
стали рассматривать как плод рационального образа
жизни".8 Тем самым, по мнению выдающегося немецкого
социолога, протестантизм (кальвинизм, пуританизм и
близкие к ним секты) способствовал утверждению
процесса рационализации профессиональной деятельности
через идею призвания ("Beruf"). Данное понятие,
совмещающее в себе смыслы религиозного характера и
светского будничного понимания труда, обрело своё
7 Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: "Юрист", 1994, С. 239.8 Вебер М. Ук. соч., С. 241.
24
значение в интерпретации родоначальника
реформационных преобразований западноевропейского
христианства Мартина Лютера (1483 - 1546), но особый
статус этот термин получил в пуританском вероучении.
Однако Вебер не уставал напоминать о том, что
дело Реформации само по себе отнюдь не задавалось
задачей генезиса капитализма. "Если мы, исследуя
взаимосвязь между старопротестантской этикой и
развитием капиталистического духа, отправляемся от
учения Кальвина, кальвинизма и других "пуританских"
сект, то это, - как подчёркивает М. Вебер, - отнюдь
не означает, что мы предполагаем обнаружить, будто
кто-либо из основателей или представителей этих
религиозных течений в каком бы то ни было смысле
считал целью своей жизненной деятельности пробуждение
того "духа", который мы именуем здесь
"капиталистическим"".9 Для него мировоззренческие
свершения протестантизма определялись принципиально
новыми богословскими истолкованиями идеи спасения,
инициировавшей особую стратегию повседневной жизни.
Эта этическая парадигма предполагала строгость и
систематичность в осуществлении всех возможных
действий, она реализовалась в таком измерении личного
9 Вебер М. Избранные произведения. М.: "Прогресс", 1990, С. 104 -
105.
25
отношения к Богу, в котором любой поступок приобретал
последнее и решающее значение, а вся жизнь
подчинялась методичному распорядку духовного
самоконтроля. Тем самым, в реформационном вероучении
присутствовала заметная связь с традициями
католицизма. В частности, Вебер указывал на
средневековую монашескую аскезу, которая, следуя его
оценкам, предстаёт в качестве своеобразной предтечи
последующего становления идеи призвания в рамках
кальвинизма и пуританства. Он также подчёркивал роль
процедур контроля над сознанием верующих, сложившихся
в рамках католицизма, таких как таинство покаяния,
исповедь, церковная проповедь. Упоминает он и о
средневековом институте "святости", об "упражнениях"
Игнатия Лойолы, культивировавших "активное
самообладание". Всё это позволяет говорить о том, что
для Вебера протестантизм отнюдь не являлся
исключительной формой рационализации, состоявшейся в
ходе длительной истории становления, как христианской
религиозности, так и религии вообще.
Нельзя забывать, что проект исследований и
теоретические выводы, представленные выдающимся
немецким социологом в работе "Протестантская этика и
дух капитализма", на самом деле, должны были стать
лишь частью глобального изучения истории
26
экономической этики западного христианства и его
фундаментальной социологии религии. Более того, Вебер
вынашивал планы освоения средневековой католической
мысли с целью экспликации соответствующих морально-
этических установок экономической деятельности,
сформировавшихся в эпоху позднего Средневековья.
Такого рода стратегия дальнейших исследований, с
одной стороны, была инициирована теорией его
современника и одного из главных оппонентов В.
Зомбарта (1863 - 1941), с другой, она позволила бы
Веберу расширить представления о перспективах
становления рационализации европейской культуры.
Как известно, В. Зомбарт полагал, что утверждение
капиталистического духа было обусловлено
средневековыми католическими истоками. Церковь
требовала строго соблюдения правил ведения торговых
операций, несмотря на то, что её участники могли быть
достаточно удалены друг от друга, и после сделки
никогда больше не встречаться. "Она осуществляла это,
осуждая все бесчестные уловки при заключении
договоров как грех: moraliter peccant, смертный грех
совершают те, кто "с ложными уверениями, обманами и
двусмысленностями" ведёт торговлю" - пишет В.
27
Зомбарт.10 При этом, согласно его концепции, важнейшая
заслуга в процессе реализации стратегии морального
самоконтроля принадлежала этической доктрине Фомы
Аквинского. Немецкий социолог считал, что главный
постулат моральной теории томизма связан с
"рационализацией жизни", и именно он оказал
"существенное содействие капиталистическому
мышлению".11 Его учение о нравственности включало в
себя "упорядочивание чувственности, аффектов и
страстей в направлении к цели разума" и вело к
торжеству мещанских добродетелей, кои "могут
процветать, как отмечал Зомбарт, только там, где
любовная сфера человека подверглась ограничениям".12
Именно тот, кто живёт воздержанно, кто не тратит
денег впустую, кто следует строгим нормам бюргерской
морали, становится энергичным и наиболее удачливым
предпринимателем, ему доверяют и готовы предоставлять
кредиты на самых выгодных условиях. Таков фундамент
буржуазного духа.
Между альтернативами греха и спасения, свободного
решения и предопределения, Фома Аквинский, следуя
учению великого античного философа Аристотеля (384 -10 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития
современного экономического человека. М.: "Наука", 1994, С. 185. 11 Там же, С. 183.12 Там же, С. 184.
28
322 г.г. до н.э.), полагает инстанцию
христианизированного человеческого разума, который
обретает роль верховного судьи всех действий и
возможных проступков людей. В этой связи британский
исследователь Тимоти Поттс, автор работы "Совесть в
средневековой философии", отмечает, что "Ангелический
Доктор", как называли Фому в Средние века, переводит
проблему совести из сферы психологических переживаний
в перспективу построения логических суждений, так как
"критерием Аквината для основных этических
предпосылок является не то, что они интуитивно
очевидны, но то, что они необходимо истинны".13 Тем
самым, субъективизм личностных интенций соизмеряется
с объективными законами формальной логики и строгими
правилами умозаключений, процедура морального
самоанализа подвергается строгому контролю рассудка.
Главным в поведении становится процесс рационального
самоопределения, согласования действий с требованиями
разума. Парадоксы психологических переживаний
христианина, его борьба между силами добра и зла,
приобретают новую форму. Теперь они задаются не
абсолютными альтернативами святости и греха, а
относительной, рассудочно-серединной моралью.
13 Potts T. C. Conscience in Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press, 1980, P. 48.
29
Но суть проблемы заключается, конечно, не в том,
чтобы противопоставить протестантизм католицизму, а
учение Мартина Лютера или кальвинизм доктрине Фомы
Аквинского с целью определения приоритета в
утверждении "капиталистического духа". Ни тот, ни
другой, как и не протестантизм в целом, и не, тем
паче, католицизм не мыслили и не мыслят себя в
качестве родоначальников или в статусе религиозных
оснований данных социальных отношений. Гораздо важней
сам дух индивидуализма и сурового морального
ригоризма, и той рационализации, которую они задают в
рамках европейской культуры. Примечательно, что
Норберт Элиас связывал позицию "рационализации" жизни
и поведения в истории европейского социума не с
буржуазными институтами, а с традиционным феодальным
сословием дворян, с придворным обществом французского
короля, с правилами и этикетом высокосветского
монаршего окружения. Таким образом, отвлекаясь от
частностей и нюансов, можно признать, что и М. Вебер,
и В. Зомбарт, были, по сути, согласны с тем, что
религиозные процедуры католицизма и богословские
учения кальвинизма и пуританства сыграли выдающуюся
роль в длительном процессе рационализации западной
цивилизации.
30
Процедура исповеди как способ интериоризации сознания.
Современные французские медиевисты Ж. Ле Гофф и Ж.
Делюмо. указывают на особое значение исповеди,
"инкорпорировавшей" мораль и нравственные принципы
совести в широкие народные массы. Утверждение
процедуры исповеди "повлекло за собой, - как отмечает
Ж. Делюмо, - непомерное разрастание власти и влияния
духовника, ставшего специалистом по греховным
прецедентам. Утонченно-тяжеловесная казуистика
привела к глубоким изменениям в общественном сознании
представителей европейской цивилизации, в то время
переживавшей трансформацию".14 Практика исповеди
постепенно охватывала всё более широкое пространство
человеческой жизнедеятельности. Отходя от сугубо
религиозных вопросов, она затрагивала правила ведения
бизнеса, финансовых манипуляций, так как было
запрещено прямое ростовщичество, темы семейных
отношений, сексуальных пристрастий супругов, которые
подвергались жесткой регламентации. Всё это вело к
тому, что верующий должен был постоянно следить за
собой, контролировать свои действия, отчитываться за
свои поступки. "Исповедь овнешняла (отменяла,
опустошала, запрещала) всё интимное. Но только так14 Делюмо Ж. Грех и страх. Формирование чувства вины в цивилизации
Запада (XIII - XVII века). Екатеринбург: Издательство Уральского
университета, 2003, С. 279.
31
интимное вообще могло возникнуть! - через опустошение
и недопущение. Мир исповеди - единственный,
тотальный, целостный мир, в котором индивид тогда
смел сказать "Я"", - утверждает российский учёный
Л.М. Баткин.15 Подобной позиции в оценки значения
исповедальной практики в становлении морального
самосознания в истории западноевропейской культуры
придерживается и известный отечественный
исследователь А.Я. Гуревич. В своей работе "Проблемы
средневековой народной культуры" он прямо пишет:
"Исповедь, требуя от прихожанина анализа и оценки
своего поведения, обращала его духовный взор внутрь
собственного морального существа и самой этой
процедурой не могла не оказывать на него
воспитательного воздействия. Этот самоанализ,
конечно, не происходил спонтанно, он навязывался
исповедующемуся в процессе приватного собеседования
со священником; но вырабатываемый таким образом навык
интроспекции мог быть со временем закреплен. Главное
то, что культура предлагала индивиду подобную
возможность самооценки и институционально закрепляла
ее в процедуре исповеди".16 Тем самым, медиевисты
признают, что внутренний мир и самосознание15 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о
культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания.
М.: РГГУ, 2000, С. 73.
32
европейского индивида эксплицировались через
процедуру исповеди и контроль совести, которые своими
историческими и метафизическими основаниями восходят
к эпохе высокого Средневековья и к специфическим
требованиям христианской религиозности.
Особую роль исповеди как формы "расшифровывания
себя" в процессе "дрессуры" морального сознания
европейцев неоднократно подчеркивал в своих трудах и
Мишель Фуко. Он видел в ней истоки развития романной
литературы и практики психоанализа. "Воздействие
власти на обыденную жизнь, - как пишет французский
учёный в одной из своих статье, - организовывалось
христианством по большей части вокруг исповеди,
вокруг обязанности регулярно вплетать в нить языка
ничем не примечательный мир будничного: заурядные
прегрешения, неприметные слабости вплоть до смутного
сплетения мыслей, помыслов и желаний; вокруг ритуала
признания, когда говорящий есть в то же самое время
тот, о ком говорят; вокруг стирания вещи, сказанной
посредством самого высказывания; но не в меньшей
степени и вокруг преувеличения самого признания,
которому суждено навсегда оставаться тайной, чтобы не
оставить за собой иного следа, кроме раскаяния и
16 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.:
"Искусство", 1981, С. 173.
33
покаянных трудов".17 Таким образом, согласно Фуко,
исповедь несла в себе двоякий смысл и, действительно,
была достаточно близка к практике психоаналитических
бесед. С одной стороны, верующий должен был раскрыть
себя, эксплицировать, вывести наружу все тайные
помыслы и желания своего Я, с другой стороны, он
приобретал возможность списать из своей памяти все
негативные и опасные увлечения, преодолев, тем самым,
суровый груз сомнений внутри своей совести. Власть
Церкви одновременно и налагала определенную
ответственность на её членов, и снимала комплекс
вины, предлагая соответствующие епитимьи и
индульгенции.
В данном контексте важен тот факт, что в 1215
году на IV Латеранском соборе было принято
каноническое предписание об обязательной исповеди для
всех верующих. Отказ от такого рода процедуры вызывал
самые негативные подозрения и стал, практически,
невозможен. Рост самосознания городского населения
требовал новых форм духовного контроля, для этого
было необходимо определить и утвердить чёткие нормы и
критерии оценки тех или иных преступлений и
превратных аморальных действий, дать исповедникам
17 Фуко М. Интеллектуалы и власть. Часть 1. Статьи и интервью 1970 -
1984. М.: Праксис, 2002, С. 262.
34
соответствующие руководства и пособия. Священники,
которые привыкли иметь дело лишь с практикой
церковной службы, а не с внутренним миром человека,
были "неспособны, - как подчёркивает Ж. Ле Гофф, -
решить (а иногда и понять) проблемы, которые ставят
перед ними кающиеся, и в особенности те, кто приносит
на суд своё дело совести (cas de conscience) (новый и
красноречивый термин: руководства для исповедников
станут называть его De casibus conscientiae),
возникшее из профессиональной деятельности: является
ли та или иная операция законной, что имеет значение
в первую очередь - трудовая необходимость или
предписания церкви относительно поста, воскресного
отдыха и т.д."18 Тем самым, в связи с развитием
торгового предпринимательства и ремесленного
производства в средневековых городах вопрос о совести
и внутреннем критерии моральных намерений приобрел
особое социальное звучание. Для преодоления
возникавших затруднений стали создавать всевозможные
пособия для исповедников и списки грехов
(пенитенциарии), в которых, чтобы надеяться на
спасение и получить должную епитимью, должны были
сознаваться верующие. Возникают новые задачи перед
18 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. С
104.
35
средневековым образованием и богословской мыслью,
формируется интерес к данной проблематике в рамках
университетских школ и в традиции схоластического
дискурса.
Исповедь и правила казуистики. Начиная с Пьера
Абеляра (1079 - 1142), в средневековой мысли
утверждается проблема "намерения" морального
действия, его "интенции". Затем разворачивается
широкая дискуссия вокруг понимания совести, в которую
включились самые влиятельные богословы Средневековья
(Пьер из Пуатье, Пьер Ломбардский, Филипп Канцлер,
Бонавентура, Фома Аквинский, Жан Жерсон). Важное
значение приобретает задача определения
соответствующих епитимий, налагаемых на согрешившего
в связи с той или иной мерой пагубности его действия.
В этом контексте утверждается моральная теория
казуистики (от лат. casus conscientiae - "случай
слвести"), в рамках которой рассматриваются различные
варианты поведения, определяются соответствующие
добродетельные стратегии действий и уточняются
критерии простительных грехов. Так, например, в
отношении труда в воскресные и праздничные дни были
установлены следующие, оправдывающие их,
обстоятельства: работа ex necessitate, то есть уборка
36
хлеба или сена при опасности начала дождя,
деятельность цирюльников, кузнецов, владельцев
гостиниц, труд рыбаков и булочников; работа ex
pietate, то есть труд из милосердия, а не ради денег,
как-то обработка церковных или монастырских полей,
помощь бедному человеку; труд ex parvitate operis, то
есть незначительные работы, в частности, на ветряных
или водяных мельницах. Но для того, чтобы определить
существо дела, уточнить смягчающие обстоятельства и
условия проступка, требовалось выявить тайные умыслы
человека, что осуществлялось в ходе процедуры
исповеди, она несла в себе особый смысл, не только
внешний, но и внутренний. Верующий должен был
постоянно следить за собой, контролировать себя,
чтобы быть готовым признаться в своих прегрешениях, к
тому, чтобы покаяться. Таким образом, тема совести,
по мнению исследователей, стала ключевой в истории
развития европейского самосознания.19 Рационализация
жизни западного человека в своём изначальном смысле
была связана с процедурой строгого самоконтроля, с19 "…рост самосознания, - утверждает Н. Элиас, - связан с развитием
совести". См.: Элиас Н. Проблемы самосознания и образа человека. //
Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001, С. 151. "К XV
столетию беспокойная совесть превратится в отличительную
особенность западной цивилизации - по крайней мере, для
определённого социального и культурного слоя", - пишет в своём
монументальном труде Жан Делюмо. См.: Делюмо Ж. Ук. соч., С. 432.
37
необходимостью исповедываться в грехах, с
соответствующей практикой выведения рассудочного
суждения, подавляющего возможные рецидивы аффективных
актов и страстей.
Данная проблематика приобрела особую актуальность
в эпоху трансформации европейской культуры от Средних
веков к Новому времени. Важную роль в генезисе ее
содержания сыграл Канцлер Парижского университета Жан
Жерсон (1362 - 1429), сторонник реформ
университетского образования и всей системы
католической Церкви, "проводник в новую эпоху", как
называют его в одном из новейших российских учебных
пособий.20 Учение Жерсона значимо серьёзной
проработкой процедуры исповеди и покаяния. Его
знаменитая "Книжечка трёхчастная", включавшая три
самостоятельных произведения "Толкование десяти
заповедей", "Трактат об исповеди" и "Приготовление к
смерти", приобрела особое признание и популярность.
Только в XV веке было осуществлено шестнадцать
переизданий. Написанная по-французски, она была
переведена на латынь, затем на испанский,
фламандский, шведский, немецкий языки, и стала общим
пособием для викариев, епископы рекомендовали её для
20 Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная культура. Учебное
пособие. М.: Издатель Савин С.А., 2003, С. 541.
38
прочтения священникам и простым верующим вплоть до
XVIII века. Он написал также трактаты "О том, как
надлежит выслушивать исповедующихся", "О различии
между смертными и простительными грехами", "Трактат о
различных искушениях Вражеских", "О средствах против
малодушия" и многие другие. По сути, Жерсон стал
самым авторитетным богословом в вопросах толкования
средневековой практики "заботы о душах" (cura
animarum) в преддверии Нового времени. При этом он
"добивался утешения кающихся", как отмечает
американский исследователь Томас Тентлер,21 а не
запугивания со стороны священников.
Грешник должен был обвинять себя "смиренно, а не
иронично; целомудренно, а не лживо; чисто, прямо и
искренне, избегая неуместностей". Требовалось
выяснить все подробности и частные обстоятельства
греховного акта, поставив перед верующим необходимые
вопросы ("кто", "что", "где", "какими средствами или
с помощью кого", "почему", "как", "когда" и т.п.),
чтобы в полной мере определить вину совершившего
греховное действие и назначить адекватную епитимью.
Такого рода позиции отстаивал в своей "Книжечке" Ж.
Жерсон. Особое значение он придавал тщательности и
21 Tentler T.N. Sin and Confession on the Eve of the Reformation.
Princeton: Princeton University Press, 1977, P. 306.
39
скрупулезности в акте покаяния и считал, что лучше
признаться в том, что не совершал, чем забыть про
какой-либо из грехов, который, в итоге, не позволит
обрести спасение. Поэтому забыть по небрежности про
свои грехи было для него "делом дурным, греховным и
гибельным". Тем самым, человек должен был постоянно
подвергать себя контролю суда совести, который
инициировался регламентом процедуры покаяния. В
данном горизонте внутреннее измерение его сознания
обретало строгие нормы и правила дисциплинарной
проекции власти на пространство его внешнего
поведения. Власть, таким образом, изнутри задавала
стратегии действий людей, инкорпорировала мораль и
упорядочивала их аффективную природу.
В трактате "О различии между смертными и
простительными грехами" Жерсон указывал, что главный
признак смертного греха - это серьёзное преступление
против одной из христианских заповедей, но не меньшее
значение имеют и индивидуальные аспекты поступка:
процедура обдумывания ("совет"), знание конкретных
обстоятельств дела, реальное согласие на действие.
Однако он понимал, что полной ясности в понимании
генезиса акта сметного греха все же нет, ибо мнения
авторитетных богословов достаточно сильно
различаются, хотя имеется некоторое общее
40
представление. В своем трактате он описывает процесс
осуществления греховного акта на примере измены
французской королевы своему супругу в пользу Англии.
Сначала она не желала принимать и слушать английского
посланника. На второй стадии ее привлекают дары
посланника, и она решает принять его, но не
соглашается с ним и отсылает его. На третьей стадии
она не только слушает его, но и соглашается с ним. С
этого момента наступает торжество греховного акта:
она принимает подарки и безрассудно помогает врагу.
Ее неверность мужу становится неотвратимой, никакие
угрозы и возможные наказания уже не способны
остановить ее в действиях на службе английскому
королю. Важнейшим условием торжества греха выступают
пагубные намерения, которые преобладают сначала в
мысли, а затем и в деле. Злые помыслы формируют и
утверждают согласие на грех. Их критерием являются
удовольствия. Если человек, согласно Жерсону, в своих
злых помыслах испытывает удовольствие, то это и есть
начало греха, даже тогда, когда он и не совершает
данных действий в случае представившейся возможности.
Сама по себе радость от восприятия женской красоты не
является пагубой греха, или, по крайней мере, в этом
может быть только грех любопытства. Если же мужчина,
вступая в интимные отношения с женой, думает о
41
другой, то в этом уже заключается смертный грех. Грех
не является смертным тогда, когда человек
сопротивляется искушению и не до конца обдуманно
соглашается на превратное действие.
В своих работах Жерсон устанавливает строгую
регламентацию семейной жизни, что было особенно важно
для исповедников, постоянно сталкивавшихся с такого
рода проблемами в своей обыденной служебной практике.
Им были крайне необходимы соответствующие правила и
оценки тех или иных проступков со стороны верующих в
их интимных отношениях. Главным требованием
супружеского долга, следуя Жерсону, являлось его
строгое исполнение. Оправдывающими обстоятельствами
могли быть только болезнь или иные крайние причины.
Основанием для подобной позиции знаменитого Канцлера
было общее мнение, что брак уменьшает зло греха,
поэтому необходимо строго следовать его главному
предназначению, чтобы избежать худшего. Но при этом и
Жерсон, и многие другие богословы Средневековья четко
ограничивали сами возможности такого рода отношений и
призывали приходских священников требовать полного
отчета об интимной стороне жизни верующих в рамках
процедуры исповеди. Эти запреты были обусловлены,
прежде всего, тем, чтобы супруги не переходили грань
между деторождением и эротическим удовольствием.
42
Брачные отношения оправдывались лишь деторождением,
поэтому Церковь могла позволить расторгнуть брак,
если один из супругов был не способен к продолжению
рода. Примечательно, что университетский ученый
выступил против шедевра куртуазной средневековой
культуры "Романа о розе". Он не мог принять
чувственную эротическую фривольность данного
произведения и видел в нем источник заразительной
пагубной греховности. Однако Жерсон "был
последовательным защитником приватности
исповедания".22 Поэтому он был против того, чтобы
переносить некоторые сложные вопросы жизни верующих
на суд высшей инстанции: епископа или папы. Так
утверждалась власть Церкви в отношении самосознания
верующих, эксплицируя жесткий контроль их душевной и
повседневной семейной жизни.
Кроме того, в период Средневековья на Западе
обосновывается теологическая концепция особого
загробного мира - Чистилища. Это церковное
нововведение расширило индивидуальную ответственность
верующих не только за свои проступки, но и за
пагубные действия своих близких, которые необходимо
было искупить, тем самым, усиливалось внутреннее
напряжение и неизбывное чувство вины. "Создание
22 Tentler T.N. Op. Cit., P. 310.
43
Чистилища, - подчёркивает Ж. Ле Гофф, - явилось одним
из первых свидетельств возросшей важности,
придаваемой в последние века Средневековья
индивидуальному суду. Время пребывания в Чистилище,
которое Господь определяет каждому в момент его
смерти, несомненно, является индивидуальным временем.
Оно индивидуально, потому что, подобно земной жизни,
оно для каждого своё. Оно индивидуально еще и потому,
что во многом зависит от поступков индивида. Если
после смерти срок пребывания в Чистилище зависит от
заступничества, то до наступления смерти на
продолжительность его влияют как заслуги, так и
проступки, как добродетели, так и пороки, как
раскаяние, так и рецидивы проступков, как хождение на
исповедь, так и небрежение этой процедурой, а также
покаяние, которое успел или, наоборот, не успел
совершить будущий покойник".23
Ереси и методы борьбы с ними. Контроль сознания
верующих требовался церковным властям для того, чтобы
преодолеть широкое распространение народных
еретических движений, которые превратились в
подлинный бич католической иерархии на рубеже XII -
XIII веков. Альбигойцы, бегарды и бегинки, вальденсы
23 Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. С. 127 - 128.
44
наводнили Западную Европу, захватывая подчас целые
регионы. Проповедники неканонических идей выступали
против пороков официальной церкви: обмирщения,
стяжания, симонии. Простые верующие при этом охотно
поддерживали их, так как и сами видели все
недостатки. Так, лионский купец Петр Вальда раздал
свое имущество нищим и начал проповедовать
апостольские идеалы бедности и простоты, призывая к
покаянию. Он отрицал обрядность церковной службы,
иконы, статуи. В 1184 году был отлучен от Церкви.
Несмотря на это, его учение обрело приверженцев во
многих городах Италии и Франции. Движение бегардов и
бегинок также охватило жителей городских ремесленных
кварталов. Эти благочестивые группы ткачих и мастеров
объединялись в цеховые общины, в рамках которых,
много работая, они вели праведную жизнь по
христианским правилам и заветам. Отношение к ним со
стороны официальной Церкви поначалу было терпимым, но
в 1311 году и их учение было осуждено.
Особенно популярной была ересь альбигойцев или
катаров. Она охватила обширные территории богатого
Юга Франции. Поддерживаемая графами Тулузскими
Раймоном VI (1156 - 1222)и Раймоном VII (1197 -
1249), стремившимися противостоять централизации
Франции вокруг Парижа, она представляла реальную
45
угрозу для всего католического мира средневековой
Европы. Учение альбигойцев своими истоками восходит к
ранним христианским ересям гностиков и манихеев. В
Западную Европу оно пришло из Болгарии и напрямую
связано с богомильством. Как и данным учениям,
альбигойцам был присущ мировоззренческий дуализм. Они
считали, что мир сотворен не благим Богом, а злым
духом Демиургом-Сатаной, поэтому все материальное
пронизано превратным несовершенством, и только души
людей несут в себе начало добра. Но для того, чтобы
преодолеть тюрьму телесной оболочки, верующим было
необходимо приобщиться к таинству consolamentum
("утешение"), которое им могли дать только "чистые"
проповедники ("катары" в переводе с греческого -
"чистые"), учителя-старцы, причастные к истинному
свету. Отвергая злую действительность этого мира, они
доходили до крайностей аскетизма, вплоть до
собственного умерщвления путем отказа от еды, не
признавали воплощение Христа, Ветхий Завет, отрицали
Церковь и земные институты светской власти. Само
собой разумеется, что папство не могло мириться с
того рода идеями.
В 1209 году по призыву папы Иннокентия III и его
легатов начинается Крестовый поход северофранцузских
рыцарей против опальных территорий Юга. Суровыми
46
мерами и жестокостью, уничтожением населения целых
городов, массовыми казнями мнимых и реальных
еретиков, что во имя преодоления ереси в полной мере
оправдывалось Церковью, крестоносцы буквально
подавили в крови все очаги сопротивления. Однако
духовный центр катаров - замок Монсегюр - продержался
до 1244 года. Костер в Монсегюре означал
окончательное поражение альбигойцев. Но теперь Риму
было необходимо преодолеть смятение умов, ведь
массовые казни и костры отнюдь не способствовали
укреплению авторитета официальной Церкви. Кроме того,
нужно было выявить всех тайных сторонников
еретического движения, особенно их своеобразных
священников, "чистых", которые через процедуру
consolamentum поддерживали это вероучение и дух своих
последователей. Без них это главное таинство
альбигойцев не имело силы. В перспективе решения
данных задач средневековая католическая Церковь
прибегает к новым формам и процедурам воздействия на
сознание верующих, поддерживает формирование и
распространение деятельности новых монашеских орденов
францисканцев и доминиканцев, создает печально
известный институт инквизиции.
Утверждение новых нищенствующих орденов, которые
восприняли апостольские идеалы народных движений,
47
стало весомым фактором в борьбе Церкви с еретическими
учениями. Св. Франциск Ассизский (1182 - 1226),
выходец из купеческой среды, призвал своих
последователей нести Слово Божье в среду простых
тружеников, добывающих свой хлеб тяжелым трудом.
Помогать крестьянам, поддерживать больных и немощных,
исповедовать прямо в поле или на городской площади,
жить подаянием, нести бремя добровольного нищенства,
проповедовать - таковы были главные правила нового
монашеского ордена миноритов ("младших братьев"). Эти
принципы очень скоро нашли широкую поддержку в
народе. Несмотря на то, что многое во францисканстве
вызывало сомнения и опаску у ортодоксальных кругов,
орден был признан папой Иннокентием III, а в 1223
году Гонорий III официально утвердил орденский устав.
Им же в 1216 году была санкционирована деятельность
ордена св. Доминика (1170 - 1221), в миру -
испанского дворянина Доминика де Гусмана. Он основал
свое братство в 1215 году в Тулузе для борьбы с
ересью альбигойцев. Именно членам ордена
доминиканцев, также принявших обет добровольного
христианского нищенства, было поручено возглавлять
суды инквизиционного трибунала. Отсюда, происходило
их прозвище "псы Господни" (Domini canes).
48
Нищенствующие ордена (мендиканты) вскоре
приобрели статус решающей силы римской курии в
противостоянии с народными ересями. Они быстро
распространялись по всем европейским городам и
получали всевозможные церковные привилегии для
осуществления своей деятельности. В частности, им
было разрешено проповедовать, отпускать грехи и
исповедывать на землях своего монастыря и в публичных
местах без санкций местных священников. Таким
образом, как отмечает Н.Ф. Усков, "практически вся
жизнь горожанина от рождения до смерти и погребения
обслуживалась мендикантами, которые создали
параллельную церкви орденскую, т.е. не связанную
границами епархий и приходов, систему cura animarum
(забота о душах)".24 Влияние новых орденов, особенно
францисканцев, было очень велико среди простых
верующих, поэтому никакие протесты приходских
священников по поводу нарушений сложившихся традиций
церковной службы не принимались. Оба ордена
находились под особой юрисдикцией папы, что
обеспечивало им достаточную степень независимости и
свободы по отношению к местным церковным властям.
24 Усков Н.Ф. Монашество в духовной жизни города. // Город в
средневековой цивилизации Западной Европы. Том 2. Жизнь города и
деятельность горожан. М.: "Наука", 1999, С. 212.
49
Охват деятельности мендикантов приобрел тотальный
характер в средневековой Европе, их монастыри были
повсюду. "В любом поселении, превышающем 1500
жителей, основывался, по крайней мере, один такой
монастырь. В 1330 году во Франции насчитывалось, -
подчеркивает П.Ю. Уваров, - 226 городов, где
обосновались либо доминиканцы, либо францисканцы".25
Специальные привилегии нищенствующие получили и в
области образования. Им было разрешено занимать
несколько кафедр на богословском факультете
Парижского университета. Их проповедническая
деятельность и споры с еретиками, многие из которых
имели дипломы Болоньи и Сорбонны, требовали широких
познаний в области теологии и философии, в сфере
искусства ведения дискуссии и в умении применять
различные логические приемы и процедуры. Поэтому
неудивительно, что доминиканцы вскоре создали
стройную систему обучения своих послушников, начиная
от местных монастырских школ до знаменитых
провинциальных Studium Generale, которые
обустраивались в крупных европейских городах.
Главными орденскими учителями являлись выдающиеся
средневековые богословы Альберт Великий и Фома25 Уваров П.Ю. Города средневековой Франции. // Город в средневековой
цивилизации Западной Европы. Том 1. Феномен средневекового
урбанизма. М.: "Наука", 1999, С. 70.
50
Аквинский. Однако особая деятельность доминиканцев
была связана с институтом инквизиции.
Датой рождения этого католического органа
духовного надзора можно считать 20 апреля 1233 года,
когда папа Григорий IX своим актом основывает
всеобщую инквизицию в провинциях Прованса и призывает
доминиканского приора назначить руководить ею опытных
в борьбе с ересью альбигойцев монахов. Стадия
преодоления еретического движения перешла к тому
времени в такое состояние, когда стало необходимо
развернуть повсеместный контроль сознания верующих,
чтобы выявить всех скрывающихся проповедников
катаров. Прямые формы сопротивления были подавлены,
но тайные исповедники остались, и их нужно было
выявить с предельно возможной степенью тщательности,
чтобы отнять у еретиков надежду на спасение. Для
этого были приняты соответствующие меры. В частности,
особая роль отводилась проповедям и исповеди.
Практика проповеди стала мощным орудием
психологического воздействия на умы простых верующих,
в ней использовались изощренные методы массового
гипноза, трансформации сознания, перехода к особым
экстатическим состояниям, когда огромные толпы людей
попадали в полную зависимость от проповедника. По
сути, она являлась своеобразным спектаклем, который
51
разыгрывался перед сотнями и тысячами верующих.
"Эффективность спектакля проповеди - это, безусловно,
существеннейшая часть "проповеди примером", который
требовали от своих последователей и св. Доминик, и
св. Франциск. Вызывая сопереживания, дрожь и
судороги, смех и слезы, метания и импульсивный,
неконтролируемый порыв к покаянию, проповедники, -
пишет Н.Ф. Усков, - воздействовали на те же потаенные
струны человеческой души, что и яркость,
величественность и сакральная таинственность
богослужения".26 Проповедник должен был обладать
особыми процедурами мистического опыта, чтобы ввести
себя в транс, который, в свою очередь, позволял
добиваться изменения состояния слушателей. Он мог
переходить от слез к смеху, от крика к шепоту, и все
это способствовало утверждению в умах простых людей
особого чувства вины и необходимости сиюминутного
раскаяния. Не редко они впадали в истерику и
обливались слезами. Многие тут же исповедовались в
своих грехах.
Инквизитор, прибывавший в тот или иной город,
который был на подозрении в причастности и в
поддержке вероучения еретиков, начинал свою
деятельность именно с публичной проповеди перед всеми
26 Усков Н.Ф. Ук. соч., С. 213.
52
горожанами. Он объявлял о необходимости покаяться, и
предоставлял неделю ("время милости"), чтобы
признаться в своих прегрешениях. С этого момента
каждый был обязан осмыслить свою вину, исповедаться и
помочь делу борьбы с еретиками, что давало шанс на
прощение. Хотя тайна исповеди была провозглашена на
IV Латеранском соборе 1215 года в качестве
обязательного условия, многие богословы считали, что
в святом деле преодоления ересей вполне позволительны
отступления. Такого рода процедура всеобщего покаяния
приводила к массовому доносительству, причем подчас
обвинялись и ни в чем не повинные люди. Имена
доносчиков не разглашались, и весь процесс дознания
было сугубо секретным. Не редко люди просто не знали,
в чем их обвиняли. Главная задача всего расследования
состояла в том, чтобы заставить преступника
заговорить, сознаться в своих превратных действиях и
неканонических пристрастиях, что само по себе
рассматривалось в качестве начала на пути искупления.
Конечно, при этом использовались самые разные способы
воздействия, включая пытки, но предпочтение
отдавалось психологическим методам, привлекались
родственники, друзья, мог прийти сам епископ для
внушения упорствующего. Как отмечает российский
исследователь XIX века Н. Осокин, утонченное
53
применение пыток в арсеналах инквизиции появилось,
прежде всего, в Испании в период XV - XVI веков,
когда там развернулись преследования неверных,
колдунов и ведьм. В Италии и Франции XII - XIII веков
доминиканцы действовали, преимущественно, силой
убеждения, запутывая обвиняемого в своих логических
хитросплетениях.27 Казни проводились в крайних
случаях, когда дело касалось самых убежденных
приверженцев альбигойцев. Известны случаи, когда
"чистых" вынуждали переходить на сторону инквизиции.
От простых верующих стремились получить всю
информацию о тайных проповедниках, если после этого
они раскаивались и принимали католичество, то их
временно заключали в тюрьму. Таким образом, как
распространение чумы в странах Западной Европы
потребовало от светских властей формирования особых
способов воздействия на социальное тело городов, так
и широкие народные еретические движения поставили
задачу перед Церковью создавать новые формы контроля
сознания верующих.
Иезуиты: процедура "отчета совести". Венцом системы
духовного надзора в эпоху заката Средневековья можно
27 Осокин Н. История альбигойцев и их времени. Т. 2. Первая инквизиция
и завоевание Лангедока. Казань, 1872, С. 259.
54
признать процедуру отчета совести, принятую в ордене
иезуитов. Этот орден стал символом католической
реакции и активной оппозиции идеям реформационных
преобразований. Внутри него была создана стройная
организационная структура подчинения и жесткой
духовной регламентации. Для всех членов ордена,
включая высших иерархов, так называемых, профессоров,
была введена процедура отчета совести. Каждый хотя бы
раз в полгода был обязан пройти через такое
испытание. Отказ от него был практически невозможен,
так как иначе человек лишался еды. Практика данной
процедуры была разработана Игнатием Лойолой и
изложена в его знаменитых "Духовных упражнениях". В
процедуру отчета включалось, как частичное ежедневное
испытание, так и полное испытание совести. Малое
испытание предполагало осуществление ежедневного
самоконтроля за греховными помыслами. Утром, только
поднявшись с постели, требовалось, согласно
предписаниям И. Лойолы, определить те прегрешения, с
которыми необходимо было бороться в течение дня.
После обеда, нужно было провести исследование,
осмыслив каждый поступок и помысел, чтобы уяснить,
как идёт борьба с греховными желаниями. Затем после
ужина необходимо было проанализировать весь ход дня,
чтобы подвести окончательные итоги. Кроме
55
повседневного отчёта, требовалось сопоставлять дни и
недели, чтобы понимать перспективы позитивных
изменений, а затем ставить новые задачи перед собой.
Полное испытание совести предполагало исповедание
всех мыслей, слов и дел перед своим непосредственным
начальником. С этих отчётов была снята тайна
исповеди, поэтому, получаемые таким образом сведения,
активно использовались руководством ордена для
контроля умонастроений монахов и определения их
соответствующих духовных способностей. В правилах
общего экзамена, разработанных Лойолой, напрямую
предписывалось "содействовать исправлению ближнего и
своему собственному через взаимное обличение".28
Иезуиты предельно расширили значение исповеди и в
повседневной практике церковной жизни. Если до XVI
века особыми привилегиями в осуществлении данных
процедур пользовались нищенствующие ордена, то затем
такого рода преимуществами стали пользоваться
иезуиты. Они требовали от верующих чаще
исповедываться, и превратили данную процедуру не
просто в отпущение грехов, но в совет, когда верующий
при наличии определённых сомнений выносил на
соответствующее согласование со священником стратегии28 Лойола И. Выдержки из общего экзамена. // Андреев А.Р. История
ордена иезуитов. Иезуиты в Российской империи. XVI - начало XIX
века. М.: Русская панорама, 1998, С. 243.
56
своих действий. Роль священника, таким образом,
становилась подобной духовному наставнику, он получал
самые широкие возможности для контроля сознания своих
подопечных. Однако иезуитам приходилось находить и
соответствующие оправдания для самых неблаговидных
проступков, ведь они были духовниками у многих
знатных особ и даже у королей, и были посвящены в
различные политические интриги. В этой связи именно
иезуиты разработали теорию, так называемого,
пробабилизма.
При всех самых противоречивых оценках
деятельности ордена иезуитов, его роль в период
перехода от Средних веков к Новому времени была,
несомненно, очень велика. Особое значение орден
иезуитов приобрёл в сфере развития образования. В
1584 году специальная комиссия ордена составила
программу преподавания "Ratio Studiorum",
своеобразный педагогический устав. По всей Европе они
создавали свои коллегии, где обучались представители
разных сословий. Среди их выпускников во Франции были
Бальзак, Вольтер, Корнель, Монтескье, Мольер, Руссо и
др. Они задали такую проекцию воспитания, лишь в
жёстких границах которой стало возможным зарождение
мировоззренческих установок ясного и упорядоченного
мышления Нового времени. Конечно, главная стратегия
57
ордена была направлена на то, чтобы отстаивать
интересы папства и церкви. При этом иезуиты доходили
до крайностей в некоторых принципах своей идеологии.
В частности, Игнатий Лойола в "Упражнениях" признаёт,
что для того, чтобы "следовать истине, необходимо
всегда быть расположенным верить, что то, что я вижу
белым, чёрное, если иерархическая Церковь так
определит".29 Доктрина казуистики была мощным оружием
в руках иезуитов. Но их дело и мысли вполне
соответствовали духу времени, сложившимся
историческим обстоятельствам и сложнейшим
психологическим переживаниям, которые отражали
трагический этап трансформации двух мировоззренческих
парадигм, когда безрассудная отвага и жестокость
средневекового рыцарства окончательно сменилась
утончённой риторикой власти и специфическими
механизмами её функционирования.
В целом, христианская религиозность явилась
достаточно весомым и ярким фактором становления
культуры не только в Средние века, но и определила
перспективу формирования европейского самосознания в
самом широком значении. Эта традиция создала
"физиологию" европейца, сложившуюся в ходе её
многовековой истории "дрессуры". Она инсталлировала
29 Лойола И. Духовные упражнения. // Андреев А.Р. Ук. соч., С. 228.
58
принципы его нравственного самоконтроля, сформировала
неотъемлемый внутренний габитус. Это позволяет, в
свою очередь, по-новому взглянуть на процесс перехода
от Средних веков к Новому времени в горизонте
становления западноевропейской цивилизации,
переосмыслить её господствующие детерминанты и
внутренние движущие силы.
1.5 Города и городская культура.
Этапы развития городов. История большинства
западноевропейских городов также начинается с эпохи
Средневековья, именно в этот период, как отмечает
А.А. Сванидзе, сложилась "городская система Европы".30
Завоевания варваров разрушили античный порядок
городской жизни, многие прежде мощные центры пришли в
упадок и запустение, на площадях появлялись поля,
здания общественных учреждений приходили в
негодность, деятельность горожан всё более зависела
от аграрных работ. Даже города в бассейне рек Рейна и
Дуная утратили своё былое значение и стали небольшими
военно-административными центрами с незначительным
количеством ремесленного населения. Только к VIII
веку складываются соответствующие торговые связи и30 Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие
проблемы. // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Том
1. Феномен средневекового урбанизма. М.: "Наука", 1999, С. 10.
59
формируются новые городские поселения. Однако
некоторые древнеримские города даже в условиях
глобальных исторических трансформаций сохранили свой
социально-экономический статус и не канули в лету
(например, античный Трир).
Подлинный расцвет средневекового урбанизма
начинается в XI - XIII вв., когда по всей Европе
появляются многочисленные торгово-ремесленные центры.
Они не только возрождают прежние античные поселения,
но и значительно выходят за рамки традиций Древнего
Рима. Города возводят вдоль главных речных артерий
Европы - по Днестру и Дунаю, в районе Северной Галлии
между Луарой и Рейном, на побережье Северного моря,
особенно много их появилось в Средней и Северной
Италии. Быстро возрастало количество городских
жителей, хотя абсолютное большинство городов были не
столь крупными и густо заселёнными, превалировали
местечковые образования с незначительным населением
от пятисот до полутора тысяч человек. Города в 20-30
тысяч считались достаточно мощными, а центры в 100
тысяч были просто на пересчёт. При этом самым крупным
городом Западной Европы являлся Париж, в котором по
данным переписи 1328 года проживало от 200 до 230
тысяч. Основным источником пополнения городского
населения являлись крестьяне, которые по тем или иным
60
причинам уходили в город и обретали личную
независимость.
Социальный уклад и регламентация жизни средневековых
горожан. В Средние века существовало правило:
"городской воздух делает свободным". Однако для того,
чтобы приобрести подобный статус, необходимо было
прожить в городе не менее года и одного дня, а также
научиться какому-то мастерству, чтобы включиться в
определённую корпорацию. Таким образом, произвол
феодала в отношении крестьян, бежавших в город,
сменялся новыми формами контроля и регуляции
поведения соответствующими нормами корпоративной
морали городских ремесленных гильдий и цеховых
организаций. Если же они не вписывались в социальное
пространство города, то их уделом становилась жизнь
городских низов, либо деятельность, которая
подвергалась всеобщему презрению (банщики, брадобреи,
знахари, комедианты, палачи, чистильщики клоак,
проститутки), либо откровенный пауперизм и путь
маргиналов. Такого рода людей преследовали и считали
паразитами, но одновременно именно город делал их
таковыми, более того, именно город предоставлял
возможности для того, чтобы они могли выжить, прося
милостыню, выступая в роли, так называемых,
61
"Христовых бедняков", или занимаясь всевозможным
мошенничеством. Они были необходимым атрибутом всего
уклада городской жизни и объектом проявления
христианских чувств милосердия со стороны богатых
купцов и ремесленников. Для них создавались особые
заведения - госпитали, богадельни, куда их принимали
без взноса, но принуждали работать. Часто бедноте
раздавали милостыню по завещанию богатых бюргеров,
которые стремились, тем самым, позаботиться о своей
грешной душе. Это стало обычной практикой во многих
средневековых городах. Нищие даже образовывали свои
братства с определёнными взносами в общую казну, из
которой осуществлялась помощь в каких-то крайних
случаях.
Постепенно отношение к социальным низам
изменялось, городские власти не только ограничивали
количество нищих, но и привлекали их к общественным
работам, особенно, так называемых, "здоровых бедных",
которые были вполне трудоспособны, но не могли найти
работу. Ограничение бродяжничества, в дальнейшем,
только возрастало. Вместе с этими процессами
преображалась и система филантропической поддержки.
Богатые стали помогать, прежде всего, тем, кто
переживал временные трудности, обусловленные теми или
иными жизненными обстоятельствами, но при этом не
62
выпал из социума, не стал откровенным бродягой.
Довольно часто пауперы объединялись в настоящие
воровские шайки, и именно город был идеальным местом
для их деятельности, здесь было, у кого воровать и
где скрыться. Свои действия они рассматривали в
качестве специфического ремесла, у них были свои
опознавательные знаки на одежде, свой не понятный
другим жаргон.
Вместе с развитием городов в XI - XIII веках
начинает формироваться и особый дух коммунального
единства. Городские жители объединялись во
всевозможные купеческие гильдии и ремесленные
корпорации. "Корпоративизм сословий и малых групп, -
указывает А.А. Сванидзе, - пронизывал средневековое
общество Западной Европы сверху донизу, был его
сущностной чертой".31 Например, в Париже в тринадцатом
столетии существовало более 300 цехов, представлявших
собой профессиональные объединения людей самых разных
специальностей. Члены таких братств имели свои знаки
отличия и особую одежду, отражающие их сферу
деятельности. Они группировались в отдельные колонны
во время праздничных шествий, устраивали совместные
пирушки, посещали определённую церковь, помогали
своим членам в трудных ситуациях, обязательно
31 Сванидзе А.А. Ук. соч., С. 27.
63
участвовать в поминках своих коллег-собратьев по
цеху. Даже совместные цеховые вечеринки
регламентировались строгими правилами поведения: было
запрещено приходить с оружием, напиваться, нарушать
общий порядок застолья, оскорблять других, ругаться,
следовало приходить только с женой, разрешалось
приглашать гостей, но лишь при соответствующем
согласовании с цеховым старейшиной, при этом расходы
за угощения для гостя должен был нести приглашающий.
Особенно жёстко корпорации ремесленников следили
за соблюдением производственного процесса. Мастеру
предписывалось чётко исполнять все процедуры
производственного цикла, не допускать брака, не
использовать недоброкачественных сырьевых материалов,
не привлекать в качестве подмастерьев необученных
работников. Он нёс личную ответственность за весь
произведённый товар и на каждом предмете ставил своё
персональное клеймо. Не менее суровыми были и правила
торговых операций, при продаже необходимо было
внимательно и терпеливо работать с клиентами, никому
не отказывая в любезности, чётко соблюдать все
договорённости о сроках поставок и цене на товар. При
этом нарушителей публично судили на заседании цеховых
организаций, прибегая к всевозможным штрафам и
наказаниям. Таким образом, формировалась этика
64
трудовых отношений и соответствующие нормы
производственных процессов. Многие из традиций
средневековых ремесленных объединений, подчас
преобразившись до неузнаваемости, сохраняются и в
укладах современных западноевропейских городов.
Строгая регламентация жизнедеятельности городских
ремесленников, в некотором смысле, отражала
необузданность их нравов. Поэтому не приемлемы как
чрезмерные идеализации, так и недооценка значения
этих процессов. Бесспорно, что основанные на
договорных началах и коллегиальности в принятии
решений цеховые братства служили своеобразным
фундаментом для развития гражданского правопорядка и
утверждения общественного самосознания городских
жителей. С другой стороны, примитивный характер
труда, отсутствие развитых технических приспособлений
делали его сугубо индивидуальным, основанным лишь на
личных умениях и навыках мастера. Специфические
манипуляции, присущие данному производителю,
обусловливали уникальный характер его работы,
задавали её особую ценность, но в этом заключались и
свойственные такого рода производству недостатки.
Цеховые организации превращались в монопольные
структуры, которые не позволяли свободным
ремесленникам заниматься своим делом. Параллельно в
65
городской среде выделяется знать, патрициат, а,
следовательно, появляются социальные противоречия и
конфликты, возникают восстания бедноты, ставшие
неотъемлемой частью городской жизни Средневековья.
Становление независимого этоса бюргерства. Городские
коммуны отстаивали свои права перед властью сеньоров
и подчас добивались полной независимости. Так было в
Италии, где многие крупные города получили
самостоятельный государственный статус (Венеция,
Генуя, Лукка, Милан, Сиена, Флоренция). В Англии,
Франции, скандинавских и пиренейских странах наряду с
выборными городскими советами властные
административные функции выполняли должностные лица
короля. Многие города Германии были резиденциями
епископов и находились под их юрисдикцией. При этом
формирование более или менее независимых городских
советов здесь началось позже, лишь в конце XII века.
В целом, немецкие городские поселения значительно
отставали от других стран и по количеству жителей. Но
это не мешало активно развиваться немецкой торговле.
В частности, особую роль в торговых операциях
Центральной Европы приобрёл Франкфурт-на-Майне, где
проходила самая представительная ярмарка, а в 1402
году был основан первый городской банк. В борьбе за
66
свои права и независимость и в целях расширения
торговых операций бюргеры заключали союзнические
соглашения между различными городами. Таким образом,
например, возникли Ломбардская лига северо-
итальянских городов и знаменитая Ганза, объединившая
160 городов Северной Европы.
Постепенно формируется особая мораль бюргерства,
своеобразный буржуазный менталитет, характеризующийся
приоритетом частнособственнического интереса и
специфическим пониманием добродетели, прямо
противоположным по отношению к устоям и правилам
куртуазной рыцарской культуры. "Термин "буржуа", -
как указывают западные исследователи, - впервые
появился в XI веке для того, чтобы описать новое
добавление к традиционным социальным рангам кнехта
(нобилей), клирика и серва. Термин первоначально
обозначал купеческие группы, которые формировали
новые общества или "бурги" ("bourges") как базы
операций в или около старых римских городов, которые
были управляемы феодалами данных земель".32
Строгий расчет и суровый повседневный труд
составляли основу самосознания бюргера. Он изначально
отвергал всё то, что представляло ценность для
32 Kagan D., Ozment S., Turner F.M. The Western Heritage. Vol. I, N.Y.:
Macmillan Publishing, 1987, P. 273.
67
средневекового рыцарства. Щедрость, воинственность,
демонстративная отвага и бесшабашная удаль,
чрезмерная эмоциональность и даже подчас грубость,
чувственность и поэтичность, составлявшие приоритеты
куртуазной культуры средневекового рыцарства,
представлялись буржуа именно теми свойствами и
привычками, с которыми следовало бороться и полностью
преодолевать. Напротив рациональность, подчинение
своих эмоций и переживаний, умение пойти на
компромисс и договориться с любым клиентом являлись
главными требованиями для воспитания успешного купца,
способного вести дела. "Как бы ни была богата семья
купца или банкира, детей с раннего возраста приучали
к жесткой экономии и ограничению собственных запросов
и желаний, что нашло своё отражение, - отмечает И.А.
Краснова, - на страницах дидактических наставлений,
написанных горожанами. Воспитание в этой среде было
направлено на подавление эмоций и чрезмерной
возбудимости, агрессивности и воинственности.
Представители торгово-ремесленных кругов были
озабочены развитием в детях рациональных начал и
высокой степени коммуникативности, для чего
стремились выработать приветливость, общительность,
умение идти на компромисс. Связь между отцами и
сыновьями являлась стержнем малой семьи, в ней
68
заключался её основной смысл. Тем не менее, следует
учитывать потребность в формировании независимости,
ведущую к ослаблению авторитарных принципов и
патриархального начала. В записках горожан,
относящихся к концу XIV - XV веков, часто идёт речь о
нежелательности физических наказаний, воспитывающих
дух раба, и о предоставлении экономической и
социально-правовой самостоятельности детям и, в
первую очередь, сыновьям (обычай эмансипации), что
широко практиковалось в семьях деловых людей тех
столетий".33 Главное требование к родителям в системе
семейного воспитания в среде бюргеров относилось к
формированию морального облика их детей, к их
духовно-нравственному наставлению, религиозность и
суровый христианский пиетизм стали характерным
атрибутом городской жизни средневековых ремесленников
и купцов.
Не менее серьёзное значение городские жители
придавали образованию своих детей. Сама деятельность
негоцианта или ремесленника предполагала
необходимость специального обучения и умения писать и
считать. Поэтому неудивительно, что уже к
пятнадцатому столетию во многих европейских городах33 Краснова И.А. Брак и семья в городе: Флоренция XIV - XV веков. //
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Том 1. Феномен
средневекового урбанизма. М.: "Наука", 1999, С. 219.
69
сложилась стройная система образования. Так, в
частности, было во Флоренции. "В XV веке, - как пишут
Фрэнсис и Джозеф Гис, - большинство детей из среднего
класса и богатых семей начинали формальное
образование около 7 лет в школах коммуны. Обучение
проходило три стадии: первая - обучение чтению и
письму; вторая - обучение счёту с использованием в
это время арабских цифр, введённых в Европе Леонардо
Фибоначчи; третья - активная работа в качестве
ученика в банке или торговом доме".34 Пи этом
требования к девочкам были гораздо ниже, чем к
мальчикам. В лучшем случае их могли научить только
письму и чтению. Однако были исключения, когда
женщины становились учёными и добивались
университетских степеней в области медицины.
Жизнь средневекового горожанина развёртывалась в
горизонте двух топографических доминант - храма и
рынка. Соборы центрировали пространство городских
улиц, они строились таким образом, чтобы их можно
было увидеть с любой улочки. А рядом с церковью
располагалась рыночная площадь. Таким образом,
сочетались две, казалось бы, достаточно
противоположные по своему значению формы городской
солидарности - религиозно-божественная, устремленная
34 Гис Ф. и Д. Брак и семья в Средние века. М.: РОССПЭН, 2002, С. 299.
70
ввысь, к небесным перспективам спасения, и земная,
обусловленная деловыми отношениями, куплей и
продажей, торговлей и накопительством со
всевозможными греховными диссонансами и искушениями.
В этом смысле весь уклад жизни средневекового бюргера
нес в себе двоякое предназначение, совмещая
несовместимые начала - культ религиозный и культ
труда и наживы. Именно в проекции данной антиномии
осуществлялась экспликация "этоса" средневекового
горожанина. Занимаясь ремесленным производством,
реализуя торговые сделки, житель средневекового
города должен был постоянно думать о своей душе,
заботиться о её спасении. В этом заключалась
напряженность его внутреннего мира. Поэтому,
например, купцы не должны были быть жадными, а с
радостью и по доброй воле передавать по завещанию
перед смертью часть своего богатства церкви и на
благотворительные цели. Это требование было
обязательным для всякого богатого человека и
составляло необходимый атрибут его внешнего
социального имиджа. "Фактически, - подчёркивает Л.Н.
Чернова, - в среде купечества был выработан новый тип
религиозности, который объединяет веру в Бога и страх
перед загробными карами - с коммерческим подходом, в
71
том числе - к "добрым делам" на земле, приносящим
успех на этом свете и награды на том".35
Свой труд средневековые купцы и ремесленники
воспринимали в качестве реализации собственной
личности и преобразования природных несовершенств
человека. Постоянная и всеобъемлющая работа требовала
приложения всех сил, отказа от любых развлечений, от
обыденных радостей и удовольствий, привычных для
крестьянского быта и вольной жизни рыцарей-феодалов.
Всё должно было быть посвящено труду, делу.
Ограничивалось даже время для сна. В этом городские
бюргеры видели основу для борьбы с греховностью
человека, с искушениями праздного образа жизни, с
пагубной расхлябанностью безделья и лени. В среде
флорентийского купечества регулятивным идеалом
поведения была, как указывает И.А. Краснова,
"prudenza" - "предусмотрительность, или, в более
широком толковании, "здравомыслие" - способность к
рациональному упорядочиванию жизненных обстоятельств
в зависящем от воли руководителя комплексе дел".36 Это35 Чернова Л.Н. О самосознании купеческой элиты Лондона XIV - XV
веков. // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Том 3.
Человек внутри городских стен. Формы общественных связей. Феномен
средневекового урбанизма. М.: "Наука", 2000, С. 318.36 Краснова И.А. Деловой человек Флоренции: занятия, круг общения,
общественное сознание. // Город в средневековой цивилизации
Западной Европы. Том 2. Жизнь города и деятельность горожан. М.:
72
рациональное начало противопоставлялось эмоционально-
аффективной составляющей природы человека. Важнейшая
задача купца в рамках его профессиональной
деятельности состояла в том, чтобы быть обходительным
и учтивым, не допускать невежливости в обращении даже
с должниками. Он должен был уметь скрывать и
контролировать свои подлинные чувства и страсти,
препятствующие осуществлению выгодных контрактов,
либо чрезмерно влекущие его к какому-либо проекту. Во
всём нужно было соблюдать благоразумие и
осторожность, следовать строгому расчёту и не
подвергаться порыву. Поэтому в списке лиц, с
которыми, по мнению флорентийских негоциантов, не
следовало иметь дел, были не только феодальные
сеньоры, склонные в силу своей необузданной натуры к
насилию и произволу, но и те, кого на языке
современной социологии можно назвать людьми с
дивиантным поведением. Среди них были всевозможные
авантюристы (банкроты, фальшивомонетчики, моты,
растратчики), просто бандиты и убийцы, атеисты,
содомиты, а также, в частности, те, кто был не
способен совладать со своими эмоциями, кто не владел
своей аффективной природой, в ком рассудок не
господствовал над страстями. Такого рода людей
"Наука", 1999, С. 111.
73
следовало опасаться. Тем самым, класс средневековых
городских бюргеров противопоставлял себя куртуазным
ценностям рыцарского этикета, утверждая идею
рационализации поведения и профессиональной
деятельности, постепенно отстаивая собственную
независимую нишу в социальной иерархии, своё
достоинство и свою практику жизни, которые, в конце
концов, обретут решающее значение в истории развития
европейского духа Нового времени.
1.6 Университеты
История возникновения университетов. Преемственность
европейской культуры Нового времени с наследием
средневековых традиций ощущается не только в сфере
религиозных процедур и обрядов, в правилах и укладе
городской жизни, но и в деятельности важнейших
институтов современной цивилизации, в частности, в
таких её значимых атрибутах политического и
образовательного пространства, как парламенты и
университеты, формирование которых относится к эпохе
XII - XIII веков. Первыми "протоуниверситетами"
Европы явились знаменитые итальянские высшие школы -
Болонская юридическая и Солернская медицинская,
зарождение которых восходит ещё к XI веку. Однако
собственно классическими университетами Западной
74
Европы стали учебные заведения Парижа и Оксфорда,
объединившие в своих структурах несколько отдельных
городских школ. Их формирование соответственно
относится к 1160 и к 1167 годам. Вскоре появились
многие другие известные европейские учебные центры,
обретшие мировую славу и широкое научное признание.
Датой рождения Кембриджского университета считается
1209 год, Венецианского - 1204, Падуанского и
Неаполитанского - 1224, в 1229 году был открыт
университет в Тулузе, университет в испанской
Саламанке появился в 1227 году, в Севилье - в 1254, в
Валенсии - в 1246, первый немецкий университет возник
в Праге в 1347 году, затем в 1365 году - в Вене, в
1385 - в Гейдельберге. В итоге, на исходе
пятнадцатого столетия в Европе насчитывалось более 70
университетов.
Структура и система преподавания в Сорбонне. Парижский
университет в то время был главным, поэтому
организация и устав знаменитой Сорбонны послужили
основой для других европейских университетов. Его
структура включала четыре факультета. Основным был
"артистический", по сути, философский, где восемь лет
изучались дисциплины семи "свободных искусств" с
присуждением сначала степени бакалавра искусств, а
75
затем магистра. Лицензию на преподавание искусств
разрешалось предоставлять только с 21 года.
Дальнейшее обучение предполагало специализацию на
медицинском, юридическом или богословском
факультетах. Высшим являлся теологический факультет,
на котором осваивали и комментировали Библию, чему
посвящались первые два года обучения с присуждением
степени baccalaureus biblicus, и знаменитые
"Сентенции" Пьера Ломбардского (1095/1100 - 1160), на
что отводилось ещё два года, после чего получали
степень baccalaureus sententiarum. Затем четыре года
практиковались в проведении диспутов, что давало
право обрести заветную лицензию "преподавать
повсюду". Однако получить лицензию на преподавание
теологии можно было только после 35 лет. Чтобы
получить степень магистра, было необходимо защитить
специальную работу. Так, известный трактат "О сущем и
сущности" Фомы Аквинского является такого рода
магистерской диссертацией. Процедуры получения
степеней и лицензий требовали больших финансовых
вложений. Претенденты оплачивали банкет, работу
технического персонала, заказывали себе необходимую
парадную одежду. В целом, многолетняя система
обучения (12 - 15 лет - на теологическом факультете,
7 - 9 лет - на других специальных факультетах) и
76
обширные денежные затраты приводили к тому, что лишь
незначительная часть студентов достигала высших
ступеней на иерархической лестнице средневекового
университетского образования. В XIV и XV в.в. только
30 - 50 % студентов факультета искусств становились
бакалаврами, 15 % получали степень доктора, лишь 5 %
оставались на теологии, ещё меньше на медицине, но
постоянно росло число студентов юридических
факультетов.
Первым общеобязательным предметом для всех
средневековых "школяров" являлась философия. Она
преподавалась на факультетах искусств и включала
знания по двум циклам. Комплексу гуманитарных наук
соответствовала традиция изучения "тривиума" ("путь
трёх"), то есть грамматики, риторики и логики, или
диалектики. Естественным знаниям соответствовал
комплекс "квадривиума" ("путь четырех"), то есть
арифметика, геометрия, астрономия и теория музыки. В
рамках освоения данных дисциплин особое значение
придавалось изучению наследия античной литературы и
философии, которое увеличивалось в связи с
расширением горизонтов средневековой европейской
культуры. Значение философии было так велико, что
членов средневековых университетских корпораций
называли не только "магистрами" и "школярами", но,
77
прежде всего, "философами". В анонимном средневековом
трактате "О школьной науке" подчеркивалось, что
заниматься философией могут лишь самые одаренные и
острые на ум студенты, удел остальных - механика и
политика.
Важнейшая задача университетских курсов
заключалась в процедуре экзегезы авторитетных
источников, которая обусловила приоритетное положение
логико-грамматического дискурса в структуре
преподавания наук на факультете искусств. Эти
факультеты в средневековых университетах играли роль
подготовительных, но данная ступень была необходима в
целях подготовки у обучающихся соответствующих
методологических навыков и способностей постижения
наук. Факультеты искусств являлись самыми большими и
наиболее влиятельными в университетских корпорациях.
Причем, в Париже существовало правило, согласно
которому ректор избирался только из представителей
факультета искусств. Не менее весомым было положение
факультета подобного профиля и в Оксфордском
университете.
В систему средневекового образования входили две
формы обучения: лекции (lectio) и диспуты
(disputatio). Практика современных теоретических
курсов и семинаров, таким образом, соответствует
78
традициям того времени. Диспуты проводились по утрам
в течение трёх часов и проходили в два этапа. В
первый день выступал магистр с основным введением к
обсуждаемому вопросу, затем выдвигались
соответствующие возражения и замечания, на которые
отвечал либо сам учёный, либо его ближайший ученик.
На другой день он вновь выступал с речью, подводя
итоги и определяя окончательное решение вопроса. Весь
ход дискуссии строго фиксировался специальными
писцами, поэтому в схоластике сформировалась особая
практика научных текстов (reportatio - запись диспута
без соответствующих исправлений магистра; ordinatio -
скорректированный отчёт; sophismata - запись диспута
в форме вопросов и ответов с некоторыми замечаниями,
включая оппонентов). Многие работы известных
средневековых мыслителей являлись изложением их
дискуссий по тем или иным философским проблемам
(таковы, в частности, "Диспутации об истине" Фомы
Аквинского).
Диспуты проводились не только по заранее
определённым и установленным темам, но и по
актуальным проблемам, которые заявляли сами студенты.
Такова была практика споров "на свободную тему" (de
quolibet). С другой стороны, было принято задавать
вопросы и непосредственно в ходе дискуссии (a
79
quolibet). Подобные диспуты проходили в Париже дважды
в год - во время Рождественского и Великого постов.
Они вызывали самый широкий интерес учёной публики и
обставлялись с предельной торжественностью. На
некоторые диспуты с участием известных богословов
учёные-странники собирались со всей Европы. Их
проводили на факультете искусств, при этом другие
факультеты временно закрывались. Обсуждение
разворачивалось постепенно с обязательным соблюдением
всех логических и процедурных правил, с
соответствующей схоластической скрупулёзностью и
тщательностью. Всё проходило чинно, размеренно и
обстоятельно. При этом обсуждались и весёлые,
шутливые темы, но строго соблюдались все необходимые
формальные нормы. Однако бывало и так, что споры
переходили за рамки джентльменских соглашений, что
подтверждает жизненность схоластических дискуссий, их
реальное значение для средневековых учёных.
В диспутах, возглавляемых известными
университетскими магистрами, обладавшими широкими
познаниями в различных областях, выявлялась та
"объективная" истина, которая наиболее адекватно
передаёт божественный замысел творения бытия всего
сущего. Для споров не было преград, но доверие к
спорам о словах и мнениях основывалось на изначальном
80
авторитете Божественного Слова, задававшего ключевые
позиции и смыслы средневекового миросозерцания. Суть
диспута заключалась не в том, чтобы
продемонстрировать сугубо личные взгляды и суждения,
сколько в том, чтобы беспристрастно выявить предельно
возможную полноту понимания всего комплекса
авторитетных текстов и высказываний признанных
богословов по обсуждаемой теме. В процессе
аргументации использовались и положения из сочинений
Аристотеля, его исламских и иудейских комментаторов.
Тем самым, можно признать, что культивируемый в
средневековой системе образования "метод логики и
диалектики, во всяком случае, имел ту хорошую
сторону, что не только возбуждал, но и
дисциплинировал мысль, ввёл порядок и систематичность
в умственной работе".37
Примечательно, что строгая структурная
упорядоченность и систематичность в современных
научных исследованиях, процедура цитирования
источников восходят к средневековой традиции
написания текстов. "Мы принимаем как нечто само собою
разумеющееся, - подчёркивает Эрвин Панофский, - то,
что учёные труды, такие, как докторские диссертации,
работы, представляющие философские системы и т.п.,
37 Суворов Н. Средневековые университеты. М., 1898, С. 214.
81
организованы по определённой схеме с разделами,
подразделами, которые сводимы в "оглавление" или
резюме; при этом все части работы, обозначенные
цифрами или буквами, находятся на одном логическом
уровне, так что однотипное отношение подчинения
достигается между, скажем, подразделом "а" раздела
"1" главы "I" книги "I" и между, скажем, подразделом
"б" раздела "5" главы "IV" книги "III". Однако такая
схема систематического подразделения была совершенно
не известна до прихода Схоластики. Классические труды
античности, за исключением, возможно, лишь тех,
которые состояли из безболезненно разделяемых частей,
таких, например, как собрание коротких стихотворных
произведений или трактатов по математике, были просто
подразделены на книги. Когда мы хотим привести то,
что мы называем "точной цитатой", не подозревая при
этом, что следуем традиции Схоластики, мы должны либо
указать страницу печатного издания, которое считается
"авторитетным", либо применить схему, предложенную
гуманистами Ренессанса, используя которую, мы должны,
если мы, к примеру, цитируем пассаж из Витрувия,
обозначить его как, скажем, "VII, 1, 3"".38 ").
38 Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. // Богословие в
культуре Средневековья. Киев, 1992, С. 65.
82
Более того, нужно признать, что европейский язык
философствования – это не столько древнегреческий,
сколько, прежде всего, средневековая латынь.
Современная философия во многом обусловлена
концепциями и дистинкциями средневековых магистров, в
схоластике были определены и уточнены важнейшие
метафизические понятия, усвоенные затем национальными
языками. Русский язык в этом смысле не является
исключением, так как значительная часть отечественной
научно-философской терминологии имеет латинское
происхождение. Средневековой университетской scientia
мы обязаны многими популярными терминами современного
философского "вокабулярия". В качестве примера можно
привести и традиционные "интенция", "экзистенция",
"трансценденталия", и новомодные "симулякр",
"дискурс".
Средневековые университетские корпорации. Жизнь
средневековых студентов была достаточно трудной, так
как решение проблем материального обеспечения
давалось не легко. Связь с родным домом в условиях
того времени, естественно, была не регулярной,
поэтому подчас не хватало средств. Для преодоления
всех сложностей самостоятельного обитания студенты
объединялись в соответствующие нации. В Париже
83
таковых было четыре: галльская, английская,
пикардийская и нормандская. Они составляли основу
факультета искусств. Студенческие объединения решали
многие трудные вопросы: совместного найма жилья,
взаимной финансовой поддержки, оказания помощи при
болезни. Вместе они проводили и соответствующие
национальные праздники. При этом роль таких
землячеств была велика и в вопросах образования. В
частности, в 1252 году представители английской
нации, следуя оксфордским традициям, утвердили в
качестве обязательного условия для получения степени
бакалавра искусств знание основных положений
аристотелевского трактата "О душе". Этот шаг пробил
первую брешь в стене жестких запретов, которые были
установлены папской курией против изучения наследия
Стагирита. В 1255 году на собрании факультета
искусств было принято положение, чтобы все студенты
обязательно изучали полный корпус трудов Аристотеля.
"С этого дня, - отмечает исследователь К.Х Лор, -
факультет искусств стал тем, что мы могли бы назвать
философским факультетом, с новым значением в его
собственных глазах и тенденцией развивать обучение
независимо от теологического факультета".39
39 Lohr C.H. The medieval interpretation of Aristotle. // The
Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Kretzmann N., Kenny A.,
Pinborg J. (ed.). Cambridge University Press, 1982, P.87.
84
Университеты Западной Европы имеют достаточно
длительную историю, при этом статус корпорации учёных
в структуре средневекового общества определялся рядом
примечательных факторов. Во-первых, их положение
характеризовалось высокой степенью автономности, так
как объединения университетских профессоров и
студентов наделялись особыми юридическими правами и
различными королевскими привилегиями. При этом в
университетскую корпорацию входили и многочисленные
торговцы, ремесленники, прислуга, обеспечивавшие
повседневный быт и деятельность учёных. Университеты
являлись мощным социальным фактором городской жизни.
Само открытие нового университета рассматривалось как
значимая городская привилегия. Во-вторых,
"образование, - как указывает М. Блок, - принадлежало
Церкви"40. Церковь контролировала всю систему
средневекового обучения, начиная с первичных
монастырских и соборных городских школ и до главных
университетов Европы. Однако в данном положении дел
существовала своя доля выгоды для средневековых
преподавателей и студентов, так как Церковь
обеспечивала их соответствующей материальной,
моральной и административной поддержкой, что являлось
немаловажным козырем в юридических спорах с местными
40 Блок М. Феодальное общество. М., 2003, С. 400.
85
властями. Церковь была заинтересована в образованных
людях, высокие социальные позиции которых
закреплялись университетскими лицензиями и дипломами.
Своей деятельностью они были способны утверждать и
отстаивать габитус власти. С другой стороны, развитие
образования диктовалось вполне светскими
потребностями, особенно в связи со становлением
средневековых городов, расширением торговых отношений
и формированием мощных цеховых организаций.
Потребность в учёных испытывала и светская
власть, монархи Европы также нуждались в юристах,
врачах, переводчиках, способных не только толковать
законы, составлять королевские эдикты и уложения, но
и стать чиновничьей элитой, противостоящей
аристократическим фамилиям, которые порой были не
менее сильны, чем сам король. Уже в XI в. в
средневековом обществе складывается особое отношение
к юриспруденции, к писаному закону, что, в свою
очередь, задаёт интерес к образованию. Примечательно,
что некоторые кодексы законов появлялись даже в
специальных изложениях на народных языках. Всё это
позволяет признать, что университеты с эпохи Средних
веков, став образовательными центрами, одновременно
являлись средоточием не только идейной, научной,
философской, но и политической борьбы, местом
86
столкновения стратегических интересов средневековых
структур власти, что открывало широкие возможности
для становления достаточно свободного пространства
мысли и формирования независимого схоластического
дискурса.
Корпорации средневековых учёных подчас выступали
как против господства Церкви в вопросах внутреннего
устройства и системы административного управления
университетов, так и против вторжения светских
властей всех рангов в дело образовательного процесса
и жизни студентов. Так, в ходе забастовки
преподавателей Парижского университета 1229 - 1231
годов, им удаётся выйти из-под контроля местного
епископа. В середине тринадцатого столетия в Париже
развернулась ожесточённая борьба между
представителями нищенствующих орденов францисканцев и
доминиканцев и остальными преподавателями за право
возглавлять кафедры богословского факультета. В дело
вмешался папа Александр IV. В 1255 году он издал
специальную буллу, разрешившую монахам этих орденов
руководить сразу двумя кафедрами. С другой стороны,
бесшабашная студенческая вольница приводила к
противоречиям с коммунальными властями. Порой
городские буржуа прибегали к крайним мерам в борьбе
со студенчеством. Приобретение Парижским
87
университетом особых привилегий в 1200 году, по указу
Филиппа II Августа, было обусловлено стычкой школяров
с горожанами. Именно тогда университетская корпорация
была переведена под юрисдикцию епископа. Полную
автономию Парижский университет получил в 1229 году,
после очередного противостояния студенчества с
городскими бюргерами. Подобные события развернулись и
в Оксфорде. В 1209 году горожанами были казнены два
студента, обвиняемые в убийстве женщины. После чего,
началась забастовка преподавателей, часть из них
переехала в Оксфорд, другие - в Париж. Такого рода
крайняя практика делала горожан гораздо уступчивее,
так как утратить статус университетского центра
означало лишиться доходов. Кроме того,
университетские корпорации пользовались поддержкой и
местного епископа, и короля, и самого папы римского.
В итоге, в 1214 году конфликт завершился в пользу
учёных, и университет приобрёл первые свободы. Однако
раздоры с горожанами продолжались. Не менее жесткое
противоборство имело место в Болонье, где корпорация
учёных была вплотную подчинена городской коммуне,
хотя под юрисдикцию местного епископа университет был
переведён ещё в 1158 году по решению Фридриха
Барбароссы.
88
В спорах между Церковью и светскими правителями
средневековые богословы занимали самые разные
позиции. Выдающийся представитель Оксфордской школы
Дунс Скот (ок. 1266 - 1308) в период преподавания в
Парижском университете поддержал папу Бонифация VIII
в его конфликте с французским королём Филиппом IV
Красивым, тогда как другой не менее известный
средневековый оксфордский воспитанник Уильям Оккам
(ок. 1285 - 1349) отстаивал в своих сочинениях
приоритет светской власти. Он примкнул к императору
Людвигу Баварскому, который возглавил широкую
антипапскую коалицию. Согласно легенде, при встрече с
Людвигом в феврале 1330 года Оккам произнес
символичную фразу: "О, император, защищай меня мечом,
а я буду защищать тебя словом!"
Укрепление независимых государственных структур
сопровождалось расширением влияния светской власти на
жизнь и развитие университетов. В эпоху Средневековья
считалось особой привилегией для города открыть новый
университет. Как известно, в 1224 году императором
Фридрихом II был основан Неаполитанский университет,
в котором впервые стали изучать и обсуждать
натурфилософские трактаты Аристотеля и сочинения
исламских учёных. На Сицилии была организована
специальная школа переводчиков с арабского языка.
89
Поддержку развитию средневекового аристотелизма
оказывал французский король Карл V, сам читавший
сочинения великого "Философа". В частности, по его
предписанию, Николай Орём (Oresme, 1323/1325 - 1382)
в 1370 году перевёл на французский язык "Никомахову
Этику" Аристотеля. Кроме того, по просьбе короля,
Орём написал комментарий на "Политику" Стагирита и
посвятил своему монарху. В нём легко прочитывались
призывы к реформе, которая предполагала активное
привлечение аристократии к управлению государством. В
качестве примера совещательного органа власти Орём
приводил ассамблею магистров Парижского университета.
Он считал, что и Церковь должна прибегать к новым
принципам принятия решений. По его мнению, это
позволило бы преодолеть противоречия между системами
власти.
Поддержка со стороны монархов в изучении и
распространении наследия Аристотеля создавала основу
для формирования нового языка власти, который
апеллировал не к христианским ценностям, а к "общему
благу" и к политической теории управления, основанной
на средневековой университетской науке. В рамках
данного языка государство понималось не как греховный
"земной Град" себялюбцев и эгоистов, а как
необходимый инструмент социального существования
90
человека, регулируемый и управляемый соответствующими
механизмами и задачами общественного благополучия.
При этом считалось, что монархи должны строго
следовать цели "общего блага" и чётко исполнять своё
предназначение. В ином случае, народ имеет право на
восстание, что утверждал, в частности, Фома
Аквинский. Он считал, что общество обладает
суверенитетом и полномочно разрывать контракт с
правителем, который нарушает порядок и
справедливость. Понятно, что подобная риторика, не
оправданная законными способами противодействия
властям, на самом деле, ни к чему не обязывала.
Однако само её формирование укрепляло статус
государства и власти.
Другой важный момент взаимосвязи становления
университетов и системы властных структур в
средневековой Европе был обусловлен активным
привлечением на государственную службу так называемых
"новых людей" (homines novi), которые, по сути,
являлись представителями социальных низов, тех, кто
впоследствии будет отнесён к "третьему сословию".
Получив образование, они приобретали уникальную
возможность занять принципиально иную позицию в
обществе, чем та, которая была уготована им, согласно
их низкому происхождению. Эти интеллектуалы
91
способствовали смене феодального наследования
принципом государственного назначения на должность и
обеспечивали постепенное формирование
бюрократического класса служащих. Среди них были,
преимущественно, выпускники юридических факультетов,
легисты, сторонники норм и правил римского
законодательства, получившие карт-бланш при Людовике
IX Святом (1214 - 1270). Их роль в укреплении
независимости власти монарха была велика не только по
отношению к папству и Церкви, но и к родовым
аристократическим элитам. Они заседали в королевском
совете и в верховном суде, занимали должности бальи и
прево, собирали подати, вершили судебные
разбирательства на местах и последовательно
отстаивали интересы централизованной государственной
власти, то есть, по сути, короля. Примечательны в
этой связи судьба и идеи Жана Жерсона, выходца из
крестьян, ставшего Канцлером Парижского университета.
В 1405 году в присутствии короля Карла VI он произнёс
речь Vivat rex, в которой утверждал, что монарх не
есть частная персона, но представляет публичную
власть, устанавливающую благоденствие всего
сообщества граждан. При этом он превозносил и
значение Парижского университета, "дочери короля",
92
отстаивающей интересы самых разных сословий, более
того, имеющей право советовать королю.
Таким образом, можно признать, что университеты
стали основой мощных социальных тенденций,
сложившихся в средневековом обществе, они
сформировали интеллектуальную среду для зарождения
средневековой интеллигенции, определили
законодательный статус централизованной монархической
власти, задали габитус формирующейся бюрократической
системы. "Знание, воплощённое университетами, очень
скоро приняло вид силы, порядка. Это была Учёность,
вознёсшаяся наравне со Священством и Властью.
Университарии также стремились самоопределиться как
интеллектуальная аристократия, обладающая своей
особой моралью и своей собственной системой
ценностей".41. Однако последующее развитие
университетов привело к потере их особой юридической
автономии. В период XV - XVI веков европейские
университеты превратились в символ, как отмечает Ле
Гофф, "идеологической полиции на службе у
политической власти"42, а члены научных корпораций
стали представлять собой замкнутую и предельно
консервативную касту.41 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. С.
122.42 Там же, С. 133.
93
1.7 Становление английского парламента
"Слово parlamentum, - отмечает Е.В. Гутнова, -
первоначально означало, по-видимому, во всех странах
Европы, пользовавшихся латинским языком, вообще
собеседование, совещание, переговоры и было
равнозначно слову colloquium. В середине XIII века
оно приобретает более определённое значение
торжественного совещания, преимущественно по
государственным делам".43 История английского
парламента как представительного органа власти
начинается с тринадцатого столетия. В это время в
Англии происходят драматичные политические
катаклизмы, обусловленные гражданской войной 1263 -
1267 годов. Противостояние, развернувшееся между
партией короля Генриха III и оппозицией,
возглавляемой Симоном де Монфором, графом Лестерским,
в рядах которой были широко представлены рыцарство и
горожане, привело на первом этапе к победе
восставших. В битве при Льюсе в 1264 году королевская
армия была разбита, Генрих III и его старший сын
Эдуард попали в плен. В результате, Монфор стал
фактическим правителем Англии. Для усиления своего43 Гутнова Е.В. О значении слова "парламент" (PARLAMENTUM) в Англии
XIII и начала XIV в. // Средние века. Вып. XX, М.: АН СССР, 1961,
С. 56.
94
влияния среди народа в январе 1265 года он созвал
парламент, на заседания которого были приглашены не
только знатные прелаты и бароны, но представители от
городов (по два депутата от крупных городов и по 4 от
каждой из 5 гаваней) и от рыцарства (по 2 от
графства). Это событие явилось настоящим прорывом в
истории парламентаризма в Европе. Примечательно, что
представители городов были приглашены, чтобы решать
не только вопросы субсидирования государства или иные
финансовые проблемы, но для установления мира и
других важнейших дел.
Последующие события разворачивались не в пользу
де Монфора. Его армия была разбита в 1265 году при
Ившеме, а сам он погиб. Но представительный характер
парламента впоследствии сохранился и при Эдуарде I
(1272 - 1307). Его первоначальные попытки принимать
самостоятельные решения о новых субсидиях вызвали
широкое недовольство. В итоге, в 1297 году он был
вынужден подписать документ, получивший название
"Подтверждение Хартии" (Confirmatio Chartarum),
который закрепил представительство городов (по 2
депутата от города) и рыцарей (по 2 от графства) и
утвердил за парламентом формальное право на
разрешение налогов. Поэтому он стал чаще созывать его
заседания с самым широким представительством, так как
95
для того, чтобы новые решения о налоговых сборах
поддержали, было необходимо получить согласие
городов. "За первые 25 лет своего правления (с 1272
по 1297 г включительно), - указывает Е.В. Гутнова, -
Эдуард I собрал всего 36 собраний, из которых только
11 включали представительство от общин, причём иногда
только рыцарей графств. Между тем, за последние 10
лет правления (с 1298 по 1307 г.) из 19 собранных им
собраний 9 были парламентами с представительством от
городов и графств".44
К середине XIV века парламент разделился на две
палаты: верхнюю - палату лордов, где заседали
представители силы - светские и духовные лорды
(бароны и прелаты) и представители знания - ученые-
юристы, и нижнюю - палату общин, в которую и входили
горожане и рыцари. "Уже в Средние века, - пишет Н.
Романов в известном российском учебном пособии XIX
века, - парламент постепенно приобретает, кроме права
разрешать налоги, право влиять на замещение высших
должностей, право обвинять должностных лиц (в палате
общин), право верхнего суда (в верхней палате), право
участвовать в управлении государством путем петиций и
предложений, вносимых в парламент, и, наконец,
44 Гутнова Е.В. Ук. соч., С. 66.
96
развившееся отсюда право участия в
законодательстве".45 Таким образом, средневековый
английский парламент нес в себе функции
представительного органа, в рамках которого заседали
не только люди благородного происхождения, но и
нарождающаяся городская буржуазия. Постепенно на
протяжении четырнадцатого столетия он становился все
более влиятельным органом королевской власти.
Конечно, должны были пройти века, состояться многие
великие события, прежде чем он приобрел новейший вид
и значение. Но истоки его истории восходят к
Средневековью. И это был ещё один весомый вклад
наследия той эпохи в новоевропейскую культуру, через
деятельность английского парламента реализовалась
преемственная трансляция традиций исторического
"детства" европейского человечества к общественно-
политическому устройству и государственным институтам
современности.
45 Романов Н. Происхождение парламента в Англии. // Книга для чтения
по истории Средних веков. Под ред. проф. П. Виноградова. Выпуск 3.
Изд. 4. М., 1914, С. 101.
97
Глава II. Основоположения средневекового
миросозерцания
2.1 Теоцентризм
Истоки формирования средневекового
миросозерцания, базовые принципы и мировоззренческие
установки всей системы культуры того времени были
неизбежно укоренены в христианские теологические
постулаты. Средневековая культура - это эпоха
торжества монотеизма, когда ветхозаветные истины
библейского Откровения последовательно развёртывались
в новых формулах религиозных доктрин иудаизма,
христианства и ислама. Космическая гармония и
вселенский миропорядок приобретают значение
божественного творения, которое осуществляется ex
nihilo ("из ничто"). Универсум утрачивает свою
самодостаточность перед лицом всемогущего Бога-
Творца, только по исключительному произволению
которого вершатся все судьбы мира. Сущее пребывает в
собственном обстоянии лишь в силу действия
божественного Вседержителя. В этом смысле мир природы
в средневековом понимании - это уже не
самодейственный "фюзис" античного миросозерцания, а
сотворённое сущее (ens creatum). Акт творения при
этом имеет сверхъестественный, чудесный характер,
поэтому структуры мира не совпадают в своём
98
изначальном онтологическом положении с
познавательными возможностями человека. Мир открыт
для познания, но человек, утративший в связи с актом
грехопадения способность непосредственного видения
истины, не может узреть полноту Универсума и
уникальную неповторимость единичного сущего. В этом
состояла одна из неразрешимых антиномий средневековой
культуры. В ее недрах неизбывно воспроизводилась
раздвоенность и непреодолимая противоречивость
базовых мировоззренческих установок.
В исходных основаниях средневекового
миросозерцания перманентно ощущалась напряжённость
непримиримости двух смыслов сущего - божественного и
дьявольского, доброго и злого, святого и греховного.
Ментальность Средневековья не была внутренне
успокоенной и монолитно-единой, ей напротив был
присущ постоянный динамизм и мощный накал поисков
самотождественности. Мир той эпохи - это мир человека
- странника (homo viator), мир подвижности, мир
всевозможных путников, бредущих по бездорожью по
самым разным причинам (крестьян, разорённых и
искавших лучшей жизни, клириков, убежавших из
ненавистных монастырей, паломников, путешествующих по
святым местам, школяров, ищущих новых знаний, купцов,
трубадуров, странствующих рыцарей, представителей
99
феодальной знати, включая монархов, переезжающих с
места на место в целях инспекции и необходимого
личного контроля). Но это ещё и мир святых, мир
монахов, мир анахоретов, стремящихся к Богу. У
каждого свой путь, своя дорога. Спасительное
отдохновение оказывается возможным только в горизонте
божественной благодати, а всякое размышление обретает
силу доказательности лишь в перспективе теологии.
В рамках средневековой культуры мир и
существование человека в нём задаются принципом
теоцентризма, когда Бог выступает в качестве истока
бытия всего сущего и воспринимается в качестве
уникального основания всех метафизических сущностей и
жизненных смыслов. "Всякий объект, - как пишет
известный российский исследователь П.М. Бицилли, -
определяется только отношением к Богу, но не
отношением к другим объектам, и иерархический порядок
их сохраняется лишь при условии, что иерархическая
лестница доведена сознанием до конца. Едва только
мысль отвлекается от Бога и сосредотачивается на
мире, его единство исчезает: ибо в нём самом, в этом
мире, нет никакого объединяющего начала, никакой
общей точки притяжения. Вещи тяготеют друг к другу
только до тех пор, пока они сообща тяготеют к Богу;
это ключ свода: как только он выпадает, всё
100
рассыпается, и мира - как целого - не существует;
каждая вещь довлеет самой себе".46 Но познание Бога не
исчерпывается полнотой иерархии сотворённого сущего,
мир не тождественен божественному Творцу и не может
дать удовлетворения ищущему человеку. "Нет предела, -
утверждает св. Бернар Клервоский (1090 - 1153) в
трактате "О любви Бога", - для такой неугомонности,
потому что во всех этих вещах абсолютное никогда не
может быть достигнуто".47 Всякое обладание
оборачивается новым стремлением и разочарованием, так
как земное никогда не совпадает с трансцендентными
смыслами небесного. "Нет примирения в обладании
такими вещами, которые ты получил; ты хочешь
большего; всегда ты грустишь о том, чего тебе
недостаёт", - продолжает св. Бернар.48 Приближение к
богу - это не рациональное познание и не
теоретическое умозрение, а некий спасительный акт
надежды. Оно требует превозмочь себя, преодолеть грех
и немощь, преобразить всю свою природу. Отсюда,
следовала мощная практика аскезы и борьбы с собой в
рамках средневекового монашества. Но подобная позиция
46 Бицилли П. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1918, С. 61.47 Late Medieval Mysticism. Edited by R.C. Petry. Philadelphia: The
Westminster Press, 1957, P. 56.48 Ibid, P. 57.
101
ещё в большей степени была присуща различным
еретическим учениям и движениям простонародья.
2.2 Символический универсум
Аллегорическое толкование библейских текстов,
исторических событий и природных катаклизмов
обусловливалось стремлением постичь скрытый смысл
божественного провидения, изначальную волю Бога-
Творца, что давало надежду на спасение. Христианская
символика пронизывала всю жизнь средневекового
человека. Весь универсум был наполнен религиозной
назидательности, обнаруживал свою вторую высшую
природу, был своеобразным откровением сущего.
Символическое значение универсума задавалось
проекцией зеркального отражения Творца в книге
природы, которая, в определенном смысле, являлась
дополнением к книгам Священного Писания.49 Но важно
уметь правильно читать и черпать нужные смыслы, чтобы
не поддаться искушению и обаянию демонических сил.
49 Тема зеркальности Вселенной и, в целом, зеркальных отражений
вещей приобрела особую популярность в средневековых ученых
дискуссиях, в частности, в рамках теории коимбрских схоластиков.
См.: Дойл Д.П. Коимбрские схоластики о семиотическом характере
зеркальных отражений. // VERBUM. Выпуск 5. Образы культуры и стили
мышления: иберийский опыт. СПб: Санкт-Петербургское философское
общество, 2001, С. 93 - 109.
102
Обратной стороной этого умения было чернокнижие,
сатанинское знание.
Всякая символика в Средневековье обладала
действенной силой, способствовала либо восхождению к
Богу, либо падению в чертоги ада. Позиция
символического универсума подразумевала, таким
образом, некий онтологический статус. Символ для той
эпохи - это не просто определенная условность,
договор, заключенный между людьми, приобретающий
подчас некий самостоятельный способ бытования в
культуре, но и нечто изначально бытийное, обладающее
в своем основополагающем смысле уникальным значением.
"В каждой вещи, - пишет итальянский исследователь
Умберто Эко, - средневековый человек видел
онтологическое свидетельство всемогущества Творца".50
При таком понимании вещи воспринимались не в своем
непосредственно данном обличии и представлении, а в
ином, трансцендирующем измерении, выводящем за рамки
наличной действительности. И только так они обретали
свое необходимое положение и статус во всеобщем
единстве универсума. Всякое сущее соотносилось со
сверхъестественным духовным определением. При этом
символизм был присущ не только средневековой церкви,
50 Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.: "Азбука-классика",
2004, С. 38.
103
церковной службе и готическим храмам, своя
геральдическая символика была и у рыцарей-феодалов,
определенные символические атрибуты имелись у купцов
и городских ремесленников, у университетских
магистров, у других средневековых сословий и
профессиональных объединений.
Весь мир в его средневековом видении предстаёт
как своеобразный храм, а сами церкви и соборы несут в
себе символику, отражающую полноту универсума,
воспроизводящую его величественную структуру.
"Символом вселенной был собор, структура которого
мыслилась во всем подобной космическому порядку;
обозрение его внутреннего плана, купола, алтаря,
приделов должно было дать полное представление об
устройстве мира. Каждая его деталь, как и планировка
в целом, была исполнена символического смысла.
Молящийся в храме созерцал красоту и гармонию
божественного универсума", - отмечает А.Я. Гуревич.51
Храмы были наполнены самыми разными образами,
отсылающими верующих к событиям христианской истории,
к деятельности святых и к их чудесам. Определенные
статуи и изображения, прежде всего сцены Страшного
суда, громадные размеры средневековых готических
51 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: "Искусство",
1972, С. 64.
104
соборов инициировали ощущения потерянности и зыбкости
человеческого существования, задавали комплекс вины и
чувство страха перед неотвратимостью наказания.
2.3 Иерархия мироздания
Наряду с символизмом, принцип иерархического
мировидения представляет еще одно важное
основоположение средневековой культуры. "Символизм и
иерархизм - такова формула средневекового
мировоззрения", - подчеркивает П.М. Бицилли.52 Вся
система средневекового универсума развертывается в
перспективе иерархического порядка сотворенного
сущего. Место всякой вещи определяется мерой ее
причастности к небесным горизонтам божественной
проекции творения. Любая вещь существует
исключительно на соответствующей ее рангу ступени
вселенской лестницы. В силу ее приобщенности к такого
рода топосу бытия, она удерживается в общем строении
мироздания. Удивительная иерархия ангельских чинов
представлена в трактате "О небесной иерархии",
приписываемому легендарному ученику апостола Павла
Дионисию Ареопагиту. К корпусу его сочинений относят
и работу "О церковной иерархии". Иерархическое
мировосприятие было присуще всем средневековым
52 Бицилли П. Ук. соч., С. 4.
105
теологическим построениям. Данная позиция пронизывала
и все социальные уклады - вассальные отношения
феодальной аристократии, цеховые организации
ремесленников и купцов, городские общественные союзы,
устройство университетских корпораций.
Человек Средневековья не мыслил себя вне рамок
социальных требований и стандартов, его статус
задавался только причастностью к тому или иному
объединению, к той или иной общественной позиции в
иерархическом миропорядке. Он утрачивал свое
признание и значение, если выпадал из соответствующий
его роду и профессиональной деятельности структуры.
Поэтому так опасно было потерять свое лицо, утратить
имидж в глазах своих сородичей и коллег,
представляющих единую социальную страту, но еще более
страшным было изгнание, то есть лишение возможности
общения с людьми своего круга, которое
рассматривалось в качестве утраты собственной
идентификации, то есть, по сути, было тождественно
смерти.
106
2.4 Христианский персонализм
Постулаты теоцентризма определили в традиции
средневековой культуры и формирование особого
отношения к сфере религиозной веры. Формальный
характер римской религиозности, основанной на
принципе "даю, чтобы дал ты", сменился торжеством
личного понимания Бога. Индифферентный политеизм
римлян принципиальным образом отличался от
уникального призвания, которым были связаны
приверженцы христианского учения. Вера приобрела иное
измерение. Она стала не просто актом культурной
традиции, соединяющей с наследием предков, а
утвердила особую действенность новых жизненных
смыслов. С одной стороны, с точки зрения
теоцентризма, пути мира изначально заповеданы
божественным промыслом, поэтому во всем и всегда
человеку остаётся лишь уповать на милость Божью. С
другой стороны, сам факт уникальности творения всего
сущего ex nihilo вел к признанию абсолютности воли
божественного творца и к интериоризации духовной
жизни, так как лишь такая позиция открывала
возможность апелляции к изменению судеб мира. Только
в рамках монотеистической религиозности божественное
начало не задаётся никакими горизонтами Судьбы, а
напротив вершит их в полной мере, поэтому человек
107
может просить о милости. Бог приобретает статус
внутреннего "Ты", то есть одновременно сурового
Судьи, ведающего обо всех событиях не только внешнего
характера, но о помыслах людей, и милосердного
сподвижника, способного простить и понять. Поэтому
средневековый человек, даже пустынник - анахорет,
никогда не чувствовал тоски одиночества. Он всегда
помнил и знал о незримом присутствии Бога, сообщался
с Ним, говорил, каялся, почитал. Конечно, и в
доктрине Церкви, и в средневековых представлениях, в
целом, первая позиция понимания Бога в значительной
степени превалировала над второй, но её также активно
использовали и прибегали к ней в душеспасительной
практике исповеди и покаяния.
Персонализм, свойственный средневековой культуре
и христианской религиозности, характерным образом
отразился в "Исповеди" Августина (354 - 430), где
представлена драматичная история его долгого и
сложного пути к признанию исключительного авторитета
Бога. И этот путь к божественному "Ты" даёт
возможность раскрыться внутреннему "Я", постичь
глубины собственной личности, "бездну", как пишет
Августин,53 человеческой души с её бесконечными
53 Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа
Гиппонского. М.: Renaissance, 1991, С. 117.
108
движениями чувств и импульсирующим биением сердца.
Психологические переживания Августина были неизбежно
сопряжены с его теологическими открытиями и
религиозными откровениями, но именно так
развёртывалась позиция христианского персонализма.
"Всё многообразное мироздание, так занимавшее людей
Античности, для Августина, - как отмечает С.С.
Аверинцев, - бледнеет рядом с реальностью страдающего
и сознающего себя человеческого Я. Интеллектуальная
энергия этого теолога не меньше, чем у величайших
мыслителей классической Греции, но она обращена уже
не на космос, а вовнутрь человека, где он хочет найти
Бога; и здесь он всецело человек своей эпохи".54
Порядок космоса, вселенская гармония Универсума
отступают в его миросозерцании на второй план, их
развитие задается актом творения, и они не
исчерпывают полноты исторической драмы человечества.
Вся суть проекции божественного действия
концентрируется вокруг судеб человека, развертывается
в перспективе экспликации его душевных глубинах,
чреватых, как утверждением благодатной силы Творца,
так и всевозможными потаенными уголками и
непостижимыми иррациональными влечениями. 54 Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху
перехода от Античности к Средневековью. // Из истории культуры
Средних веков и Возрождения. М.: "Наука", 1976, С. 50 - 51.
109
Каждый новый шаг по направлению к реализации
развитой формы субъективности в истории средневековой
культуры был связан с соответствующими богословскими
положениями и церковными процедурами. Примечательно,
что латинский термин persona пережил удивительную
трансформацию в период перехода от Античности к
Средневековью. В Древнем Риме это слово, прежде
всего, обозначало маску актёра, но также применялось
и в контексте юридической практики, когда гражданин
представлял интересы кого-либо на суде,
свидетельствовал о чём-либо. В христианстве оно
приобрело особое значение и интерпретировалось, как
быть "через себя" (per se у Августина), "единая сама
по себе" (per se una, приписываемая Исидору
Севильскому), "звучать через себя" (per se sonare у
Бонавентуры). Оно послужило основой для уточнения
латинской версии догмата о Троице, и впервые было
использовано в этой связи Тертуллианом ("три персоны
- одна субстанция"), приобретя, таким образом,
божественный статус. Серьёзные споры развернулись
вокруг строгой дистинкции понятия божественной
личности, но нельзя забывать, что путь к Богу в
Средние века неотвратимо совмещался и с движением по
направлению к человеку.
110
Нюансы теологических штудий уточняли содержание и
отличительные особенности вселенской позиции
человеческого существа, ибо в изначальных смыслах
христианской религиозности было постулировано, что
человек создан по "образу и подобию Божьему". Именно
в этом горизонте средневекового христианского
мировидения персона человека приобретала более
фундаментальное значение, чем вся гармоническая
структура космического мироустройства. Здесь
развёртывалась проекция "внутреннего человека",
эксплицировались его духовные потенциалы.
Концентрация на личности человека с учётом
всевозможных богословских и исторических оговорок,
транслируемая в рамках средневековой культуры,
сопровождалась признанием господства греха в глубинах
его природы. Антиномизм средневекового миросозерцания
проявлялся и в принципе персонализма, так как человек
воспринимался не только как "образ Божий", но и как
своего рода противник Бога, Его своеобразный
оппонент. Он нёс в себе начало зла, всевозможные
диссонансы и противоречия, присущие его воле и
разуму, которые привели его к пагубным действиям,
противным заповедям Божьего промысла.
Согласно библейскому учению, суть человеческой
природы "искажена" первородным грехом непослушания,
111
проявленным прародителями рода людского Адамом и
Евой. Это исходное событие истории человечества в её
христианском толковании предопределило все
последующие факты развития "Града земного ". Отсюда
происходил тот пафос неприятия всего мирского,
который был так характерен для многих средневековых
святых и мистиков. "Полнее всего, - как пишет Генрих
Эйкен, - это мироотрицающее направление Средних веков
выразилось в сочинении "О презрении к миру",
написанное папою Иннокентием III в 1198 году".55 Но
необходимо отметить, что Иннокентий III планировал
написать и другое сочинение, в котором намеревался
представить положительные характеристики мира. Кроме
того, христианская религиозность Средневековья
включала призывы к радости жизни, что, в частности,
было присуще учению и проповедям св. Франциска
Ассизского. Его главное требование по отношению к
своим последователям заключалось в том, чтобы они
несли в мир радость, с душевным весельем
проповедовали и возносили молитвы.
Идеалы францисканцев преобразуют многие
традиционные ценности и правила прежнего монашества.
Не уходить из мира, не презирать его, а активно
55 Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб,
1907, С. 280.
112
возделывать его изнутри. Само мировидение, тем самым,
принципиальным образом изменяется. "В лице Франциска,
- как подчеркивает выдающийся российский медиевист
В.И. Герье, - аскетизм приходит к сознанию, что и
земной мир есть мир Божий и потому прекрасен".56 Это
особое мирочувствие средневекового итальянского
мистика и поэта наиболее полно выразилось в его
известной "Песни благодарения о всех тварях Божьих",
написанной им в конце жизни, когда тяжелая болезнь
глаз сделала его почти слепым, а сердечные приступы
сопровождались мучительными болями в желудке,
истерзанном постоянным недоеданием и физическим
перенапряжением. В переводе С.С. Аверинцева это
удивительное произведение звучит так:
Всевышний, Всемогущий, Благий Господи,
Тебе слава и хвала, честь и всякое благословение,
Тебе Единому да будут возданы;
и никто из человеков не достоин именовать Тебя!
Слава Тебе, Господи мой, за все Твои творения,
особливо же за достославного брата нашего Солнце,
что день зачинает и светом нас освещает,
в лучах блистает и в лепоте великой
и являет образ Твой, Господи!
56 Герье В. Франциск. Апостол нищеты и любви. М., 1908, С. 158.
113
Хвала Господу моему за сестру Луну
и за Звезды осиянные, Им в небесах сотворенные;
хвала Господу моему за брата Ветра,
за Воздух и Тучи, за Ведро и Ненастье,
коими Он всякому дыханию пропитание промышляет!
Хвала Господу моему за сестру Воду,
ибо она весьма полезна, любезна, смиренна и
непорочна;
хвала Господу моему за брата Огня,
что светит в ночи;
он весел и рдян, необорим и бодр;
хвала Господу за мать нашу Землю,
что всех нас кормит и носит,
всяческие плоды производит,
цветы и травы на свет выводит!
Хвала Тебе, Господи мой, за тех, что Тебя ради
обиды прощают,
нужду и скорбь с терпением сносят;
блаженны с миром до конца претерпевшие,
яко от Тебя, Господи, венца сподобятся!
Хвала Тебе, Господи мой, за сестру нашу Смерть,
ее же никто из живущих не минует;
114
но горе почиющим во грехе смертном!
Блаженны, кто нашли себя в час свой последний
верными Твоему пресвятому волению;
смерть вторая повредить им не сможет.
Славьте и хвалите Господа моего, величайте Его,
и да служит Ему всякое дыхание с великим
смирением!57
Такова двоякость средневекового миросозерцания. В
нем присутствует и глубина земного отчаяния,
обусловленного торжеством греха и утратой невинного
райского существования, и величие радостной песни
любви ко всему сотворенному сущему, ко всей природе и
вселенскому мирозданию.
2.5 Телеология истории
Средневековая культура обнаруживает новое
измерение человеческого призвания, исходная интенция
которого задается экспликацией духовных смыслов
истории. Человек осмысляет и реализует себя в
горизонте теологических определений, в свете
божественной истины библейского Откровения,
свершающей все судьбы мира. Таким образом, с одной
стороны, формируется особое чувство сакральной
57 Франциск Ассизский. Песнь благодарения о всех святых. Перевод С.С.
Аверинцева. // Человек. 1991, № 4, с. 132 - 133.
115
детерминации общественного процесса, с другой
стороны, появляется специфическое понимание всего
происходящего в этом мире. Торжество античного
циклического восприятия времени, развертывающегося в
неизбывном круге повторения того же самого, сменяется
перспективой утверждения божественной телеологии и
связывается с осуществлением вселенского
целеполагания sub specie aeternitatis ("с точки
зрения вечности"). Историзм Средневековья, тем самым,
приобретает имманентно-трансцендентный характер. Ему
присуща внутренняя богословская логика, совмещающая
божественный Логос с земным историко-культурным
процессом. Но это ещё не естественная проекция
человеческих идей и понятий, о чем будут рассуждать
мыслители Нового времени и Просвещения, социальных
противоречий и экономических интересов, принятых в
качестве базисной основы в рамках марксисткой теории.
Однако без данных средневековых интерпретаций
невозможно представить последующее развитие
европейской философии истории и культуры, именно они
послужили условием для становления духа гуманитарных
наук, для утверждения герменевтики и соответствующего
осмысления противоречивой динамики социальной борьбы.
История как процесс переживания индивидуально-
неповторимых событий в их временном и преходящем
116
характере был еще не известен Средневековью. Всякое
действие для средневекового человека соотносилось с
неким высшим трансцендентным предназначением, и
только таким образом приобретало свой подлинный
статус в исторической реальности. Все хроники и
жизнеописания, обширная агиографическая литература и
многочисленные анналы обязательно предполагали
экстраполяцию к вечным библейским истинам, к особым
богословским дефинициям, создавая, тем самым, мощный
конгломерат христианской герменевтики бытия всего
сущего. "Человек, - как подчеркивает А.Я. Гуревич, -
не ощущал себя существующим во времени; существовать
для него значило пребывать, а не находиться в
процессе становления".58 Жизнедеятельность людей в
условиях примитивного уровня техники и производства
соизмерялась с природным календарем
сельскохозяйственных работ, которые, в свою очередь,
были привязаны к церковным праздникам. Долгое
противостояние между христианством и язычеством
завершилось ассимиляцией последнего в рамках
официально разрешенных мероприятий и народных
гуляний. Повседневный быт людей, их каждодневная
жизнь инициировалась звучным биением церковных
колоколов, освящавших всю городскую или сельскую
58 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 121.
117
округу, что неизбежно предполагало сакральность
происходящего, призывая прихожан на службу и
соответствующим образом распределяя их труд.
Вся деятельность средневекового человека
соотносилась с вечностью, он принадлежал не столько
этому миру, сколько иному, небесному, поэтому никуда
и никогда не спешил успеть, его не интересовала
быстрая прибыль, возможность произвести больше, его
ритм - это движение в перспективу бесконечности,
которая не соизмерима с суетностью земных интересов
людей. Спасение - вот высший удел и главная из
возможных заслуг человеческой жизни, но оно не
предполагает временности. То, что приходит и уходит,
несет на себе печать забвения и утраты, подлинно
только то, что вечно, непреходяще, нетленно. Такого
рода вещи соотносятся с духовными характеристиками
греха и добродетели, поэтому весь путь человека
развертывается в горизонте этических детерминант.
Конечно, нельзя идеализировать средневековых людей и
видеть в них настоящих субъектов нравственности. На
самом деле, средневековая культура с ее морально-
религиозным ригоризмом только создавала
индивидуализированного носителя нравственных норм, ее
строгость и суровость как раз и объясняется тем, что
дух того времени был столь же неоднозначен, как,
118
впрочем, и современность. Но именно тогда уже
закладывалось ядро будущей новоевропейской личности
со всеми ее рационально-нравственными определениями.
Так или иначе, Средневековье открывает линейное
восприятие времени, вселенскую телеологию истории.
Библейское Откровение, укорененное в идеи
теоцентризма, задает перспективу трех измерений -
прошлого как чудодейственного акта изначального
творения всего сущего ex nihilo ("из ничто"),
настоящего как переживания событий священной истории
(пророчеств, прихода Мессии) и будущего как свершения
всех исторических судеб посредством Страшного суда
(последнего дня). Таким образом, у человеческой
истории появляется всеобщий универсальный
теологический смысл, заповеданная Богом цель, которая
должна привести к окончательной победе добра над
злом, к преодолению первородного греха прародителей
людей. По сути, история и в своем исходном значении,
и в заключительном драматическом акте, подразумевает
своего рода испытание, как в целом человечества, так
и каждого человека в отдельности. При этом всеобщее
единство людей по рождению и по призванию совмещается
с мировым, космическим характером реализации
исторической перспективы человечества. Вселенная,
природа оказываются включены в общую божественную
119
драму человека. Поэтому человеческая личность превыше
всей чувственно-воплощенной гармонии космического
мироздания, ибо, прежде всего, в ней свершается
трагедия непримиримой борьбы добра и зла.
Человек связывает времена, его позиция в
Универсуме обусловлена не только стремлением к
спасительной вечности, но и пониманием временности,
конечности всего сотворенного сущего. Он изначально
раздвоен и поэтому обречен жить в двух мирах, что, в
свою очередь, задает динамизм исторических свершений
людей. Данные христианские позиции наиболее
характерно развернуты в трудах Аврелия Августина - в
XI книге его знаменитой "Исповеди" и в объемном
незавершенном трактате "О Граде Божьем". Согласно его
учению, человек обладает особыми способностями
ожидания, внимания и памяти. С их помощью он
удерживает восприятие времени в единой перспективе
длительности прошлого, о котором мы помним,
настоящего, которое мы непосредственно переживаем, и
будущего, на которое мы надеемся и уповаем. Тем
самым, человек оказывается способен преодолеть
парадокс времени, так как, когда мы вопрошаем о
некотором моменте сейчас, он уже ускользает в
прошедшее, но именно способность помнить, как и
возможность ожидать будущих событий, позволяет нам
120
схватывать время в его текучести. Подобная
психологическая версия интерпретации времени у
Августина дает возможность перевести проблему из
плана космического восприятия в исторический, когда
место священного в древнегреческом миросозерцании
космоса занимает перспектива событий священной
истории. При этом нельзя забывать о вечности. "Время
у Августина, как и у Платона и Плотина, тоже
соотнесено с вечностью, но только не через
космическую жизнь, а через историческое свершение" -
указывает П.П. Гайденко.59 Историчность в понимании
Августина укоренена в вечность как исток времени
вообще и задается герменевтикой библейских событий.
Человеческое сообщество в своем становлении
проходит шесть стадий, подобно шести дням творения.
Их периодизация задается соответствующими этапами
библейской истории. Первый период - это время от
Адама до гибели человечества в водах всемирного
потопа, второй длится до эпохи Авраама, заключившего
"завет" с Богом, третий - до царства Давида,
четвертый - до Вавилонского пленения, пятый - до
рождества Христова, шестой продолжается до Страшного
суда, а седьмой завершит земную историю. Таким59 Гайденко П.П. Понятие времени в античной философии (Аристотель,
Плотин, Августин). // Время, Истина, Субстанция: от античной
рациональности к средневековой. М.: ИФ АН, 1991, С. 16.
121
образом, развитие человечества предопределено. Но это
не означает, что история в концепции Августина лишена
внутреннего динамизма. Напротив он считал, что ее
осуществление предполагает борьбу двух градов -
земного и небесного. В одном господствуют эгоисты,
которые презрели Бога и Его заповеди, в другом живут
праведники, которые любят Бога до презрения к себе.
Два Града соприсутствуют в условиях этого века.
Война и противоборство, подчинение одних и господство
других стали основой земного человеческого
сообщества. Причиной тому служит принципиальная
нехватка богатств и удовольствий, так как человек
неизбывно испытывает нужду, сколько бы он не имел и
чем бы ни владел. "Итак, общество смертных,
рассеянное на земле повсюду, - пишет Августин, - и
при всем различии местных условий соединенное
известной общностью одной и той же природы, -
вследствие того, что каждый ищет своей пользы и
удовлетворения своих желаний, а того, к чему он
стремится, или не хватает никому, или хватает, но не
всем, - не будет тождественно, по большей части
разделяется само против себя, и часть, которая
пересиливает, угнетает другую".60 По сути, именно в
60 Блаженный Августин. О Граде Божьем. Минск - М.: Харвест-Аст, 2000,
С. 902.
122
силу преобладающих эгоистических интенций членов
земного града, в нем, в принципе, невозможно
примирение и согласие между людьми. Однако Августин
не осуждал государство и не рассматривал всякую
социальную организацию как неотъемлемое зло. Он
считал, что пища и кров являются необходимыми благами
для жизни человека, но они могут быть приобретены
только через совместные усилия людей. Властители
управляют государством лишь с помощью той
справедливости, которая ограничена их уровнем
понимания, то есть не совершенной в абсолютном
смысле. Но, как и св. Павел, он призывал подчиняться
светским правителям, потому что они воздают должное
добродетели и преследуют порок, если и не по
собственному намерению, то как невольные приверженцы
божественного провидения. Несмотря на все
превратности политики Римской империи в отношении
христиан и завоеванных народов, государство в его
понимании сохраняло позитивное значение: оно несло в
себе непостижимый телеологический смысл,
обусловленный провиденциальным ходом истории. В
целом, всякая несправедливость, как в глобальном
политическом плане отношений на межгосударственном
уровне, так и в частном порядке, будет обязательно и
неизбежно наказана, и всем воздастся по заслугам.
123
Символически многогранную интерпретацию истории в
горизонте библейских образов и сюжетов предложил
мыслитель XII века Иоахим Флорский (1132 - 1202).
Будучи калабрийским монахом, он был приверженцем
традиционного мистического богословия. Обладал ярким
даром проповеди, его окружали многочисленные ученики
и последователи, но он удалялся в отдаленные
монастыри, чтобы в уединении предаваться опыту
мистических созерцаний. В его богословской теории
главным действующим лицом также оказывается Бог, а не
человек, теологическое предопределение и божественное
Откровение, а не деяния людей и их естественные
социальные интересы. Деятельность человека сводятся
лишь к восприятию божественных истин, чем и задается
весь смысл истории.
Калабрийский мистик полагал, что процесс
духовного становления человечества включает три
главных эры, каждая из которых несет в себе особое
религиозное содержание и определяется новым уровнем
христианского Откровения. Первая эпоха - от Адама до
Христа - характеризуется торжеством плоти; это -
время патриархов, когда был явлен Ветхий Завет, а Бог
предстает как строгий Отец - Судья. Вторая
продолжалась, согласно Иоахиму, вплоть до его
времени. На этой ступени преобладают клирики,
124
свершается откровение Нового Завета и происходит
явление Бога-Сына. Третья эра начинается со времен
св. Бенедикта Нурсийского, родоначальника западного
монашества. Ее главными представителями, по
калабрийцу, станут монахи, а основным атрибутом -
Вечное Евангелие, которое упоминается в Апокалипсисе
(14; 6). Это будет тысячелетнее царство Святого Духа,
в котором произойдет подлинное преображение всего
сущего и восторжествует свобода и любовь, истина
откроется в своем непосредственном виде, а ее
созерцание будет всеобъемлющим. "Вместе с
наступлением эры религиозной истины, по мнению
Иоахима, наступит эволюция совести, церкви и всего
христианского мира" - поясняет его позицию Э. Жебар.61
Но прежде утвердится царство Антихриста. Флорский
высчитал, что по библейской истории между Адамом и
Христом прошло 1260 лет, иначе говоря, 42 поколения
по 30 лет каждое. Столько же должно пройти и до
наступления эры Святого Духа. Однако ее торжеству
будут предшествовать апокалиптические события, когда
весь мир будет охвачен трагическими катаклизмами и
даже церковный порядок будет нарушен. Это должно было
произойти, по его расчетам, в начале тринадцатого
61 Жебар Э. Мистическая Италия. Очерк из истории возрождения религии в
Средние века. СПб, 1900, С. 79.
125
столетия. Идеи Иоахима не были признаны официальной
католической Церковью, но получили широкое
распространение в среде францисканцев-спиритуалов,
которые видели себя в роли предвестников новой
религиозной эры, а преследования со стороны папы
считали злокозненными происками Антихриста. Такова
мистическая экзегеза истории Иоахима Флорского.
2.6 Традиция Слова
В основании духовной культуры Средневековья лежит
еще один важный принцип, который может быть определен
как авторитет традиции Слова, так как вся перспектива
средневековых размышлений генетически укоренена в
библейскую истину Откровения, в текст Священного
Писания и в религиозно назидательные и богоучительные
положения Святого Предания. При этом авторитет
Божественного Слова воспринимался в качестве
"согласования несогласного" (concordia
discordantium), то есть с его помощью можно было
преодолеть все противоречия и разногласия. Всякая
мысль обретала свою каноническую правильность и
догматическую корректность только в горизонте
признанного Церковью и богословским сообществом
авторитетного мнения. По сути, средневековая
схоластика занималась ни чем иным, как перманентным
126
комментированием и компиляцией всевозможных ученых
мнений. Самый яркий пример в этом плане знаменитое
сочинение Пьера Ломбардского "Сентенции" ("мнения"),
ставшее классическим учебным пособием для всех
средневековых богословов. В университетской науке
Средневековья в рамках теологических дискуссий даже
существовал специальный прием доказательства -
"аргумент от Слова" (Argumentum ex Verbo). Знание
многочисленных авторитетов, запоминание огромного
богословского и философского материала являлось
важнейшей задачей и основным требованием системы
средневекового образования. Подчас даже для
современного человека, столь перегруженного различной
информацией, представляется непостижимым, как
средневековые ученые удерживали в сознании такое
огромное количество специальных метафизических
терминов. Ведь порой их вокабулярий составлял сотни
слов и постоянно дополнялся неологизмами.
Авторитет библейского Слова транслировался в
Средние века и на книги. Следует отметить, что сама
по себе книга пользовалась в средневековой культуре
особым значением. "Книга - символ "откровения"; она
легко становится символом сокровенного,
трансцендентной тайны. … Поглощение книги выступает
как символ посвящения в трансцендентную тайну", -
127
указывает С.С. Аверинцев.62 В концепции этого
выдающегося российского ученого Средневековье
предстает как культура "книжников" и "чтецов", в
рамках которой превалирует письменное Слово со
всевозможными аллегорическими толкованиями и
экзегетическими упражнениями. Тогда как в античной
традиции Слово в своем исходном статусе не
записывалось, а произносилось, будь-то в публичных
выступлениях древнегреческих ораторов и демагогов,
римских народных трибунов, либо в философских
диалогах и театральных постановках. Письменный текст
имел вторичное по отношению к живому устному Слову
значение. При этом всякая произнесенная речь несла в
себе момент телесного позиционирования говорящего по
отношению к слушателям, предполагала непосредственный
личный контакт, открытость, публичность, но в то же
время и осуществление того важного условия, что
собеседники достойны и способны понимать друг друга.
Богато инкрустированные, в золотых переплетах
книги являлись в Средние века средством накопления
сокровищ и представлялись в качестве атрибута
изысканной роскоши. Конечно, с течением столетий в
связи с развитием монастырских и университетских
62 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997,
С. 213.
128
скрипториев их функции постепенно менялись и получали
сугубо практический смысл, обусловленный процессом
образования и становлением средневековой
университетской науки. Это стало особенно заметно в
эпоху XII - XIII в.в. Книги применялись и в особых
магических ритуалах. "Можно было - как пишет А.Я.
Гуревич, - излечить человека, возложив на голову ему
книгу. На книге гадали и колдовали".63 Само собой
разумеется, что такого рода практики выходили за
рамки официальной церковной традиции и всячески
преследовались властями. Но специфическая магия
различных буквенных аббревиатур, утвердившаяся еще в
эпоху раннего христианства, все же сохранялась.
63 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. С. 19.
129
Заключение
Подводя итоги, необходимо признать, что наследие
Средневековья не только органично вплетено в ткань
культурной традиции Европы и составляет ее обширную и
значимую историческую часть, но и обладает уникальным
самостоятельным топосом в пространстве ментальных
основоположений европейского самосознания. И суть
дела заключается, конечно, не в том, что
средневековая эпоха предстает в образе пресловутого
"детства" европейского человечества со всеми
вытекающими отсюда последствиями и выводами о
превалировании воображения и фантазии в умах людей
того времени, не способных к строгой рациональности
взрослых. На самом деле, проблема состоит, прежде
всего, в том, что, как и позиция "детства", так и вся
средневековая культура несет на себе отпечаток
"инаковости" по отношению к последующим периодам
становления и человека в его индивидуальном обличии,
и всего европейского человечества в целом.
Средневековье - "иное", и именно в качестве "иного"
оно особенно важно для нас, живущих в горизонте
третьего тысячелетия. Умению понимать и одновременно
признавать неповторимую инаковость культуры
130
Литература
1.Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской
литературы. М., 1997.
2.Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской
литературной традиции. М., 1996.
3.Андреев А.Р. История ордена иезуитов. Иезуиты в
Российской империи. XVI - начало XIX века. М.,
1998.
4.Антология педагогической мысли христианского
Средневековья. В 2-т.т., М., 1994.
5.Антология средневековой мысли. Теология и философия
европейского Средневековья. В 2-т.т., СПб., 2001.
6.Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом
порядке. Екатеринбург, 1999.
7.Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой.
Очерки о культурно-исторических основаниях и
пределах личного самосознания. М., 2000.
8.Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
9.Бемер Г. История ордена иезуитов. Смоленск, 2002.
10. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в Средние века.
М., 1991.
11. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры.
СПб, 1995.
132
12. Блок М. Феодальное общество. М., 2003.
13. Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.
14. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975.
15. Брайант А. Эпоха рыцарства в истории Англии. СПб,
2001.
16. Брендлер Г. Мартин Лютер. Теология и революция.
М.-СПб., 2000.
17. Бурдье П. От "королевского дома" к
государственному интересу: модель происхождения
бюрократического поля. // Социоанализ Пьера Бурдье.
М. - СПб., 2001, С. 141 - 176.
18. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
19. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994.
20. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская
наука в средние века. М., 1989.
21. Герье В. Франциск. Апостол нищеты и любви. М.,
1908.
22. Гис Ф. и Д. Брак и семья в Средние века. М.,
2002.
23. Город в средневековой цивилизации Западной
Европы. Том 1. Феномен средневекового урбанизма.
М., 1999.
24. Город в средневековой цивилизации Западной
Европы. Том 2. Жизнь города и деятельность горожан.
М., 1999.
133
25. Город в средневековой цивилизации Западной
Европы. Том 3. Человек внутри городских стен. Формы
общественных связей. Феномен средневекового
урбанизма. М., 2000.
26. Город в средневековой цивилизации Западной
Европы. Том 4. Extra muros. Город, общество,
государство. М., 2000.
27. Городская культура. Средневековье и начало Нового
времени. Л., 1986.
28. Грацианский Н.П. Парижские ремесленные цехи в
XIII - XIV столетиях. Казань, 1911.
29. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.
М., 1972.
30. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной
культуры. М., 1981.
31. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой
Европы глазами современников (Exempla XIII в.). М.,
1989.
32. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура
безмолвствующего большинства. М., 1990.
33. Гутнова Е.В. О значении слова "парламент"
(PARLAMENTUM) в Англии XIII и начала XIV в. //
Средние века. Вып. XX, М., 1961, С. 56 - 71.
34. Гутнова Е.В. Возникновение английского
парламента. М., 1960.
134
35. Делюмо Ж. Грех и страх. Формирование чувства вины
в цивилизации Запада (XIII - XVII века).
Екатеринбург, 2003.
36. Дживилегов А.К. Торговля на Западе в Средние
века. СПб, 1904.
37. Добиаш-Рождественская О.А. Культура
западноевропейского Средневековья. М., 1987.
38. Добиаш-Рождественская О.А. Западная Европа в
Средние века. Пг., 1920.
39. Добиаш-Рождественская О.А. Некоторые проблемы
иоахимизма и петербургская рукопись сочинений
Иоахима Флорского. СПб, 1913.
40. Документы по истории университетов Европы XII -
XV веков. Сост Г.И. Липатникова. Воронеж, 1973.
41. Ефимова Е. Рыцарство. М., 1914.
42. Жильсон Э. Философия в Средние века. М., 2004.
43. Жебар Э. Мистическая Италия. Очерк из истории
возрождения религии в Средние века. СПб., 1900.
44. Женщина, брак, семья до начала Нового времени.
М., 1993.
45. Задворный В.Л. История римских пап. Т. 1 - 2, М.,
1995 - 1998.
46. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного
развития современного экономического человека. М.,
1994.
135
47. Из истории университетов Европы XIII - XV веков.
Воронеж, 1984.
48. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.,
1987.
49. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. Общий
очерк. Пг., 1918.
50. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М.,
1992.
51. Карсавин Л.П. Собрание сочинений. Т. 2. Основы
средневековой религиозности в XII - XIII веках.
СПб., 1997.
52. Круглова Л.К. Религиозный тип культуры
Средневековья. // Круглова Л.К. Основы
культурологи. Учебник. СПб, СПбГУВК, 1994, 1995,
1997, 2000
53. Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991.
54. Ковнер С. Средневековая медицина. Т. 1 - 2. СПб,
1898.
55. Коплстон Ф.Ч. Аквинат. Введение в философию
великого средневекового мыслителя. Долгопрудный,
1999.
56. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории
средневекового папства (борьба с Империей,
падение). СПб, 1901.
136
57. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и
культура Запада. Екатеринбург, 2000.
58. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М.,
2001.
59. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.,
1992.
60. Ге Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб,
2003.
61. Мадоль Ж. Альбигойская драма и судьбы Франции.
СПб, 2000.
62. Марру А.-И. Святой Августин и августинианство.
Долгопрудный, 1994.
63. Муратова К.М. Мастера французской готики.
Проблемы теории и практики художественного
творчества. М., 1988.
64. Немецкий город XIV - XV вв.: сборник материалов.
М., 1936.
65. Общности и человек в средневековом мире. М.,
1992.
66. Осокин Н. История альбигойцев и их времени. Т. 1
- 2. Казань, 1869 - 1872.
67. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по
истории морали. М., 1987.
68. Петрушевский Д.М. Очерки из экономической истории
средневековой Европы. М. - Л., 1982.
137
69. Полянский Ф.Я. Очерки социально-экономической
политики цехов в городах Западной Европы. М., 1952.
70. Репнина Л.П. Сословие горожан и феодальное
государство в Англии XIV в. М., 1979.
71. Рутенбург В.И. Народные движения в городах
Италии: XIV - начало XV века. Л., 1958.
72. Рынок и экспортные отрасли в Европе: XIII - XVIII
вв. М., 1991.
73. Словарь средневековой культуры. М., 2003.
74. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1989.
75. Соловьёв Э.Ю. Время и дело Мартина Лютера. //
Соловьёв Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по
истории философии и культуры. М., 1991. С. 54-126.
76. Соловьёв Э.Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер
и его время. М., 1984.
77. Социальная природа средневекового бюргерства. М.,
1979.
78. Сперанский Н. Очерки по истории народной школы в
Западной Европе. М., 1896.
79. Средневековое городское право XII - XIII вв.:
сборник текстов. Саратов, 1989.
80. Средневековый город. Выпуск 1 - 12. Саратов, 1963
- 1998.
81. Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы
истории средневекового города. М., 1960.
138
82. Стоклицкая-Терешкович В.В. Очерки по социальной
истории немецкого города в XIV - XV вв. М., 1936.
83. Столяров А.А. Свобода воли как проблема
европейского морального сознания. М., 1994.
84. Суворов Н. Казуистика и пробабилизм //
Юридический вестник. Т. II. М., 1889, ноябрь, С.
466 - 492.
85. Суворов Н. Средневековые университеты. М., 1898.
86. Тальберг Н. История христианской Церкви. М. -
Нью-Йорк, 1991.
87. Университеты Западной Европы. Средние века.
Возрождение. Просвещение. Иваново, 1990.
88. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов
во Франции. М., 1976.
89. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
90. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной
жизни в Европе до начала Нового времени. М., 1996.
91. Шишков А.М. Средневековая интеллектуальная
культура. Учебное пособие. М., 2003.
92. Эйкен Г. История и система средневекового
миросозерцания. СПб.
93. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.,
2004.
94. Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001
139
95. Элиас Н. О процессе цивилизации.
Социогенетические и психогенетические исследования.
Т. 1 - 2. М. - СПб., 2001.
96. Элиас Н. Придворное общество. Исследования по
социологии придворной аристократии. М., 2002.
97. Элита и этнос Средневековья. М., 1995.
98. Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических
отношений в английском городе (Лондон в XIV - XVI
веков). Саратов, 1983.
Душин Олег Эрнестович
История культуры
КУЛЬТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Учебное пособие
140