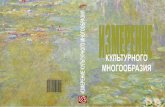Наследие и память: тенденции реконструкции...
Transcript of Наследие и память: тенденции реконструкции...
196
Салвиюс Кулявичюс
Наследие и память: тенденции реконструкциикультурного наследия в Литве советского периода
Ключевые слова: культурное наследие, реконструкция наследия, память,идентичность, Литва, советский период
Key words: cultural heritage, reconstruction of heritage, memory, identity,Lithuania, Soviet times
В XIX веке европейское сознание претерпело кардинальные измене9ния: малознакомая или вообще неизвестная до тех пор идеология нацио9нализма, а также историческое мышление стали краеугольными камнямимировосприятия европейцев. В том же веке зародилось и современноепамятникоохранное сознание: то, что до этого считалось неценными илиимеющими только утилитарное или сакральное значение реликтами про9шлого, превратилось во всеми обожествляемые памятники истории. Смомента зарождения данного явления общество проявляло склонностьк безоговорочному доверию памятникам (иными словами – культурномунаследию) – они считались неопровержимым и аутентичным историчес9ким свидетельством. То же относится и к реконструированному (реставри9рованному, восстановленному или приспособленному под новые нужды)наследию, однако реконструированное наследие в большей степени не9сёт информацию о производившем реконструкцию, его идеологии и по9требностях, о понимании им прошлого, нежели о самом «аутентичном»прошлом. В ходе реконструкции наследие как немое и беспристрастноесвидетельство прошлого сознательно или неосознанно подменяют при9емлемым для реконструирующих наследием, отвечающим их видению,надеждам или культурной памяти. Таким образом, реконструированноенаследие в определённом смысле становится фальсификатом прошлого(Прим. 1.). Не является исключением и советская эпоха. Существенныйвопрос настоящего исследования: какая память руководила практикойреконструкции культурного наследия в советской Литве и как эта памятьтрансформировала материальное выражение наследия, а также, каков егосмысл? Отметим, что в настоящей статье реконструкция понимается какпроизводимые в соответствии с памятникоохранными законами работыпо реставрации, восстановлению или приспособлению наследия. Поведе9
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
197
ние, не имеющее памятникоохранного характера, снос объектов культур9ного наследия, вандализм и аналогичные действия не включаются в кате9горию реконструкции и не являются объектом данного исследования.
Советизация культурного наследия
История реконструкции культурного наследия в советской Литвеначалась с жёсткого решения. В 1950 году по указанию Москвы [Поста9новление СМ СССР № 3898 от 14 октября 1948 г. “О мерах улучшенияохраны памятников культуры.” См.: Инструкция о порядке учета, регис8трации, содержания и реставрации памятников архитектуры, состоящихпод государственной охраной. Москва: Государственное архитектурное из9дательство, 1949, с. 4.] в Литве была создана новая специализированнаяинституция – Научно9реставрационные производственные мастерские,которым сразу же было поручено приспособить вильнюсский костёлСв. Архангела Михаила (лит. –v. arkangelo Mykolo ba˛nyËia) под нуждымузея. Работы по приспособлению стали работами по десакрализации: в1951 году из интерьера костёла были изъяты 4 барочных алтаря и амвон.Подобное решение мотивировалось формально: якобы данные элементымешают экспозиции будущего музея [1, 15–21; 14, 20–21]. К счастью,работы подобного типа не получили в Литве распространения. Прибли9зительно в 1958 году данный случай уже трактовался как невосполнимаяутрата [3, 99].
Подобных радикальных действий впоследствии не было. Тем не менеетенденция десакрализации наследия не исчезла, лишь её формы стализначительно мягче. Вплоть до 809ых годов с башен, куполов или фасадовкостёлов устранялись сакральные элементы. В таких случаях десакрали9зация осуществлялась только в отношении утративших религиозное на9значение строений (в ходе их приспособления под кинотеатры, художе9ственные галереи и т.п.) и ограничивалась устранением относительномелких сакральных элементов (крестов, мозаики и т.п.). Примечательно,что литовские реставраторы избегали выполнять соответствующие указа9ния властей: вместо них работы проводили пожарные или альпинисты.В некоторых случаях реставраторы прятали сакральные произведения илиэлементы под штукатуркой вместо их уничтожения [12, 19; 18, 31, 36,165; 20, 9] (Прим. 2).
Уничтожение – одно из проявлений советизации наследия. Другимспособом советизации было добавление новых элементов к уже наличе9ствующим. Не имеющие ничего общего с советской историей или пре9
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
198
дысторией исторические здания (например, помещичьи дворцы) «допол9нялись» советскими звёздами, а в исторических комплексах (например,в поместных парках) создавались кладбища советских воинов (Прим. 3.)(Рис. 1.). Подобная практика была распространённой в период стали9низма. В 709ые годы стало популярным преобразование невыразитель9ных советских исторических памятников в грандиозные мемориалы.Чаще всего подобным образом поступали с местами нацистских преступ9лений. Там воздвигались обелиски, памятники, создавались мемориаль9ные доски, музеи с целью усилить эмоциональное воздействие и сделатьвизуально ничем не примечательные места объектами массового посе9щения (Прим. 4.).
Тем не менее случаи, связанные с пропагандой советской идеоло9гии, не были многочисленными; утверждение данной идеологии не ста9ло основной тенденцией в реконструкции исторического наследия. Вданной плоскости оказалась жизнеспособной память иного плана.
Альтернативная практика и память
Архаизация. Во второй половине 509ых годов актуализировалась неимевшая ничего общего с советской идеологией новая тенденция – культдревности, которая нашла выражение в потребности максимально арха9изировать наследие. Пласты наследия, созданные в XIX и XX веках, счи9тались менее ценными, чем готические или ренессансные, вследствиечего они безжалостно уничтожались. Архаизация наследия была неакту9альной и неудобной для советской идеологии, однако она, вне всякогосомнения, поднимала престиж литовской национальной культуры. При9ведём конкретный пример. До 19509ых годов было принято считать, чтов средневековом Вильнюсе не было каменных готических жилых домовгорожан. По мнению литовцев, это не делало чести столице Литвы. Входе исследований 19509ых годов было установлено, что подобные по9стройки в Вильнюсе существовали уже с XVI века. Реставрационные ра9боты сделали этот факт видимым и осязаемым. Комплекс неполноцен9ности сменился гордостью [например, 5, 111; 17, 31; 21, 8]. И эта гордостьвсё возрастала до тех пор, пока в 19809ых годах Вильнюс, ранее извест9ный как барочный город, был провозглашён готическим городом (Рис. 2.).Возможна ещё одна идеологическая предпосылка. Культ древности со9действовал созданию знаков, свидетельствующих о древности культурыЛитвы, однако те же самые знаки демонстрировали и отличие культурылитовцев от признававшейся самой авторитетной в советской период
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
199
русской культуры. Было признано, что никакой другой историческийстиль так не отдалил Литву от России и не связал её с Европой, как готика[например, 8; 9; 15, 27]. Пропагандисты культа древности были извест9ными специалистами в области охраны наследия того периода, а самаархаизация стала доминирующей практикой в реставрации.
Оязычивание. В 19609ые годы в Литве очень активизировались по9иски реликтов языческой культуры. Археологи и этнографы находиливсё больше свидетельств язычества. Данная тенденция воздействовала ина сознание реставраторов. Некоторые специалисты стали рассматри9вать и строительное (каменное) наследие сквозь призму язычества. На9пример, около 1968 года возникла версия о том, что Дом Перкуна (Грома)(лит. Perk˚no namas) в Каунасе имеет явный языческий подтекст, кото9рый сокрыт в эстетических формах здания: якобы художественный замы9сел его фронтона представляет собой ни что иное, как идею почитанияогня (Рис. 3.). Объяснялось, что строители здания сознательно хотелипротивопоставить старую языческую идеологию новой христианскойидеологии [19]. Следует подчеркнуть, что вышеупомянутый Дом Перкунабыл построен в конце XVI века, спустя почти сто лет после официальногокрещения Литвы.
В подобных интерпретациях переплелись желание видеть проявле9ния язычества и клише советского периода (архитектура трактовалась каксредство идеологической борьбы и пропаганды), а стремление к умале9нию значения христианства объединяло эти два полюса. В этом нашлоотражение общее понимание идентичности в советское время: язычес9кая модель идентичности была унаследована от досоветской Литвы, од9нако при советском строе она могла существовать только при условии,что будет выполнять отвечающие советской идеологии функции.
Поиски примет язычества продолжались исследователями и рестав9раторами наследия в течение всего советского периода. Самой громкойсенсацией на тему язычества стала находка в 809ые годы в подземельяхВильнюсского кафедрального собора так называемого СвятилищаПеркýнаса (Грома) (лит. Perk˚no ventykla), датируемого XIII веком. Этанаходка значительно укрепила фундамент языческой идентичности: язы9ческое прошлое показалось не столь далёким или утраченным в туманевеков (до того времени господствовало убеждение, что свидетельствабогатой в различном смысле языческой цивилизации были полностьюстёрты с лица земли её противниками); святилищу был присвоен статусосновного религиозного центра языческой Литвы; центр язычества
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
200
совпал с «сердцем» Литвы – комплексом вильнюсских замков и кафед9рального собора, считавшихся центром государственности и культурывсей страны, – это пробуждало и укрепляло осознание того, что языче9ство является существенным компонентом литовской самобытности; на9конец, остатки святилища были каменными, что было неоспоримымдоказательством высокого уровня развития культуры язычников [напри9мер, 11, 58, 61].
С научной точки зрения находки языческих пластов культурного слоядолжны оцениваться скептически: во многих случаях это фантазии, гипо9тезы, а не веско обоснованные факты. Тем не менее, данные находки,бесспорно, воздействовали на литовскую идентичность советского пе9риода. Находка каменных языческих строений помогла нарисовать об9раз богатой цивилизации язычников, имевший каменные святилища иобсерватории.
Литуанизация. После смерти И.В.�Сталина начала формироватьсяболее благоприятная для актуализации литовских национальных героевсреда. Безусловно, всё должно было укладываться в рамки советскихнорм. В данном контексте особенно удобными представлялись героилитовской культуры: их труды ориентировались на «нужный класс» (име9ются в виду рабочие и крестьяне, которых обобщенно в советское времяв Литве называли liaudis (народ), дворяне и прочие не входили в это по9нимание); в них не было прямых ассоциаций с неприемлемыми для совет9ской власти темами литовской государственности или независимости;они повествовали о неопасной для советского строя культурной само9бытности – о языке. Наибольшего внимания среди соответствующихдеятелей удостоился Кристионас Донелайтис (Kristijonas Donelaitis, 1714–1780), живший в Пруссии священник, автор поэмы «Времена года», став9шей очень популярной в ХХ веке.
В 1971 году начаты работы по восстановлению костёла в Толькминкен(с 1946 года – Чистые Пруды), в котором был пастырем К.�Донелайтис.Следует подчеркнуть, что литовцы восстанавливали костёл не в Литве, ав Калининградской области РСФСР. После проведения реконструкциикостёл превратился из сакрального объекта в мемориальный комплекслитуанистики: говоря словами современника, «он восстановлен не длямолитвы, а для нашего Донелайтиса» [10, 9]. Пространство костёла за9няла посвящённая К.�Донелайтису экспозиция, витражи украшены изоб9ражениями К.�Донелайтиса и его персонажей, под алтарём оборудованмавзолей К. Донелайтиса – самое значимое место мемориала (Рис. 4.).
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
201
Акция по восстановлению костёла трактовалась как строительство па9мятника писателю и как дело национального значения. Работы по со9зданию мемориального комплекса велись до самого конца советскогопериода: приводились в порядок другие здания комплекса (территориякомплекса выросла до 3 га); приступили к подготовке планов по сохра9нению всего городка в качестве свидетеля жизни К.�Донелайтиса; вен9цом всего должно было стать возвращение городку его историческогоназвания или присвоение ему нового названия – Донелайтис.
В советский период ещё один памятник стал служить доказатель9ством достижений или исключительности литовской культуры – это Виль9нюсский университет. В то время особенно акцентировался возраст дан9ной институции: заявлялось, что это самое старое в Советском Союзевысшее учебное заведение [например, 4, 45]. Этим опять же предприни9малась попытка донести информацию о том, что литовская культураимеет самые глубокие традиции по сравнению с культурами других со9ветских республик. Тем не менее, для того, чтобы университет стал ли9товским, необходимо было забыть о его польском и частично – о латин9ском прошлом [16, 162]. В университете начали возводить монументы,свидетельствующие о литовских корнях. В 1963 году в центральной частиздания установлен памятник К.�Донелайтису, который не имел к уни9верситету никакого отношения (это не принималось во внимание). Ин9тегрирование литуанистических элементов в исторический комплексособенно активизировалось около 1979 года, когда отмечался четырёх9сотлетний юбилей университета.
Имели место и другие проявления литуанизации – уничтожение следовпольского присутствия. Например, на реконструированном по рисункам1883 года флюгере Каунасской ратуши (изготовлен в 1774 году) не оста9лось текста на польском языке – вместо него появилась надпись на литов9ском языке («Башня реконструирована из средств города в 1774 году»)[6, 4]. Аналогичным образом поступили с Воротами Аушрос (Зари) (AurosVartai) в Вильнюсе: в данном случае «тенденциозная» и «неаутентичная»надпись на польском языке была заменена надписью на латыни [2, 11].
По сравнению с навязыванием культа древности влияние моделейязыческой и литовской идентичности на объекты культурного наследиябыло более умеренным, однако этого было достаточно для создания но9вых мест литовской памяти – в советский период для литовцев К.�Доне9лайтис ожил не только благодаря своей поэме, но и благодаря конкрет9ному месту; стены и дворики Вильнюсского университета как никогда
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
202
ранее пополнились литовскими акцентами; элементы язычества появи9лись в самом Вильнюсе историческом и современном центре Литвы.
Выводы
Обзор практики реконструкции наследия в советской Литве позво9ляет сделать следующие выводы. Памятникоохранные процессы в Со9ветском Союзе были довольно противоречивыми. На официальном уров9не наследие должно было воплощать в себе наиважнейшие события илиявления советского общества (Великая Отечественная война, «братскаядружба народов» и т.п.) и служить делу формирования «благородногочувства советского патриотизма». Тем не менее, в данном случае насле9дие не превратилось в инструмент создания только интернациональной(в советском значении слова) культуры. Отдельные типы памятниковкультурного наследия или сферы охраны культурного наследия избежа9ли более строгого контроля и в определённом смысле стали простран9ством проявления национальной культуры: после реконструкции насле9дие приобретало в большей степени восходящее к язычеству или литуа9нистическое, а не интернациональное содержание. В нём нашли своё ме9сто идентичности, которые могли существовать только маргинально.
При реконструкции и перосмыслении культурного наследия не всегдасоблюдались принципы аутентичности, историзма и научности, однакоподобная сознательная или неосознанная гибкость способствовала тому,что реконструированное наследие казалось более привлекательным, бо9лее актуальным и более популярным, нежели нереконструированное.
Примечания
1. Теория о наследии как фальсификации прошлого развивается в тру9дах Дэвид Ловенталь и других исследователей. Согласно Д. Ловен9таль, фальсификация сокрыта в самой природе наследия: «[...] можносказать, что наследие не только везде принимает историческуюошибку, но и процветает при опоре на неё. Сфальсифицированноенаследие является обязательным для [укрепления] идентичности и[признания] уникальности группы» [13, 8].
2. Соответствующие случаи неповиновения имели место при реконст9рукции костёлов Божьего Тела, Св. Архангела Михаила и лютеранс9кой церкви в Каунасе.
3. Кладбища советских воинов были созданы рядом с дворцом в Рау9доне (Юрбаркасский район), в парках бывших Кретингского, Терес9польского (Кретингский р9н), Жагарского и других поместий.
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
203
4. Подобные монументы9комплексы были созданы в Аукштейи Паня9ряй (Вильнюс), Пирчюпяй (Варенский р9н), Аблинге (Клайпедскийр9н), Димитравасе (Кретингский р9н), Пагегяй (Шилутский р9н),Каунасском IX форте.
Иллюстрации
Илл. 1. Кладбище советским воинам в дворцовом парке замка Раудоне.Фотография автора, 2007 г.
Илл. 2a.
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
204
Илл. 2б.
Илл. 2. Пример преCвращения Вильнюсав готический город:дом по ул. Пилес 12до (2а) [7, 205] ипосле (2б) реконCструкции.Фотография автора,2008 г.
Илл. 3. Псевдоязыческие Илл. 4. КостёлCпамятникэлементы в архитектуре Литвы: Кристионасу Донелайтису в
фронтон Дом Перкуна в Каунасе. Толминкемисе (Чистые Пруды,Фотография автора, 2008 г. Калининградская область, Россия).
Фотография автора, 2012 г.
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
205
Источники и литература
1. Архив центра культурного наследия (Вильнюс, Литва), ф. 5, оп. 1, д. 263(Mokslinai-RestauracinÎs GamybinÎs DirbtuvÎs 1951ñ1952 m. veiklos ataskaita).
2. Архив центра культурного наследия (Вильнюс, Литва), ф. 27, оп. 2,д. 113 (IplÎstinÎs MokslinÎs metodinÎs kult˚ros paminkl¯ apsaugostarybos posÎd˛io protokolas 1976ñ11ñ03).
3. Особый архив Литвы (Вильнюс, Литва), ф. 1771, оп. 191, д. 528 (Pa˛ymaapie Lietuvos TSR teritorijoje esanËi¯ istorini¯-kult˚rini¯ paminkl¯padÎt· ir priemones j¯ apsaugai pagerinti).
4. 300 kult˚ros paminkl¯. Sud. Z. fiemaitytÎ. Vilnius: Mintis, 1980. 252 p.5. BalËi˚nas, V. ìMokslinÎs-restauracinÎs gamybinÎs dirbtuvÎs 1951ñ1957
met¯ veiklos ap˛valga.î ValstybinÎs LTSR architekt˚ros paminkl¯ ap-saugos inspekcijos metratis, 1958, № 1: 106ñ112.
6. Dz˚kas, V. ìVÎtrungÎ dairosi nuotak¯.î –vyturys, 1971, № 22 (550): 4.7. Glem˛a, J. R. Nekilnojamojo kult˚ros paveldo apsauga ir tvarkymas:
paveldosaugos ir paveldotvarkos pagrindai. Vilnius: Vilniaus dailÎs akade-mijos leidykla, 2002. 240 p.
8. JankeviËienÎ, A. ìKaip formavosi sen¯j¯ m˚s¯ krato pili¯ stilius.î Sta-tyba ir architekt˚ra, 1975, № 8 (194): 30ñ31.
9. JankeviËienÎ, A. ìLietuvos gotikos architekt˚ros kompozicinÎs ypaty-bÎs.î Lietuvos TSR architekt˚ros klausimai, 1966, № III: 358ñ376.
10. Kaauskas, S. ìDonelaitis.î Literat˚ra ir menas, 1979, № 49 (1823): 8 9.11. Kitkauskas, N., Lisanka, A. ìNauji duomenys apie viduram˛i¯ Vilniaus
katedr‡.î Kult˚ros barai, 1986, № 4 (256): 52ñ63.12. Levandauskas, V. ìGr‡˛inkime barok‡ Dominikon¯ ba˛nyËiai.î Statyba
ir architekt˚ra, 1989, № 6 (362): 18ñ19.13. Lowenthal, D. ìFabricating Heritage.î History & Memory, 1998, № 10ñ
1: 5ñ24.14. MaËiulytÎ-KasperaviËienÎ, A. ìKada dingo –vento Mykolo ba˛nyËios
altoriai.î –vyturys, 1989, № 23 (983): 20ñ21.15. Pinkus, S. ìKult˚ros paminkl¯ apskait‡ baigus.î Kult˚ros barai, 1976,
№ 4 (136): 25ñ29.16. PutinaitÎ, N. –iaurÎs AtÎn¯ tremtiniai. Lietuvikosios tapatybÎs paiekos
ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004. 239 p.17. Raulinaitis, A. ìVilniaus senamiestis senÎja ir gra˛Îja.î Kult˚ros barai,
1967, № 5 (29): 30ñ32.18. –ermuknis, R. PalikÊ pÎdsakus: prisiminimai apie Kauno restauratorius.
Kaunas: Aura, 2007. 226 p.
Салвиюс КулявичюсНаследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве..
206
19. ZareckienÎ, D. ìPerk˚no namai.î Mokslas ir gyvenimas, 1968, № 3(125): 36ñ37.
20. ZovienÎ, D. ìSeno kvartalo jaunystÎ.î Literat˚ra ir menas, 1985, № 9(1996): 8ñ9.
21. fiemaitytÎ, A. ìVartai · laik‡.î Literat˚ra ir menas, 1980, № 37 (1763): 8ñ9.
Kopsavilkums
Mantojums un atmiÚa: kult˚ras mantojuma rekonstrukcijas tendencesLietuv‚ padomju period‚M˚sdienu sabiedrÓba ir noskaÚota uzticÁties kult˚ras mantojumam ñ
tas skait‚s neapstrÓdams un autentisks vÁstures avots, taËu rekonstruÁts (restau-rÁts, atjaunots) mantojums liel‚k‚ mÁr‚ ietver inform‚ciju par to rekon-struÁjuo sabiedrÓbu, t‚s izpratni par pag‚tni nek‚ par pau ìautentiskoîpag‚tni. PÁtÓjum‚ tiek izvÁrtÁts, k‚da atmiÚa ietekmÁja rekonstrukcijas praksipadomju Lietuv‚ un k‚ t‚ izpaud‚s rekonstruÁjamajos objektos. Secin‚ts, kapieminekÔu aizsardzÓba Padomju SavienÓb‚ bija visai pretrunÓga: kaut ofici‚likult˚ras mantojumam vajadzÁja kalpot padomju patriotisma formÁanai,tas nep‚rvÁrt‚s par tikai internacion‚las (padomju laika v‚rda nozÓmÁ) kul-t˚ras radÓanas instrumentu. AtseviÌas kult˚ras mantojuma vai t‚ aizsar-dzÓbas jomas izbÁga stingrai kontrolei un zin‚m‚ nozÓmÁ kÔuva par nacion‚l‚skult˚ras izpausmes viet‚m: pÁc rekonstrukcijas mantojums ieguva vair‚kpag‚nisku vai lituanizÁtu, bet ne internacion‚lu saturu.
Summary
Heritage and Memory: Tendencies of Reconstructionof Cultural Heritage in Lithuania during the Soviet PeriodFor contemporary society, cultural heritage is an undisputed and authentic
source of history or reality. Society believes in it. However, reconstructed(restored) heritage tells more about the contemporary society, which reconstructsthis heritage, and its conceptions about the past, than about the ìauthenticîpast itself. The paper provides an analysis that reveals, what kind of cultural/historical memories influenced the practice of heritage reconstruction in SovietLithuania and how these memories were expressed in reconstructed objects.The author of the paper draws the following conclusion: in this field, moreinfluence exerted the memories ìbehind the sceneî, or national memories,than the memories spread by the Soviets. The research is based on the analysisof the reconstructed heritage (material objects) and its contexts.