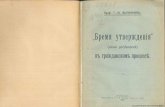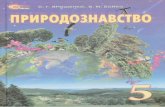Метаморфозы женского: М. Кузмин и Э. Т. А. Гофман
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Метаморфозы женского: М. Кузмин и Э. Т. А. Гофман
293
МеТАМорФоЗы ЖеНсКоГо: М. КУЗМиН и Э. Т. А. ГоФМАН
е. о. Козюра
Увлечение прозой Гофмана сопровождало Кузмина на протяжении всей жизни: впервые он познакомился с творчеством немецкого ро-мантика еще в юности1 и обращался к его книгам до своих последних дней2 (хотя высокая оценка Гофмана, в знаменитой статье упомянутого в числе образцов прекрасной ясности, позднее могла сопровождаться определенными оговорками3). Прямые упоминания автора «Кота Мур-ра» и реминисценции его произведений нередко встречаются в стихах и прозе писателя. Мы рассмотрим лишь некоторые примеры творческой рецепции Кузминым4 наследия немецкого романтика5, и нашей задачей будет не только выявление конкретных межтекстовых соответствий, но и «определение самой мотивировки этой потребности отразить в своем тексте те или иные элементы «чужого» текста»6.
Одним из наиболее значимых текстов Гофмана для русского писателя был «Золотой горшок», «осколки» которого Кузмин не раз помещал в свои стихотворные произведения�, а в прозе предложил даже своего рода
1 О своем увлечении Гофманом Кузмин сообщает в письмах Г. В. Чичерину (июль 1890 года). См.: Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. СПб., 2007. С. 47.
2 Ср. запись в дневнике (17 июля 1934 года): «Читаю Гофмана» (Кузмин М. А. Дневник 1934 года. СПб., 1998. С. 68).
3 Ср. дневниковую запись от 7 марта 1929 года: «но как от многого пахнет но-шеным платьем: от Гофмана, Диккенса, Шуберта, Бальзака» (Михаил Кузмин: Жизнь подо льдом // Наше наследие. 2010. № 93/94. С. 108).
4 Стихотворные произведения Кузмина цитируются по изданию: Кузмин М. А. Стихотворения. СПб., 1999, с указанием страницы в тексте, художественная и крити-ческая проза – по: Кузмин М. Проза: в 12 т. Berkeley, 1984–2000, с указанием тома и страницы. Ссылки на прочие произведения оформляются отдельно.
5 Проза Гофмана цитируется по: E. T. A. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-E. T. A. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-. T. A. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-T. A. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-. A. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-A. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-. Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi-Hoff�anns s���tliche Werke. Serapi- s���tliche Werke. Serapi-s���tliche Werke. Serapi- Werke. Serapi-Werke. Serapi-. Serapi-Serapi-ons-Ausgabe in 14 Bd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русские-Ausgabe in 14 Bd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. РусскиеAusgabe in 14 Bd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русские in 14 Bd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русскиеin 14 Bd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русские 14 Bd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. РусскиеBd. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русские. Berlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. РусскиеBerlin, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русские, 1922, с указанием тома и страницы в скобках. Русские переводы приводятся по: Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1991–2000, также с указанием тома и страницы.
6 Топоров В. Н. Еще раз о связях Пушкина с французской литературой (Лагарп – Буало – Ронсар) // Russian Literature. 1987. Vol. XXII. № 4. С. 381.
� Прямое упоминание главного героя сказки есть в стихотворении «Прогулка» (1912): «Но мы, безумные Ансельмы, –/ Фантасты и секретари!» (268), а также в статье «Колебания жизненных токов» (1922).
294
транскрипцию гофмановской сказки из новых времен. Речь идет о рассказе «Слава в плюшевой рамке», опубликованном в сборнике «Антракт в овра-ге» (1916). Гофман дважды упомянут в тексте как предмет читательских пристрастий его главного героя, начинающего писателя Виктора Карпин-ского («рыбью» фамилию которого можно счесть репликой щучье-серого (hechtgrauer) фрака гофмановского Ансельма). «Склонение на русскиеhechtgrauer) фрака гофмановского Ансельма). «Склонение на русские) фрака гофмановского Ансельма). «Склонение на русские нравы» и вычеркивание целого ряда существенных для «Золотого горш-ка» тематических комплексов (в первую очередь, связанных с «темной стороной естествознания») не затрагивает основополагающей сюжетной коллизии, взаимоотношения героя с двумя ипостасями женского начала, Вероникой и Серпентиной, в которых воплощаются, соответственно, «блаженная банальность обыкновенного существования или высокая сфера чистой красоты»8. В рассказе Кузмина в этих ролях выступают дочь сенатора Варвара Свечина, соблазняющая Карпинского дешевым успехом у толпы, и ее запечатленный на фотографии в плюшевой рамке «поэтический» двойник, Барберина, муза писателя.
Начало рассказа довольно точно «зарифмовано» с текстом-источником: вполне филистерским мечтаниям направлявшегося в Линковы купальни Ансельма соответствуют подчеркнуто «буржуазные» картины будущей писательской славы, возникающие в фантазиях Карпинского (мебель из карельской березы, английские часы в футляре, ловкий лакей). Далее, как и Ансельм, герой рассказа неожиданно соприкасается с иной реальностью: освещенная лампой из соседнего окна, фотография Барберины кажется Карпинскому светящейся и даже издающей (подобно хрустальным коло-кольчикам (Kristallgl�ckchen) песенки трех змеек)Kristallgl�ckchen) песенки трех змеек)) песенки трех змеек) еле различимые, звеня-щие звуки, стеклянные звуки какого-то инструмента. (Как и в «Золотом горшке», описание совершившегося оставляет возможность двойного прочтения: как встречи с чудесным и как «поэтической» иллюзии9).
В дальнейшем элементы гофмановского повествования у Кузмина рекомбинируются. Встреча с зеленой змейкой открывает Ансельму путь к пониманию своего истинного призвания. Самоосознанию Карпинского способствует встреча с поклонником его таланта молодым поэтом Андре-ем Веткой, своего рода двойником главного героя, которого он поначалу принимает за переписчика: именно свет из окна комнаты переписчика «оживил» портрет Барберины10. Если «профессионально» Ветка уподоб-
8 Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. Воронеж, 2004. С. 170.
9 Ср.:Ср.:.: Preisendanz W. Hu�or als dichterische Einbildungskraft. Studien zur Erz�hlkunst des poetischen Realis�us. München, 1985. S. 85–100., 1985. S. 85–100.S. 85–100.. 85–100.
10 Для рассказа Кузмина оказывается несущественной специфическая гоф-мановская семантика переписывания. См.: Nygaard L. C. Ansel�us as A�anuensis.
295
лен Ансельму, то своей фамилией он обязан, скорее всего, не Стефану Цвейгу, а зеленой змейке и ее сестрам, поющим среди цветов и ветвей («�it Blüten und Zweigen»).�it Blüten und Zweigen»). Blüten und Zweigen»).Blüten und Zweigen»). und Zweigen»).und Zweigen»). Zweigen»).Zweigen»).»).
Другой трансформированный мотив «Золотого горшка» – чернильное пятно: в сказке случайная клякса на манускрипте из библиотеки Саламан-дра временно разлучает Ансельма и Серпентину. Напротив, Карпинский после разговора с Веткой сам «вынулъ карточку Варвары Павловны изъ рамки, осторожно залилъ чернилами то мѣсто, гдѣ виднѣлась «осенняя пѣснь Чайковскаго», высушилъ и снова поставилъ въ плюшъ» (VII, 170).VII, 170)., 170). Чернильное пятно окончательно разъединяет Свечину и Барберину, делая последнюю в равной степени возвышенной и недоступной: «Изъ рамки глядитъ Барберина съ чернильнымъ пятномъ на пюпитрѣ. Она – его муза, онъ влюбленъ въ нее, но она – итальянка, живетъ, можетъ быть, въ Америкѣ, въ Австралiи» (VII, 171). Если в гофмановском сюжетеiи» (VII, 171). Если в гофмановском сюжетеи» (VII, 171). Если в гофмановском сюжетеVII, 171). Если в гофмановском сюжете, 171). Если в гофмановском сюжете поэтического преображения героя решающую роль играет соединение с женским началом, «мистический брак» Ансельма и Серпентины, то у Кузмина лишь символическое присутствие женского наделяет его ка-чествами подлинной музы: «Можетъ быть, никогда такъ весело, легко и свободно онъ не писалъ, будто около него мелькали прозрачныя блѣдно-золотыя оборки чьего-то платья» (VII, 170). Фотография воздействует наVII, 170). Фотография воздействует на, 170). Фотография воздействует на Карпинского подобно незримому присутствию Серпентины, помогающей гофмановскому студенту копировать таинственные письмена, а в восьмой вигилии предстающей перед ним в переливающемся блестящем (schillern-schillern-de, gl�nzende) платье. Таким образом, в рассказе условием творчества) платье. Таким образом, в рассказе условием творчества становится пространственное удаление женского, сочетающее реальную недостижимость и символическое присутствие. В гофмановском сюжете Кузмин делает акцент не на перемещении героя в иной мир, но на «удво-ении» существующей реальности, осуществляемом через «вытеснение» женского начала в другое пространство.
Восходящая к «Золотому горшку», рассмотренная сюжетно-персо-нажная схема используется Кузминым в текстах, в которых нет экспли-цитных отсылок к творчеству Гофмана. К таковым относится рассказ «Прогулки, которых не было» (1917). Его главный герой Илья Васильевич Шубкин переносит на географические данные «известное положение старинных и новых оккультистов, что человек есть малый мир, где различные соотношения составных физических элементов совпадают таинственно и точно с распределением природным»: он «утверждал, что как в самой небольшой каморке (даже коробке) есть север, юг, восток и запад, так в любом городе <…> можно найти Европу, Азию и Африку, The �otif of copying in Hoff�ann’s Der goldne Topf // Se�inar. 1983. Vol. XIX. № 2.1983. Vol. XIX. № 2.№ 2. P. 79–104.. 79–104.
296
Францию, Россию, Египет, Англию и Китай» (IX, 16). Размеренная жизньIX, 16). Размеренная жизнь, 16). Размеренная жизнь путешественника нарушается (инициированной письмом) встречей с жи-тельницей «виртуальной» Норвегии (располагающейся на Васильевском острове) Елизаветой Васильевной Монт: когда из просто географа герой рассказа превращается во влюбленного географа11, женский персонаж также претерпевает «удвоение», и его разные ипостаси закрепляются в двух параллельных пространствах, что подчеркивается двойной номина-цией героини, предстающей то как норвежская девушка Лиза Монт, т.е., жительница гористой страны (англ. mountain; франц. montagne), то как Елизавета Васильевна, обитательница Васильевского острова. В сюжете рассказа воплощается уже известная коллизия: любовь к Лизе Монт не может получить счастливого разрешения, поскольку у нее есть жених Курт, любовь к Елизавете Васильевне ограничивает путешествия героя лишь петербургскими улицами.
Амбивалентная природа женского начала в «Золотом горшке» (прояв-ляющаяся не только в противопоставлении Вероники и Серпентины, но и в каждой героине по отдельности)12 наследуется «гофмановским текстом» прозы Кузмина: тесное сближение с любой его ипостасью небезопасно. Две возлюбленные Ансельма обитают в разных реальностях, но обе они ограничивают его существование пределами своих миров. Кузмин акцен-тирует в первую очередь «теллурические» черты женского, замыкающего героя в посюсторонней реальности.
В частности, такая ситуация разыгрывается писателем в обще-признанно «гофмановском» по своей атмосфере рассказе «Из записок Тивуртия Пенцля» (1921). Кажется, ни с каким конкретным претекстом из прозы Гофмана этот рассказ не связан, однако весь его текст пронизан множеством сигналов, отсылающих к фигуре самого немецкого писа-теля (заглавный герой – уроженец Кенигсберга, чудак и экстравагант) и его излюбленным темам (итальянская опера, карнавал, двойники)13. Но в первую очередь в рассказе получает специфическое преломление гофмановская стихия превращений. Колоритный пример наличествует уже в первом фрагменте рассказа, живописующем злоключения аббата, на голову которому свалилась чашка горячего шоколада: «Улыбающееся выражение полного и безоблачного личика вдруг обратилось в водосточ-
11 Ср. антитезу влюбленного поэта и географа в первом стихотворении цикла «Ночные разговоры» (1913).
12 Ср.:Ср.:.: Adank B. Déesse ou sorcière? Représentations de la fe��e dans «Der Goldne Topf» d’E. T. A. Hoff�ann // Merveilles & contes. 1990. Vol. 4. № 2. P. 177–185.
13 Ср. также разыскания о живописных претекстах рассказа: Доронченков И. А. «…Красавица как полотно Брюллова» (о некоторых живописных мотивах в творчестве Михаила Кузмина) // Русская литература. 1993. № 4. С. 168–171.1993. № 4. С. 168–171.С. 168–171.
297
ную маску» (IX, 262). Схожая со знаменитым превращением дверногоIX, 262). Схожая со знаменитым превращением дверного, 262). Схожая со знаменитым превращением дверного молотка в лицо яблочной торговки из «Золотого горшка», эта сцена задает отличающееся от гофмановского направление метаморфной логики: если у Гофмана метаморфозы вещного мира маркируют момент соприкоснове-ния обыденного и чудесного миров14, то в рассказе Кузмина метаморфозы реализуются как тропы и затрагивают лишь внешнюю сторону предметов, наделяя живое некроморфными чертами: так строится, к примеру, превра-щение жирного Амура, слуги приятеля главного героя: «С виду он казался здоровым ребенком, но мне вдруг представился разбухшим карликом, который сейчас лопнет с зловонным треском» (IX, 270–271). ВидимыйIX, 270–271). Видимый, 270–271). Видимый мир в любой момент готов омертветь или распасться: метафорой такого мира становится заупокойный карнавал. Живое и мертвое уподоблены друг другу до полной неразличимости: помост, с которого запускали воздушный шар, становится деревянным эшафотом для зрителей, где люди копошатся будто после казни, надевшая карнавальную маску Терца, возлюбленная героя, превращается в незнакомое привиденье, в том же духе описывается внешний облик двух братьев-близнецов, умершего и живого: «покойник лежал, как картинка, так что который остался в живых больше был похож на мертвеца» (IX, 274).IX, 274)., 274).
Семантикой распада в рассказе Кузмина наделяется и нередкий в прозе Гофмана «овидианский» мотив превращения человека в расте-ние15: «Ветер оборвал прозрачные лепестки букета и несет их по лест-нице – тюльпаны, маки, розы и жасмины, сквозящие на косом вечернем солнце. И мой жасмин, Терца, катилась вместе со всеми к зеленоватой воде» (IX, 278). (Этой «метаморфозе» предшествует сцена со вполнеIX, 278). (Этой «метаморфозе» предшествует сцена со вполне, 278). (Этой «метаморфозе» предшествует сцена со вполне реальным растением: «только одна ветка жасмина, проросшая на камнях противоположного дома, осыпается, осыпается…», IX, 267). Впрочем,IX, 267). Впрочем,, 267). Впрочем, уже подробное портретное описание героини в начале рассказа стро-ится по схожему принципу, она буквально теряется в окружающих ее предметных «мелочах» и дробных словечках: «Она – маленького роста, везде у нее ямочки: на щечках, на локотках, на шейке; ее ротик охотно складывается в улыбочки; ленточки, бантики, оборочки, кружевца, про-шивочки всегда словно раздуваются ветерочком; она обожает музыку, арийки, дуэтики, не любит вести счета денежкам; диванчики в комнатке обиты веселеньким шелком, обезьяночка и собачки вовремя накормлены; меня она называет Тивуртиком, себя Терциной, Терциночкой, Терцине-
14 Ср.:Ср.:.: Holländer B. Augenblicke der Verwandlung in E. T. A. Hoff�anns M�rchen Der goldne Topf // Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeit�etaphorik in Kunst und Wissenschaften. Dar�stadt, 1984. S. 326.
15 Albrecht M. von. Die Verwandlung bei E. T. A. Hoff�ann und bei Ovid // Antike und Abendland. 1961. Bd. 10. S. 161–162, 179.62, 179..
298
той, Терцинеточкой, выдумывая иногда такие уменьшительные, какие не снились ни одному филологу. Иногда мне кажется, что я тону в этих подушечках» (IX, 263).IX, 263)., 263).
Подмена подлинной метаморфозы омертвлением и распадом скры-вает невозможность в этом мире настоящего чуда. Чудесное в рассказе вытесняется странным, доступно лишь в форме разных диковин, таких как жена аптекаря, разрешившаяся шестью мертвыми младенцами или негр колоссального роста. Одна из таких диковин – уже упоминавшийся воздушный шар, вызывающий всеобщее удивление16, но не содержа-щий внутри ничего, кроме воздуха. Далее в рассказе его соответствием становится гоццианское театральное чудо («разрезанные апельсины, из которых выходят живые полненькие девушки», IX, 269), которое в фина-IX, 269), которое в фина-, 269), которое в фина-ле буквально «лопается», исчезая без следа: «Всходило солнце. Оно так красно окрашивало воду, что плавающих апельсинных корок не было видно, нельзя было заметить» (IX, 279).IX, 279)., 279).
Реальный мир обнаруживает свою неподлинность, даже призрач-ность: «Я не могу теперь без трепета видеть вечернюю звезду, – все жду, когда она степенно поползет по серому картону небес, удивляясь, что не слышу высокого пения скрипок. Я вздрагиваю всякий раз, когда щелкают при мне табакеркой» (IX, 278) (в рассказе Терцы щелчок предшествовалIX, 278) (в рассказе Терцы щелчок предшествовал, 278) (в рассказе Терцы щелчок предшествовал появлению привидения умершего близнеца). Но гофмановское двоемирие оборачивается пустым удвоением, умножением видимостей, символизиру-емым фигурами братьев-близнецов или счастливым лотерейным номером: «Двадцать на два – сорок».
Постепенно стихия распада захватывает и самого героя («Не испы-тывая сильных чувств и страстей, я принужден заменять их количеством впечатлений, кучей пестрых, мелких, острых уколов, смеха и развлече-ния», IX, 278), что не в последнюю очередь связано сIX, 278), что не в последнюю очередь связано с, 278), что не в последнюю очередь связано с масштабом чувств, доступных его возлюбленной: «Терца спит, свернувшись в клубочек. Она такая коротенькая, вся в ямочках, розовая – где ей нести сильные страсти и прочие немецкие чудачества!» (IX, 279). Любовная страсть,IX, 279). Любовная страсть,, 279). Любовная страсть, направленная на женщину, «рассеивается», и параллельно этому симво-лически «уменьшается» сам герой, в финале уподобленный младенцу: «Теплый, теплый ветер набегал упруго, будто тыкаешься в женскую грудь» (IX, 279).IX, 279)., 279).
Пугающими чертами наделена встреча героя с женским началом в рассказе «Смертельная роза» (1917), «загадочный узор» (по слову Б. М. Эйхенбаума) которого заключает в себе мотивы из целого ряда
16 «На дождливом, розоватом небе над лагуной, вдали, неуклюже качался неви-данный доселе серый воздушный шар, крики толпы и рукоплесканья доносились, как неровный прибой» (IX, 265).
299
гофмановских текстов. Вполне очевидна гофмановская генеалогия глав-ного героя рассказа, итальянского композитора Каспара Ласки, выходца из Германии и чеха по матери, живущего в нужде, но преданного своему искусству романтического энтузиаста, своего рода двойника «немецкого композитора чешского происхождения» (XII, 19) К. В. Глюка.XII, 19) К. В. Глюка., 19) К. В. Глюка.
Завязка сюжетной интриги, встреча с человеком в сером плаще, зака-зывающем Ласке погребальную музыку, заставляет вспомнить пушкинс-кого «Моцарта и Сальери», однако имя заказчика, Оттавио Каррота, отсы-лает к Даукусу Кароте, королю овощей из сказки «Королевская невеста». В свою очередь, сестра Карроты Розалия, в которую влюбляется Ласка, соотносится с Олимпией из «Песочного человека»1�, на что указывает свойственная героине кукольность и автоматичность (которая сопря-гается с биологической аморфностью: «Рука была маленькая, несколько квадратная, такая мягкая и теплая, что Каспару казалось, будто он держит в руках разогретый пирожок», VIII, 391VIII, 391, 39118). Наконец, гофмановский ис-
1� Еще одна параллель «Песочному человеку» отыскивается в «Эме Лебефе», где покровитель заглавного героя, Амброзиус Скальцарокка, подобно отцу гофмановского Натанаэля, погибает от взрыва, произошедшего во время алхимического опыта: «EsEs �ochte wohl schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- wohl schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-wohl schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge-entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Ge- Schlag geschah, wie wenn ein Ge-Schlag geschah, wie wenn ein Ge- geschah, wie wenn ein Ge-geschah, wie wenn ein Ge-, wie wenn ein Ge-wie wenn ein Ge- wenn ein Ge-wenn ein Ge- ein Ge-ein Ge- Ge-Ge-schütz losgefeuert würde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türeütz losgefeuert würde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türetz losgefeuert würde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türe losgefeuert würde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türelosgefeuert würde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türe würde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türewürde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türeürde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türerde. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türe. Das ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer TüreDas ganze Haus erdr�hnte, es rasselte und rauschte bei �einer Türe vorüber, die Haustüre wurde klirrend zugeworfen. <…> Da kreischte es auf in schneidende� trostlosen Ja��er, fort stürzte ich nach des Vaters Zi��er, die Türe stand offen, erstickender Da�pf quoll �ir entgegen, das Dienst��dchen schrie: „Ach, der Herr! – der Herr!“ – Vor de� da�pfenden Herde auf de� Boden lag �ein Vater tot �it schwarzverbrannte�, gr�ßlich verzerrte� Gesicht» (V, 14). (=«Верно, было уже около полуночи, когда раздался страш-(=«Верно, было уже около полуночи, когда раздался страш-ный удар, словно выстрелили из пушки. Весь дом затрясся, что-то загромыхало и зашипело подле моей двери <…> я бросился в комнату отца; дверь была отворена настежь, удушливый чад валил мне навстречу, служанка вопила: «Ах, барин, барин!» Перед дымящимся очагом на полу лежал мой отец, мертвый, с черным, обгоревшим, обезображенным лицом», II, 296 ); «Мечты о предстоящей поII, 296 ); «Мечты о предстоящей по, 296 ); «Мечты о предстоящей поѣздке, объ элексирахъ, гороскопахъ, деньгахъ, мерцающемъ вдали величiи были прерваны страшнымъ ударомъ,iи были прерваны страшнымъ ударомъ,и были прерваны страшнымъ ударомъ, потрясшимъ весь домъ. <…> «На помощь! хозяинъ, хозяинъ!» кричала Урсула, пока-зываясь изъ чулана. <…> Разбить окно, изъ котораго хлынулъ ѣдкiй дымъ, и соскочитьiй дымъ, и соскочитьй дымъ, и соскочить внутрь было дѣломъ одной минуты. Скальцарокка, съ обожженнымъ лицомъ, весь дымясь около лопнувшей реторты, былъ мертвъ несомнѣнно» (I, 65– 66).I, 65– 66)., 65– 66).
18 Ср. описание Гретхен в «Гофмановском леске» (1922): «маленькая фигурка, безо всякой формы, вроде моллюска; колышется, как желе, и каждую минуту готова расползтись в стороны. Похожее всего на раковину или на копилку» (Кузмин М. А. Стихотворения. Из переписки. М., 2006. С. 107. Далее цитаты из «Леска» приводятся по этому изданию, с указанием страницы в тексте). Скользящая граница между ме-ханическим и биологическим тематизируется и в «Песочном человеке», отразившем современные Гофману естественнонаучные дискуссии. См.: Engelstein S. Reproductive Machines in E. T. A. Hoff�ann // Body Dialectics in the Age of Goethe. A�sterda�, 2003. P. 169–193.
300
точник очевиден и в финальном эпизоде рассказа: Ласка приходит в дом Карроты с выполненным заказом, но не застает хозяина, которого через некоторое время приносят убитым (заколотым), а Розалия срывает кисею со своего портрета, в который воткнута шпага. Вообще нередкая в сю-жетах немецкого романтика «странная связь портрета с судьбой героя»19 в данном случае проникает в рассказ Кузмина из вполне конкретного гофмановского текста: имя героини и мотив угрожавшей ей смерти от шпаги заставляют вспомнить роман «Эликсиры дьявола», в структуре которого важнейшую роль играет сходство Аврелии с портретом святой Розалии20, а когда Аврелия готовится принять монашеский постриг под именем Розалии, ее закалывает Викторин, двойник главного героя.
В основе сюжетной интриги лежит «пигмалионовское» стремление Ласки «оживить» Розалию силой своего искусства. Композитор достигает своей цели, но между ним и Розалией сохраняется непреодолимая дистан-ция: любовное соединение сущностей при сохранении индивидуальности, которого жаждет герой (обозначением такого понимания любви служит повторяющаяся формула «я – ты, и ты – я»21), подменяется любовью разъединяющей: «Слушай и пойми, без разделения нет соединения. Я – любовь разъединяющая. Ты скоро услышишь везде о разъединении во всем, для того, чтобы весь мир братски соединился. Я – меч, Каспа-ро, и ты – меч, сам того не зная. Твоя музыка раздирает душу, чувство делит от чувства, сталкивает их, пронзает копьем сердце. Так и следует, милый» (VIII, 395).VIII, 395)., 395).
Сама встреча Ласки с разъединяющей любовью в рассказе предстает следствием стечения таинственных обстоятельств или даже вмешатель-ства таинственных сил. Вплетенные в художественную ткань рассказа гофмановские претексты, в свою очередь, тоже варьируют (хотя и в раз-ных модальностях) тему воздействия «злого принципа» (b�se Prinzip) наb�se Prinzip) на Prinzip) наPrinzip) на) на судьбу человека. Однако в рассказе Кузмина нагнетание таинственных обстоятельств, не получающих ясной мотивировки22 (в духе гофманов-ского диптиха «Ошибки и тайны»), сочетается с подчеркнутой «литера-
19 Ботникова А. Б. Страница русской гофманианы (Э. Т. А. Гофман и М. Ю. Лер-монтов) // Художественный мир Э. Т. А. Гофмана. М., 1982. С. 160.
20 Пародийный вариант параллелизма девушки и портретного изображения пред-ставлен в рассказах Кузмина «Дама в желтом тюрбане» и «Портрет с последствиями» (оба – 1916). (О последнем см.: Панова Л. «Портрет с последствиями» Михаила Куз-мина: ребус с ключом // Русская литература. 2010. № 4. С. 218–234).
21 Об этой формуле, восходящей к Евангелию от Иоанна, см.: Страхов А. Б. Новгородский монах Ефрем и апостол Иоанн // Russian Linguistics. 1991.Vol. 15. № 3. С. 284–289.
22 К примеру, реальная связь портрета Розалии со смертью ее брата так и остается непроясненной.
301
турностью» рассказываемой истории, и такое обстоятельство подрывает онтологический статус «злого принципа», делает его чисто сюжетным эффектом. Равно и сама разъединяющая любовь хотя и оказывается срод-ни наваждению, но порождена не потусторонней, а сугубо человеческой реальностью.
Специфику разъединяющей любви проясняет другой вариант сюжет-но-персонажной (и смысловой) схемы «Смертельной розы», предложен-ный Кузминым во второй главе незаконченного романа «Златое небо» (1923): Калпурний и Фульвия, молодые любовники и участники заговора Катилины, называют друг друга братом и сестрой, а узнав о гибели Ка-тилины, Фульвия принуждает Калпурния выпить яд, сама же закалывает-ся кинжалом, что в тексте истолковывается как проявление бедственной и слепой страсти, антитезы подлинных даров Эроса: «Эрос – божество благое и мудрое. Многие считают его древнейшим разделителем хаоса, отцом гармонии и творческой силы. И действительно, без соединяющей любви многое в мире распалось бы на части» (IX, 370).IX, 370)., 370).
В обоих рассказах антитеза соединяющей любви связана с темой политического заговора, в «Смертельной розе» сопряженной также с масонской темой: Каротта заказывает Ласке музыку для масонского пес-нопения, а в финале о нем и его сестре говорится, что «одни считали их масонами, другие французскими революционерами» (VIII, 398). КартинаVIII, 398). Картина, 398). Картина грядущего разъединения всего мира в «монологе» Розалии перекликается с выпиской из популярнейшей в масонских кругах книги Эккартсгау-зена «Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню», которая приводится в рассказе «Подземные ручьи» (1922). Выписка объединяет слова духа злобы (называемого также духом гордости), повествующие о разделении человеческого рода, и (завершающие обряд эзотерического посвящения Костиса и его спутника Гаммы) слова верховного Жреца (Первосвященника)23: «Одинакие органы, одинакие чувства, одинакие нужды имеют все человеки вообще, и для того равное почитание, равная любовь и равные выгоды необходимо должны соединять их» (IX, 309).IX, 309)., 309). Такая сентенция помещается в рассказе в двойственный контекст: в ней звучит истина, и она же являет образчик просветительных общих мест, далее прокомментированных словами героини «земной рай – бессмыслен-ное мечтание, но, кажется, неискоренимое в человечестве». Масонство, как волнующий пример мужского братства вызывавшее неизменную симпатию Кузмина24 и в этом качестве получившее отражение в его про-
23 См.: Путешествiе младаго Костиса отъ Востока къ Полудню. М., 1816. С. 103–105, 130–131.
24 «Масоны меня всегда интересовали, и по Моцарту, и как тайное общество, и как организация (м<ожет> б<ыть>, это самое главное), где жизнь строится без ориентации
302
зе25, теряет свою привлекательность, когда на первый план в нем выходит проектирование социальных утопий, а любовь к братьям подменяется абстрактной любовью ко всему человечеству26: выразительная иллюстра-ция таковой представлена описанием земного рая в финале «Гофмановс-кого леска»: «у Фауста выскочила огромная шишка любви к человечеству. Он будет благодетелем, даст людям рай. <…> Вот и рай! Три таблицы: обязанности, потребности и понятия. Все ясно, как расписание поездов. Весь земной шар – интернат или исправительное заведение. Все одного возраста и пола. Красок – нет, звуков, света – тоже. Питаются пилюлями» (108). Схожие картины унификации являют раннее христианство (и срав-ниваемый с ним социализм) в статье «Стружки» (1925): «Христианство еще более уничтожает всякое индивидуальное отличие – сословное (нет ни раба, ни свободного), национальное (нет ни эллина, ни иудея), половое (ни мужчины, ни женщины) <…> Всякий намек на разнообразие и мно-гообразие мира внешнего и духовного, национального, личного – должно быть ненавистно первобытному христианству» (XI, 331) или подобныйXI, 331) или подобный, 331) или подобный фаланстере Петербург в заметке «Арена массовых движений» (1918), «казенный, т. е., государственный, ничей и всеобщий, равный для всех» (XI, 13) и начисто лишенныйXI, 13) и начисто лишенный, 13) и начисто лишенный уюта.
Вдохновляемая отвлеченными идеями унификация, любовь к «чело-веку вообще» и беспорядочные и гибельные страсти (агентами которых у Кузмина обычно выступаю женщины) в равной степени искажают лик соединяющего Эроса: одинаково враждебные любой индивидуальности, они вносят в жизнь ненужное возмущение или подчеркнуто противоес-тественное единство2�, делая мир анормальным.
Пугающие картины будущего земного рая в «Леске» знаменуют завершающий этап той исторической фазы развития немецкого духа,
на женщину, как в войсках, закрытых уч<ебных> заведениях и монастырях. Мужское устройство» (Кузмин М. А. Дневник 1934 года. С. 110).
25 Так, вольным каменщиком оказывается главный герой романа «Мечтатели» (1912) Андрей Толстой.
26 Ср. в статье «Эмоциональность как основной элемент искусства» (1924): «Интенсивность частных эмоций можно сделать их общеобязательными и через кон-кретную любовь к отдельному человеку заставить понять любовь к человечеству, но обратный путь от общего к частному немыслим и губителен» (XI, 228).
2� Колоритным примером такого противоестественного целого может служить упомянутая в рассказе «Пять разговоров и один случай» (1925) разбитая чашка, скле-енная талантливым ребенком из дефективного дома Фомой Хованько: «Фома так склеил куски, что барабанщик оказался сидящим на бюсте Жозефины, у императри-цы вместо головы торчал барабан, а лицо ее пропало бесследно» (IX, 393). (Об этом рассказе см.: Морев Г. Oeuvre posthume Кузмина: заметки к тексту // Митин журнал. 1997. № 54. С. 288–303).
303
начало которой Кузмин связывал с эпохой «Бури и натиска» и подъемом национального романтизма в эпоху наполеоновских войн28. Первона-чальное «стремлении[е] к освобождению духа» (XI, 65) вырождаетсяXI, 65) вырождается, 65) вырождается в отвлеченную философию29 или бюргерскую приземленность. В час-тности, иллюстрацией такой эволюции в «Леске» служат метаморфозы женского начала, сперва предстающего в облике романтической героини, оставленной возлюбленным, затем обычной девушки, соблазненной и брошенной ротмистром, и, наконец, «желеподобной» Гретхен, в которой посредством сравнения с раковиной или копилкой акцентируется лишь репродуктивная функция.
Предварительный набросок такой немецкой «историософии» отыски-вается в статье «Раздумья и недоуменья Петра Отшельника» (1914): «Мы видим пример, к чему приводит культура, где вместо твердости – упрямс-тво, вместо рыцарства – солдатчина, вместо силы – бессмысленная жес-токость, вместо величия – вагнеровский балаган, вместо культуры – усо-вершенствованная уборная» (Х, 187). В этом ряду профанированных цен-ностей особую роль играет творчество Вагнера, скептическое обсуждение которого нередко возникало в кузминской «мизогерманской» риторике времен Первой мировой войны30. В «Раздумьях…» оно приводится как пример неполноценного искусства (подобного бутафорским ходулям) – следствие недоразвитого или дурно понятого возвышенного мировоз-зрения, альтернативой которого называется светлое, от Бога радостное и мудрое искусство Франции31. Стоит отметить, что в «Смертельной розе» «вагнерианскими» чертами наделяется музыка, которую сочиняет Каспар Ласка. Эти экстравагантные аккорды и мрачные и странные созвучия звучат как вагнеровская «бесконечная мелодия», как томление тристановской Liebestod: «слышались безумные страстные призывы, ноLiebestod: «слышались безумные страстные призывы, но: «слышались безумные страстные призывы, но они разбивались и возвращались еще более тяжелыми на голову самого призывающего, неудовлетворенные, еще более страстные, без силы не то, что сломить равнодушие призываемого, а слиться с ним, чтобы «ты» было «я», и «я» – «ты». Чем более хотящая, чем более упрямая, тем более недо-стигающая, бесплодная страсть» (VIII, 385). Другим ликом вагнерианстваVIII, 385). Другим ликом вагнерианства, 385). Другим ликом вагнерианства у Кузмина становится официальный романтизм (в одноименной статье
28 Ср. его статью «Пафос юношеских драм Шиллера» (1919). 29 «Фауст – ученик, студент лет сорока, задолбивший расшатанные мозги бесто-
лочью диалектики» (107).30 Ср.: Шмаков Г. Михаил Кузмин и Рихард Вагнер // Studies in the life and works
of Mixail Kuz�in. Wien, 1989. P. 32–33.31 Любопытно, что творчество Гофмана нередко помещается Кузминым во фран-
цузский контекст: так, его предшественниками становятся Бомарше (XI, 27; 148) и Казотт (XI, 145), а сам он предвосхищает Бодлера (XI, 144).
304
1918 года), с присущим ему автоматизмом и вторичностью: стихийная неуправляемая страсть и механическая унификация обнаруживают свое сущностное сходство и в сфере художественного творчества.
Противовесом слепых страстей и отвлеченных общих мест ста-новится вечное («Вечное и общее, избитое – не одно и то же», XI, 62),XI, 62),, 62), существующее независимо от человеческих устремлений. Как сказано в «Подземных ручьях», «от неба нельзя отгородить ни вершка в личное пользование» (IX, 310): общее для всех, оно сводит воедино разрозненныеIX, 310): общее для всех, оно сводит воедино разрозненные, 310): общее для всех, оно сводит воедино разрозненные «явления и существования» (по слову Д. И. Хармса), сохраняя их инди-видуальность. Картину такого соединения (где медиумом между землей и небом становится музыка) являет собою детское воспоминание Тивур-тия Пенцля: «распадающемуся» венецианскому миру противопоставлен садик в Кенигсберге, освеженный прошедшей грозой32 и наполненный красками, запахами и звуками, в «симфонию» которых органично влива-ется доносящийся «из дядиной гостиной квартет Моцарта, как наглядное благословенье, как небо, сведенное на наш дом: на этих музыкантов, на меня, плачущего в кустах, на тетю Софию, на всех, на все, на собаку, пугающую вылезших на дорогу лягушек, на дым из трубы, на ванильный запах печений» (IX, 268). В отличие от недоступногоIX, 268). В отличие от недоступного, 268). В отличие от недоступного зеленого неба33, такое небо становится золотым: как златое небо в заглавии романа о Вергилии, зовущее вдаль золотистое небо в «Крыльях», золотое вечное римское небо в романе о Калиостро. И путь ко златому небу лежит через соединяющую любовь, как в стихотворении «Идущие» (1924): «Когда щека одного, / коснется щеки другого, / кажется – небо позолотело» (664).
Нельзя не упомянуть и о любопытных параллелях к обозначенным мотивам, отыскивающихся в создававшемся при непосредственном участии поэта диалоге «Скучный разговор» в первом номере журнала «Аполлон»34. В этом (кстати, насыщенном масонской символикой35)
32 Стоит заметить, что в Дневнике такую погоду Кузмин называет гофмановской. Ср.: «Я посидел дома и пережидал дождь. Потом разгулялось. Погода не освежилась, не гофмановская»; «Дожди были, но после них гофмановская свежесть» (Кузмин М. А. Дневник 1921 года // Минувшее. 1993. Вып. 12. С. 464; Вып. 13. С. 470).
33 Ср. ряд примеров (их число могло быть умножено): «Солнце тускло, сонно смотрит из-за розовых завес, / А меж туч яснеет холод зеленеющих небес» (78); «Сле-жу я сквозь оконце льдистое, / Как зеленеет небо чистое, / А даль холодная – ясна» (155); «На зелень пажитей небесных / Смотрю сквозь льдистое стекло» (415).
34 «Главная роль в создании масок и подготовке окончательного текста при-надлежала М. А. Кузмину» (И. Ф. Анненский. Письма к С. К. Маковскому / публ. А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 228 (примеч. 22)).
35 Тарановский К. Ф. Заметка о диалоге «Скучный разговор» в первом номере Аполлона (октябрь 1909 г.) // Russian Literature. 1989. Vol. XXVI. № 3. С. 419–420.
305
тексте отметим реплику Философа, затем продолженную Профессором: «разсѣивается ночь, и въ утреннемъ туманѣ четко отражаются въ застыв-шемъ озерѣ металлически чеканные лавры и золотое небо – Аполлонъ <…> Богъ строя, мѣры, ясности, котораго такъ недостаетъ въ наши дни смятеннаго хаоса»36. Далее, в устах Журналиста, Аполлон превращается в символ прогресса: «Аполлонъ, парящiй надъ современнымъ городомъ,iй надъ современнымъ городомъ,й надъ современнымъ городомъ, живописно-уродливымъ, съ фабриками, машинами и sky-scratchers’ами»sky-scratchers’ами»-scratchers’ами»scratchers’ами»’ами»3�, и такая «эволюция» Аполлона сродни регрессивной истории немецкого духа в «Гофмановском леске».
Соединяющая любовь возвращает человеку утраченное ощущение син-тетического единства мира, которым человек обладал в детстве: «детская» тема, столь важная для немецкого романтика38, у Кузмина закономерно пересекается с «гофмановской». Скажем, таким детским восприятием мира поэт наделяет Д. И. Митрохина, ближайшей параллелью к его книжной графике приводя сказочную прозу Гофмана (статья о художнике (1922) открывается обширной цитатой из сказки «Нездешнее дитя»). Характерис-тика рисунков Митрохина строится на уже известном нам наборе оппози-ций: это не механическая игра калейдоскопа, а волшебные пейзажи, «где бы индивидуальности не резко сталкивались в трагических конфликтах или бурно сливались в эротическом восторге, а сладостно растворялись в благословенном воздухе, еле-еле отделяясь от трав, звезд и бабочек» (XI,XI,, 137). И сама проза Гофмана способна вернуть человеку детское пережи-вание жизни: «Улыбка матери, ее домашнее платье, пасха, запертые двери, скрывающие зажженную елку, и весеннее солнце в окне детской, – вы сохранились, может быть, только в сказках Гофмана и в пожелтевших гравюрах Даниила Ходовецкого, этой сокровищнице домашней жизни и семейного уюта!» («Зачем пекут пироги» (1918), XII, 219).XII, 219)., 219).
Но и за рамками «детской» темы текстам Гофмана сообщается спо-собность восстанавливать утраченное единства мира и самого челове-ческого «я». Создавая в прозе свои «редакции» гофмановских сюжетных ситуаций, Кузмин символически переживает в «мире фикций» нежела-тельные варианты развития событий в реальном мире. Своего рода мета-комментарий к такой «психопоэтике» представляет собой стихотворение «Ко мне скорее, Теодор и Конрад!...» (1924), где «гофмановские» мотивы сопрягаются с отсылками к экспрессионистическому кинематографу39,
36 Аполлонъ. 1909. № 1. С. 80–81 (1-я паг.). 3� Там же. С. 82.38 Alefeld Y.-P. G�ttliche Kinder. Die Kindheitsideologie in der Ro�antik. Padeborn
u. a., 1996. S. 346–384.. a., 1996. S. 346–384.a., 1996. S. 346–384.., 1996. S. 346–384.S. 346–384.. 346–384.39 О кинематографических претекстах стихотворения см.: Ратгауз М. Г. Кузмин-
кинозритель // Киноведческие записки. 1992. № 13. С. 54.
306
унаследовавшему многие приемы немецкого романтика40. Растерзанная любовью душа лирического субъекта уподобляет его персонажам лите-ратурных и кинематографических текстов: «Сомнамбулы сладчайшее безумье, / Да раздробившийся в сверканьях Крейслер, / Да исступленное блаженство дружбы – / Теперь водители моей судьбы» (658). В соот-ветствии со своим «декодирующим» подходом к жизни41 поэт ищет в плодах чужого воображенья герменевтический «шифр» своей судьбы и пути к разрешению собственных жизненных коллизий. Сквозь призму чужого текста жизнь обретает более стройные очертания и за шатким и неустойчивым многообразием ее проявлений открывается лик Эроса, воплощенный в Другом: «Все, что пленяет, что живет и движет, / Все это – я!» (660)
Механизмы такого «собирания» мира и собственного «я» запечатле-ны в целом ряде «гофмановских» стихотворений 1920-х гг. Одно из них – стихотворение «Смотр» (1925), построенное как описание военного шествия, предстающего в тексте оптическим феноменом, способным приближать удаленные объекты («Победа» мечет небо в медь <…> Как зажигательным стеклом / Стекляня каски блеск, мой взгляд/ Следит, как в ней войска горят / И розовеет дальний дом», 668). Появление в этом контексте кота Мурра («Пока идут... О, катер Мурр») проясняется началь-ным эпизодом второго раздела первого тома гофмановского романа, где описываются впечатления кота, впервые оказавшегося на людной улице: «Als ich nun aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbareAls ich nun aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbare ich nun aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbareich nun aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbare nun aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbarenun aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbare aber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbareaber herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbare herausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbareherausschlich, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbare, Hi��el! da dehnten sich überall unabsehbareHi��el! da dehnten sich überall unabsehbare! da dehnten sich überall unabsehbareda dehnten sich überall unabsehbare dehnten sich überall unabsehbaredehnten sich überall unabsehbare sich überall unabsehbaresich überall unabsehbare überall unabsehbareüberall unabsehbare unabsehbareunabsehbare Straßen vor �ir aus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einen vor �ir aus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einenvor �ir aus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einen �ir aus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einen�ir aus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einen aus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einenaus, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einen, und eine Menge Menschen, von denen ich nicht einenund eine Menge Menschen, von denen ich nicht einen eine Menge Menschen, von denen ich nicht eineneine Menge Menschen, von denen ich nicht einen Menge Menschen, von denen ich nicht einenMenge Menschen, von denen ich nicht einen Menschen, von denen ich nicht einenMenschen, von denen ich nicht einen, von denen ich nicht einenvon denen ich nicht einen �enen ich nicht einen�enen ich nicht einen ich nicht einenich nicht einen nicht einennicht einen eineneinen einzigen kannte, wogte vorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hunde kannte, wogte vorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hundekannte, wogte vorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hunde, wogte vorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hundewogte vorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hunde vorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hundevorüber. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hunde. Ka� noch hinzu, daß Wagen rasselten, HundeKa� noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hunde noch hinzu, daß Wagen rasselten, Hundenoch hinzu, daß Wagen rasselten, Hunde hinzu, daß Wagen rasselten, Hundehinzu, daß Wagen rasselten, Hunde, daß Wagen rasselten, Hundedaß Wagen rasselten, Hunde Wagen rasselten, HundeWagen rasselten, Hunde rasselten, Hunderasselten, Hunde, HundeHunde laut bellten, ja, daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz- bellten, ja, daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-bellten, ja, daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-, ja, daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-ja, daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-, daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-daß zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz- zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-zuletzt eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz- eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-eine ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz- ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-ganze Schar, deren Waffen in der Sonne blitz- Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-Schar, deren Waffen in der Sonne blitz-, deren Waffen in der Sonne blitz-deren Waffen in der Sonne blitz- Waffen in der Sonne blitz-Waffen in der Sonne blitz- in der Sonne blitz-in der Sonne blitz- der Sonne blitz-der Sonne blitz- Sonne blitz-Sonne blitz- blitz-blitz-ten, die Straße einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!, die Straße einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!die Straße einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо! Straße einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!Straße einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо! einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!einengte» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!» (VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!VIII, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо!, 95) (= «Когда я выбрался наружу, – о небо! – во все стороны передо мной разбегались бесконечные улицы, полные незнакомых людей, проходивших мимо. С грохотом катили экипажи, громко лаяли собаки; наконец всю улицу запрудила, сверкая оружием на солнце, огромная толпа людей», V, 93). «Гофмановским» локусом оказы-V, 93). «Гофмановским» локусом оказы-, 93). «Гофмановским» локусом оказы-ваются и появляющиеся в третьей строфе поля Пруссии («Труба, мосты, гремучий лед... / Не Пруссии ли то поля?»), в этом качестве упомянутые в предварительном варианте «Гофмановского леска» (в котором тоже есть реминисценции из «Кота Мурра»): «Прусские поля, окрестности Кенигс-берга, места Гофмана, Ходовецкого, Гиппеля и Канта» (146).
40 «[Н]аполовину реальный, переходный мир Э. Т. А. Гофмана продолжает жить в немецких фантастических фильмах» (Айснер Л. Демонический экран. М., 2010. С. 58).
41 Ронен О. Символика Михаила Кузмина в связи с его концепцией книги жизни // Культура русского модернизма. М., 1993. С. 291–298.
30�
Совершающееся далее стремительное перемещение из Пруссии во Флоренцию («И вдруг, дыханье веселя, – / Сухой Флоренции пролет») соединяет историко-культурный контекст с биографическим: Флоренция была ключевым локусом итальянского путешествия Кузмина42, память о котором играла столь существенную роль в его творчестве43. Но, может статься, что за указанным маршрутом скрывается и «гофмановский» след. Итальянский «миф» был важен в прозе Гофмана не менее, чем у Кузмина44, но помимо этого стоит указать на еще одно любопытное об-стоятельство. В «Гофмановском леске» имя немецкого романтика появля-ется в связи с темой наполеоновских войн: «Пылай, Германия! Трепещи, Корсиканец! скоро явятся Кернер и Вебер, и мерцающий блеск, как огни Св. Эльма на мачтах, остановится на Теодоре Гофмане» (103). В перво-начальном варианте этому мерцающему блеску соответствовал «великий дух, что через бессмертного Моцарта глянул на нас романтизм<ом>, зажег всю Германию против <?> Наполеоновского ига и наконец, как огни св. Эльма привлекаются высокими <?> мачтами, остановился на Т. Гофмане» (146)45. Как уже было сказано выше, события этих лет Куз-мин нередко связывал со взлетом немецкого национального романтизма, одним из высших проявлений которого стало творчество Гофмана. В то же время, стоит вспомнить о роковой роли войны в судьбе немецкого писателя, потерявшего дочь и на несколько лет лишившегося всякой жизненной определенности. Одним из самых драматичных переживаний военных лет для него стала битва под Дрезденом, непосредственным свидетелем которой был Гофман: этот травматический опыт не только был зафиксирован на страницах его дневника, но получил и собственно художественное преломление («Явления», «Видение на поле битвы под Дрезденом»)46. Приведем выразительный фрагмент из гофмановского дневника для друзей «Три роковых месяца»: «Жуткое зрелище: кони, люди, рядом сабли, взорвавшиеся телеги с порохом, кивера, патронта-ши – все брошено в диком беспорядке»47. Возможно, что гофмановский
42 Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. С. 61–77.
43 См.: Markov V. Italy in Mikhail Kuz�in’s poetry // Italian Quarterly. 1976. Vol. 20.1976. Vol. 20. № 77–78. P. 5–18..
44 См.: Das Land der Sehnsucht. E. T. A. Hoff�ann und Italien. Heidelberg, 2002.См.: Das Land der Sehnsucht. E. T. A. Hoff�ann und Italien. Heidelberg, 2002..: Das Land der Sehnsucht. E. T. A. Hoff�ann und Italien. Heidelberg, 2002., 2002.45 В «Леске» упомянут также «марш г. Чернышева, вступающего в Берлин»
(102).46 О творческом претворении писателем своего «военного» опыта см.: Sege-
brecht W. W.W.. Autobiographie und Dichtung. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt-Autobiographie und Dichtung. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt- und Dichtung. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt-und Dichtung. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt- Dichtung. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt-Dichtung. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt-. Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt-Eine Studie zu� Werk E. T. A. Hoff�anns. Stutt-gart, 1967. S. 108–114, 117., 1967. S. 108–114, 117.
47 Э. Т. А. Гофман: Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. М., 1987. С. 206.
308
Дрезден, эта (по известному определению Гердера) «Флоренция на Эль-бе», также неявно присутствует на «затекстовом» фоне стихотворения. Наконец, нельзя не упомянуть и еще одну очевидную параллель тексту «Смотра» из области русской словесности: раскат знамен, блеск медной каски и гремучий лед, безусловно, обыгрывают лоскутья сих знамен победных, сиянье шапок этих медных и взломанный синий лед Невы из Вступления к «Медному всаднику.
Как можно видеть, в историко-культурном «фоне» разбираемого стихотворения не последнюю роль играют подтексты, которые тема-тизируют столкновение человека с утратившим привычные очертания, катастрофически распадающимся внешним миром. Но в самом тексте от этого катастрофизма не остается и следа, напротив, лирический субъект пребывает в состоянии душевного подъема, одним из атрибутов которого служит Johannisberger Kabinett, сорт рейнвейна, вина, нередко выступаю-Johannisberger Kabinett, сорт рейнвейна, вина, нередко выступаю- Kabinett, сорт рейнвейна, вина, нередко выступаю-Kabinett, сорт рейнвейна, вина, нередко выступаю-, сорт рейнвейна, вина, нередко выступаю-щего у Кузмина в этом качестве48, а здесь включающегося также в игру отражений и преломлений солнечного света (ср.: «О, золотистая струя рейнвейна!», 660). Вместо пугающего распада реальности возникает картина мира, в котором совмещаются разные пространства, времена и культуры, образы эпизодической и семантической памяти. Финальный аккорд этой симфонии звучит в строке «И желтым хлынул с лип H-dur»: ее синестезическую метафорику проясняет упомянутое в «Крайне бессвязных мыслях» из первой части «Крейслерианы» «соответствие между цветами, звуками и запахами», которые «одинаково таинственным образом произошли из светового луча и потому должны объединиться в чудесной гармонии» (I, 66)I, 66), 66)49.
У Кузмина фокусом этого светового луча становится взор Другого: «Мне гейзером опять хотеть... / Вдруг капнула смолой слеза, / Что я смотрел в твои глаза, / А не в магическую медь». В основе образного ряда этой строфы лежит межъязыковой каламбур, пример «поэтического билингвизма»50: гейзер, метафора неуправляемого любовного желания, в соседстве с магической медью, т.е., воинскими касками, уподобленными
48 Ср.: Malmstad J. Е. «You �ust re�e�ber this»: Me�ory’s Shorthand in a Late Poe� of Kuz�in // Studies in the Life and Works of Mixail Kuz�in. Wien, 1989. P. 138 (note 15).
49 Продолжение этого пассажа, посвященное соответствию запаха темно-крас-ной гвоздики и звука английского рожка, Кузмин приводит в своей «Чешуе в неводе» (1922), сопровождая ремаркой: «за 50 лет до Бодлера и декадентов» (XI, 144). (Лю-бопытно, что отмеченная Кузминым параллель в эти же годы привлекла внимание французского исследователя: Giraud J. J.J.. Charles Baudelaire et Hoff�ann le fantastique //Charles Baudelaire et Hoff�ann le fantastique // Baudelaire et Hoff�ann le fantastique //Baudelaire et Hoff�ann le fantastique // et Hoff�ann le fantastique //et Hoff�ann le fantastique // Hoff�ann le fantastique //Hoff�ann le fantastique // le fantastique //le fantastique // fantastique //fantastique // // Revue d’Histoire littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416). d’Histoire littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).d’Histoire littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).’Histoire littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).Histoire littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416). littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).littéraire de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416). de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).de la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416). la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).la France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416). France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).France. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).. 1919. 26e Année. № 3. P. 412–416).e Année. № 3. P. 412–416). Année. № 3. P. 412–416).Année. № 3. P. 412–416).. № 3. P. 412–416).
50 Левинтон Г. А. Поэтический билингвизм и межъязыковые влияния (Язык как подтекст) // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 30–33.
309
медным магическим зеркалам51, сближается также с областью гадания (англ. gazing). В глазах Другого калейдоскопические фрагменты внешнего мира собираются воедино и получают новый смысл, становясь метони-мическими деталями воскрешенного прошлого.
Схожая ситуация разыгрывалась Кузминым в одном из стихотворений «Нового Гуля» (1924): «Сегодняшний, крылатый час / Смеется из звеня-щих глаз, / А в глубине, не искривлен, / Двойник мой верно прикреплен, / Я все забыл и все гляжу – / И «Orbis pictus» нахожу. / Тут – Моцарт, Гофман, Гете, Рим, – / Все, что мы любим, чем горим, / Но не в туман облечено, / А словно брызнуло вино / Воспоминаний». Лирический субъ-ект здесь не просто видит «себя в друге как другого»52, но перемещается в иное пространство, оживший мир культуры, из ретроспективного реквизита превращающейся в личное воспоминание. Всматриваясь в глаза другого, лирический субъект словно расширяет себя во времени, не только переносится в прошлое, но и провидит будущее – в финале стихотворения возникает образ гадания по руке: «Муза вновь, / Узнав пришелицу-любовь, / Черту проводит чрез ладонь» (552).
Не исключено, что такая концептуализация взора Другого также вос-ходит у Кузмина к прозе Гофмана. Близкая параллель обнаруживается, к примеру, в «Письме капельмейстера Крейслера барону Вальборну» из второй части «Крейслерианы»: «Doch der junge Ritter gesellte sich i��erDoch der junge Ritter gesellte sich i��er �ehr und �ehr zu �ir, und in seine� Auge ging �ir eine herrliche Welt, ein ganzes Eldorado süßer wonnevoller Tr�u�e auf» (VII, 307) (= «Молодой» (VII, 307) (= «МолодойVII, 307) (= «Молодой, 307) (= «Молодой рыцарь делался мне все более близким. В его глазах открылся мне чудес-ный мир; целое Эльдорадо сладостных блаженных мечтаний» (I, 300). НоI, 300). Но, 300). Но еще более явную параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»: более явную параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»:более явную параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»: явную параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»:явную параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»: параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»:параллель можно встретить в «Принцессе Брамбилле»: можно встретить в «Принцессе Брамбилле»:можно встретить в «Принцессе Брамбилле»: встретить в «Принцессе Брамбилле»:встретить в «Принцессе Брамбилле»: в «Принцессе Брамбилле»:в «Принцессе Брамбилле»: «Принцессе Брамбилле»:Принцессе Брамбилле»: Брамбилле»:Брамбилле»:»: «Da wagt’ ich es, ihr in die Augen zu blicken, die starr auf �ich gerichtet schienen, und in de� Widerschein dieses holdseligen Spiegels ging �ir erst der wundervolle Zaubergarten auf, in den das Engelsbild entrückt war. Gl�n-zende Luftschl�sser �ffneten ihre Tore, und aus diesen str��te ein lustiges buntes Volk, das fr�hlich jauchzend der Sch�nsten die herrlichsten reichsten Gaben darbrachte. Aber diese Gaben waren ja eben alle Hoffnungen, alle sehnsüchtigen Wünsche, die aus der innersten Tiefe des Ge�üts heraus ihre Brust bewegten. <…> Ihr k�nnet �ir glauben, daß ich nun wirklich selbst i� Widerschein jenes wunderbaren Spiegels, �itten i� Zaubergarten stand» (IX, 206–207) (=«И я отважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, былиИ я отважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, были я отважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, былия отважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, были отважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, былиотважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, были взглянуть ей в глаза, которые, казалось, быливзглянуть ей в глаза, которые, казалось, были ей в глаза, которые, казалось, былией в глаза, которые, казалось, были в глаза, которые, казалось, былив глаза, которые, казалось, были глаза, которые, казалось, былиглаза, которые, казалось, были, которые, казалось, быликоторые, казалось, были, казалось, быликазалось, были, былибыли
51 Медные магические зеркала появляются также в стихотворении «Я к магу шел, предчувствием томим…» (1904) и в незаконченном романе «Римские чудеса» (1922).
52 Айрапетян В. Письмо на тему зеркала // Scando-Slavica. 1996. T. 42. № 1. С. 147.
310
неподвижно устремлены на меня, и, отраженный в этом дивном зеркале, устремлены на меня, и, отраженный в этом дивном зеркале,устремлены на меня, и, отраженный в этом дивном зеркале, на меня, и, отраженный в этом дивном зеркале,на меня, и, отраженный в этом дивном зеркале, меня, и, отраженный в этом дивном зеркале,меня, и, отраженный в этом дивном зеркале,, и, отраженный в этом дивном зеркале,и, отраженный в этом дивном зеркале,, отраженный в этом дивном зеркале,отраженный в этом дивном зеркале, в этом дивном зеркале,в этом дивном зеркале, этом дивном зеркале,этом дивном зеркале, дивном зеркале,дивном зеркале, зеркале,зеркале,, передо мной впервые открылся тот волшебный сад, куда перенеслось мной впервые открылся тот волшебный сад, куда перенеслосьмной впервые открылся тот волшебный сад, куда перенеслось впервые открылся тот волшебный сад, куда перенеслосьвпервые открылся тот волшебный сад, куда перенеслось открылся тот волшебный сад, куда перенеслосьоткрылся тот волшебный сад, куда перенеслось тот волшебный сад, куда перенеслосьтот волшебный сад, куда перенеслось волшебный сад, куда перенеслосьволшебный сад, куда перенеслось сад, куда перенеслосьсад, куда перенеслось, куда перенеслоськуда перенеслось перенеслосьперенеслось ангельское создание. Блестящие воздушные замки открыли свои врата; из создание. Блестящие воздушные замки открыли свои врата; изсоздание. Блестящие воздушные замки открыли свои врата; из. Блестящие воздушные замки открыли свои врата; изБлестящие воздушные замки открыли свои врата; из них хлынула веселая, ярко одетая толпа, с радостным ликованием несшая прекрасной свои самые чудные дары. И этими дарами были надежды, страстные желания, что, вырываясь из сокровеннейших глубин души, так волновали ее грудь. <…> Верьте мне, что я и сам, отражаясь в дивном зеркале ее очей, стоял теперь в волшебном саду» (III, 364).III, 364)., 364).
Самого себя лирический герой Кузмина обретает в Другом, играю-щем роль «организующего элемента»53 как внешнего мира, так и внут-реннего опыта. Так происходит в завершающем стихотворении «Нового Гуля»: его герою в невиданном кристалле открывается целый калейдоскоп сменяющих друг друга образов, за которыми в итоге возникает лицо Другого: «Я ближе подхожу к окну,/ Но как кристалл ни поверну – / Все вижу образ Гуля» (528). Выразительную параллель эти строкам являет собою известная дневниковая запись Гофмана от 6 ноября 1809 года: «Ich denke �ir �ein Ich durch ein Vervielf�ltigungsGlas – alle Gestalten, dieIch denke �ir �ein Ich durch ein Vervielf�ltigungsGlas – alle Gestalten, die sich u� �ich heru� bewegen, sind Ichs und ich �rgere �ich über ihr tun und lassen ppp»»54. Если немецкий романтик в окружающих его людях видит лишь разные облики своего «я», рассмотренного словно через фасетчатое стекло, то у Кузмина в Другом как в фокусе, собираются разрозненные фрагменты бытия.
После «Нового Гуля» кристалл возникает вновь в цикле «Форель разбивает лед» (1927), где он становится метафорой инициатической временной смерти: «На составные части разлагает / Кристалл лучи – и радуга видна, / И зайчики веселые живут. / Чтоб вновь родиться, надо умереть» (539). В тексте «Форели», насыщенном отсылками к немецкой и австрийской культуре (Шуберт55, Вагнер56, Майринк57, фильмы Р. Вине и Ф. Ланга58), находится место и для Гофмана. Так, уже начальные строки Второго вступления («Непрошенные гости/ Сошлись ко мне на чай», 531) обыгрывают заглавие не дошедшего до нас гофмановского зингшпиля «Die ungebetenen G�ste»Die ungebetenen G�ste» ungebetenen G�ste»ungebetenen G�ste» G�ste»G�ste»»59, а сама сцена чаепития с мертвецами (что уже
53 Кузмин М. Театр: в 4 т. (2 кн.). Oakland, 1994. Т. IV. С. 372.Oakland, 1994. Т. IV. С. 372.Т. IV. С. 372.. IV. С. 372.С. 372.. 372.54 Hoffmann E. T. A. Tagebücher. München, 1971. S. 107.55 Панова Л. «Форель разбивает лед» (1927): диалектика любви. Ст. 2. Жанровое
многоголосие // Toronto Slavic Quarterly. 2011. № 37. С. 18–22.56 Шмаков Г. Михаил Кузмин и Рихард Вагнер. С. 34–39.57 Cheron G. Kuz�in’s «Forel′ razbivaet led»: The Austrian Connection // Wiener
Slawistischer Al�anach. 1983. Bd. 12. P. 107–111; Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: Статьи и материалы. М., 1995. С. 163–173.
58 Ратгауз М. Г. Кузмин-кинозритель. С. 53 и сл.59 Топоров В. Н. Ахматова и Блок. Berkeley, 1981. C. 179–180 (примеч. 7).
311
отмечалось исследователями) созвучна пушкинскому «Гробовщику», полемически преобразующему традиции прозы Гофмана60. У Кузмина встреча с непрошенными гостями из потустороннего мира служит своего рода инициатическим испытанием, которое претерпевает сам автор, воз-вращающийся в прошлое (подобное миру смерти), чтобы предотвратить его возможное повторение в настоящем. В свою очередь, сюжетным «не-рвом» «Форели» становится временная смерть, через которую проходит близнец лирического «я», подобно гофмановскому Ансельму попадающий под стекло («Несокрушимо окружен стеклом я», 54061).
Рефракция светового луча, проходящего сквозь кристалл, помимо инициатического получает у Кузмина метапоэтический смысл, превра-щаясь в метафору преломления жизни в творчестве (ср. о сонетах Шекс-пира: «и радугой расходятся слова», 544). Нередкий в прозе Гофмана62, в «Форель» этот образ проникает из «Эликсиров дьявола», где с разноцвет-ными лучами, которым не хватает фокуса, сравниваются записки монаха Медарда63. Также из этого романа Кузмин заимствует констелляцию мотивов братоубийства и вампиризма во втором ударе «Форели» 64. Но еще более существенную роль во втором ударе играют реминисценции новеллы Гофмана «Майорат»65. В ночном этюде немецкого романтика основополагающую роль играют мотивы братоубийства и мести, а также разъединяющего женского начала (столь значимого в сюжете «Форели»):
60 Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (Первая половина XIX ве-ка). Воронеж, 1977. С. 95–98.
61 Отметим, что эквивалентность мотивов заключения под стекло и гибели в воде («Я погружаюсь с каждым днем все глубже!») также находит соответствие в «Золотом горшке», где кристалл ассоциируется с водными глубинами (другой пример такой ассоциации есть в «Фалунских рудниках»). См.: Tatar M. M. Mes�eris�, Madness, and Death in E. T. A. Hoff�ann’s Der goldne Topf // Studies in Ro�anticis�. 1975. Vol. 14. № 4. P. 381–384.
62 Ср.: Ванштейн О. Б. «Волшебные стекла» Э. Т. А. Гофмана // Литературные произведения XVIII–XX веков в историческом и культурном контексте. М., 1985.., 1985. С. 125–126.. 125–126.
63 «Ein besseres Gleichniß übrigens ist es, daß uns der Fokus fehlt, aus de� die ver-schiedenen bunten Strahlen brachen» (VI, 234). О других «оптических» мотивах этогоО других «оптических» мотивах этого других «оптических» мотивах этогодругих «оптических» мотивах этого «оптических» мотивах этогооптических» мотивах этого» мотивах этогомотивах этого этогоэтого романа см.: см.:см.:.: Kittler F. Die Laterna �agica der Literatur. Schillers und Hoff�anns Medien-strategien // Athen�u�. 1994. Jg. 4. S. 219–237.
64 Ср. рефреном повторяющиеся слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-Ср. рефреном повторяющиеся слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-. рефреном повторяющиеся слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-рефреном повторяющиеся слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it- повторяющиеся слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-повторяющиеся слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it- слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-слова Викторина: «Dort wollen wir ringen �it- Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-Викторина: «Dort wollen wir ringen �it-: «Dort wollen wir ringen �it-einander, und wer den andern herabst�ßt, ist K�nig und darf Blut trinken» (VI, 107). (=«А(=«А мы с тобой поборемся: кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь», II, 104).
65 Гофмановская «атмосфера» второго удара (без указания на конкретные пре-тексты) была отмечена еще в работе: Malmstad J. E., Shmakov G. J. E., Shmakov G.J. E., Shmakov G.. E., Shmakov G.E., Shmakov G.., Shmakov G.Shmakov G. G.G.. Kuz�in’s «The TroutKuz�in’s «The Trout’s «The Trouts «The Trout «The TroutThe Trout TroutTrout Breaking through the Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930. through the Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.through the Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930. the Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.the Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930. Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.Ice» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.» // Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.Russian Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930. Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.Modernis�. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.. Culture and Avant-Garde. 1900–1930.Culture and Avant-Garde. 1900–1930. Ithaca; London, 1976. P. 148.
312
вражда двух братьев у Гофмана вызвана не только майоратом, но, в большей степени, любовью к одной женщине. Отдельные строки текста обыгрывают детали гофмановского повествования: фраза «Волки, снег, бубенцы, пальба!» резюмирует сквозной для новеллы мотив охоты на волков, описание домовья также включает черты описания замка у Гоф-мана: сугроб на крыше соответствует снежному колориту новеллы, фраза «Тяжело от парадных спален!» указывает на один из ключевых локусов «Майората», спальню, смежную с парадной залой, в которой нарратору является зловещий призрак дворецкого Даниэля; еще одна повторяюща-яся деталь новеллы отзовется в строке «А в камин целый лес навален». Наконец, финальная строчка «На конюшню ведут коней...» отсылает к обстоятельствам гибели старшего брата, узнав о которой младший разду-мывает уезжать, и Даниэль уводит его коня обратно в конюшню, а затем будет повторять это действие в состоянии лунатического сна. Но брато-убийство заменяется у Кузмина обрядовым обменом кровью, метафорой соединяющей любви, призванной защитить героев от власти Рока: «Тихо капает кровь в стаканы:/ Знак обмена и знак охраны…» (534).
Дальнейшее развитие сюжета повторяет интригу «Золотого горшка»: близнец автора нарушает верность истинной любви, подчиняясь власти «чуждого духовного принципа» – женской страсти («страсть сильнее воли»), и оказывается заключенным под стекло. При этом, подобно усомнившемуся в Серпентине Ансельму, переставшему видеть чудесные явления в саду архивариуса Линдгорста, близнец утрачивает способность воспринимать высший смысл слов и символическое измерение вещей. Стоит заметить, что гофмановская концепция любви в «Форели» подвер-гается «ревизии». В антитезе возвышенного и банального (Серпентина/Вероника) последнее заменяется неуправляемой страстью: в «Золотой горшок» Кузмин добавляет «Эликсиры дьявола», с их противопоставле-нием духовной любви и греховного плотского желания66. Оба претекста утверждают идею несоединимости двух полюсов любовного чувства, в «Форели» опровергаемую еще одним источником текста: медиация чувственного и спиритуального осуществляется взятым у Майринка ал-химическим ангелом превращений, новым двойником Эроса.
Алхимическая версия соединяющей любви получила свое продолже-ние в завершающем книгу «Форель разбивает лед» стихотворном цикле Кузмина «Лазарь» (1928), в котором нашла отражение семантическая схема «Зеленого лика» Майринка67, в свою очередь, тоже варьирующего
66 См.:См.:.: Steinwachs C. Die Liebeskonzeption in E. T. A. Hoff�anns Die Elixiere des Teufels // E. T. A. Hoff�ann-Jahrbuch. 2000. Bd. 8. S. 37–55.2000. Bd. 8. S. 37–55.
67 Подробнее см.: Козюра Е. О. Воскрешение Лазаря: Заметка к теме «Михаил Куз-мин и Густав Майринк» // Филологические записки. 2010–2011. № 30. С. 173–178.2010–2011. № 30. С. 173–178.С. 173–178.. 173–178.
313
историю любви Ансельма и Серпентины. Игровой алхимии «Золотого горшка»68 Майринк возвращает эзотерический смысл, трактуя любовный сюжет в категориях «внутренней алхимии», как эротическое слияние мужского и женского в андрогинном сверхсуществе. У Кузмина эроти-ческий аспект отношений мужского и женского затушеван, они вновь реализуются как отношения брата и сестры69, но, как и у Майринка, сюжетные перипетии соотносятся с алхимическими процессами (сами брат и сестра (sorores), синонимичные солнцу и луне, в алхимии обоз-начали мужскую и женскую субстанции делания�0).
Магистральная тема всего творчества Кузмина, «пожертвованiе собоюiе собоюе собою за любимаго человѣка»�1 (герой цикла, Вилли, «чтоб не коснулось подоз-ренье друга» садится в тюрьму по обвинению в убийстве, которого он не совершал), на сей раз проговаривается языком «королевского искусства»: пребывание Вилли в тюрьме уподоблено процессу putrefactio, полному разложению вещества, в ходе которого от шлака отделялся чистый дух и эмблемой которого служило разлагающееся тело�2: «Отнимаются четыре чувства: / Осязанье, зренье, слух – возьмутся, / Обонянье испарится в воздух, / Распадутся связки и суставы, / Станет человек плачевней тру-па» (576). Грядущее возрождение героя к новой жизни, «трансмутация смертного в бессмертное»�3 описывается как соединение с сестрой, в алхимии служащей обозначением квинтэссенции – пятой натуры или философского меркурия74, ключевой субстанции делания или универсаль-ного лекарства, способного «омолаживать и одаривать долгой жизнью, если не бессмертием»75: «И тогда-то в тишине утробной / Пятая сестра к нему подходит, / Даст вкусить от золотого хлеба, / Золотым вином его на-поит: / Золотая кровь вольется в жилы, / Золотые мысли – словно пчелы, / Чувства все вернутся хороводом / В обновленное свое жилище. / Вый-
68 См.:См.:.: Kremer D. Alche�ie und Kabbala. Her�etische Referenzen i� «Goldenen Topf» // E. T. A. Hoff�ann-Jahrbuch. 1994. Bd. 2. S. 40–49.1994. Bd. 2. S. 40–49.Bd. 2. S. 40–49.. 2. S. 40–49.
69 Мотив ′смерти от холодного оружия′ тоже сохраняется в тексте, но прикреп-ляется к другому персонажу, Джойс Эдит («кинжал в груди у ней торчит, / И кровь течет на новую простынку!» , 581).
�0 Ruland M. Lexicon alche�iae. [Frankfurt a� Main], 1612. P. 438.�1 Зноско-Боровскiй Е.-Боровскiй Е.Боровскiй Е.iй Е.й Е. Е.Е.. О творчествО творчеств творчествтворчествѣ М. Кузмина // Аполлонъ. 1917. № 4–5.М. Кузмина // Аполлонъ. 1917. № 4–5.. Кузмина // Аполлонъ. 1917. № 4–5.Кузмина // Аполлонъ. 1917. № 4–5. // Аполлонъ. 1917. № 4–5.Аполлонъ. 1917. № 4–5.. 1917. № 4–5.
С. 43.. 43. �2 См.:См.:.: Klossowski de Rola S. Le Jeu d’Or. Figures hiéroglyphiques et e�blè�es her-
�étiques dans la littérature alchi�ique du XVIIe siècle. Paris, 1997. P. 179, 182.Paris, 1997. P. 179, 182.�3 «Die Trans�utation des Sterblichen in das Unsterbliche» (Meyrink G. Der Engel
vo� Westlichen Fenster. Leipzig, 1927. S. 245)., 1927. S. 245).S. 245).. 245). 74 Pernety A.-J. Dictionnaire �ytho-her�étique. Paris, 1758. P. 422–423, 465., 1758. P. 422–423, 465.75 Pereira M. Heavens on Earth. Fro� the Tabula S�aragdina to the Alche�ical Fifth
Essence // Early Science and Medicine. 2000. Vol. 5. № 2. P. 144.
314
дет человек, как из гробницы / Вышел прежде друг Господень Лазарь» (576–577). В свою очередь, и для сестры пребывание Вилли в тюрьме предстает условием будущего воссоединения с братом, которое также уподоблено трансмутации: «Вилли, слушай! Вилли, брат любимый, / Опускайся ниже до предела! / Насладись до дна своим позором, / чтоб и � могла с тобою вместе / золотым ручьем протечь и� снега! / Я люблю тебя, как не полюбит / Ни жена, ни мать, ни брат, ни ангел!» (577).
Другая линия интерпретации алхимической символики, также вос-ходящая к роману Майринка, связана с трансформацией чувственного восприятия: в финале «Зеленого лика» его герой претерпевает «удвоение» чувств, получая способность видеть иной мир за обыденной реальностью. В «Лазаре» пятая сестра собирает воедино четыре разрозненных чувс-тва76, которые персонифицированы четырьмя свидетелями на судебном процессе: каждому из них доступна только часть истины. Символом единства чувственного восприятия становится магический квадрат (ис-пользовавшийся в алхимической практике изготовления талисманных медальонов, «притягивавших» благоприятные планетарные влияния��): «Отчего их четверо, учитель? / Что учил ты про четыре чувства, / Что учил про полноту квадрата, / Неужели в этом страшном месте / Понимать я начинаю числа?» (577).
Гофмановский прообраз «Зеленого лика» вполне осознавался Кузми-ным, включившим в свой текст аллюзию на «Золотой горшок»78: «Да куст бузины, неопрятен и тощ, / Тщедушный изгнанник младенческих рощ»! (585). Видение под кустом бузины (Holunderbusch), в итоге открывшееHolunderbusch), в итоге открывшее), в итоге открывшее Ансельму путь в Атлантиду, у Кузмина становится знаком разъединения брата и сестры, утраченного младенческого единения, а следовательно, и уже упоминавшегося детского «синтетического» видения мира. Вернуть его человеку помогает пятая сестра, осуществляющая «трансмутацию» чувств и явно не тождественная реальной сестре. Специфику «женского» участия в преображении главного героя может прояснить следующее об-стоятельство. В посвященной поэзии А. Д. Радловой статье «Крылатый гость, гербарий и экзамены» (1922) Кузмин укажет на женские истоки всякого искусства, чисто женское начало Сибиллинства: «самый мужест-
76 «Профанный» вариант такого расширения чувств представлен в словах сле-порожденного: «Верней родни слепому – палка: / Она и брат, она и друг, / Пока не выпадет из рук» (578).
�� Karpenko V. Between Magic and Science: Nu�erical Magical Squares // A�bix. 1993. Vol. 40. № 3. P. 121–128.
78 Другой опыт «суммации» Гофмана и Майринка Кузмин предложил в стихот-ворном цикле «Для Августа» (1927). См. подробнее: Козюра Е. О. «Голем» Густава Майринка в творчестве М. А. Кузмина // Универсалии русской литературы. 4. Воронеж, 2012. С. 178–184.
315
венный поэт пророчески рождается из материнского лона женского под-сознательного видения» (XII, 154). (Стоит вспомнить и любимую поэтомXII, 154). (Стоит вспомнить и любимую поэтом, 154). (Стоит вспомнить и любимую поэтом фразу А. Р. Минцловой «воображение – младшая сестра ясновидения»). В «Лазаре» тоже речь идет воссоединении с женским в своей собственной природе79, со своей Ani�a, возвращающей человека в потерянный райAni�a, возвращающей человека в потерянный рай, возвращающей человека в потерянный рай («Но погоди еще немножко, / – И станет сад как парадиз!..»), под златое небо («Как золотится небосклон!», 589)80.
79 «Драматизацию» такого двуединства писатель осуществил в первой главе «Римских чудес» – в фигурах Симона-мага и его спутницы-прорицательницы, новой Елены. (Нельзя не упомянуть также и двух учеников Симона, брата и сестру Лазаря и Веронику).
80 Еще одно златое небо появится в пьесе Кузмина «Смерть Нерона» (1929), в которой отразился также целый ряд других мотивов «Лазаря». См.: Богомолов Н. А. Еще раз о «Смерти Нерона» М. Кузмина // The Many Facets of Mikhail Kuz�in: A Miscellany. Bloo�ington, 2011. P. 66–69.