Gopkalo O.V. The dress accessories as indicato r of social stratification (based on the Cherniakhov...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Gopkalo O.V. The dress accessories as indicato r of social stratification (based on the Cherniakhov...
OIUM * 2014 * 4 23
В статье сделана попытка оценки аксес-суаров костюма как индикатора социальной стратификации общества, представленного памятниками черняховской археологической культуры.
К л ю ч е в ы е с л о в а: могильник, погре-бение, критерии социологического анализа, аксессуары костюма.
1.
Письменная традиция свидетельству-ет о том, что готские племена, обитавшие к востоку и западу от Днестра, управля-лись, соответственно, представителями династий Амалов и Балтов. И восточная, и западная группировки готов были свя-заны не столько общим происхождени-ем, сколько политическим единством, как племенные союзы, включающие представителей различных народов. Тер-ритория западного союза тервингов, в частности, была поделена на отдельные области — так называемые куни, кото-рые объединяли население общего про-исхождения, а также связанное отноше-ниями господства—подчинения. Власть правителей племенных союзов опира-лась на военную дружину. Она переда-валась по наследству, но, параллельно, руководящую роль в союзных объедине-ниях играли «старейшие», обладавшие богатством, мудростью, знатностью — носители племенных традиций. Причём, «готская знать не представляла собой однородную, замкнутую верхушечную группу, тем более сословие». Античные авторы различают «королей и предво-дителей». Тон в куни задавала королевс-кая семья без признаков монархической власти. При этом, существовали «много-образные градации» групп знати [Воль-фрам, 2003, c. 142, 143].
О.В. ГопкалоК и е в
АксессуАры костюмА кАк покАзАтель социАльной стрАтификАции
(на основе погребений черняховской культуры)
Попытки определения социального статуса и рода занятий представителей этих союзов, оставивших памятники чер-няховской культуры, осуществлялись по материалам погребальных памятников и проводились неоднократно. В частности, при исследовании конкретных могильни-ков традиционно фиксировали там моги-лы с богатым инвентарём. Так Г.Б. Фёдоров отмечал в них наличие большого количес-тва сосудов, стеклянный кубок, изделия из кости, железа, бронзы, стеклянной пасты, глины как признаки богатства [Федоров, 1960, c. 294]. Мысль о том, что показате-лем имущественного статуса может быть количество сосудов в погребальном ин-вентаре высказал В.П. Петров, анализируя материалы Масловского могильника. Он указал также на то, что большому количес-тву сосудов соответствует обилие других вещей и реконструировал иерархию пог-ребённых на могильнике [Петров, 1964, c. 160, 161]. В монографии по этнической истории населения Приднестровья и По-дунавья Э.А. Рикман уделил внимание со-циальной организации племён низовьев Днестра и Дуная, в том числе носителей черняховской культуры [Рикман, 1975, c. 253—262]. Основой такой организации, по его мнению, была большая патриар-хальная семья, о чём свидетельствует группировка погребений на крупных мо-гильниках региона. Имущественное раз-деление отражалось в погребальном ин-вентаре. Исследователь называет 10 (2 %) погребений, которые по качеству и коли-честву инвентаря выделяются из основ-ного массива (Ханска-Лутэрия 14, 16, Ма-лаешты А, Б, 33, 34, 35, Будешты 57, 228, 243). Он считал также, что находки ключей и замков свидетельствуют о существова-нии личной собственности и в качестве
Список приня-тых в статье сокращений
АСТ — археолого-со-циологический тип, по Н.М. КравченкоТПВ — трупоположе-ние с восточной ориен-тировкойТПЗ — трупоположе-ние с западной ориен-тировкойТПС — трупоположе-ние с северной ориен-тировкойТПЮ — трупоположе-ние с южной ориенти-ровкойТСУ — трупосожжение урновоеТСЯ — трупосожжение ямное
24 OIUM * 2014 * 4
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
доказательств нашёл слова готского язы-ка, связанные с имуществом и имущест-венными отношениями. Ещё одна важная гипотеза объясняет отсутствие оружия в черняховских погребениях — cчитается, что вестготский племенной союз отбирал у общинников право владеть оружием [Рикман, 1975, c. 262]. Э.А. Сымонович и Н.М. Кравченко на основании погребаль-ных памятников черняховской культуры выделяли как сравнительные признаки: глубину могилы и состав инвентаря. На-иболее богатые погребения выявляются, как правило, на бульшей глубине, чем ос-тальные (Будешты 243, 228, Гавриловка 5, Переяслав-Хмельницкий 5, Коблево 19, Малаешты 34, Раковец 15, Черняхов 150) [Сымонович, Кравченко, 1983, c. 16].
Г.Ф. Никитина, в свою очередь, отме-тила следующие черты могил предста-вителей общинной знати: многочислен-ный инвентарь, в том числе 10 и более сосудов, особенности устройства моги-лы, в частности, нерядовая конструкция ямы, использование камня и дерева при устройстве могилы, особая поза или по-ложение покойника, размещение бо-гатых могил вместе с рядовыми на мо-гильнике [Никитина, 1985, c. 89].
Во второй половине 1980-х гг., благо-даря исследованиям в области реконс-трукции структуры древних обществ на основе анализа погребального инвен-таря проблема социальной стратифика-ции носителей черняховской культуры была перенесена на новую методичес-кую основу. В частности, проведение социологического анализа погребённых по обряду трупоположения с север-ной ориентировкой [Кравченко, 1987] позволило выделить три археолого-со-циологических типа (далее АСТ) погре-бений, критерием чего послужили ко-личественные характеристики одной из групп погребального инвентаря — сосу-дов-«приношений». Из группы погребе-ний с «приношениями», составляющей 53 % из общей выборки ингумаций с северной ориентировкой, были выделе-ны типы погребений, содержащие 1—2 (первый АСТ), 3—6 (второй АСТ), 7—9 (третий АСТ) и, наконец, от 10 до 16 со-судов-«приношений» (подтип «а» треть-его АСТ). Наличие трёх АСТ погребений в группе «с приношениями» объяснялось социальной дифференциацией черня-ховской общины, погребения без тако-вых интерпретировались как погребения её неравноправных членов или рабов.
Другой подход, нацеленный на вы-явление черняховской социальной «вер-
хушки», осуществлен Ф. Бирбрауэром [Bierbrauer, 1989]. Эталоном восточно-германской знати стали погребения типа Лёйна-Хасслебен. Исследователем раз-работана иерархия элитарных погребе-ний. Следующие признаки: 1) обширная погребальная камера, т. е. неординар-ный размер могилы, 2) игровая доска; 3) набор для питья; 4) роскошные шпо-ры; 5) парча; 6) обувные пряжки; 7) пор-тупейные ремни; 8) мясная пища опре-деляют погребения категории I b. К ним относятся мужские погребения: Рудка, Переяслав-Хмельницкий 5, Гавриловка 5, Малаешты 35. Кроме того, особо отме-чены погребения в деревянных камерах: Черняхов 147, 146 и Данчены 169, 224. К категории II a отнесены мужские могилы с серебряными деталями убора и местным «набором для питья» и женские — с се-ребряными деталями убора (Косаново 37, 38, Маслово 71), золотыми украшениями (Рыжевка 43, Данчены 64, 79, 279), фибу-лами А VII (Тодирень, Василикэ, Будешты, Данчены, Ханска, Городница). Указыва-лось также, что могилы знати располага-лись на общих участках могильников, а не обособленно [Bierbrauer, 1989, S. 70—75].
Среди признаков погребений восточ-ногерманской знати, кроме престижных вещей (золотых украшений, бронзовой посуды), Ф. Бирбрауэр отмечает крупный размер могильной ямы. Этот признак по-ложен в основу исследования Б.В. Магоме-дова. Он проанализировал черняховские погребения в ямах неординарных разме-ров и интерпретировал их как принадле-жащие общинным старейшинам — ниж-нему звену племенной структуры власти [Магомедов, 1997; 2001, c. 31—33].
Другая работа Б.В. Магомедова, ка-сающаяся рассматриваемой темы, пос-вящена варварскому пиру [Magomedov, 2000; Магомедов, 2003] и стеклянному кубку как его символу в погребальном ритуале. Как известно, пир был местом, где решались важнейшие вопросы об-щественной жизни европейских варва-ров. Он был обязательным завершением важных политических, религиозных и об-щественных мероприятий. Вожди устраи-вали застолья для своих приближённых. Участие в них было почётным правом из-бранного круга. В погребальном инвен-таре черняховской культуры торжество отражено в ритуальном наборе посуды, символом которого выступал стеклянный кубок. Наличие такого набора указывает на высокий социальный ранг покойника, в том числе и ребёнка, если речь идёт о находках стеклянных кубков из детских
OIUM * 2014 * 4 25
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
погребений. Замечено, что большинство черняховских кубков имело неустойчи-вое дно. Это объясняется спецификой варварских пиров, на которых кубок мог передаваться по кругу и должен был осу-шаться до дна [Лихтер, 1994, c. 92].
Социальной структуре германцев 200—600 гг. н. э. посвящена монография М. Рэв-на [Ravn, 2003]. В двух её главах автор рас-сматривает устройство культуры Сынтана де Муреш / Черняхов. Он привлекает об-щие сведенья о структуре раннеклассовых обществ, данные двух источников: «Жития святого Саввы Готского» и поэмы «Бео-вульф», материалы черняховских могиль-ников: Тыргшор, Спанцов, Индепенденца, Олтень, Изворул и делает следующие вы-воды. Во-первых, в отличие от некоторых могильников Ютландии на черняховских некрополях отсутствуют мужские и жен-ские участки. Во-вторых, на проанализи-рованных памятниках престижные моги-лы с золотыми и серебряными вещами располагались в центре. В-третьих, среди 280 могил Тыргшора удалось выделить от 4 до 8 семей — 4 поколения, хоронивших на могильнике в течение 150 лет. Пред-полагается, что внутри каждого семейно-го участка похоронены мужчины-воины. В-четвёртых, высказано предположение, что «инородцы» не были похоронены на общинных кладбищах, как это следует из источника о христианском мученике Савве, тело которого сброшено в реку. Предпола-гается, что кроме иноплеменников сущест-вовали люди, которых также не хоронили на общих кладбищах — это дети и низшие слои населения. Представителями иной социальной группы, по мнению автора мо-нографии, могли быть также те, кто исполь-зовал обряд кремации.
Попытка выделения семейных учас-тков на могильниках Северной Букови-ны и Бессарабии принадлежит также Г.Ф. Никитиной [Никитина, 2008].
Престижный женский костюм с двуп-ластинчатыми фибулами проанализиро-ван А.В. Мастыковой [Мастыкова, 2011].
На основании анализа погребений с оружием, снаряжением всадника и кон-ской упряжью сделана попытка опреде-лить положение дружинников в общине: отмечается различное оснащение могил «дружинников» [Гопкало, 2011]. Кроме того, некоторые вопросы социального устройства рассматривались на осно-ве распределения стеклянных изделий [Гопкало, в печати].
Интересные и важные выводы полу-чены в результате социологических ис-следований проведённых по материалам
культуры рязано-окских могильников, раннесредневековых материалах Крыма и Кавказа [Ахмедов, 2010, c. 110—113].
Таким образом, благодаря анализу погребального обряда и инвентаря, спе-циалистам удалось выделить погребения рабов, общинников разного достатка, в том числе — общинных старейшин и знати. Разбирались и частные вопросы, связанные с социальным устройством: о значении стеклянного кубка как символа заупокойного пира и показателя высоко-го социального статуса; о предпочтениях в выборе типов стеклянных кубков для захоронений представителей разного пола; о семейных участках на кладбищах; об имущественном положении «дружин-ников»; о престижном женском костюме с двупластинчатыми фибулами.
2.
Данная работа продолжает цикл статей, посвящённых так называемо-му археологическому костюму (термин С.А. Яценко) [Яценко, 2006, c. 5—27] или убору черняховской культуры [Гопкало, 2011а, c. 179, 180], который объединяет три группы находок: «фурнитуру», «укра-шения» и амулеты. К «фурнитуре» отно-сятся предметы утилитарно-декоратив-ного характера, предназначенные для скрепления одежды — фибулы и пряжки, к «украшениям» — бусы, кольца, т.наз. височные кольца, браслеты, серьги, в от-дельную группу объединены подвески-амулеты [Гопкало, 2011а, c. 182].
Её задача — на основе предложен-ных в литературе критериев охаракте-ризовать убор различных социальных слоёв носителей черняховской культу-ры. С учётом требований данного изда-ния в статью вошло сжатое изложение результатов исследования.
Критериями социологического ана-лиза выступали: 1) месторасположение могилы на кладбище; 2) характеристики (размер) могилы; 3) качественный и ко-личественный состав инвентаря.
Источниками данной работы яв-ляются материалы 3184 погребений 77 памятников. Из них 1982 ингума-ции, 1184 кремации. Среди ингумаций 1160 ориентированы на север, северо-за-пад, северо-восток, 465 — на запад, 18 — на восток, 35 — на юг. Среди кремаций 421 урновые, 449 безурновые. Привле-чена также база данных погребальных памятников, включающая 962 кремации и 1475 ингумаций, составленная Г.Ф. Ни-китиной [Никитина, 2012].
26 OIUM * 2014 * 4
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
Черняховские погребальные памят-ники 1 включают в себя единичные пог-ребения (Барахтянская Ольшанка, Бер-нашёвка, Большая Корениха, Городница, Кантемировка (подкурганные захороне-ния), Неполоковцы, Рудка, Фрунзовка), могильники, число исследованных мо-гил на которых доходило до 10 (Авгус-тиновка, Башмачка, Бережанка, Била, Вилы Яругские, Волошское, Городок Ни-колаевка, Ново-Александровка, Павлю-ковка, Редкодубы, Романово Село, Са-бадаш-Охматово, Сад, Сумы, Чистилов, Чубовка), составляет от 10 до 50 (Бором-ля, Викторовка, Городок, Горошевцы, Де-довщина, Деревяна, Жовнино, Заячивка, Каборга, Каменка-Анчекрак, Каменка-Днепровская, Канев, Кринички, Курни-ки, Лохвица, Малиновцы, Малаешты, Обухов 1а, Одая, Островец, Переяслав-Хмельницкий, Петрикивцы 2, Приволь-ное, Раковец, Ранжевое, Родной Край, Ромашки, Слобозия-Кишкэрень, Успен-ка, Фурмановка, Ханска-Лутэрия, Чалык, Черняхов (раскопки Э.А. Сымоновича)), от 50 до 100 (Балцаты II, Гавриловка, Коблево, Компанийцы, Легедзино, Мас-лово, Нагорное II, Оселивка, Ружичанка, Рыжевка, Холмское, Черкассы-центр), от 100 до 200 (Беленькое 3, Великая Бугаев-ка, Журавка, Косаново, Романковцы), от 200 до 300 и более (Данчены, Будешты, Чернелив-Русский) погребений.
3.
По археологическим данным удаётся выделить погребения знати (по Ф. Бир-брауэру), общинных старейшин (по Б.В. Магомедову), общинников разного достатка (по Н.М. Кравченко), одну из градаций которого маркирует, очевид-но, стеклянный кубок, «дружинников», другие.
3.1.
Со времени выхода в свет статьи Ф. Бирбрауэра прошла четверть века. За это время в научный оборот введе-ны комплексы высокого социального ранга, согласно указанным критериям. Поэтому список комплексов, причис-ленных Ф.Бирбрауэром к категории I b, следует дополнить погребениями: Чер-нелив-Русский 265, Одая 23, а также, с определёнными оговорками, кремаци-ей Ханска-Лутэрия 14, подкурганными могилами 1 и 3 из Кантемировки. И на-оборот, возможно, исключить из него погребение Малаешты 35, не соответс-твующее погребениям знати.
Погребения в Ханске-Лутэрии и Чернеливе-Русском принадлежат к ран-нему этапу черняховской культуры. Пер-вое — богато оснащённая безурновая кремация, в инвентарь которой входили: несколько десятков сосудов, железные наконечники стрел, втульчатых копий и дротика, железный кинжал, бронзовый туалетный пинцет, железный рыболов-ный двужальный крючок, два куска раз-рубленного браслета из золотой про-волоки, стеклянный жетон, несколько стеклянных бусин [Никулице, Рикман, 1973, c. 116, 117; Гопкало, 2012, c. 97].
Погребение Чернелив-Русский 265 совершено в могиле, размерами 4,85 × 2,25 × 2,8 м, с каменной обкладкой стен. Скелет разрушен полностью, в разных частях заполнения могильной ямы най-дены: осколки черепа, челюсть, шейные позвонки, рёбра, частично кости рук и ног, а также кальцинированные кос-ти и древесный уголь, кости животных. Определение костей и «почтенного» возраста погребённого принадлежит автору раскопок. Инвентарь: четыре со-суда-«приношения», «набор для питья», включающий фрагмент бронзового со-суда, части деревянной ёмкости (ведра (?)) в виде фрагментов бронзовой оков-ки с ручкой-кольцом, стеклянный кубок на кольцевом поддоне, три серебряные фибулы, три бронзовые пряжки, превра-щённый в подвеску ауреус Отацилии Се-веры (244—249), три железные ведёр-ковидные подвески с остатками ткани и фрагменты ещё одной, бронзовой, три слитка тёмного стеклянного шлака, роговой гребень, бронзовая игла, обло-манная с двух концов, точильный бру-сок, четырёхгранный гвоздь, бронзовые наконечники стрел [Ґерета, 2004; 2013, c. 81—83; Гопкало, Тылищак, 2010]. Судя по расположению этой могилы и двух примыкающих к ней (261, 264), на ран-нем этапе представителей общинной знати хоронили отдельно от рядовых общинников и, возможно, даже в под-курганных захоронениях.
Наиболее представительное мужс-кое погребение следующего хронологи-ческого периода происходит из Рудки. В могиле, размерами 2,5 × 1,1 × 2,1 м, находился непотревоженный мужской скелет, который сопровождал богатый инвентарь. В него входили: бронзовый котелок и стеклянный кубок, состав-ляющие основной «набор для питья», 10 керамических сосудов, среди которых лепной кувшин и гончарный кубок, до-полняющие Trinkservice; серебряные: фи-
1 Здесь и далее ссылки на публикации черня-ховских могильников
[Гопкало, 2008, прил. 2, с. 134—142].
2 Только опубликован-ное п. 3.
3 Только опубликован-ные погребения.
OIUM * 2014 * 4 27
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
була, пара шпор и нож, найденный среди костей свиньи, а также стеклянные жето-ны [Кухаренко, 1980, c. 83—86, рис. 23].
Погребение Переяслав-Хмельниц-кий 5, ТПС в яме с уступом вдоль север-ной и западной стенок, размерами 1,45 × 2,6 × 3,6 м 4. От скелета сохранились: че-реп, часть грудной клетки с позвонками, правая плечевая кость, фаланги левой руки и кости ног. Возле коленного суста-ва правой ноги лежала бронзовая фибу-ла с продетой в неё железной пряжкой, на грудной клетке — янтарная бусина, на верхней части левой бедренной кос-ти обнаружены незначительные остатки золотой парчи. Справа от черепа распо-лагась деревянная коробка со стеклян-ными жетонами. Инвентарь: пять сосу-дов-«приношений», стеклянный кубок, бронзовая фибула и фрагмент ещё од-ной, роговой гребень, обрывок парчи 5, игровая доска с бронзовыми скобами, серебряной дужкой-замочком и набо-ром стеклянных жетонов (22 экз.), брон-зовая шпора, железные наконечник стрелы и нож [Гончаров, 1952, c. 13—16; Гончаров, Махно, 1957, c. 133].
В устройство могилы Одая 23, разме-рами 2,88 × 2,56 × 2,5 м, входили деревян-ные плахи, опиравшиеся на деревянные столбы (след от одного из них обнару-жен в непотревоженной грабителями части могилы), по-видимому, от помоста или перекрытия; в инвентарь — более 10 сосудов-«приношений», в том числе кувшин и кубок, стеклянный кубок, пара серебряных шпор, мясная пища. Скелет мужчины 30—40 лет был разрушен, кос-ти верхней части скелета рассеяны по яме, череп изъят, in situ оставались толь-ко кости ног и фаланги пальцев обеих рук [Никитина, 1996, c. 16, 17].
Малаешты 35. Могила мужчины 30—35 лет, размерами 2,2 × 1,0 × 1,2 м, сопровождалась 9 керамическими со-судами, фрагментами трёх стеклянных кубков и двумя бронзовыми пряжка-ми. Скелет в анатомическом порядке, но сохранность костей плохая. Одна из пряжек лежала около плечевой кости правой руки, вторая — под левыми ре-берными костями, ближе к тазу [Федо-ров, 1960, c. 281—283].
Гавриловка 5. Погребение мужчины 20—25 лет. В погребении с заплечиками, размерами 4,5 × 2,7 × 3,0 м, была устро-ена камера, облицованная и перекрытая деревянными плахами. Тело покойника уложено сверху на 11 сосудов. Скелет сохранился в анатомическом порядке. Справа на груди лежала большая брон-
зовая фибула, слева у плеча, на тазу и на ступнях — четыре бронзовые пряжки. Инвентарь: 11 сосудов-«приношений», стеклянный кубок, бронзовая фибула, четыре бронзовые пряжки, роговой гре-бень, деревянный предмет с обоймами из белого металла, костяная трубочка, игольник, остатки шила, кости овцы, в них железный нож, кости рыб, петуха, курицы, яичная скорлупа [Сымонович, 1955, c. 303, рис. 11, 1—11; 14, 1—9; 16].
Кантемировка, к. 1. Погребение 6 в подбое, размерами 3,58 × 3,43 × 3,07 м. Погребён мужчина 40 лет. Скелет разру-шен в верхней части. Инвентарь: 13 со-судов-«приношений», две бронзовые поясные пряжки с остатками кожи, три ременные серебряные накладки в виде полумесяца, на пальце правой руки золо-тое кольцо, на ступнях металлические ук-рашения обуви — две серебряные пряж-ки и ременные наконечники, янтарная бусина, деревянная шкатулка с серебря-ной застёжкой и обоймами, 9 стеклян-ных жетонов, игральная кость, роговой гребень, кости овцы, курицы, петуха и среди них железный нож [Рудинський, 1930, c. 135—139; табл. I, II; рис. 4—9].
Кантемировка, к. 3. Погребение со-вершено в склепе-катакомбе, размерами 3,28 × 1,8 × 2,18 м, с деревянным помос-том для покойника. Его сопровождали: четыре гончарных сосуда-«приношения», три бронзовые и одна серебряная пояс-ные (?) пряжки, обувные ремни с бронзо-выми пряжками, три бронзовые ремен-ные накладки в виде полумесяца, золотое кольцо с разомкнутыми концами, золотое украшение ромбической формы с альман-диновой вставкой, роговой гребень, две пары железных удил с кольцевидными псалиями, кости овцы [Рудинський, 1930, с. 141—146; рис. 9; 12; 13].
Могилы представителей знати располагались обособленно (Черне-лив-Русский, Гавриловка (?)) либо на общих участках могильников (Переяс-лав-Хмельницкий, Одая, Малаешты).
Северо-западное происхождение знатных мужчин определяется по ар-хеологическим и антропологическим признакам. Так, кроме фибул и пряжек, распространённых в вельбарской культу-ре, лепная посуда из «княжеской» моги-лы Чернелива-Русского определена как пшеворская [Тиліщак, 2011, c. 120; рис. 6, 5], а гончарная — имеет определённое сходство с посудой центральноевропей-ского происхождения из Эмерслебена 2 и Хасслебена; погребение в Рудке сопро-вождалось вельбарской лепной посудой,
4 В разных источниках приводятся различ-ные данные. В Отчёте В.К. Гончарова за 1952 г. указано, что на глубине 3,5 м от современной поверхности, где выяв-лено погребение, яма имела размеры 2,2 × 0,9 м, причём с севера и запада к ней примыкала площадка шириной 0,4 м [Гончаров, 1952, c. 14], по данным публикации, размеры могилы — 2,2 × 0,9 × 3,6 м, ширина площадок с севера и запада 0,55 и 0,4 м, соответственно [Гончаров, Махно, 1957, c. 133]. В статье Ф. Бирб-рауэра, размеры погре-бения — 2,8 × 1,4 × 3,6 м [Bierbrauer, 1989, S. 72]. Следует с сожалением отметить, что придётся и впредь довольствовать-ся этой противоречивой информацией, т. к. чертёж погребения 5 в отчёте отсутствует.5 Эта информация имеет принципиальное зна-чение для нашей темы, но её нельзя проверить, поскольку в Переяслав-Хмельницком архео-логическом музее, где хранятся материалы памятника упомянутая ткань отсутствует.6 Отнесение подкурган-ных захоронений Канте-мировки к черняховской культуре, на мой взгляд, вполне правомерно по нескольким причинам. Во-первых, погребения в подбоях и катакомбах достаточно распро-странённое явление для черняховской культуры. Во-вторых, погребения в Кантемировке являются вторичными — ритуал, который практиковался у носителей черняховс-кой культуры и неизвес-тен у населения степи. В-третьих, погребаль-ный инвентарь вполне соответствовал нормам, выработанным черня-ховским населением для погребений «знати» [Bierbrauer, 1989, S. 71] в отличие от подкур-ганных могил Днепро-Донецкого междуречья (шахта «Моспинская»), оставленных степ-ным населением, не примкнувшим к готской конфедерации.
28 OIUM * 2014 * 4
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
а физический тип погребённых в Малае-штах и Гавриловке соответствует герман-скому, в последнем случае с сарматской примесью 7. Погребённые в Кантемиров-ке наоборот демонстрируют юго-восточ-ное, крымское, происхождение 8.
Мужской костюм из погребений эли-ты включал фибулу (Чернелив-Русский, Рудка, Переяслав-Хмельницкий, Гаври-ловка). Она носилась на груди слева (Руд-ка) или справа (Гавриловка). Фибула мог-ла быть серебряной (Чернелив-Русский, Рудка) или бронзовой (Переяслав-Хмель-ницкий, Гавриловка), но особенной, неря-довой. В некоторых погребениях ремень с пряжкой отсутствует (Рудка, Переяслав-Хмельницкий). В ряде случаев фиксиру-ется бесфибульный костюм (Малаешты, Кантемировка) и обувь с застёжками (Гавриловка, Кантемировка). Следует от-метить снаряжение покойника из Одаи без аксессуаров костюма.
К категории II a следует отнести сле-дующие погребения:
мужские могилы с местным набо-ром для питья и серебряными деталями костюма: Журавка 1, 5, Холмское 14;
мужские — c серебряными аксессу-арами костюма: с фибулой (Бугаевка 61, Данчены 120, 145), двумя пряжками, одна из которых изготовлена из сереб-ра, а вторая — из бронзы (Нагорное 27, Слобозия-Кишкэрень 20).
женские — с серебряными аксес-суарами костюма: гривной: Косаново 1961-4 (№ 3), подвесками-лунницами: Косаново 1961-14 (№ 5), Легедзино 16, Петрикивцы 3 (?) 9; подвесками из мо-нет: Данчены 177; другими подвесками: Данчены 292, 337; серьгами: Черкассы 32 (?); височными кольцами: Великая Бугаевка 132, Данчены 62, Курники 17, Романковцы 107, Успенка 366;
с одной фибулой: Великая Бугаев-ка 75, Данчены 78, 197, 224, 252, 292, 356, Журавка 14, 21, Заячивка 7, Ком-панийцы 1, Косаново 1962-42 (№ 45), 1964-2 (№ 32), Петрикивцы 3, Псары 2, Ружичанка 4, 55, Рыжевка 6, 20, Слобо-зия-Кишкэрень 11, Соснова 245, Черне-лив-Русский 26, 49, 131, 298;
с двумя фибулами: Данчены 36, 371, Косаново 1961-22 (№ 37), Нагорное 67, Рыжевка 43, Сад 8, Успенка 1647, Черне-лив-Русский 310;
в том числе двупластинчатыми: Беленькое 9, 131 10, Боромля 4, Жу-равка 2 (?), Курники 4, 26, Маслово 71, Нагорное 8а, 11, Сад 5, Слобозия-Киш-кэрень 28, Успенка 137, Ранжевое 14 (?), Чернобаевка, Черняхов 160;
пряжкой: Боромля 24, Данчены 337, Журавка 14, Нагорное 11;
золотыми украшениями: подвеска-ми: Данчены 64, 79, 279, Рыжевка 43; проволочными кольцами с завязанны-ми концами: Данчены 64, Дедовщина 6, Курники 19; перстнем: Данчены 64, Кан-темировка к. 1, 3, Оселивка 58; фибулой: Ханска-Лутерия 16; оковкой: Романков-цы 46; обкладкой лука: Беленькое 50;
фибулами «городницкой» и «чудовищ-ной» серий А VII: Городница, Данчены 371.
Изделиями из золота сопровожда-лись 13 черняховских могил, что состав-ляет 0,4 % от общего числа черняховских погребений. В основном это подвески: из монет, лунницы, «ведёрки», но также фрагмент фибулы, так называемые ви-сочные кольца, античные перстни, коль-ца и пр. В некоторых случаях может быть установлен пол и возраст погребённых: два из них принадлежали детям (Оселив-ка 58, Рыжевка 43), четыре — мужчинам (Чернелив-Русский 265, Беленькое 50, Кантемировка к. 1, 3). В погребениях с золотом из деталей костюма содержа-лись: украшения (подвески, кольца, ви-сочные кольца) (Данчены 64, 79, 279), фрагмент фибулы (Ханска-Лутэрия 16, Оселивка 58), две фибулы (Рыжевка 43), пряжка (Беленькое 50), поясные и обув-ные пряжки (Кантемировка к. 1,3).
Предметы и аксессуары костюма из серебра сопровождали 88 (2,8 %) пог-ребений: 72 ингумации, 15 кремаций и одно захоронение собак (?).
И н г у м а ц и и. Мужской костюм. Некоторые из мужских погребений «вер-хушки» включали серебряные аксессуа-ры: фибульного (Чернелив-Русский 265, Рудка) и бесфибульного (Кантемировка к. 1, 3) костюма.
У мужчин с серебряными аксессу-арами костюма и набором для питья, включающим стеклянный кубок зафик-сирован костюм: с фибулой и пряжкой (Журавка 1), пряжкой (Журавка 5), дву-мя пряжками (Холмское 14).
Мужские погребения с серебряны-ми аксессуарами костюма и без кубков включали модели костюма: с фибулой (Бугаевка 61, Данчены 120, 145), двумя пряжками, одна из которых изготовлена из серебра, а вторая — из бронзы (На-горное 27, Слобозия-Кишкэрень 20).
Женский костюм. Костюм с одной фибулой зафиксирован у женщин (Ру-жичанка 4, Данчены 224, Легедзино 16, 46, Слобозия-Кишкэрень 11) и детей (Данчены 292, Журавка 14, Чернелив-Русский 298).
7 Благодарю за кон-сультацию антропо-
лога, канд. ист. наук, Т.А. Рудич.
8 Относительно недав-но ряд подкурганных захоронений, подоб-
ных кантемировским, выявлен в Полтавской
области (курганы у с. Сторожевое).
9 Здесь и далее знаком вопроса сопровож-
даются погребения, определённые антро-
пологами как мужские, тогда как их инвентарь соответствует нормам
женского.10 Остальные погре-
бения с серебряными двупластинчатыми фи-булами: 28, 42, 55—57, 128 не опубликованы.
OIUM * 2014 * 4 29
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
Женский двуфибульный костюм су-ществовал на протяжении всего периода существования черняховской культуры. Парой серебряных застёжек сопровож-дались: Городница, Данчены 36, 371, Сад 8, Успенка 1647, в том числе двуп-ластинчатых: Боромля 4, Журавка 2, Курники 4, 26, Маслово 71, Нагорное 8, 11, Ранжевое 14, Сад 5, Слобозия-Киш-кэрень 28, Успенка 137.
Две непарные фибулы, одна из кото-рых серебряная, а вторая — бронзовая сопровождали комплексы: Данчены 10, 67, Чернелив-Русский 131.
Серебряная пряжка дополняла жен-ский костюм с одной серебряной фи-булой (Журавка 14), парой бронзовых (Боромля 24) или серебряных фибул (На-горное 11). В погребении Данчены 337 найдена только пряжка, но следы зелё-ных окислов отмечались на костях пред-плечья, локте и рёбрах.
Женский и детский костюм с тремя фибулами зафиксирован в: Ружичан-ке 55, Косаново 1961-22 (37) и Косаново 1964-2 (32). В Ружичанке две одинако-вые бронзовые фибулы находились на плечах, серебряная — на шее. Погре-бальный комплекс Косаново 1961-22 представлял собой вторичное захороне-ние, фибулы — две бронзовые и сереб-ряная перемещены. В Косаново 1961-22, которое представляло собой неразру-шенную ингумацию с западной ориен-тировкой, две одинаковые серебряные фибулы находились на плечах, третья, бронзовая, у костей ног.
К р е м а ц и и. 15 кремаций с сереб-ром: 5 урновых, 10 безурновых проис-ходят из восьми могильников (Великая Бугаевка, Городок, Данчены, Каборга, Косаново, Легедзино, Рыжевка, Ханска-Лутэрия).
На могильнике Данчены в пяти слу-чаях автором раскопок зафиксированы «перекрывания» ингумаций кремация-ми (79—78, 197—120, 189—142, 252—224, 370—371), причём, и те, и другие сопровождались изделиями из серебра. На этот факт обратил внимание О.В. Пет-раускас, пытаясь проиллюстрировать одну из разновидностей вторичного захоронения [Петраускас, 2003, c. 119, 120; рис. 4]. Если это так — перечис-ленные кремации следует считать за-вершающим этапом захоронения, а их инвентарь — частью инвентаря разру-шенных ингумаций. В этой связи любо-пытно отметить, что кремация 370, пе-рекрывшая ингумацию 371, из которой изъяли только кости таза, содержала
среди кальцинированных костей сереб-ряную пряжку. Надо полагать, ремень с пряжкой входил в костюм погребённой. То же, по-видимому, относится и к слу-чаю 252—224, где серебряная фибула, происходящая от костюма женщины из ингумации обнаружена в кремации. Ингумацию 78 со стеклянным тонкос-тенным коническим кубком перекры-вала кремация 79 с золотым ведёрком. И это вызывает некоторые сомнения, учитывая наши представления о вре-мени бытования стеклянных сосудов и украшений подобного типа. Не удаётся пока подтвердить достоверность и двух предыдущих случаев: серебряная пряж-ка из п. 370 вообще не опубликована, а фибула из п. 252 опубликована так, что невозможно установить её тип. Поэтому замечательная и очень правдоподобная догадка нуждается в дополнительной проверке. Пока хочется отметить, что «счастливые совпадения» наблюдались пока только на Данченах.
На остальных памятниках кремации с серебряными аксессуарами костюма представляли самостоятельные архео-логические объекты. Так, кремации в Великой Бугаевке (75, 111), принадле-жавшие взрослым молодым людям, в первом случае пол определён как жен-ский, сопровождались: серебряной фи-булой и ожерельем; сердоликовым оже-рельем, бронзовой пряжкой и двумя (?) разнотипными фибулами, от которых сохранились только иглы. Обломками бронзовой фибулы и двух пряжек: брон-зовой и серебряной сопровождалась кремация Каборга 4. По серебряной фибуле найдено в кремациях: Косаново 1962-42 и Рыжевка 6. Кремация Рыжев-ка 20 сопровождалась тремя фибулами, одна из которых была серебряной.
Материалы кремаций демонстри-руют модели костюма: с фибулой (Ве-ликая Бугаевка 75, Косаново 1962-42, Рыжевка 6), фибулой и двумя пряжками (Каборга 4), двумя фибулами и пряжкой (Великая Бугаевка 111), тремя фибулами (Рыжевка 20).
Нельзя не отметить факт, который с рассматриваемой темой прямо не свя-зан, однако представляется важным: значительное преобладание погребе-ний с серебряными изделиями на от-дельных черняховских памятниках. Так, погребений с серебряными изделиями в Данченах насчитывалось 6 %, в Белень-ком 11 10 % от общего числа могил (для сравнения: в самом крупном некрополе Бессарабии Михэлэшени, насчитываю-
11 Могильник Белень-кое не опубликован, но специалистам известен, конечно, по отчётам. Он во многих отношениях занимает особенное положение. Очень хочется надеять-ся, что памятник будет опубликован в ближайшее время.
30 OIUM * 2014 * 4
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
щем более 500 могил — 3, 6 %). Тогда как в соседних Данченам Будештах — отдельные находки из слоя. Сравнивая Данчены и Будешты, расположенные в одном микрорегионе, нельзя не отме-тить их разительное отличие как в от-ношении этнокультурного состава, так и социальной структуры.
3.2.
В этом разделе проанализированы 74 погребения в крупных могильных ямах: 49 ТПС, 24 ТПЗ, 1ТПЮ, что состав-ляет 3,7 % от общего количества ингу-маций. Некоторые принадлежат знати и упоминались в предыдущем разделе 12.
30 % ТПС и 25 % ТПЗ в ямах неор-динарных размеров сопровождались стеклянными кубками; 70 % ТПС и 25 % ТПЗ — аксессуарами костюма. Два ТПС (Одая 4, Холмское 56) содержали пред-меты вооружения, больше половины — кости животных. В большинстве ТПЗ (Будешты 292, Журавка 75, 87, 104, 115, Каменка-Анчекрак 10, Коблево 19, Ма-лаешты 10, 31, Романковцы 15, 30, 31, 35, 99, Холмское 31, 52, 56) инвентарь либо был минимальным либо вовсе от-сутствовал, не было в них ни оружия, ни костей животных.
Представляется, что сам по себе при-знак «неординарный размер могильной ямы» не является абсолютным для оп-ределения погребений высокого ранга. Так, например, концентрация погребе-ний с широтной ориентировкой в «боль-ших ямах» на могильнике Романковцы не позволяет воспользоваться предло-женной интерпретацией.
Кроме того, трудности с определе-нием данного признака возникают при оценке погребений сложных погребаль-ных конструкций — подбоев и склепов-катакомб, а превышение размерных норм может быть установлено лишь при их определении для каждого конкретно-го памятника.
Таким образом, большинство из могил знати совершено в ямах неор-динарных размеров, но сама по себе яма неординарных размеров не всегда маркирует погребение знатного лица, в частности, общинного старейшины, как предложено считать.
3.3.
263 (8,26 %) черняховских погребе-ния, в том числе 8,6 % ингумаций, 7,5 % кремаций сопровождались целым или фрагментом стеклянного кубка. Из них
только 157 (60 %) комплексов включали аксессуары костюма. Среди них: 67,7 % составляли погребения с фурнитурой, до-полненные украшениями и амулетами, 29,3 % — погребения, где обнаружены только украшения и 3 % — только амуле-ты. В погребениях с фурнитурой 30,5 % приходится на костюм с одной фибулой, 22,3 % — двумя фибулами, 8,9 % — пряж-кой, 4,6 % — двумя пряжками.
Стеклянный кубок — обязательный атрибут мужских погребений социаль-ной «верхушки» и только четверти жен-ских.
Предполагается, что существовали определённые предпочтения в выборе типов стеклянных кубков для мужчин и женщин: кубки типа Ковалк по Г. Рау преобладают в женских погребениях, крупные конические — в мужских [Гоп-кало, в печати].
Отмечается отчётливая асинхрон-ность групп богатых женских погребе-ний с Ковалками и серебряными двуп-ластинчатыми фибулами. Существует, по крайней мере, два доказательства в пользу этого тезиса. Во-первых, до сих пор эти вещи встречены вместе лишь единожды (Курники 4). Во-вторых, на-иболее наглядно этот факт подтвержда-ется планиграфией могильника Белень-кое. Здесь группы женских погребений с Ковалками (или их модификациями) и парой двупластинчатых фибул нахо-дятся на разных участках могильника и принадлежат к разным обрядовым группам: ТПС и ТПЗ.
Среди ТПС доля погребений со стек-лянными кубками существенно воз-растает в группе погребений с 7-ю и более сосудами-«приношениями» (3 и 3а АСТ) (см. соответствующий раздел) и таким образом указывает на стеклян-ный кубок, как на показатель высокого имущественного статуса. Впрочем, в не-большом количестве погребений без со-судов-«приношений» стеклянный кубок присутствует символически — в виде осколков.
3.4.
Ранее делалась попытка доказать на археологическом материале, с учётом сосудов-«приношений», тезис о неод-нородности дружины, о том, что дру-жинники набирались из числа людей разного достатка [Гопкало, 2011]. Хотя предметы вооружения, снаряжения всадника и конской упряжи встречались в погребениях знати (Ханска-Лутерия 14,
12 Боромля 4, Гаври-ловка 5, Данчены 142,
224, 356, 371, Курни-ки 4, 19, Маслово 71,
Одая 23, Оселивка 58, Переяслав-Хмель-
ницкий 1952-5, Ранжевое 14, Слобо-
зия-Кишкэрень 20, 28, Успенка 1647, Черне-лив-Русский 261, 265,
Черняхов 160.
OIUM * 2014 * 4 31
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
Чернелив-Русский 265, Рудка, Одая 23, Переяслав-Хмельницкий 5, Кантеми-ровка к. 3), настоящее боевое вооруже-ние по традиции в могилы не клалось. Исключение составляет только комп-лекс Ханска-Лутерия 14. Погребения с оружием в черняховской культуре — это захоронения воинов-иноплеменников. Они лишь изредка сопровождались ак-сессуарами костюма.
Особо выделяется группа преиму-щественно урновых кремаций с оружи-ем. Его полный комплект включал меч, щит, топор, копьё или дротик (Компа-нийцы 86), неполный — меч, щит, копьё (Оселивка 70), щит (Малаешты 3, 20), то-пор (Кринички). Среди этой группы пог-ребений только комплекс Оселивки 70 сопровождался большим количеством сосудов-«приношений».
Сарматские мечи обнаружены в ин-гумациях с северной ориентировкой. Погребение Холмское 23 в глубокой яме, было, по мнению авторов раско-пок, ограблено, поэтому не исключено, что оно содержало аксессуары костюма, изъятые во время ограбления.
Кинжал с вырезами найден в кре-мации без сосудов-«приношений», но с поясной пряжкой.
И, наконец, наконечники стрел со-провождали группу ингумаций с север-ной ориентировкой с сосудами-«при-ношениями». Они принадлежат к 1 и 2 АСТ.
Итак, «дружинники» носили кос-тюм: 1) с фибулой; 2) поясом / поясами. Фибула найдена в «пшеворской» крема-ции с полным комплектом вооружения: мечом, щитом, топором, дротиком или копьём (Компанийцы 86); пряжкой со-провождались: кремация с кинжалом с вырезами (Будешты 196) и ингумация со стрелами (Оселивка 51); двумя пряжка-ми — ингумации: с сарматским мечом (Беленькое 179) и стрелами (Горошев-цы 4).
3.5.
Аксессуары костюма сопровождали 762 (38 %) ингумаций и 304 (26 %) кре-маций, в том числе 55 % ТПС, 23 % ТПЗ, примерно по трети ТПЮ, ТПВ, ТСУ и ТСЯ (29, 28, 27 и 30 % соответственно).
Сравнение доли погребений с фур-нитурой, украшениями и амулетами позволили выявить незначительные различия между основными обрядо-выми группами. Так, наибольший про-цент погребений с фурнитурой ока-
зался среди ТПС, тогда как ТПЗ, ТСУ и ТСЯ продемонстрировали практически идентичное соотношение погребений с фурнитурой, украшениями и амулета-ми. Впрочем, различия выявились при сравнении моделей убора. Модель с фибулой чаще встречалась в безурно-вых кремациях, двуфибульная — в ТПС, с тремя фибулами — достаточно редкая, не известна только в безурновых крема-циях, небольшое отличие наблюдалось в распределении модели в пряжкой среди кремаций и, наконец, две пряжки чаще встречались в ТПЗ.
Небольшим количеством представ-лены погребения с аксессуарами кос-тюма в обрядовых группах ТПЮ и ТПВ. На них я остановлюсь более детально. Из 10 ТПЮ c аксессуарами костюма (Городница, Оселивка 58, Ромашки 2, 20, 21, Фрунзовка, Данчены 375, Пе-реяслав-Хмельницкий 1954-20, Гаври-ловка 37, 61) два (Городница и Оселив-ка 58) совершены в каменных ящиках и сопровождались богатым инвентарём. Женщина из Городницы одета в костюм с двумя фибулами на плечах, на шее — низка бус, погребение сопровождает стеклянный кубок, ребёнок из Оселивки погребён с фрагментом фибулы, золо-тым перстнем, большим количеством сосудов-«приношений» и стеклянным кубком. По фибуле на левом плече най-дено в пп.Ромашек, фибула и две пряж-ки в мужском погребении из Фрунзов-ки (оно сопровождалось стеклянным кубком), бусы сохранились от костюма погребённых в Гавриловке, Данченах, Переяславе-Хмельницком.
Одно из четырёх ТПВ с деталями костюма сопровождалось фибулой (Привольное 4), остальные — бусами (Ромашки 42, Холмское 2, Чернелив-Рус-ский 125).
3.6.
656 (56 %) ТПС сопровождались сосу-дами-«приношениями», в том числе 229 (35 %) принадлежит к 1 АСТ (1—2 сосу-да), 297 (45 %) — ко 2 (3—6 сосудов), 94 (15 %) — к 3 (7—9), 36 (5 %) — к 3а АСТ (10 и более сосудов). При этом аксессуа-рами костюма сопровождались 37 % погребений без сосудов-«приношений», 55 % — 1 АСТ, 73 % — 2 АСТ, 82 % — 3 АСТ и 83 % — 3а АСТ. Прямая зависимость выявлена в соотношении сосудов-«при-ношений» и аксессуаров костюма, а так-же признаков погребений социальной «верхушки»: изделий из серебра, стек-
32 OIUM * 2014 * 4
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
лянных кубков и неординарных разме-ров могильных ям. Некоторые различия выявились при сравнении моделей кос-тюма. Наиболее популярными оказа-лись модели: 1) с фибулой; 2) пряжкой. Двуфибульная и двупряжечная модели преобладали в погребениях с большим количеством сосудов-«приношений».
4.
Аксессуары костюма сопровожда-ли 37 % черняховских погребений. При этом, доля погребений с изделиями из золота составляла 0,4 % от их общего числа, из серебра — 2,8 %. Погребения категории I b, по Ф. Бирбрауэру, — пог-ребения знатных мужчин сопровождал костюм с фибулой и бесфибульный: с пряжкой или двумя пряжками. Фурни-тура в этих погребениях изготовлена из золота, серебра или представляет со-бой неординарные изделия. Мужской костюм из погребений категории IIa от-ражает те же тенденции — он включа-ет модель с фибулой и бесфибульную. Женский убор категории II a очень раз-нообразен: он включает модели с од-ной, двумя и тремя фибулами в сочета-нии с украшениями и амулетами.
3,7 % ингумаций совершены в ямах неординарных размеров, в том числе почти все погребения знати. Однако сам по себе этот признак не является определяющим. Так, концентрация пог-ребений с широтной ориентировкой в «больших ямах» на могильнике Роман-ковцы, например, едва ли указывает на скопление общинных старейшин. Слож-ности с определением данного призна-ка возникают при оценке погребений сложных погребальных конструкций — подбоев и слепов-катакомб. Кроме того, норма абсолютных размеров могильной ямы может быть установлена для каж-дого конкретного памятника.
Любопытные выводы позволил сде-лать анализ погребений со стеклянным кубком. Их оказалось около 8 %. Выяс-нилось, что стеклянный кубок оставал-ся престижным на протяжении всего существования черняховской культуры для мужчин, тогда как для женщин, по крайней мере на финальном этапе куль-туры, престижными становятся аксессу-ары костюма.
Костюм «дружинников» также пред-ставляет две костюмные традиции: фи-бульную и бесфибульную.
Унификацию костюмных традиций отражает анализ аксессуаров костюма
из различных обрядовых групп. Неболь-шие отклонения от нормы объясняются, по-видимому, хронологическими разли-чиями ингумаций с меридиональной и широтной ориентировкой.
Ожидаемые результаты получены при анализе ТПС различных АСТ: на-ибольший процент погребений с аксес-суарами костюма (83 %) выявлен в 3а АСТ, наименьший (37 %) — в группе ТПС без сосудов-«приношений».
Кроме того, удалось сделать на-блюдение, которое выходит за рамки обозначенной темы, однако принци-пиально для понимания исследуемых социальных процессов: материальное подтверждение получает идея о воз-можных отношениях господства-подчи-нения населения.
ЛитератураАхмедов И.Р. К выделению индикаторов социаль-ной стратификации в культуре рязано-окских фин-нов в эпоху Великого переселения народов по ма-териалам могильника у села Никитино // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римс-ких влияний и Великого Переселения народов. Кон-ференция 2. — Тула, 2010. — Ч. 1. — С. 101—130.Вольфрам Х. Готы. — СПб., 2003.Герета І. Нові відкриття у Чернелеві Руському (до питання про так звані князівські похован-ня) // Monumenta Studia Gothica. — 2004. — IV. — С. 117—127.Ґерета І. Чернелево-Руський могильник. — Київ; Тернопіль, 2013 (Oium. — № 3).Гончаров В.К. Отчет о раскопках Переяслав-Хмель-ницкого могильника культуры полей погребений в 1952 году // НА ІА НАН України. — № 1952/13.Гончаров В.К., Махно Є.В. Могильник черняхівсь-кого типу біля Переяслав-Хмельницького // Архе-ологія. — 1957. — Т. XI. — С. 124—144.Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской куль-туры. — К., 2008.Гопкало О.В. К периодизации могильника Сло-бозия-Кишкэрень в Бесарабии // Stratum plus. — 2010. — № 4. — С. 211—222.Гопкало О.В. К вопросу о социальном статусе пог-ребенных с оружием, снаряжением всадника, кон-ской упряжью в ареале черняховской культуры // Доистория Восточной Европы позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов: Материалы полевых семинаров у с. Вой-тенки, 2009, 2010 гг. — Харьков, 2011. — С. 15—21.Гопкало О.В. Мужской и женский черняховский костюм (по данным погребений с антропологичес-кими определениями) // Stratum plus. — 2011a. — № 4. ― C. 179—207.Гопкало О.В. Про дату скляних жетонів у чер-няхівському ареалі // Археологія. — 2012. — № 2. — С. 96—102.Гопкало О.В. Черняховский могильник Ружичан-ка // Лесная и лесостепная зоны Восточной Ев-ропы в эпохи римских влияний и Великого пере-селения народов. Конференция 3. Тула, 2012. — С. 330—400.Гопкало О.В. Стеклянные изделия в ареале культу-ры Сынтана де Муреш / Черняхов (социологичес-кий аспект). В печати.
OIUM * 2014 * 4 33
Гопкало О.В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации
Гопкало О.В. Так называемые ритуальные разру-шения черняховских ингумаций: к вопросу о про-исхождении обряда. В печати.Гопкало О.В., Тылищак В.С. Римские импорты из металла на могильнике Чернелив-Русский // Germania-Sarmatia. — II.—2010. — C. 78—95.Кравченко Н.М. О методике социологического ана-лиза погребального обряда черняховской культу-ры // Исследования социально-исторических про-блем в археологии. — К., 1987. — С. 209—227.Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин. — М., 1980.Лихтер Ю.А. Стеклянная посуда черняховской культуры // Вещь в контексте культуры: Материа-лы науч. конф. (февраль 1994 г.). — СПб., 1994. — С. 91—92.Магомедов Б.В. Поховальні споруди як ознака со-ціального статусу в черняхівському суспільстві // Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. — Київ; Львів, 1997. — С. 79—85.Магомедов Б.В. Черняховская культура. Пробле-ма этноса. — Люблин, 2001.Магомедов Б.В. Потойбічний бенкет у поховаль-ному обряді черняхівської культури // Старожит-ності I тисячоліття нашої ери на території Украї-ни. — К., 2003. — С. 83—88.Мастыкова А.В. Женский костюм черняховской культуры с двупластинчатыми фибулами // Петер-бургский Апокриф. Послание от Марка. — 2011. — С. 341—367 (Stratum библиотека).Никитина Г.Ф. Систематика погребального обря-да племен Черняховской культуры. — М., 1985.Никитина Г.Ф. МЧК в Северной Буковине и Бесса-рабии. — М., 1996.Никитина Г.Ф. Черняховская культура Поднест-ровья (по результатам анализа археологических источников). ― М., 2008.Никитина Г.Ф. База данных погребального обря-да черняховской культуры. ― М., 2012.Никулице И.Т., Рикман Э.А. Могильник Ханска-Лутэрия первых столетий нашей эры // КСИА. — 1973. — Вып. 133. — С. 116—123.Петраускас О.В. Про один із можливих різновидів трупоспалення на могильниках черняхівської культури // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України. — К., 2003. — С. 114—121.Петров В.П. Масловский могильник на р.Товмач (по материалам раскопок П.И. Смоличева и С.С. Гамченко в 1926, 1928 и 1929 гг.) // МИА. — 1964. — № 116. — С. 118—167.Петров В.П. Черняховский могильник // МИА. — 1964a. — № 116. — С. 53—117.Рикман Э.А. Этническая история населения Под-нестровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры. — М., 1975.Рудинський М. Кантамирівські кургани римської доби // Зап. ВУАК. — 1930. — Т. 1—2. — С. 127—152.Сымонович Э.А. Памятники черняховской куль-туры степного Поднепровья // СА. — 1955. — Т. XXIV. — С. 282—316.Сымонович Э.А., Кравченко Н.М. Погребальные обряды племен черняховской культуры. — М., 1983 (САИ. — Вып. Д1-22).Федоров Г.Б. Малаештский могильник // МИА. — 1960. — № 82. — С. 253—301.Тиліщак В. С. Ліпна кераміка Чернелево-Русько-го черняхівського могильника // Черняхівська
культура: матеріали досліджень. — Київ; Луцьк, 2011. — С. 111—122 (Oium. — № 1).Яценко С.А. Костюм древней Евразии (ираноязыч-ные народы). — М., 2006.Bierbrauer V. Ostgermanische oberschichtgrдber der rцmischen kaiserzeit und des frühen mittelalters // Archeologia Baltica. — 1989. — T. VIII (Peregrinatio Gothica. — II) — S. 38—106.Magomedov B. The tradition of ritual feasts as a part of burial customs in Chernyakhov-Sintana Culture // Archaeologia Bulgarica. — 2000. — IV. — P. 59—64.Ravn M. Death Ritual and Germanic Social Structure (c.AD 200—600). — Oxford, 2003 (BAR. International series. — 1164).
O.V. Gopkalo
The dress accessOries as indicaTOr Of
sOcial sTraTificaTiOn (based on the cherniakhov
culture graves)The article attempts to assess dress accesso-
ries as an indicator of social stratification of the society represented by memorials of the Cher-niakhov archeological culture. The results of his-torical studies are briefly presented. Due to the analysis of the grave ritual and grave goods, the archaeologists identified graves of slaves, com-munity members with different possessions, com-munity elders, and nobility. The task of this work is to characterize the dress accessories of differ-ent social layers of Cherniakhov culture carriers. The research was based on 3184 graves from 77 memorials. The dress accessories and their combinations (models) were analyzed generating the following conclusions: dress accessories ac-companied 37 % of the Cherniakhov graves; in particular, gold jewelry accompanied 0.4 % and silver jewelry 2.8 % of the graves. The nobility and warriors wore clothes with and without fibulae. The noble women’s models of dress accessories were very diverse. 3.7 % of the inhumations were in pits of extraordinary sizes. But this feature can not be considered to be determinant. The analysis of graves with a glass bowl led to an interesting conclusion: the glass bowl was a prestige item for men during the whole of the Cherniakhov culture time while dress accessories, e. g. silver double-plate fibulae, were prestigious for women. The unification of the costume tradition is demon-strated by the analysis of the dress accessories in different ritual groups. The expected results were obtained due to the analysis of north oriented in-humations of different archeological-social types (AST): the biggest percentage of graves with dress accessories (83 %) was found in 3a AST and the smallest (37 %) in the group without pots. Moreo-ver, the idea about domination-subordination re-lations receives evidence.
K e y w o r d s:cemetery,grave, the criteria of sociological analysis, dress accessories.
























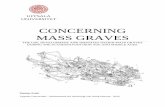
![Kultura materialna w świetle znalezisk z grobów na cmentarzu Salwatora we Wrocławiu [Early Modern Dress Accessories and Other Artifacts From Graves at Salvator Cementary in Wrocław]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63390e0138558aded808fa82/kultura-materialna-w-swietle-znalezisk-z-grobow-na-cmentarzu-salwatora-we-wroclawiu.jpg)






