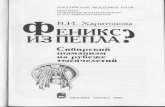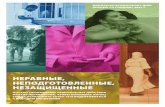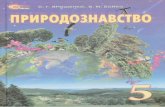Г.-Г. Гадамер // Философы двадцатого века. Книга третья....
Transcript of Г.-Г. Гадамер // Философы двадцатого века. Книга третья....
УДК 1/14ББК87.3
Б 68
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКИнститут философии
Редакционная коллегия:И.И. Блауберг (ответственный редактор),
И.С. Вдовина (руководитель проекта),Л.Б. Макеева
Издание осуществлено при финансовой поддержкеРоссийского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект №08-03-16129д
© Издательство «Искусство XXI век», 2009ISBN 978-5-98051-066-4 © И. В. Балашов, оформление серии
СОДЕРЖАНИЕ
О.И. Мачульская
АЛЕН (Э.О. ШАРТЬЕ)7
Т.П.Лифинцсва
КАРЛ БАРТ
19
ИА Михайлов
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР42
К С Автономова
ЖАК ДЕРРИДА64
А.М. Руткевич
АЛЕКСАНДР КОЖЕВ
83
И.С Вдовина
ЖАН ЛАКРУА108
М.М. Кузнецов
МАРШАЛЛ МАКЛЮЭН127
НС. Юлина
ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ МИД
149
Л.Б. Макеева
ДЖОН ОСТИН177
Л.Б. Макеева
ДЖОН РОЛЗ197
A.A. Веретенников
ПИТЕР ФРЕДЕРИК СТРОСОН216
Н.С. Юлина
АЛЬФРЕД НОРТ УАЙТХВД230
В.В. Старовойтов
ЭРИХ ФРОММ254
Н.С. Автономова
МИШЕЛЬ ФУКО274
Г.М.Тавризян
ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР
295
ТА. Дмитриев
ЛЕО ШТРАУС314
И.А. Михайлов
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
Г.-Г. Гадамер — фигура для немецкой философии уникальная.Ровесник XX века (Гадамер родился 11 февраля 1900 годав Марбурге), он еще застал один из самых богатых и продук-тивных периодов в немецкой философии этого столетия, от-меченный именами Эдмунда Гуссерля, Николая фон Гартмана,Мартина Хайдеггера, Пауля Наторпа, Генриха Риккерта... Ужев 70-80-е годы Гадамер остался практически единственным изживших тогда и продолжавших работать немецких филосо-фов, которые самим своим существованием обеспечивалиживую связь с отошедшей в прошлое культурно-интеллекту-альной традицией. Когда в 80-90-е годы становились доступ-ными прежде неизвестные тексты Гуссерля, Хайдеггера и другихфилософов первой трети XX века, исследователям зачастую прихо-дилось пересматривать свои интерпретации. Иначе обстоит делос историко-философскими работами Гадамера. Все написан-ное им начиная с 60-х годов поражает удивительной вер-ностью и созвучием идеям обсуждаемых им мыслителей. Гада-мер настолько близок духу культуры начала XX века, что егофилософские работы сохраняют свою ценность и по сей день:автор прекрасно чувствует дух целого, даже если не знакомс отдельными деталями.
«В 1918-м году, когда я закончил школу и начал обуче-ние в университете, — вспоминает Гадамер, — мне было18 лет, ранней зрелостью я отнюдь не отличался, а былскорее стеснительным, беспомощным и замкнутым в себепарнем. Ничто не предвещало "философии". Я любилШекспира, греческих и немецких классиков, особеннолириков, однако Ницше и Шопенгауэра я в школьныегоды не читал»1. Отец, химик и фармацевт, был, по воспо-
42
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
минаниям Гадамера, типичным представителем естество-знания, хотя и отличался широтой кругозора. Уверенныйв себе, нацеленный на успех, энергичный, он «воплощал всебе идеалы авторитарного воспитания наихудшего рода».Наклонности сына к «бесхлебным профессиям» он, есте-ственно, решительно отвергал. Первоначально Гадамер-студент «безнадежно разбрасывался» в своих интересах,которые включали германистику и романистику, общуюисторию и историю искусства, музыковедение, изучениесанскрита и исламистики. Психология должна была статьглавной областью его специализации («я мечтал о глубо-ком знании человека — как у Шекспира и Достоевского»).На первой лекции в аудиторию вошел преподаватель,облаченный в черную сутану католического священника;весь зал был заполнен слушателями в таких же черныходеждах. Лекция была о детской психологии. Когда черезнесколько занятий лектор перешел к изложению идейB. Штерна, Гадамер набрался мужества и спросил профес-сора, не обстоит ли дело обратно тому, как пытается пред-ставить господин профессор? «Ах, да, вы правы», — при-знал лектор, еще раз углубившись в свои записи. Такоеначало не способствовало интересу Гадамера к изучениюпсихологии.
В годы после крушения кайзеровской Германии и осно-вания республики, продемонстрировавшей очевидную по-литическую слабость, молодежь находилась в ситуациимировоззренческой неопределенности. «Германия тогдабыла столь же мало готова к демократии, как и сегодняш-ний мир — к собственному техническому совершенству»2.На становление самостоятельных воззрений Гадамера накультуру, историю и социум оказали влияние поэт СтефанГеорге и его кружок, Теодор Лессинг, «Записки неполити-ческого человека» Томаса Манна, позднее — «Или — Или»C. Кьеркегора, а также идеи импрессионизма в жизни и ис-кусстве3. Первой собственно философской книгой, прочи-танной 18-летним студентом, оказалась «Критика чистогоразума» И. Канта: «..л ее хотя и потрепал, однако не вынесоттуда ни одной понятой мысли». Гадамер все-таки решил
43
И.А.МИХАЙЛОВ
остаться «при философии». Его первыми лекторами сталинеокантианцы. Того, кто в 20-е годы, как Гадамер, отправ-лялся в Марбург, привлекала именно местная школа нео-кантианства. Герман Коген к тому времени, правда, ужеумер (1918), однако продолжали преподавать ПаульНаторп и его более молодые последователи Николай Гарт-ман и Ханс Хаймсоет. Под руководством Наторпа Гадамернаписал свою докторскую работу «Природа удовольствияв диалогах Платона»4. «Он был удивительным молчуном, —вспоминал Гадамер своего руководителя. — Собеседнику,которому было нечего сказать, в присутствии Наторпаничего не приходило в голову, так что молчали, как пра-вило, оба».
В 1922 году Гадамер заболел полиомиелитом. Излечив-шись, он в 1923 году отправился во Фрайбург, второйтогда по привлекательности университетский город Гер-мании, в котором преподавали Гуссерль и Хайдеггер. Фе-номенология уже была знакома студентам Марбурга, в томчисле в изложении неокантианцев5, однако прозрачнееона от этого не становилась. Природа феноменологиче-ского метода стала для Гадамера более понятной после до-кладов Макса Шелера «Природа раскаяния» и «Природафилософии», прочитанных в Марбурге в 1920 г.6 Опреде-ляющим же для философской судьбы Гадамера стали зна-комство, а затем дружба с Мартином Хайдеггером; наибо-лее известное сочинение Гадамера «Истина и метод»(I960) принадлежит той парадигме трансформации гер-меневтики, которая предложена Хайдеггером в «Бытиии времени».
Следуя этой традиции, Гадамер задается вопросом, на-ходится ли проблема истины в сфере исключительнойкомпетенции традиционной научной философии? По-иски ответа требуют нового осмысления опыта искус-ства, литературы, истории, а также самой философии,которая теперь трактуется как одна из форм гуманитар-ного знания. Как возможна истина в гуманитарных нау-ках? Применима ли здесь методология естественнона-учно ориентированного знания? — Таковы центральные
44
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
проблемы, символически представленные уже в назва-нии произведения Гадамера.
Традиционная герменевтика XIX века понимала себякак искусство интерпретации и понимания текстов,письменно зафиксированных проявлений человече-ского духа. Ей предшествовали многовековые усилиятеологов по трактовке Священного писания и текстовОтцов Церкви. Непонятный текст пытались разъяснить,излагая его аллегорически (то есть иносказательно); так,за словом открывали другой, «истинный» смысл, кото-рый вполне мог быть скрыт от человека, в чьей транс-крипции текст Библии до нас дошел. Главным при этомвсегда являлось содержание предмета интерпретации,который необходимо было понять. Герменевтика нахо-дилась на службе педагогики, была методическим сред-ством, ведущим к содержательно определенной истине.В Новое время процесс секуляризации открывает длягерменевтики новые области, прежде всего историю изаконодательство, что особенно очевидно в социальнойфилософии Т. Гоббса. В романтической герменевтикеШлеиермахера происходит поворот, который называют
«психологическим»: интерпретатор должен — помимограмматически-смысловой реконструкции — «пере-нести себя» в мир автора, «встать на его место». Такимавтором может быть писатель, поэт, государственныйдеятель и др. Этот акт «перенесения» (или «вживания»,
«вчувствования») есть процесс, аналогичный акту творче-ства, создания текста, а потому противоположен техниче-ской (то есть грамматической) стороне интерпретации;Шлейермахер называет его искусством. Так постепенновнимание герменевтики сместилось с содержательно-предметного аспекта на психологическое начало, на ин-дивидуальность автора. Этот поворот оказался крайневажным для эстетических теорий XIX-XX века.
После Шлеиермахера герменевтическая концепциянашла свое продолжение в трудах так называемой «исто-рической школы», включавшей широкий и разнообраз-ный круг мыслителей - Августа Бека (1785-1867), Лео-
45
И.А.МИХАЙЛОВ
польда фон Ранке (1795-1886), Иоганна Густава Дрой-зена (1808-1884) и др. Они считали себя в первую оче-редь историками, с недоверием воспринимая любогорода метафизические конструкции. Негативным приме-ром для них служила философия истории Гегеля, а по-тому их собственные труды можно воспринимать как по-пытку «ответа» Гегелю. Немецкая историческая школапродолжает традиции романтической герменевтики,только теперь вместо догматически гарантированногоединства священного текста интерпретации подлежиттотальность исторической действительности. Мировуюисторию сравнивали с великой Книгой, текст которойнеобходимо было понять. Обе тенденции герменевтикипервой половины XIX века — к индивидуально-психоло-гическому началу и к пониманию исторических контек-стов — были соединены в концепции ВДильтея, у кото-рого герменевтика вышла на уровень общегуманитарнойметодологии. «Понимание» для Дильтея — главный методнаук о духе, нацеленных на постижение реальности,изначально родственной человеку. «Пониманию» проти-вопоставляется «объяснение», характерное для естествен-ных наук. Этот тип познания гипотетически конструи-рует взаимосвязанность мира, никогда не дающегося намцеликом и изначально. Отталкиваясь от дильтеевскойтрактовки герменевтики, М. Хайдеггер видел в ней не ме-тодологический прием, а фундаментальное (онтологиче-ское) свойство человеческого бытия. Понимание сталоотныне той структурой, которая описывает изначальноеотношение человека к миру и самому себе. Благодаряусилиям Дильтея и Хайдеггера, герменевтика XX века вы-ходит за пределы частного метода, превращаясь в герме-невтику философскую. Все эти вехи трансформациигерменевтических идей были очень важны для Гадамера,чей труд «Истина и метод» сегодня считают классическимпо теории герменевтики. Автор разделяет подход к пони-манию и герменевтике, не ограничивающий последнююрамками частной методики. Он сосредоточил свое вни-мание на следующих аспектах: 1) историчность понима-
46
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
ния; 2) история воздействий (Wirkungsgeschichte) как гер-меневтический критерий (она реализуется при взаимо-действии нескольких факторов: предпонимания, тради-ции и авторитета); 3) герменевтическая среда, в которой
«свершается» истина,— то есть язык (или «языковость» —Sprachlichkeit)7.
Основные темы гадамеровской герменевтики развер-тываются в полемике с концепциями предшественников.Развивая обнаруженное Хайдеггером практическое изме-рение понимания, согласно которому оно всегда есть по-нимание-с-чем-то, в отношении чего-то, Гадамер указы-вает на второй момент, необходимо связанный с такойтрактовкой: понимание есть главным образом взаимопо-нимание (Sichverstehen) и в качестве такового оно, пони-мание (Verständnis), «есть в первую очередь согласие (Ein-verständnis)»8. Это, однако, не означает, что мы понимаемлишь тогда, когда согласны с понимаемым. Гадамер имеетв виду нечто иное. В понимании, во-первых, достаточноотчетливо обнаруживается предметная отнесенность(Sachbezug), которая и является в данном случае началом
«объединяющим». По сравнению с пониманием субъек-тивное мнение каждого человека отступает на заднийплан. (Взаимо)понимание (Verständigung), далее, имеет,как правило, языковой характер9. Конечно, еще в «Бытиии времени» была показана структурно-необходимая связьпонимания с речью и языком. Гадамер, однако, считаетэто недостаточным, поскольку в работе Хайдеггера тема-тизируется не столько сам язык, сколько речь. Да и та, хотяона и оказалась третьим сущностно необходимым эле-ментом человеческой разомкнутости (Da), наряду с рас-положенностью и пониманием, оставалась всё же «неса-мостоятельной»10. Что же касается самого языка, тов «Бытии и времени» Хайдеггер еще колеблется в опре-делении его онтологической природы. Опираясь наХайдеггера, Гадамер развивает концепцию, которая за-метно отличается от хайдеггеровской: он говорит о сущ-ностной языковости всякого человеческого понимания.Именно на этой языковости будет основываться то, что
47
И.А.МИХАЙЛОВ
Гадамер впоследствии назовет «универсальностью» своейгерменевтики.
Вернемся к тезису, что понимание есть всякий раз«взаимопонимание». Эта идея становится одной из глав-ных в гадамеровской полемике со Шлейермахером. Не-редки случаи, когда тот или иной труд можно читатьтолько психологически и исторически, то есть как исто-*рическое свидетельство, документирующее идеи автора.Тогда вполне резонно задаться вопросом о мотивах ав-торских предпочтений. Однако если речь идет о траге-диях Софокла, стихах Рильке и т.д., вопрос о психологи-ческой мотивации автора герменевта интересует мало.Психологическое (или историческое) прочтение есть, поГадамеру, вторичная ориентация нашего понимания;к нему подталкивает нарушение предметно-содержа-тельного (Sachverständnisses) понимания. Это представ-ляет собой исключение, а потому Шлейермахер совер-шенно неоправданно воспринимает его как «типический»случай понимания. Известно, что опыт чуждости дляШлейермахера был универсальным: «...практика [этогоискусства] исходит из того, что непонимание получаетсясамо собой, а понимание в каждом случае должно бытьжелаемым и искомым»11. Саму необходимость герменев-тического метода Шлейермахер обосновывает как разпостоянной угрозой непонимания. Именно поэтому «за-дача герменевтики состоит в том, чтобы ... наиболее пол-ным образом воссоздать течение (ход) внутренней твор-ческой деятельности писателя»12. Гадамер же задаетсявопросом, этот ли тип понимания должен быть для гер-меневтики главным (исходным)? Разве мы понимаем,только реконструируя чужое мнение (воззрение)? Бытьможет, мы понимаем прежде всего смысл, истину, а вме-сте с тем — и ее основания?
С этим критикуемым Гадамером тезисом связан ещеодин известный постулат Шлейермахера: понимать ав-тора лучше, чем он понимал себя самхь. Гадамер считает,что в данной формулировке заключена одна из централь-ных проблем герменевтики (WM, 196), поскольку она
48
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
позволяет провести границу между ее типологическиразличными версиями. Максима «понимать лучше» может,во-первых, относиться к самому автору или же, во-вторых,к выражаемой им истине. Для Гадамера изначально болееважна истина, понимание дела, Sache, или — если вос-пользоваться словами Хайдеггера — «о-чем» речи. В близ-ком к этому смысле упоминал данную формулировкуИ. Кант. Он полагал, что нет ничего необычного в том,чтобы «понимать автора лучше, чем он понимал себя сам,когда недостаточно определено его понятие»14. В приве-денной цитате речь шла о Платоне; Кант надеялся, что по-нимает лучше древнегреческого мыслителя, поскольку
«идеи» относит не к потустороннему царству, а к чистомуразуму. Имелось в виду, конечно же, не знание трудовПлатона или его личности, а знание «проблемы». Важно ито, что в процессе понимания для нас существенна нестолько реконструкция некоего прошлого (Gewesenen),сколько сейчас - актуально - происходящая интеграцияпонятого. Отсюда, в свою очередь, вытекают несколькоследствий.
Понимание и современность
Понимание любого исторического прошлого воз-можно только на языке современности (Gegenwart).Благодаря этому, во-первых, деятельность пониманияможно считать тем более успешной, чем она «незамет-нее», чем меньше она противопоставляет себя объектуинтерпретации. Во-вторых, тезис о неизбежности «языкасовременности» предваряет традиционную для истори-ческого познания проблему «адекватности» отображе-ния (воспроизведения) исторического прошлого. Онвовсе не ведет к какому-либо релятивизму. Акт пониманияс неизбежностью интегрирует понятое в контекстсобственного опыта (иное невозможно), а «собственныйопыт» с необходимостью указывает и на «собственный»язык понимающего. Одним из распространённых возра-жений против этого является аргумент от «приватногоязыка» (Витгенштейн, Крипке и др.): если мы настаиваем
49
И.А. МИХАЙЛОВ
на некоем собственном, «частном» («приватном») языке,тогда мы должны отказаться также и от притязаний наобщеобязательность наших мнений и воззрений.
Между тем Гадамер не считает оправданным любое по-нимание или интерпретацию, он далек от позиции мето-дологического анархизма («anything goes»). Философ по-лагает, что отсеять толкования, которые бессмысленныили модернизируют прошлое, достаточно легко: в такогорода конструкциях проблема как раз не выражена (nichtzum Sprechen kommt). Выражается в них лишь частноемнение интерпретатора. Поэтому-то «незаметность» ин-терпретации как таковой и рассматривается Гадамеромв качестве критерия ее успешности. Тот же принцип при-меним и для всякого удачного перевода: он может счи-таться совершенным как раз тогда, когда у читателя не воз-никает впечатления, что он имеет дело с переводам, —в случае, когда произведение как бы «говорит с нами непо-средственно». «Говорить» же с нами — или: «говорить что-либо нам» — текст может, если он до нас «доходит», еслион говорит на нашем языке. Тот факт, что первые герме-невтические усилия относятся еще к эпохе античности,когда интерпретация, понимание и перевод составлялиединое целое, когда перевод на язык классической Грециибыл средством сделать для самих греков понятными тво-рения их предшественников (Гомера, Гесиода), — стано-вится для Гадамера дополнительным подтверждением вер-ности его тезисов.
Временное отстояние
Если понимание возможно только на языке современ-ности, то это отнюдь не означает, что граница между про-шлым и настоящим стирается совершенно. Наоборот, ис-торическая дистанция или, иначе, временное отстояниеесть необходимое условие понимания, и оно чаще всегозатруднено, когда речь идет об оценке значимости и исто-рической роли событий совсем недавнего прошлого. В по-нимании исторического прошлого имеет место своегорода «сплавление горизонтов»: человек постигает «гори-
50
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
зонт» (или, если угодно, «контекст») прошлого, но он спо-собен на это только на основе (понимания) горизонта на-стоящего. Гадамер наносит еще один удар по традицион-ной концепции методологии истории, выдвигая тезис:всякое понимание понимает иначе.
Аппликация
С диалектикой «история - современность» связанаи другая важная идея Гадамера - «аппликации» и «приме-нения». Герменевтическое искусство, утверждает фило-соф, не существует вне зависимости от конкретныхформ и практик его воплощения. Иначе говоря, не суще-ствует «абстрактной» теории понимания (герменевтики),которую можно было бы применять наподобие инстру-мента, подходящего в любых случаях. Идея Шлейерма-хера о творческом, «дивинаторном» характере понима-ния находит отклик и в теории Гадамера. Полученныенами навыки и умения мы не «применяем», а скорее ап-плицируем к каждому новому для нас случаю, неизвест-ной ситуации. Достижение окончательной «понятности»никогда не является делом гарантированным. Тем болеечто в понимании мы активно преобразуем мир, ведь вся-кое понимание изменяет ситуацию — хотя бы тем, чтоквалифицирует, определяет ее (не исключая и наиболеепростых случаев: «эта болезнь — ангина»), преобразуетнезнакомый и чуждый нам мир в наги мир, полный зна-чений и смыслов, мир, в котором мы живем.
Причина, по которой Гадамер взялся в своей герменев-тике отстаивать значимость эстетического опыта для гума-нитарного знания в целом, становится в этом контекстеболее понятной. Искусство может реализовать себя исклю-чительно в сейчас-происходящем изображении (представ-лении — Darstellung) или чтении — применении (Anwen-dung). Общефилософское значение этих идей Гадамератрудно переоценить. Реализация, экспликация, осу-ществление необходимы для того, чтобы нечто в гумани-тарной области вообще могло по праву называтьсясвоим именем. Нельзя быть талантливым танцором, ни
51
И.А.МИХАЙЛОВ
разу не попытавшись танцевать. Нельзя быть «филосо-фом» вне конкретной практики понимания, интерпрета-ции, изложения или переложения текстов, идей, ответана них и полемики с ними. Другой областью человече-ской деятельности, в которой неразрывность «понима-ния» и «применения» оказывается наиболее отчетливой,является юридическая практика. Понимание всегда пред-полагает то или иное применение человеком понимае-мого в собственной жизненной практике.
Языковость
Тезис, который Гадамер использует для разъясненияуказанной закономерности исторического понимания(понимание прошлого всегда происходит на языке со-временности), теперь, в контексте идей аппликации,может послужить разъяснению еще одной закономерно-сти, присущей всякому пониманию, — его языкового ха-рактера. Если нельзя понимать, не интегрируя понимае-мое в контекст собственного опыта, то это значит, чтотакая интеграция невозможна без умения выразить пони-маемое в языке. Люди часто ссылаются на «присутствую-щее» у них понимание, которое, однако, они не способныозвучить в слове. Оправдываясь, они вспоминают о «всепонимающих», но «бессловесных» животных. Эта прак-тика подтверждает наиболее распространенное заблуж-дение. Неспособность к выражению как раз и свидетель-ствует о проблематичности понимания, для которогоязыковая выраженность принципиально необходима.Всякое понимание имеет языковой характер. Как и пони-мание, язык не есть инструмент. Этот параллелизм междупониманием и языком можно выразить в следующем те-зисе: все, что может быть понято, дано в сфере языка,и наоборот, все языковое доступно пониманию.
С такого рода концепцией герменевтики связан отказГадамера трактовать понимание как вчувствование, эмпа-тию, «перенесение себя на место другого», — что, вообщеговоря, достаточно традиционно не только для классиков,таких как Дильтей, Гуссерль, Теодор Липпс, но и для авто-
52
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
ров современных теорий. Я тогда понимаю кого-то, когдая понимаю его Sache — проблему, дело, «о чем речи», об-стоятельства, — напоминает Гадамер.
Теория аппликации и вытекающая из нее необходи-мость переоценки роли эстетического в системе гумани-тарного знания дает возможность для новых трактовок ис-кусства и проблемы эстетического. Вне связи с проблемой,безотносительно к Sache, концепция понимания такжевполне возможна, однако мыслительная форма, которуюмы желаем понять как речь или текст, берется тогда нев отношении к своему предметному (sachlichen) содержа-нию, а как некий эстетический феномен, как произве-дение искусства или «мышление как искусство» (künst-lerisches Denken) (WM, 191).
Проблема историчности
Полемика с представителями немецкой историческойшколы составляет важную часть «Истины и метода». В про-тивовес идеалистическому, спекулятивному пониманиюистории у Гегеля, Ранке и Дройзен стремились построитьсвою дисциплину как науку, а потому критика идеалисти-ческой философии истории проходила под знаменем ис-торической фактичности (конкретики). Настаивая на за-висимости истории от «фактов», историческая школаоказалась в плену господствовавшей в XIX веке идеологиипозитивизма. Исторические факты не могут быть дедуци-рованы из какой бы то ни было метафизической си-стемы — их следует понять «из них самих». При этом мол-чаливо подразумевается, что история подобна тексту,подлежащему расшифровке. Позитивизм историческойшколы, как правило, герменевтически ориентирован(весьма отчетливо у Бека и Дройзена). Поскольку немец-ким историкам XIX века не удалось в полной мере предло-жить альтернативу спекулятивной философии историиГегеля, эти мыслители по-прежнему оставались в руслеэстетизма Шлейермахера.
Исторические факты «немы» — если не включеныв более широкий контекст. Позитивизм исторической
53
И.А.МИХАЙЛОВ
школы оказывается недостижимым, поскольку истори-ческие факты, которые были бы даны в чистом виде, сутьфикция. Отсюда, если история воспринимается по мо-дели текста, можно заключить, что немецкая историче-ская школа также опирается на некую спекулятивнуюмодель-основание, определяющую «природу истории».Отличие этой модели от гегелевской в лучшем случаевидовое, но никак не типологическое. В ней отсутствует,в частности, гегелевский тезис о том, что в истории мынаблюдаем неуклонное движение (или прогресс) разумаи развитие свободы, однако в целом понимание немец-кими историками природы истории в некотором смыслене менее метафизично. Эта близость и вместе с тем от-личие от Гегеля определяют так называемый «эстетизм»немецких историков. Поскольку «прогресса» нет, тезисРанке: «все эпохи равноценны перед лицом Бога» — ока-зывается вполне оправданным.
Дело не в том, что Ранке намеренно пытается исполь-зовать эстетику (опыт эстетического) в своей теории ис-тории, — как раз наоборот: им движут, скорее, теологиче-ские мотивы. Лютеранин Ранке, отмечает Гадамер,фактически переносит христианскую идею непосред-ственности отношения человека к Богу в профессиональ-ную область историка (WM, 214). Однако именно этоттео-логизм и приводит к своего рода «эстетизму».
Теологически мотивированный эстетизм позволяетлучше понять метафизичность историзма: поскольку «всеэпохи равноценны», историк незаметно для себя прини-мает позицию бесконечного интеллекта (intellectus infini-tus), описывающего эпохи «из них самих», что вполнесогласуется с немецким идеализмом. Продолжая эти ха-рактеристики немецкого историзма, упомянем еще одну,наиболее известную - стремление преодолеть «субъекти-визм» в историческом исследовании. Характеризуя по-нимание истории Ранке, чаще всего вспоминают тезис,в котором он уподобляет работу историка труду есте-ствоиспытателя. Коль скоро результаты труда историка
«независимы» от позиции его как наблюдателя, историк
54
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
как человек, личность должен отойти на второй план,если даже не попытаться вообще элиминировать собст-венную субъективность.
Гадамер с такой позицией не согласен. Он полагает,что немецкие историки оказываются не в состоянии воз-дать должное историчности самого историка. Разве по-следний не принадлежит сам к истории, о которой пове-ствует? Разве всякое историописание не несет на себес необходимостью печать своего времени? «Прусская ис-тория» Дройзена, да и роль ученого в политической жизниГермании второй половины XIX века прекрасно это иллю-стрируют. Кроме того, существует неустранимая значи-мость исторических феноменов, «определяющая» исто-рика еще до того, как он в какой-то момент приметинтеллектуальное решение об «элиминации» собствен-ной личности. Этот аргументационный ход Гадамера,конечно, не нов. Критикуя Декарта15, Хайдеггер показал:само стремление к «объективности», к а-субъектности,независимости от «субъекта» имеет как свои истоки, таки вполне конкретную мотивацию. Оно производно, а зна-чит, никоим образом не может быть первичным регуля-тивным идеалом, определяющим природу гуманитар-ного (исторического или философского) познания.Притязанию на «объективность», которая была бы сво-бодна от всяких случайных, «личностных» черт, пред-шествует нетематическое, повседневное, озабоченноебытие в мире. Мотивом и специфической формой моди-фицированной «заботы» оказывается забота не о «вещахсамих по себе», а об устойчивости, надежности нашего по-знания.
Итак, не существует истории, которую бы писали «подзнаком вечности» (такую историю мог бы сочинить развечто сам Бог), — вот тезис, нуждающийся в философскомобосновании. В трудах Хайдеггера и Гадамера он сперваутратил свою новизну для философии XX века, а затемпревратился в одно из ее «общих мест». Его аналоги и от-звуки могут быть прослежены во всей последующей фило-софии16. Осознание этого факта стимулирует «эстетизм»
55
И.А.МИХАЙЛОВ
в понимании истории. Позиция историка становится от-стржеъто-созерцателъной.
Универсализм герменевтики
К концу XX века, когда антифундаменталистский пафосв философии и культуре заметно усиливается, Гадамер от-стаивает необходимо универсальный, всеобщий характергерменевтики. Это становится важной темой исследова-ний Гадамера после «Истины и метода». Отправной точкойтого главного труда, в силу конкретных, композиционныхи фактических причин, стал опыт искусства и наук о духе(И, 242). Универсальность герменевтики была намечена вкниге очень схематично, что не осталось незамеченнымкритиками. С точки зрения оппонентов, герменевтику сле-дует ограничить областью языковых смыслов, а значит,она не может претендовать на статус универсального фи-лософского метода и нуждается в таком, например,внешне-методологическом дополнении, как критическаятеория. Между тем, перед философией стоит задача «раз-вернуть герменевтическое измерение во всем его мас-штабе... во всех его формах, от межчеловеческой коммуни-кации, познания единичного человека в рамках общества,равно как и от опыта, который он приобретает в обществе,от традиции, сформированной в религии и праве, искус-стве и философии, — вплоть до эмансипаторской энергиирефлексивного революционного сознания...»17. Гадамеросознает, что за герменевтикой закрепилась слава сравни-тельно узкой дисциплины18. Считают, что герменевтикаограничивается текстами. Но и в этом случае, полагает Га-дамер, «текст» можно толковать расширительно — кактекст, написанный рукою Бога, а тогда он охватит всенауки - от физики до социологии и антропологии. Уни-версальность герменевтики основывается на универсаль-ности феномена человеческой способности к языку19,а поскольку она глубоко укоренена в человеческом бытии,правомочность и границы герменевтической постановкивопроса должны интересовать также и теоретика социаль-ных наук (II, 234).
56
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
Практический характер понимания
Следующей важной особенностью герменевтикиГ.-Г. Гадамера является практический характер пониманияи герменевтического опыта в целом. Гадамер ссылается наразличие между «практическим знанием» (phronesis) и
«техническим знанием», умением нечто изготовить —(techne), восходящее к Аристотелю и Платону. «Практиче-ское искусство вести разговор не только противопостав-лено ограниченному знанию специалистов, но может рас-сматриваться и как наивысшая модель, образец для всякойнауки, даже для математики...» — хотя математика имеладля Платона особое значение (II, 252). В диалоге «Храмид»Платон подверг критике идею и идеал экспертов полити-ческой науки. Главный вывод: знание, на котором основы-ваются практически-политические решения, нельзя пони-мать по образцу знания-изготовления, видеть в нем знаниетехническое, а именно знание того, как возможно «изго-товить» человеческое счастье. «Подобному нельзя на-учиться», — отмечает Гадамер (ibid.). Отличие практиче-ской философии от «теоретической науки» у Аристотелязаключается в том, что предметом первой является не
«вечно сущее», не высшие, постоянные принципы и ак-сиомы, а человеческая практика, подлежащая посто-янному изменению (II, 253). Разумеется, и сама эта «прак-тическая» философия является в определенном смысле
«теоретичной». Она — не только инструкция к действиям вконкретной ситуации, но также и знание о человеческомповедении вообще, формах политического бытия человека.Герменевтическая философия теоретична хотя бы в томотношении, в каком она является рефлексией над практи-ческой жизнью (ibid.).
Вытекающая из универсалистских притязаний герменев-тики общегуманитарная позиция Гадамера связана с ещеодной темой размышлений, вполне традиционной для не-мецкой культуры, - идеей Европы как единого исторически-культурного целого (сегодня она популярна как идея «еди-ной Европы»). Серию его статей и докладов — «Разум в эпохунауки» (1976), «Похвала теории» (1983), «Наследие Европы»
57
И.А.МИХАЙЛОВ
(1989) и др. — иногда называют «политическим» или даже«космополитическим» развитием гадамеровскои герменев-тики.
Общеидеологические принципы герменевтики Гадамеравыражаются также в критике абсолютизации теоретиче-ского познания. При этом техницистским, сциентистскимподходам противопоставляется герменевтически-гуманитарный. Эта критика конкретизирует философскиепредставления о некоторых более частных проблемахи понятиях, например разума, силы, интеллекта (разум-ности), рефлексии.
Интеллект. Разум. Разумность. Рефлексия
Вспоминая известный призыв Канта: «имей мужествопользоваться собственным разумом», — Гадамер отмечает,что эта максима сформулирована в эпоху, когда требова-ние секуляризованного мышления было крайне важным.В этом контексте она и была оправдана. Повторяя этотпризыв сегодня, философы зачастую некритически вос-производят и определенные представления о природе ра-зума и разумности, скрывающиеся за упомянутой макси-мой. Они, по мнению Гадамера, нуждаются в серьезнойкритике. Понимание «разумности» (Intelligenz) основыва-ется на традиции психологии способностей (Vermögen-spsychologie). Разум в этой парадигме трактуется как про-дуктивность деятельности, в определенном смысле являясьинструментом. Однако инструмент отличается как раз тем,что сам по себе он - ничто, лишь приспособление для раз-нообразного применения и только в применении и нахо-дит свое оправдание. По аналогии с понятием инструментамы и мыслим интеллект. Отличительная особенность ин-теллекта как инструмента заключается в лишь том, что онуниверсален, а не ограничен, как всякий инструмент, тойили иной областью применения20.
Между тем, показывает Гадамер, разум, интеллект при-сутствует «во всяком человеческом поведении, или, иначеговоря, во всяком разумном поведении присутствует весьчеловек». Интеллект есть некая возможность жизни, в ко-
58
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
торой человек реализовался и которая оказывается кон-ститутивной для него в той мере, в какой у него нет сво-боды эту «способность» применять или не применять,пользоваться ею или не пользоваться21.
В этом же духе трактуется и понятие рефлексии. Немец-кая классическая философия считала, что рефлексия естьнаиболее полное выражение свободы человека. В том, чторефлексия есть проявление свободы, не сомневается и Га-дамер. Но — свобода в какой мере? Идет ли речь об инстру-ментальности? Являемся ли мы субъектами свободного при-менения рефлексии? Да, в рефлексии мы, безусловно,свободны. Но корректив Гадамера заключается в том, чтомы не входим в это измерение рефлексии благодаря на-шему свободному решению. Возможны разные формырефлексии. Или, напротив, в каждой способности что-либосделать заключена рефлексия, ведь понятие «способностик...» подразумевает не просто осуществление какой-либодеятельности, но — в перспективе такого осуществления —владение самой возможностью этого. Уже Платон, напо-минает Гадамер, обратил внимание на внутреннюю реф-лексивность понятия способности (Können) (в егопонятийное™ — techne), когда в диалоге «Храмид» говорил,что всякое «можение» есть одновременно и можение своейпротивоположности (VI: 116). Человек, который может бе-гать, может бегать как быстро, так и медленно и т д Подлин-ный мастер лжи — тот, кто может высказать как истину, таки ложь. «Это понятие можения имплицирует своего родадистанцию по отношению к осуществлению и потомупринципиально определяется структурой, которую мы на-зываем рефлексивностью»22. Возникает, правда, такой во-прос: правомерно ли брать в качестве модели для рефлек-сии, присущей человеку, эту - свободную - рефлексию?Ведь важнейший вопрос заключается в том, действительноли возвышение к духовности, возвышение к самосознаниюподымает человека, пребывающего в вынужденно конеч-ной временности?
Гадамер принадлежал к числу немногих философовГермании второй половины XX века, которые были при-
59
И.А.МИХАЙЛОВ
знаны и за пределами философского сообщества. Онвстречался с Гельмутом Колем, регулярно получал пригла-шения от Президента Германии, от Иоанна Павла II, не-когда преподававшего в Польше феноменологию и счи-тавшего Гадамера безусловным авторитетом.
Работы Гадамера имели большое значение для литера-туроведения, хотя интерпретаторы литературных про-изведений опирались главным образом на «Истину и ме-тод», а не на его более поздние работы по эстетике ипоэтике: к тому времени в англоязычных кругах значи-тельно большей популярностью стал пользоваться метод
«деконструкции» Ж Деррида, на который полагались как наболее радикальный способ отказа от так называемой «объ-ективной науки». Дебаты между герменевтами и сторонни-ками Деррида вскоре были импортированы из англоязыч-ного пространства США в Европу. Очная полемика междуГадамером и Деррида состоялась впервые в апреле 1981года23 на специально организованном коллоквиуме. К ра-зочарованию участников, доклад Деррида был посвященв основном Ницше и Хайдеггеру и почти не затрагивалпроблем гадамеровской герменевтики, в чем усмотрелиотсутствие у французского мыслителя «доброй воли»к взаимопониманию. Только на этот упрёк и откликнулсяДеррида, охарактеризовав «добрую волю к пониманию» какметафизическую предпосылку, восходящую к немецкомуидеализму и принадлежащую «ушедшей эпохе метафизикиволи». В последующих дискуссиях по-своему высветилосьразличие обеих позиций: согласно герменевтике, всегда су-ществует принципиальная возможность понимания; такуювозможность отрицает деконструктивизм, усматривающийрудименты традиционной метафизики также и в самом по-нятии разговора, диалога. Несколько более продуктивнойоказалась очередная очная полемика между мыслителями,состоявшаяся 17 ноября 1993 года. Я полагаю, отмечал Га-дамер, что некоторые аспекты понятийной системы Дер-рида согласуются с моими: «диссеминация» — с историейвоздействий, а «различАние» — со «сплавлением горизон-тов». В свою очередь, Деррида смягчил позицию по отно-
60
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
шению к герменевтике, согласившись, что герменевтиче-ское понятие «горизонта понимания» совсем не обяза-тельно трактовать в духе традиционной метафизики, по-скольку горизонт представляет собой недостижимую цель.Хотя Гадамер не утверждал, будто мы в состоянии «понятьвсё» (для него человек — такое существо, которое нацеленона понимание, хотя достаточно часто не достигает этойцели), следы полемики с Деррида заметны уже в том, что всвоих поздних статьях и докладах немецкий философуточняет концепцию понимания, все чаще отмечая, чтопонимание есть не только усвоение позиции Другого, нов не меньшей степени — признание (Anerkennen) его, каки того факта, что Другой может оказаться прав по отноше-нию ко мне.
Умер Гадамер 13 марта 2002 г. До последних дней он со-хранял ясность ума и вел публичный образ жизни.
ПРИМЕЧАНИЯ1 Биографические факты из жизни Г.-ПГадамера см. в изда-ниях: Gadamer H.-G. Philosophische Lernjahre. Frankfurt a.M.,1977,21995; Grondin]. Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie.Tübingen, 1999.
1 Gadamer H.-G. Op.cit.3 Позднее, в Марбурге, важным стало также знакомство
с Э.Р. Курциусом («я был Беньямином круга, к которому при-надлежал он и его коллеги», — вспоминал Гадамер).
1 Gadamer H.-G. Das Wesen der Lust nach platonischen Dialogen.Diss. Marburg, 1922.
5 Ср., в частности, рецензию П. Наторпа на кн. I «Идей к чистойфеноменологии и феноменологической философии» Э. Гус-серля.
6 В переработанном виде они вошли в качестве главы в книгуМ. Шелера «О вечном в человеке».
7 Термин, который используется Гадамером для того, чтобыподчеркнуть дистанцию по отношению к традиционнойконцепции языка.
8 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen, I960. S. 183.Ссылки на оригинальный текст «Истины и метода» (WM)
61
И.А. МИХАЙЛОВ
даются далее в тексте по первому изданию работы (I960);при ее переиздании в 1-м томе Собрания сочинений Гада-мера указания на раннюю пагинацию сохранены. Другие ра-боты Гадамера цитируются по Собранию сочинений, с ука-занием тома и страниц.
9 Эта тема подробно обсуждается в 3-й части книги «Истинаи метод».
10 У Хайдеггера речь — не наряду, но через расположенностьи понимание.
31 Schleiermacher Fr. Hermeneutik und Kritik. Hg. V. M.Frank. Frank-furt a.M., 1977.S.92.
12 Ibid. S. 321 (см. также S. 84).•MbidS. 94, 104,325.14 Кант Я. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения на
русском и немецком языках. Т. 2: Критика чистого разума. 2-еиздание, 1787. М., 2006. А 314 / В 370.
15 ХайдеггерМ. Бытие и время. М, 1997. § 19-20.1Ь У Р.Рорти он воспроизводится как тезис о невозможности«божественного взгляда» («God's eye view»).
17 GadamerH. -G. Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik // Ge-sammelte Werke. Bd. II. S. 232.
1 8 Причины он усматривает в том, что и сам, в том числе в «Ис-тине и методе», начинал с проблематики гуманитарных наук.
1 9 GadamerH.-G Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. S. 233.20 GadamerH-G. Über die Verborgenheit der Gesundheit. Aufsätze
und Vorträge. Frankfurt a.M., 1993.31994. S. 71.21 Ibid.22 Ibid., S. 73 .23 К т о м у м о м е н т у к н и г а « И с т и н а и метод» б ы л а д о с т у п н а в пе-
реводе на французский язык (1976).
СОЧИНЕНИЯИстина и метод. М., 1988; Актуальность прекрасного. М., 1991;Gesammelte Werke. Tübingen, ] 1986. Bd-e 1-10 [Bd. 1: Wahrheitund Methode [I960]. Grundzüge einer philosophischen Hermeneu-tik. 1986, -Ί990; Bd. 2: Hermeneutik II. Wahrheit und Methode.Ergänzungen. Register. 1986,21993; Bd. 3: Neuere Philosophie I.Hegel, Husserl, Heidegger. 1987; Bd. 4: Neuere Philosophie II. Prob-
62
ГАНС-ГЕОРГ ГАДАМЕР
lerne, Gestalten. 1987; Bd. 5: Griechische Philosophie I. 1985; Bd. 6:Griechische Philosophie 1.1985; Bd. 7: Griechische Philosophie III.Plato im Dialog. 1991; Bd. 8: Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage.1993; Bd. 9: Ästhetik und Poetik II. Hermeneutik im Vollzug. 1993;Bd. 10: Hermeneutik im Rückblick. 1995]; Philosophische Lern-jahre. Frankfurt a.M, 1977,21995.
ЛИТЕРАТУРАGrondinJ. Einführung zu Gadamer. Tübingen, 2000; idem. Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie. Tübingen, 1999; idem. Einfüh-rung in die Hermeneutik. Stuttgart, 1991.
ФИЛОСОФЫДВАДЦАТОГО
ВЕКАКНИГА ТРЕТЬЯ
Редактор А. А. Алексеевский
Организатор печатных процессов М. И. Попова
Вёрстка, художественное оформлениеи подготовка иллюстраций А. Б. Сидоренко
Корректор О. Э. Манько
Философы двадцатого века. Книга третья - М.: Издательство«Искусство-XXI век», 2009,360 с.: илл.
ISBN 978-5-98051-066-4В данной книге собраны интеллектуальные биографии крупнейших западных
философов прошлого века: это Ален (Э.О. Шартье), К. Барт, Г.-Г. Гадамер, Ж. Дер-рида, А. Кожев, Ж. Лакруа, М. Маклюэн, Д.Г. Мид, Дж. Остин, Дж. Ролз, П. Стросон,АН.Уайтхед, Э.Фромм, М.Фуко, О.Шпенглер, Л.Штраус. Анализ творчества этихвыдающихся теоретиков дополняет картину развития западной философии, пред-ложенную читателям в первых двух книгах.
Для научных работников, аспирантов и студентов, специализирующихся в гумани-тарных дисциплинах, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемамисовременной философии и культуры.
Подписано в печать 2409.2009.Формат 84x100/32.Гарнитура Garamond. Бумага офсетная. Печать офсетная.Тираж ί 200. Изд. № 66. Заказ 1846.OCX) Издательство •Искусство-XXI век».119002 Москва, пер. Сивцев Вражек, 14, оф. 4.Тел./факс (499) 241 -64-65.E-mail: [email protected] .ru(Спечатано в ()А() «Типография ·Новости».105005 Москва, ул. Фр. »игельса, 46.
ISBN 978-5-98051-066-4
664