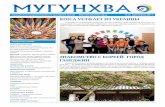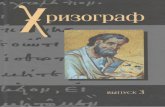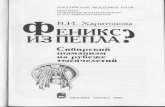Антропологический кризис: пути выхода из него
Transcript of Антропологический кризис: пути выхода из него
Журнал основан в 1918 г.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. В.И. ВЕРНАДСКОГО
Научный журнал
Том 23 (62). № 1
Серия:Философия
КультурологияПолитология
Социология
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, 2010
ISSN 1606-3715Свидетельство о регистрации – серия КВ № 15718-41898
от 28 сентября 2009 годаРедакционная коллегия:
Багров Н.В. - главный редакторБержанский В.Н. - заместитель главного редактораДзедолик И.В. - ответственный секретарь
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология»
Редактор серии:Шоркин А.Д., - доктор философских наук, профессор
Редакционный совет серии:Артюх П.И., доктор политических наук, профессорБерестовская Д.С., доктор философских наук, профессорГабриелян О.А., доктор философских наук, профессорЗарапин О.В. кандидат философских наук, доцентКальной И.И., доктор философских наук, профессорКатунин Ю.А., доктор исторических наук, профессорКоротченко Ю.М. кандидат философских наук, доцентКузьмин П.В., доктор политических наук, профессорЛазарев Ф.В., доктор философских наук, профессорНиколко В.Н., доктор философских наук, профессорРыскельдиева Л.Т., доктор философских наук, профессорСенюшкина Т.А., доктор гос. управления, профессорТимохин А.М., кандидат философских наук, доцентХриенко Т.В., доктор социологических наук, профессорЧемшит А.А., доктор политических наук, профессорШвецова А.В., доктор философских наук, профессорЮрченко С.В., доктор политических наук, профессор
Выпуск печатается по решению Ученого совета философского факультета ТНУ им. В.И. Вернадского
© Таврический национальный университет, 2010 г.Подписано в печать 18.01.2010. Формат 70х100 1/16
17 усл. п. л., 12 уч.-изд. л. Тираж 150. Заказ № 175-о.Отпечатано в информационно-издательском отделе ТНУ
«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського»Науковий журнал. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». Том 23 (62). №1.
Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2010Журнал заснований у 1918 р.
РАЗДЕЛ I«ФИЛОСОФИЯ»
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 3-10.
УДК 1(477)+1(470)+4+13
ФИЛОСОФИЯ И ПОЭЗИЯ
Суходуб Т.Д.
В статье рассматривается проблема взаимосвязи философии и поэзии как видов духовности вкультуре западноевропейской и русской.
Ключевые слова: смысл, форма, рефлексия поэтическая и философская.
Предметом исследования выступает взаимосвязь поэзии и философии вевропейской культуре. Целью статьи является выявление специфических формвзаимодействия философии и поэзии в культуре Западной Европы и России.
В философской истории ХХ века интерес к поэзии неиссякаем. Своимпониманием поэтического и философского творчества, взаимосвязи философии ипоэзии как феноменов духовного бытия человека, как разного порядка «онтологий»,как своеобразной культуры «вопрошаний», индивидуальных опытов миропониманияделились Г. Башляр, С.Н. Булгаков, Г.-Г. Гадамер, В. Дильтей, В.В. Зеньковский,И.А. Ильин, Д. Лукач, О.Э. Мандельштам, Ж. Маритен, Д.С. Мережковский, Р.Музиль, В.С. Соловьёв, С.Л. Франк, М. Хайдеггер, Й. Хейзинга, Г.Г. Шпет, К.-Г.Юнг и многие другие мыслители. Интерес к этой проблематике в силунеисчерпаемости темы не исчезает и ныне. Данное исследование посвящено анализуособенностей рефлексии поэта и философа, смысла и формы философии и поэзии,проблеме их сосуществования и взаимопонимания, концептуализациям темы взападноевропейской философии и традиции российского Серебряного века.
Рефлексия поэта и философа, независимо от того, сколь различны смыслы ихсуществования, несёт в себе некоторую тождественность, «завязанную», какпредставляется, на боли бытия. Ни в одном из словарей мы не найдёмметафизическое понимание этого понятия и, тем не менее, оно существует какнеизменный контекст в размышлениях и философов, и поэтов. Читая откровенныестрочки Г. Флобера, я не знаю, о ком они больше – поэте, писателе, философе, аможет – х у д о ж н и к е, каким и являются все они, объединённые мечтой иногобытия и мира, создающие каждый своими «красками» картину духовно-человеческого универсума, ради которой и покупаются столь высокой ценой«кровоточия» вынесенные на суд людской поэтические строки, художественные иметафизические тексты? «Стать поэтом – пишет Флобер, – значит до временипоседеть, брести от разочарования к разочарованию, бросаться вперёд и видеть, както, к чему стремишься и что пытаешься схватить, ускользает от тебя, что это всеголишь иллюзия; терзаться подобно титану древнего мифа неутолённой жаждой и
4Суходуб Т.Д.
гложущим голодом, чувствовать, как снова и снова исчезают плоды, о которыхмечтал, которые предвкушал…» [1, с. 393].
Судьбы Поэта и Философа в бытии культуры столь переплетены, чтоводораздела практически не существует. Р. Музиль называл поэтов «особымподвидом рода человеческого» – наверное, то же можно сказать и о философах. Еслипоэт – человек, «острее всех других сознающий безнадёжное одиночество нашего«Я» в мире и меж людей» [2, с. 187], то философ при этом ещё рискует идтибезнадёжным путём поиска на основе критической мысли основ «сродности» людей,contra spem spero изменить мир, заслуживая «славу» человека сначала«беспокойного», согласно Вл. Соловьёву (описавшему в личности и судьбе Сократа«пра-форму» ситуации мудреца в обществе), потом – «нестерпимого», наконец,«преступника», заслуживающего смерти. Если сверхчувствительность поэта рождает«робкое превосходство», которое сродни детской душе, и которое даёт способность«ненавидеть даже собственные идеалы», ибо они представляются ему не целями, апродуктами разложения его идеализма» [там же], то философ творческимисверхзадачами, стоящими перед ним, обречен пройти путь «учителя правды», а часто– и «мученика правды». Философ по предложенному условию, по заданной «волей»обстоятельств «программе» в принципе не способен ни верить, ни учить, ни жить.Его мысль сориентирована на поиск истинно безусловного и потому его бытиесопровождают вопросы, вопросы, вопросы, вечные вопросы человеческого бытия. Отсомнения к убеждению – только так очерчивается путь философской рефлексии.
В ХХ в., в условиях грохота революций, мировых войн, радикальныхсоциальных трансформаций, происходящих «под музыку» террора физического илинравственного, философия и поэзия становятся «делом личного разума» (В.С.Соловьев), ибо когда рушится мир, ценностные миры сохраняются толькоотдельными людьми, перебирающими «универсальные» противоречия бытия на себя.Философ, Поэт пытается отвечать на вопросы, поставленные эпохой – почемупоступь истории оплачивается кровавой платой, почему человек, очарованный«великими» идеями эпохи, оказывается обречённым на «привыкание» кчеловеческим жертвам и духовным потерям, почему реализовавшиеся идеалыприняли всего лишь «новую» форму противостояния людей. Боль бытия становитсяиндивидуально-общим мироощущением эпохи, особенно остро проявленным вситуациях вынужденных эмиграций (как реальных перемещений в пространстве, таки внутренних, духовных «переселений»). Пронзительное состояние тоски становитсяконтекстом бытия современного человека: «Тоска по родине! Давно / Разоблаченнаяморока! / Мне совершенно всё равно – / Где совершенно одинокой / Быть … <…> /Где не ужиться (и не тщусь!), / Где унижаться – мне едино» (Марина Цветаева). Этаобразно-поэтическая «всё-равность», «всё-единость», все-»безразличность» Поэта –из всевременности его духовности и трагичности его физического пребывания «внастоящем времени». Всевременность художника определяется культурой какисторией личностей, «настоящесть» – историей как «культурой» масс, где личность– уже безличностна, т.е. неразличима среди всех, одинаково других, друг другуподобных и чуждых, и потому – недодуховных. Их «недо-» определяет примитивно-усреднённый способ перевода ценностного в жизненное – делай, как все, думай (илине думай), как все…
Уже в другое время «без-нас – страна» (М. Цветаева) по-прежнему то ранящееместо на Земле, где мы, невостребованные и униженные, может быть, дажепотерявшие надежду и потому сломленные, нужны. Здесь нам «лучше», всегда –
5Философия и поэзия
лучше, может быть от того, что здесь мы умеем страдать, значит умеем чувствовать ижить. Поэтому так узнаваема, близка и другая тоска: «Когда я вернусь… / Ты несмейся, когда я вернусь, / Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу<…> /… пойду в тот единственный дом, / Где с куполом синим не властносоперничать небо… (Александр Галич). Поэт г о в о р и т, позволяя другимразделить его боль, увидеть и своё «возвращение» «на родину» – потерянную ирастерянную, своё возвращение «к себе». Поэтам (как и философам) дановозвращаться – через безумную тоску свою сквозь «многие сроки» онивозвращаются в «иные» времена. Наверное, в этой возможности высказываться отсебя, но за всех, в «вечном возвращении» (С. Кьеркегор) и состоит пред-назначениеПоэта («пред-» – это для него; назначение – это для нас), его смысл, призвание,жизнь: страдая, высекать из себя тоску по «другому» времени, «другим» людям,«другим» обстоятельствам, «другой» жизни. Возможно, цветаевское «отказываюсьбыть…» – и есть процесс отвержения бытия, где не присутствует человечность, гденет сопричастности человеческих душ, где действует не «со-» – со-бытие, со-трудничество, со-стоя-ние (устойчивость со-единённых), со-дружество, а «рас-»:«Рас–стояние: версты, мили… / Нас рас-ставили, рас–садили, /Чтобы тихо себя вели /По двум разным концам земли. / Рас–стояние: версты, дали… / Нас расклеили,распаяли, / В две руки развели, распяв, / И не знали, что это – сплав…».
Плата за такого рода вопрошения и поэтическо-философские высказываниявысокая: поэт, философ (как «часть» мира) искупает «целое» мира, выявляет себяответственным за мировую целостность, гдё всё должно уравновеситься – злопересилиться страданием и тем открыть путь к добру. Путь этот часто оплачиваетсявысшей мерой страдания – одиночеством, у поэта-философа Ф. Ницше – полнымодиночеством (даже не с Богом), совершенным уединением (рядом с миром, но невнутри его). Это была жизнь для людей (но не среди них), это было мышление слюбовью (но в присутствии, ощущении холода Не-любви), это было житие поэта,философа в ситуации безлюбовного существования – наедине с собой (а может –наедине с миром?): «Нынче – / в одиночестве с самим собою, / вдвоём с собственнымзнаньем, / меж сотен зеркал / сам себе неведом, / меж сотен воспоминаний / потерян,/от каждой раны уставший, /от каждой стужи продрогший, / в собственных путаххрипящий, – / себя самого познавший! / Себя самого казнивший!» (Ф. Ницше).
Поэзия и философия как духовные пути всегда подпитывали друг друга,соединяясь в культуре как два уровня понимания бытия, говорящие разнымиязыками, но часто – в неразрывном единении абстрактно-теоретического ипоэтического. Неслучайно философы Г. Сковорода, Вл. Соловьёв, Ф. Ницшевысказывались, образно говоря, в двух «жанрах». Особая близость поэзии ифилософии в творчестве отечественных мыслителей дала удивительные результаты –оригинальную традицию кардиоцентризма, линию «осердеченной философии».Любопытно здесь заметить, что если, согласно Платону, философию и поэзиюсвязывает вечный конфликт, то Сковорода, напротив, культивирует идею родства,объясняя, что как поэзия, так и философия способствуют нравственномусовершенствованию человека. Но как бы не пояснялась духовная сродность поэзии ифилософии, трудно не согласиться с тем, что в откровениях высшегосмысложизненного порядка поэзия не бывает нефилософской, так как поднимаетнаше миропонимание, мирочувствование на уровень предельных категориальныхформ – бытия и небытия, должного и сущего, сущности и существования,прекрасного и безобразного... Поэзия и философия объединены существованием в
6Суходуб Т.Д.
пределах эстетического, т.е., небезразличного, того, что удерживает нас, людей, вмире ценностно-смысловом, значимом для нас исключительно как цель, какэкзистенциально-жизненная установка, но не как утилитарное средство узкопрагматического интереса.
Философия и Поэзия – феномены духовного бытия, которые вполнесопоставимы: они могут разводиться через противопоставление языка, характератворчества, места в культурной традиции, меры восприимчивости к их смыслам ит.д. и соединяться в смысловом контексте, проблемности видения жизненныхситуаций. Соединение идёт от того, что философия и поэзия – духовно-практическиеформы освоения человеком мира, связанные с экзистенциально-ценностнымизмерением бытия, пребыванием в области предельного вопрошания человека =крика перед загадочно-тайным и безжалостным миром, потому и вскрываютфилософия и поэзия предельные основания человеческого бытия. Поэт и Философживут в ситуации соприкосновения с тайной бытия. Раны этого опыта на самом делеубивают слова, ибо не передаваема боль словесно другому. Но творчество рождаетчудо – из обыденности простых, утилитарно употребляемых слов, рождаются другиеСлова, такие переплетения эмоций, чувств, представлений, понимания, которыесоздают особые смыслы, передаваемые Другим словами-идеями, словами-образами,и побеждающие силой метафизического и поэтического мышления человеческуюхрупкость, делящие боль на части, а эту частичность уже легко можно преодолеватьличностно. Эта синтетичность, целостность языка, где образ и понятие органичнососуществуют, и задают, пожалуй, характер личностного «пребывания» в Поэзии иФилософии их творцов. «Стихи не гнездятся в интеллекте (как и метафизическиепонятия не произрастают исключительно из него, – добавили бы мы к этой удачной«формуле» поэтического искусства В. Вейдле). Конечно, не остаются они и во мгле,откуда вырастают: они побеждают её сиянием слова…» [3, с. 150]. Может быть,поэтому так привлекают нас поэзия и философия – с ними человек становится мудрееи сильнее. Код философии и поэзии один и тот же – искание, странничество, хотяпоэзия говорит образами, философия – понятиями. Философ мыслит исходныминачалами и принципами, поэт – «единичностями», «уникальностями»,«неповторимостью», «единственностью» существования. В определённой мере мыможем говорить о поэзии как первичном языке культуры, религии, искусства,философии. В этом же аспекте, думаю, К. Леви-Стросс утверждает, что поэзиязанимает промежуточное состояние между языком и искусством, так как поэтдобавляет к лингвистическому выражению новые измерения бытия. Поэтическое вфилософии видится и в образно-интуитивной составляющей метафизическогопознания, в его душевно-эмоциональной настроенности, в воображении, в памятисердца, а вот «философское в поэзии – в её человековедческой и правдоискательскойнаправленности» [4, с. 49]. Г.Г. Шпет считал музыку, живопись, поэзию органамифилософии, видя, впрочем, и принципиальное их несовпадение. Если «философияесть искусство как высшее мастерство мысли, творчество красоты в мысли –величайшее творение; отражение безóобразного, украшение безобрáзного, творениекрасоты из небытия красоты», то «искусство насквозь конкретно – конкретно каждоевоплощение его, каждый миг его, каждое творческое мгновение» [5, с. 353,351]. С.Н.Булгаков видит различение в том, что «в поэзии слово является материалом длякрасоты, любования; целью здесь является сама форма, как и во всяком искусстве,между тем как в прозе преобладает утилитарная цель, гетерономия слова; … <впоэзии> звучит логос во всей своей силе и проникновенности…» [6, с. 170].
7Философия и поэзия
Почему поэт философствует? Поэтический текст приобретает признаки текстаметафизического, когда образ уступает место мысли, представленной специфическойформой рациональности – философской, логико-понятийной. Почему философможет опоэтизировать свои идеи, придать им чувственную образность,символическую значимость? Как, к примеру, Вл. Соловьёв, который предпочиталговорить об одной из главных своих идей – Софии – поэтическим языком. Можетбыть оттого, что внимал гегелевской мысли, что «искусство – диалог с каждым изнас». Ранее также метафизические категории прокладывали себе путь через поэзию вантичных трагедиях, поэзии Ломоносова, Сковороды, Ницше… Современный физик-теоретик Я.И. Френкель утверждает, что «право пользоваться метафорами не должнобыть монополией поэтов; оно должно быть представлено и учёным» [7, с. 253].Обоснование это, согласимся, идёт скорее из понимания того, что теоретическое, каки поэтическое познание представляет собой в результате своём голоса не толькоразума, но и души, чувства, внутреннего переживания экзистенциальных состояний,запечатляющих положение человека в мире.
Из предельного внимания философии к поэзии вырастает, как мнепредставляется, особый жанр метафизического размышления, нацеленный не толькона исследование творческого пути отдельных поэтов, а также поэзии как явлениядуховного бытия, но и рождающий свой категориальный строй мировосприятия –онтологически-поэтический. Характерна в этом жанре «поэтизирующего»философствования позиция М. Хайдеггера, трактующего язык как «дом бытия» ипонимающего отсюда поэзию не как простую деятельность, но как «учреждениебытия», его «свободное дарение». Отсюда, считает философ, понять сущность языкаможно только из сущности поэзии. Поэзия – вариант онтологии, а Гёльдерлин –«поэзия поэзии», проникающая в сердцевину поэтического [8]. Именно поэтому, «соглядкой» на константность в культуре специфического «онтологического» вариантадиалога мышления и поэтического творчества, выбирает философ Хайдеггер поэтаГёльдерлина на долгие (и, пожалуй – самые драматичные в его судьбе) 30-40-ыегоды, нет, даже не предметом своих интеллектуальных изысканий, а скорее – вкачестве альтер-эго. Происходит событие Философа и Поэта, объединённыхкритическим восприятием новоевропейского разума, результат которого – с о б ы т ие! Поэзия Гёльдерлина несла, по мысли философа, иной, отличный отустановившейся в западно-европейской традиции, опыт бытия. Хайдеггеровские«разъяснения» к поэзии Фридриха Гёльдерлина, демонстрирующие культурныйдиалог мышления и поэтического творчества, помогают понять жанр стихотворенияне только как сохранение опоэтизированного, которое могло быть (и есть, бывает)поэмой о весёлой поездке к родным местам, но и пониманием ускальзывания родины,необретением т.о. якобы найденного: «Своим прибытием возвращающийся народину ещё не достигает родины» [8, с. 25]. Может быть, в этом плане возвратиться –значит прийти назад (в кьеркегоровском смысле «повторения» как прохождениякруга познания). Иной природы эстетика российского Серебряного века,вырастающая больше из символизма как мироощущения. В качестве женезависимого художественного течения символизм противоречив. У В. Брюсова,например, вопрос о значении искусства и поэзии, которые должны быть обособленыот общественно-политической жизни и идеологий, от религии и науки, теснопереплетается с вопросом о назначении Поэта. А А. Белый и Вяч. Иванов, напротив,считают эстетическую автономию искусства иллюзорной, ибо искусство,направленное на созидание новых художественных форм, творит одновременно и
8Суходуб Т.Д.
новые формы жизни. Такую же нацеленность на абсолютное начало бытияподчеркивает в своём понимании русской культурной традиции и Б.П. Вышеславцев.«Человек, – пишет он, – понятен самому себе только в противопоставленииконечного и бесконечного, временного и вечного, совершенного и несовершенного.Так мы приходим к центральному вопросу: что такое я сам? Что такое человек? Чтотакое личность?» [9, с. 731]. Именно эти вопросы, по мнению философа, составляютглавную тему русского искусства и философии. «Русская литература, – утверждаетВышеславцев, – философична, в русском романе, в русской поэзии поставлены всеосновные проблемы русской души» [там же].
По-своему концептуализировал поэзию К. Малевич, один из видныхсупрематистов, понимавший супрематизм – не только как направление, но и средствопреобразования художественной среды. В своей работе «О поэзии», впервыеопубликованной в журнале «Изобразительное искусство» в 1919 г., он утверждает:«Поэзия – выраженная форма, полученная от видимых форм природы, их лучей –побудителей нашей творческой силы, подчинённая ритму и темпу» [10, с. 128].Творческое бытие поэта парадоксально, многосмысленно, непредсказуемо, ибо «дляпоэта не всегда солнце бывает солнцем, луна – луною, звёзды – звездами. Поэт можетперемешать все названия по-своему. Ведь может сказать, что потухло солнце. Но, сточки разума, оно вовсе не потухло, а зашло» [там же, с. 129]. Поэт – особоесущество, выпадающее из логики повседневности, обыденности, традиции,привычности обстоятельств, из устоявшегося понятия человека. По мнениюМалевича, поэт может быть объясним «как форма, как средство, его рот, его горло –средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. То есть он поэт, которогоникогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называемчеловеком. Человек-форма такой же знак, как нота, буква и только. Он ударяетвнутри себя, и каждый удар летит в мир» [там же].
Общие размышления о поэте, его призвании сменяются в концептуализациипоэтического творчества Г. Башляром попыткой авторской типологизации. Философговорит о способах существования поэтов как бы в отдельности. Так, «поэт огня,поэт воды или земли по-другому вдохновляет, чем поэт воздуха. Именно поэтомумаршрут путешествия воображения оказывается у каждого поэта различным.Некоторые поэты ограничиваются тем, что завлекают своих читателей в странуживописного» [11, с. 111]. В этом контексте можно было бы вспомнить оценку О.Э.Мандельштама творчества Велимира Хлебникова, которого он называет «поэтом-мифотворцем», «мыслителем-утопистом», «архаиком» в то время как А. Блок –«гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии», «современник своеговремени», летописец эпохи.
Д. Лукач, подмечая специфику творческого бытия философа и поэта – «поэтпишет стихами, платоник прозой», предполагает далее, что «наверное, оба стоят тамравно бесприютными и вне жизни, но мир поэта (он ведь никогда не достигает миражизни) всё-таки есть абсолютный мир, в котором можно жить, мир платоника неимеет субстанциальности. Поэт говорит либо «да», либо «нет», но он верит исомневается сразу и в одно и то же мгновенье. Участь поэта может быть трагичной,платоник не способен даже стать героем трагедии» [12, с. 67]. Эта разность бытияприводит, по мнению Лукача, к тому, что «в форме художника из поэзиипроизрастает постоянно сокрытый предмет вечной тоски платоника: достоверность,догма – и платонизм привносит в божественно однозвучные песни поэтамногоцветность жизни» [там же, с.70]. Отсюда, замечает философ, «жизнь как
9Философия и поэзия
реальность существует лишь для того, чьи чувства диссонируют с двух этих сторон»[там же]. Для платоника слово «жизнь» означает «его возможность быть поэтом», нои для поэта важен зароненный в его душу платонизм, отсюда – «жить способен лишьтот, в ком оба эти элемента смешиваются так, что из их соединения можетпроизрасти форма» [там же]. Напряжение между философией и поэзией, их«близость» и одновременная «отдалённость» – тема, которая постоянносопровождает европейскую философию, считает Г.-Г. Гадамер и формулируетвопрос предельно откровенно и просто – почему философия сторонится достиженийлогики и «всё больше уходит в заоблачные сферы поэтического языка?» [13, с. 116].Выстраивая ответ на этот вопрос, философ вспоминает, что Платон, изгонявшийпоэзию из царства идей, тем не менее «с неподражаемым умением соединилвозвышенность и иронию, древнюю легенду и чётко выраженную мысль, вмещает всебя и поэзию» [там же, с. 117]. Значит, согласно немецкому мыслителю, «любаяречь действительно обладает способностью постоянно обращаться как к образу, так ик мысли» [там же].
Согласно Р. Музилю, «родина поэта», «королевство его разума» – совершенноособые состояния человеческого самосознания. Существование в них составляетзадачу «открывать всё новые решения, связи, сочетания, варианты, изображатьпрототипы событий, заманчивые образцы того, как быть человеком – открыватьвнутреннего человека» [2, с. 188]. Музиль подтрунивает над обывательскимпредставлением о поэте как некоем исключении из правил, обывательской оценкекак «безумца» или «ребёнка» – действительно, поэт «человек исключительный», нолишь постольку, поскольку он является «человеком, внимательным к исключениям»[2, с. 188-189]. Как считает мыслитель, поэт обладает такими же способами познанияи способностями к познавательной деятельности, что и «рациональный человек». Нотолько для последнего «результаты жизненного опыта повсюду сходятся, длядругого [же] нет», так как «призвание поэту диктует структура мира, а не структураего собственных задатков и предрасположений» [2, с. 189].
Вывод. Подводя итог, замечу, что вряд ли возможны обобщения попытоктеоретического видения поэтического и философского на уровне законов илипринципов. Размышления о поэзии и философии обречены на незаконченность, таккак не окончен и не окончателен, не оконечен человек, значит бесконечными будутего поэтические и метафизические вопрошения о смыслах своего бытия, о «слишкомчеловеческом», о духовном, эстетическом, образном и безобразном, логическом ионтологическом.
Список литературы
1. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов: В мире мудрых мыслей / Э. Борохов. – М.: ООО«Издательство АСТ», 2001. – 672 с.
2. Музиль Роберт. Очерк поэтического познания / Р. Музиль // Литературная учёба. Литературно-критический и общественно-политический журнал Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ Книга шестая.Ноябрь-декабрь 1990. – С. 187-189.
3. Вейдле Вл. О любви к стихам / Вл. Вейдле // Литературная учёба. Литературно-критический иобщественно-политический журнал Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ. – 1990. – Книга шестая.Ноябрь-декабрь. – С. 146-151.
4. Коган Л.А. «Самостоянье человека»: философское кредо Пушкина / Л.А. Коган // Вопросыфилософии. – 1999. – № 7. – С. 47-59.
10Суходуб Т.Д.
5. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты / Г.Г. Шпет ; [отв. редактор-составитель Т.Г. Щедрина] //Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры – М.: «Российская политическаяэнциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 712 с. – С. 173-287.
6. Булгаков С.Н. Философия имени / С.Н. Булгаков. – б/м: Издательство «КаИр», 1997. – 330 с.7. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Книга вторая ; [сост., автор предисл.
и введений к главам Е.С. Ліхтенштейн]. – М.: Знание, 1981. – 272 с.8. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / М. Хайдеггер; [пер. с нем. Г.Б. Ноткина]. – СПб.:
Академический проект, 2003. – 320 с.9. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии / Б.П. Вышеславцев // Философы России ХIХ-ХХ
столетий. Биографии, идеи, труды / [изд. 2-е, перераб. и дополн.]. – М.: «Книга и бизнес», 1995. – 750 с. –С. 731-734.
10. Малевич К. Через чистую абстракцию к новой форме / К. Малевич // Искусство кино. – 1992. –№1. – С. 124-131.
11. Башляр Г. Предисловие к книге «Воздух и сны». Предисловие к книге «Поэтика пространства» /Г. Башляр // Вопросы философии. – 1987. – № 5. – С. 109-112; 113-121.
12. Лукач Г. фон. Платонизм, поэзия и формы: Рудольф Касснер // Душа и формы. Эссе. / Г. Лукачфон. ; [пер. с нем. пер. и предисл. С.Н. Земляного, послесл. А.С. Стыкалина]. – М.: «Логос – Альтера»,«Essehomo», 2006. – С. 65-73.
13. Гадамер Г.-Г. Философия и поэзия // Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер ; [пер. с нем.] –М.: Искусство, 1991. – С. 116-125.
Суходуб Т.Д. Філософія і поезія // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 3-10.
В статті розглядається проблема взаємозв’язку філософії та поезії як видів духовності в культурізахідноєвропейській і російській.
Ключові слова: смисл, форма, рефлексія поетична і філософська.
Sukhodub T.D. Philosophy and Poetry // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 3-10.
The article deals with the problem of philosophy and poetry as kinds of immateriality in West-Europeanand Russian culture.
Keywords: sense, shape, poetical and philosophical reflection.Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 11-17.
УДК 1.101.1
ПОНЯТТЯ ІСТИНИ ТА СТАТУС ФІЛОСОФІЇ:ВИКЛИК РИЧАРДА РОРТІ
Магдич Т.
У статті розглядається критика Ричардом Рорті поняття істини та особливого статусуфілософії у суспільстві. Наводяться деякі контраргументи проти радикальної критики Р. Рорті тастверджується необхідність збереження цінності філософського мислення за епістемологічно більшрелятивного, але нормативного поняття істини.
Ключові слова: істина, Ричард Рорті, філософія.
Предметом статті є критика поняття істини та статусу філософії у суспільномужитті, що була розвинута Р. Рорті. Метою дослідження є обґрунтуваннянормативності філософського мислення.
Критика традиційних уявлень про істину й філософію займала центральне місцеу творчості Р. Рорті. Він піддавав критиці будь-яке поняття істини, окрім йогобанального, повсякденного і «нецікавого» значення. Оскільки поняття істини єцентральним для традиційної філософії, його заперечення призводить донівелювання особливого статусу філософії. Попри це, Р. Рорті не викреслюється ізлав філософів. У підручниках з історії філософії він неодмінно присутній у розділах,що присвячені неопрагматизму. Філософська значущість його критикифундаментального поняття й мотиву філософії широко визнається самоюфілософією. Вже саме по собі наділення такою філософською значущістю критичноїй радикальної позиції, що її займав Р. Рорті, принаймні частково свідчить про їїфілософічність. І лише самий цей факт свідчить про певну напругу між«метакритикою» Р. Рорті поняття істини та його квієтичним прийняттям істини у її«нецікавому» повсякденному значенні. Напруга ця пов’язана із проблематичністюмежі між цими поняттями, що робить «нецікавість» поняття істини наскрізноютемою – як для самого Р. Рорті, так і для його прибічників та критиків.
Дослідження цієї межі безпосередньо пов’язане із визначенням долі філософії –чи бути їй одним із жанрів літератури, чи зберегти за собою особливий статус,досліджуючи раціональний вимір людини й світу. У цьому полягає справжняактуальність цієї теми для філософії. В контексті спадщини Р. Рорті питання проактуальність самої філософії є надзвичайно співзвучним із запропонованою нимпроблематизацією поняття істини.
Метакритика Р. Рорті радикальна: ідеали науки, об’єктивності та усі претензіїфілософії на дослідження сфери нормативного треба змінити на прагненнясолідарності. Більше того, Р. Рорті стверджує, що однією із найважливішиххарактеристик його метапозиції є відмова від самої постановки питань пронормативний вимір нашої інтелектуальної діяльності та усіх інших суміжних
12Магдич Т.
традиційних питань, що передбачають якусь відповідність наших тверджень, понять,уявлень «дійсності», «світові» або «сутності». Одним із найяскравіших поясненьтакого ігнорування є порівняння Ричардом Рорті своєї «метапозиції» із сучаснимставленням до релігії: «не те, щоб ми знали, що «Бог» – це когнітивно беззмістовнийвираз, або що його роль у мовній грі інша, ніж стверджувати факти, чи щось таке.Нам просто шкода, що це слово так часто вживається» [13, с. 98. – Тут і далі пер.авт.].
Але якщо його «метакритика», що асоціюється із секуляризацією сучасногоінтелектуального життя та його звільненням від релігії, є насьогодні широковизнаною та цілком прийнятною (зокрема, зробила свій внесок у розвиток іпроцвітання інтердисциплінарних досліджень), вимога Р. Рорті відмовитись від будь-якої епістемічної нормативності, від обґрунтування, націленого на якусь мету навідміну від самодостатнього обґрунтування, видається дуже перебільшеною. Р. Рортідає нам значно менше підстав вважати істину непотрібним поняттям, а філософіювинятково літературою або солідарністю, ніж ми маємо підстав вірити у епістемічнунормативність науки та філософії.
В аргументації Р. Рорті можна умовно виділити дві лінії. Перша – історичнареконструкція випадкового формування наших ідей («метафор») про ключову рольрозуму і науки у суспільстві, філософії як особливої царини дослідженняраціонального та моделювання ситуацій, за яких такі ідеї не з’явилися б. Друга групааргументів стосується непотрібності усіх цих понять та їхньої несуттєвої ролі усуспільстві.
Першу групу аргументів можна узагальнити таким метафоричним коментарем Р.Рорті: «Але даремно питати, чи це грецька мова або грецькі економічні умови, або жбезпідставна вигадка якогось невідомого досократика відповідальна за погляд на цейтип знання як споглядання чогось (радше, ніж, скажімо, зіштовхування з чимось,розчавлення його ногами чи статеві зносини із ним)» [12, с. 39].
Більшість дослідників погоджуються у непереконливості таких аргументів [1, с.108; 6, с. 25; 7, с. 26; 17, с. 59-60; 18, с. 159-160]. Передусім не достатньо очевидно,що наші інтуїції щодо понять істини, науки та раціональності є не більш ніжметафоричними визначеннями знання як «схоплення образів ідей» або «спогляданнячогось». Ми можемо уявити інші метафоричні визначення знання – наприклад,«розчавлення» ідей, «зіштовхування», «статеві зносини» з ідеями або ж «вчування» уїхнє «відлуння». Але при цьому такі визначення навряд чи позбавлять нас нашихінтуїцій істини та нормативного виміру філософських міркувань як деякиххарактерних людських рис, що зазвичай узагальнюються поняттям «раціональності».
Окрім того, Рортієву інтерпретацію Платона, Декарта, Локка, Канта й іншихфілософів, навряд чи можна вважати точною й безальтернативною. Хоча багато ідейнаших попередників є менш прийнятними на сьогодні (наприклад, релігійнепрагнення відкрити одну єдину субстанційну Істину, що приховується чи то в ідеїБлага, чи то Бога, Розуму, Свідомості тощо), все-таки, їхні роздуми є досі цінними,оскільки містять у собі ідеї, до яких ми постійно повертаємось, відкриваючи в нихусе новіші смисли та виміри у новому світлі сучасності, у ширшому горизонтіісторичної перспективи. З огляду на міру випадковості наших власних
13Поняття істини та статус філософії …
герменевтичних зусиль, ми не можемо довести випадковість ідей нашихпопередників або ж і наших власних, так само не можемо довести і їхньоїнедолугості або досконалості, або ж бути певними, що наше суспільствотисячоліттями більш-менш активно «філософує» лише через випадкові поглядиякихось випадкових філософів. Такий контраргумент може видатись доситьсофістичним. І на це є слушні підстави, оскільки навряд чи є можливим якесьтеоретично не заангажоване доведення ні шляхом інтерпретації історичного процесуяк випадкового, ні інтерпретації його як необхідного. Так само і твердження прозалежність історичної інтерпретації від теорії навряд чи може довести випадковістьяк спосіб тлумачення історії, оскільки така випадковість є, знову ж таки,твердженням, залежним від теорії. В будь-якому разі, Р. Рорті наполягає, що йогокритика уникає будь-якої позитивної теорії будучи практично-настановчою.
Проте, ми так само можемо назвати свій контраргумент практично-настановчим іпродовжувати описувати корисність дзеркальної метафори для наукового успіху тапроцвітання ліберальних цінностей. Ситуація нагадує суперечки скептика ідогматика: аргумент Р. Рорті та твердження протилежні його позиції опиняються водній мовній грі. Це мовна гра про те, чи можуть практика та судження про користьепістемічної нормативності бути відокремленими від теорії.
Проте, звичайно, позиція Р. Рорті заслуговує на більшу увагу та аналіз, зокрема,оскільки вона яскраво репрезентує деякі з головних тенденцій другої половини ХХстоліття та сучасності у міркуваннях щодо долі філософії.
Як уже зазначалося, непотрібність поняття істини та філософії як особливоїсфери знання (взагалі уявлення про особливий статус знання – чи то науки, чи тофілософії, чи то філософії як науки), що слугували б проводирем до кращогомайбутнього, – є головною лінією аргументації Р. Рорті. Твердження пронепотрібність понять, якими займається філософія («істини», «раціональності»,«моральності» тощо) Р. Рорті обґрунтовує у своєму проекті ліберальної утопії, де вінпротиставляє бажання метафізика відшукати єдину істину, єдиний правильнийсловник, «іронічному» усвідомленню множинності кінцевих словників у приватнійсфері та ліберальним переописам кращого суспільства у публічній сфері. Тоді як уприватній сфері іронік реалізує своє прагнення до автентичності, збагачуючи своюуяву (читаючи усе більше книг), у публічній сфері ліберал випрацьовує сценаріїзменшення жорстокості й болю. Ці дві сфери, згідно з Р. Рорті, можуть бути поєднанілише самим життям, жодне метафізичне поєднання прагнення автентичності тасуспільного блага не є можливим.
Відтак, висновує Р. Рорті, бажання об’єктивності та філософія як така маютьреалізовуватись у літературі, що, з одного боку, сприятиме особистій реалізації, зіншого, – пропонуючи різні історії про шляхи зменшення жорстокості, сприятимезростанню солідарності у ліберальному суспільстві.
Для Р. Рорті є принциповим твердження про те, що жодна наука чи філософіяніколи не зможуть дати відповідь на питання «що нам робити?». Він вважає, щоважливо розрізняти каузальність, фізикалістські засновки та природничі науки тапитання про обґрунтування (justification) та моральність. І каузальність, іобґрунтування визначаються лише згодою у суспільстві («нашому» ліберальному
14Магдич Т.
суспільстві), його культурною спадщиною та здатністю передбачати й контролювати,проте, їхні предмети є принципово неспівмірними.
Проте, видається цілком вірогідним, що більшість людей погодяться зі схемоюпричина-наслідок; відтак, це уявлення виходить за межі деякої окремої (західноїліберальної) спільноти. Навіть представники найпримітивніших племен вважають,що існують деякі причини процесів, що відбуваються. Чи не свідчить це на користьтого, що каузальний спосіб пояснення речей є чимось більшим за культурний спадокзахідних лібералів? Люди набагато більше зацікавлені у причинах та підставах, ніж усамодостатній згоді. Те, що цікавить людей у цьому найбільше – це згода щодопричин. Це бажання (відповісти на питання «чому?») виражає спільний людськийінтерес до навколишнього світу і не є ознакою лише ліберального суспільства. Більшдетальні свідчення цьому можна віднайти у соціокультурній антропології,психоаналізі та інших психофізіологічних дослідженнях розвитку дитини.
Твердження Р. Рорті про принципову неспівмірність приватного і публічного, аотже, про відсутність предмету дослідження філософії, також викликало чималодискусій. Однією з найзмістовніших та показових дискусій щодо співвідношенняприватного й публічного є викладена у збірці «Деконструкція і прагматизм» [3] (заматеріалами однойменного симпозіуму) за участю Р. Рорті, Саймона Крічлі, ЕрнестоЛакло та Жака Дериди. Опоненти Р. Рорті головним чином погодилися, що реальнечітке розмежування приватної і публічної сфери є навряд чи можливим, адже ніетичні, ні політичні моменти не можуть бути ізольовані одне від одного або віднесенівинятково до приватної чи публічної сфери відповідно.
Єдність приватного і публічного, можливість якої Р. Рорті вважає філософськимметафізичним міфом, є необхідним наслідком холістичного бачення суспільства, наякому Р. Рорті наполягає слідом за Дональдом Девідсоном. Адже якщо немає ніякого«небесного гаку» (skyhook), що міг би вилучити нас із суспільства, якщо нашітвердження й уявлення тісно пов’язані з лінгвістичними, соціальними такультурними обставинами, як тоді можливо відокремити ідею особистого блага відсуспільного?
Окрім того, холістична ідея одного словника, межі якого ми не можемоподолати, проблематично узгоджується із концепцією Р. Рорті про безкінечнумножинність кінцевих словників та їхніх переописів. Р. Рорті обґрунтовує їїствердженням неспівмірності приватної та публічної етноцентристської сфер.Відтак, ключовим концептом у неопрагматизмі Р. Рорті є «етноцентризм», згідно зяким ми можемо обґрунтовувати наші уявлення лише серед тих, чий світоглядголовним чином такий самий, що і наш [16, с. 30; 10, с. 1-21; 11, с. 203-208; 14, с. 201-202]. Етноцентристська концепція покликана подолати універсалістські претензіїфілософського мислення.
Це твердження та його стосунок до релятивізму було предметом жвавих дискусійР. Рорті та Г. Патнема, оскільки Р. Рорті наполягав, що «ідеалізована раціональнаприйнятність (acceptability)» Г. Патнема повинна змінитися на «прийнятність для насу найкращому випадку» [9, с. 52]. Але таке переформулювання призводить допроблем можливості міжкультурного спілкування, уникнення війн мирним
15Поняття істини та статус філософії …
раціональним врегулюванням конфліктів і до проблем спростування легітимностінасилля і тоталітаризму [5, с. 51].
Згідно з думкою Р. Рорті, не має ніякого сенсу питати про концептуальнуадекватність словників або переописів, окрім як їхньої оцінки за критерієморигінальності та сприяння зменшенню жорстокості. Але де нам тоді взяти критерійдля розрізнення між порожньою балаканиною та тим, що допомагає зменшитинасилля? Гаррі Франкфурт, наприклад, стверджує, що байдужість до істини усучасній західній культурі призводить до нагромадження такого феномену як«порожня балаканина» (bullshit) [4]. І хоча питання про критерій є надзвичайнопроблематичними, проте, без таких питань ми позбавлені мотиву навіть длявідповідальних тверджень. Але питати Р. Рорті про критерій адекватності словника,як зазначає Джон Мак-Камбер, – це все-одно, що вимагати філософськивідповідальне розуміння безвідповідальності [8, с. 67]. У зв’язку з цим, Майкл Кейсістверджує, що Р. Рорті, приймаючи й схвалюючи релятивізм і одночаснозаперечуючи його як неспівмірний ні з переконанням, ні з життям, а такожвимагаючи дивитися на випадковості іронічно, насправді приймає нісенітницю(meaninglessness) як умову досвіду [2, с. 79].
Р. Рорті вимагає замінити поняття істини та філософію як спробу універсальногообґрунтування на віру у ліберальні цінності та надію на краще майбутнє. Але й надія,яку нам пропонує Р. Рорті, досить таки непевна: «Те, що потрібно – це не спробанаблизитися до ідеалу, а радше спроба віддалитися від шматків минулого, про які миголовним чином шкодуємо» [15, с. 60], «ми повинні радше бути ретроспективними,аніж перспективними: дослідження повинно керуватися радше конкретнимистрахами регресії, ніж абстрактними надіями на універсальність. Ця заміна надії настрах є моєю стратегією…» [15, с. 61].
Питання про песимістичне чи оптимістичне бачення наукового та суспільногопрогресу і внесок у нього філософії нагадує старе питання про те, чи є склянканапівпорожньою або ж напівповною. Але західна культура швидше характеризуєтьсясвітобаченням, спрямованим на ефективність та продуктивність, діями,спрямованими на покращення умов життя. Р. Рорті погоджується з останнім, протеце дуже малоймовірно, щоб склянка могла бути наповнена, якби ми повністю йцілковито зосереджувалися на її порожнечі.
Важко не погодитися з Р. Рорті, що старий об’єктивістський словникПросвітництва нарешті варто подолати; поняття істини не повинно ототожнюватися зоб’єктивістською потойбічною сутністю, коли мова йде про філософське осмисленнянауки й суспільства. Власне, у цьому й полягає «герменевтично-лінгвістично-прагматично-семіотичний поворот» у філософії ХХ століття. Таким чином, можнадійти висновку, що, як зазначає Дж. МакКамбер, «у Р. Рорті проблеми з пов’язаннямсвого дискурсу із сучасними реаліями» [14], де майже ніхто уже не стверджуєсубстанційної репрезентаціоналістської свідомості чи чогось схожого. І цей факттісно пов’язує Р. Рорті з метафізичною картиною, яку він заперечує; спираючись на«або Істина, або немає філософії», він не звертає уваги на жодні альтернативніфілософські проекти та інтерпретації із слабшим поняттям істини.
16Магдич Т.
У цьому контексті пояснення Ю. Габермаса щодо прихованих підставаргументації Р. Рорті стає особливо доречним, коли зазначається, що програмапозбутися всієї філософії виникає швидше з меланхолії розчарованого метафізика,спричиненої номіналістськими поштовхами, ніж із самокритичності просвітленогоаналітичного філософа, який прагне завершити лінгвістичний поворот упрагматичний спосіб. Подібне положення стверджує і Р. Бернстайн, а саме, що Р.Рорті – «справжній вірянин, що втратив свою віру» [13].
Висновок. Можно визначати поняття істини та статус філософії у суспільстві йкультурі по-різному, проте спільним буде те, що, окрім їхньої залежності відкультурно-історичних чинників, і поняття істини, і філософія взагалі є водночасважливими для усвідомлення цієї залежності. Поняття істини – це прикордоннепоняття, що позначає нормативність наших досліджень та комунікації всерединінашого логічно досяжного світу, і яке робить нашу інтелектуальну діяльність і,зокрема, філософію значущою.
Звичайно, холістичний погляд на суспільство передбачає ширшу інтегрованістьфілософії у культурно-історичний контекст і відсутність строгих і однозначнихрозмежувальних ліній між філософією й літературою, філософією й наукою тощо.Але чи слідує з цього, що цих меж взагалі немає? Це може бути, наприклад,невизначений ліміт, межа може видаватися усе більш відносною, проте вона досі нампотрібна, інакше ми не матимемо ніякої мотивації та мети у прагненні бутивідповідальними аргументаторами своєї позиції або теорії.
Список літератури
1. Хаак С. Очередные похороны эпистемологии / Хаак С // Вопросы философии. – 1995. – №7. –С. 106-123.
2. Casey M. A. Chapter Three. Rorty: The Post-Metaphysical Solution to Meaninglessness // Casey M.A. Meaninglessness: The Solutions of Nietzsche, Freud, and Rorty. – Lexington Books, 2002. – Р. 77-114.
3. Deconstruction and Pragmatism. Edited by Mouffe Ch. – Routlege, 1996. – 90 р.4. Frankfurt H. On Bullshit. – Princeton University Press, 2005. – 67 p.5. Habermas J. Richard Rorty’s Pragmatic Turn // Rorty and His Critics. – Blackwell Publishing, 2000. – Р. 31-56.6. Hall D. L. Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism. – SUNY Press, 1994. – 290 р.7. Hartshorne Ch. Rorty’s Pragmatism and Farewell to the Age of Faith and Enlightenment // Rorty &
Pragmatism: The Philosopher Responds to His Critics. – Vanderbilt University Press, 1995. – Р. 16-28.8. McCumber J. Irony and Redescription as Challenges to Ousia // Philosophy and Freedom: Derrida,
Rorty, Habermas, Foucault . – Indiana University Press, 2000. – Р. 61-74.9. Rorty R. Hilary Putnam and the Relativist Menace // Truth and Progress: Philosophical Papers. –
Cambridge University Press, 1998. – Р. 43-62.10. Rorty R. Introduction: Antirepresentationalism, Ethnocentrism, and Liberalism // Rorty R.
Objectivity, relativism, and truth: Philosophical Papers I. – Cambridge University Press, 1991. – Р. 1-21.11. Rorty R. On ethnocentrism: A reply to Clifford Geertz // Rorty R. Objectivity, Relativism, and Truth:
Philosophical Papers I. – Cambridge University Press, 1991. – Р. 203-210.12. Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. – Princeton University Press, 1980. – 401 р.13. Rorty R. Philosophy as a Kind of Writing: An Essay on Derrida. // Rorty R. Consequences of
Pragmatism: Essays, 1972-1980. – University of Minnesota Press, 1982. – Р. 72-89.14. Rorty R. Postmodernist Bourgeois Liberalism // Rorty R. Objectivity, Relativism, and Truth:
Philosophical Papers I. – Cambridge University Press, 1991. – Р. 197-202.15. Rorty R. Response to Habermas // Rorty and His Critics. – Blackwell Publishing, 2000. – Р. 56-64.
17Поняття істини та статус філософії …
16. Rorty R. Solidarity or Objectivity? // Rorty R. Objectivity, Relativism, and Truth: PhilosophicalPapers I. – Cambridge University Press, 1991. – Р. 21-34.
17. Tartaglia J. Routledge Philosophy Guidebook to Rorty and the Mirror of Nature. – Routledge, 2007. – 257 р.18. Taylor Ch. Rorty and Philosophy // Richard Rorty. – Cambridge University Press, 2003. – P.158-180.
Магдич Т. Понятие истины и статус философии: вызов Ричарда Рорти // Ученые запискиТаврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология.Политология. Социология. –- 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 11-17.
В статье рассматривается критика Ричардом Рорти понятия истины и особенного статусафилософии в обществе. Приводятся некоторые контраргументы против радикальной критики Р. Рорти иутверждается необходимость сохранения ценности философского мышления при эпистемологическиболее релятивном, но нормативном понятии истины.
Ключевые слова: истина, Ричард Рорти, философия.
Magdych T. The Concept of Truth and the Status of Philosophy: Richard Rorty’s Challenge //Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Politicalsciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 11-17.
In this paper Richard Rorty’s critique of the concept of truth and of the special status of philosophy insociety is analyzed. Some opposite counter-evidences to Rorty’s radical critique are explicated; the necessity ofpreservation of philosophical thinking value with an epistemically weaker but still normative concept of truth isaffirmed.
Keywords: Richard Rorty, truth, philosophy.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 18-21.
УДК 130.32
МОРАЛЬ ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ ПРАВА УФІЛОСОФІЇ ОБ’ЄКТИВНОГО ДУХУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
Павлова Т.С.
Розглядаються питання морально-правової проблематики у філософії об’єктивного духуГ.В.Ф Гегеля. Показується розвиток права на такому важливому етапі розвитку об’єктивного духу, якмораль, а також розглядаються питання особистості і її свідомості у даному контексті.
Ключові слова: об’єктивний дух, право, мораль, свідомість, дійсність.
Ціллю даної публікації є представлення моралі як етапу розвитку права уфілософії об’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля.
В розвитку історико-філософської думки, особливо в тому, що стосується питаньпрактичної філософії, дуже часто поставала проблема розвитку моралі і права.Вирішення такої наукової проблеми є важливим та актуальним у зв’язку знеобхідністю вирішення наукового завдання кореляції моралі і права, їх взаємногоіснування і розмежуванням їх функцій як двох основних соціальних регуляторів.Особливо цікавими з цього приводу є філософські погляди Г.В.Ф. Гегеля. Оскільки вйого філософській системі право і мораль розглядаються як етапи єдиного процесурозвитку об’єктивного духу.
Щодо останніх досліджень у даній сфері, хотілося б відзначити роботи М.Ф.Бикової, М.Ф. Овсяннікова, Ф.І. Гірьонка, О.С. Анісімова, М.А. Пушкарьової таінших дослідників. У роботах цих авторів зроблена спроба провести дослідженнящодо таких категорій гегелівської практичної філософії як свобода, держава,громадянське суспільство. Але аналіз моралі як етапу розвитку права потребуєокремого, більш детального дослідження. Оскільки невирішеним до теперзалишається питання про погляди Гегеля на кореляцію моралі і права у контекстіспіввідношення цих двох категорій у історії філософської думки, дана статтяпризначена саме розгляду зазначеного питання. Метою даного дослідження є аналізморалі як етапу розвитку права у контексті філософії об’єктивного духу Г.В.Ф.Гегеля.
Об’єктивний дух у філософії Г.В.Ф. Гегеля виступає у вигляді трьох етапіврозвитку: права, моралі, моральності. Вихідним пунктом права виступає свободаволі. Втілення волі в речах – сфера формального і абстрактного права, відносинвласності. У людини є право не визнавати нічого, що вона вважає не розумним, але всилу суб’єктивності такої думки, право в цьому випадку є лише формальним,позбавленим змісту. Суб’єктивної точки зору на право недостатньо, необхіднасуспільна моральність, яка міститься у законах і звичаях. Над особистимиморальними переконаннями повинен стояти загальний моральний дух. Загальнийпринцип права, таким чином Гегель виражає як: «будь особою і поважай інших якосіб». Основним недоліком абстрактного права є його формальність. Це свідчить проте, що його поняття ще не є істинним, змістовним. Дозволи і повноваження, щомістяться у формальному праві, можуть використовуватися і заради їх самих. Гегельвважає, що якщо у когось немає ніякого іншого інтересу, окрім його формальногоправа, то воно може бути просто упертістю, так як часто буває у душевно обмежених
19Мораль як етап розвитку у філософії об’єктивного духу Г. Гегеля
і бідних серцем людей, оскільки груба людина вперто відстоює своє право, тоді яклюдина благородного образу думок приймає до уваги і інші сторони справи. Моральє антитезисом абстрактного права. На цьому етапі особистість переходить довнутрішнього самовизначення. На думку В.С. Нерсесянца, у філософії Гегеля повідношенню до тієї цілісності і завершеності поняття права, яка надана в усій«Філософії права», абстрактне право виступає лише як абстрактна і гола можливістьвсіх наступних, більш конкретних визначень права і свободи. Абстрактне право –лише усвідомлення правоздатності. Це свідомість у якості моменту поняття права і увідповідності з тотожністю волі і мислення націлене на реалізацію і об’єктиваціюконкретних визначень права і свободи, що містяться в ньому, але не є ще ні одним зних. На цій стадії закон ще не віднайшов себе, його еквівалент – лише формальнаправова заповідь. Заповіддю залишаються поки також і відношення вільних іправових особистостей між собою [2, с. 56]. У праві воля має наявне буття узовнішньому, що не повністю відповідає її внутрішньому Я. Тому воля повинна матисвоє наявне буття у самій собі, всередині самої себе. Вона виступає як внутрішнійсвіт особистості. Гегель зазначає, що цінність людини визначається її внутрішнімспонуканням, і тим самим точка зору моральності є для себе суща свобода. Такаточка зору є по своїй формі право суб’єктивної волі. Щоб бути моральним, вчинокповинен співпадати з наміром індивіда. Намір, адекватний поняттю волі, є добро.Мораль є в тому, щоб відповідати всезагальному. На думку В.С Нерсесянца, відноснопоширених спорів про колізії між мораллю і правом, Гегель зазначає, що саме їхзіткнення породжене тим, що вони, являючись кожна окремо особливим правом,знаходяться на одній лінії. Ці колізії, на думку Гегеля, підкреслюють обмеженість іпідпорядкованість форм особливого права, окрім абсолютного права мирового духу[2, с. 53].
Всяка воля, що протиставляє себе універсальній волі є неморальною. Мораль тутвиступає як раціональний фактор, а не суб’єктивне почуття. Хоча Гегель зазначає, щомораль не виключає суб’єктивного задоволення, а вимагає тільки узгодженняособистих цілей з загальними. На перший план виходить здатність людини робитиоцінку своїх власних вчинків і вчинків інших людей з точки зору протиставленнядобра і зла. Мораль проявляється вже не тільки в думках, а й у справах, вчинкахособи, оскільки особа має право на свободу вчинку. Тут мова йде вже про розвитокправосвідомості. Основним поняттям моральної і правової свідомості Гегель вважаєдобро. Але у визначенні що є добро, а що є зло не можна спиратися лише на совість.Гегель зазначає, що відношення визначень, які суперечать одне одному є абстрактнадостовірність самого духу, і по відношенню до цієї нескінченності суб’єктивностівсезагальна воля, добро, право, обов’язок в тій же мірі існують, в якій і не існують, –саме ця суб’єктивність знає себе у якості вбираючої і вирішальної. Ця чистадостовірність самої себе, що ставить себе на свою вершину, чиста достовірністьсамої себе проявляється у двох формах, що безпосередньо переходять одна в іншу, –совісті і зла.
Перша є воля добра, яке, однак, у цій чистій суб’єктивності є дещо не-об’єктивне, не-всезагальне, не-виразне, і дещо таке, відносно чого суб’єкт у своїйодиничності знає себе як вирішальний. Зло є те саме знання своєї одиничності, якчогось вирішального, оскільки одиничність не залишається у цій абстракції, але наперекір добру, засвоює зміст суб’єктивного інтересу [4, 304-305]. Коли воля яксамосвідомість ставить себе вище всезагального, робить своїм принципом свавілля увчинках, виникає зло. Природа людини не є ні доброю, ні злою. Коли природне влюдині співвідноситься з волею як із свободою і знанням цієї свободи, виникаєможливість як для добра так і для зла. У роботі «Філософія духу» Гегель зазначає, що
20Павлова Т.С.
різні види добра можуть вступати у протиріччя між собою, оскільки саме поняттядобра виходить за межі суб’єктивної волі. У цьому проблема моралі.
Окрім незнання є ще більш страшна причина зла – безпідставне переконання увласній правоті. Тут може мати місце суб’єктивність, що підносить себе до роліабсолюту. Основними формами моральності Гегель називає умисел і вину, намір іблаго, добро і совість. У самому загальному вигляді сфера моральності – це сфераобов’язку, яка вимагає робити добро, та не чинити зла. У моралі воля повертається досебе самої. Особа формального права перетворюється на моральний суб’єкт. Наперший план виходить внутрішній світ людини, який непідвласний формальномуправу. «В це внутрішнє переконання людини неможна втручатися; його неможнапіддавати насильству, і тому моральна воля недоступна. Цінність людинивизначається його внутрішнім спонуканням, і тим самим точка зору моралі є для себесуща свобода» [3, с. 155]. Це сфера суб’єктивної чи моральної волі. Моральвіднаходить свій вираз у вчинках: «суб’єкт є ряд його вчинків» [3, с. 167]. Моральнезло, що виражається у неморальних вчинках не може каратися юридичнимизаконами. Моральна воля виражається у Гегеля як єдність одиничного.
В аналізі моралі Гегель оперує такими категоріями як умисел, вина, намір, благо,добро, совість. У розділі, що присвячений умислу і вині, Гегель торкається проблемкримінальної відповідальності. Людина може відповідати лише за те, що містилося вїї умислі. Умисел стосується безпосередніх наслідків вчинку. Наміри пов’язуються збільш віддаленими його наслідками, знання про які містяться в суб’єктивній волі.Таким чином, Гегель підкреслює особливу значущість внутрішнього переконанняособи і захищає його від втручання ззовні. Лише у вчинку особа об’єктивує своюсуб’єктивну волю, відповідно нести покарання вона може лише за вчинене, за те, щоміститься у його умислі. Заслуговують на увагу погляди Гегеля на совість, вінзазначає, що совість є святинею, зазіхати на яку було би святотатством.
Таким чином, Гегель підкреслює непорушні права суб’єктивної самосвідомості.У той же час Гегель зазначає, що ніякий добрий намір не може слугувативиправданням дурного вчинку та правопорушення. Гегель підкреслює, що правовиражене в законах держави є розумним, оскільки виражає всезагальну волю, томусуб’єктивна воля, якщо вона не розходиться із всезагальною, приймає зовнішніправові закони держави як свої власні. Гегель прекрасно розуміє, що суб’єктивнаволя може не співпадати із об’єктивністю, істиною, тому необхідними є такі зовнішнідержавні настанови у вигляді правових законів, щоб нейтралізувати конфліктсуб’єктивної і всезагальної волі. На думку В.С. Нерсесянца, у філософії Гегеля,правила розумного і всезагального способу дії містяться лише у законах держави, ісовість повинна їх враховувати і виконувати, якщо сама не дійшла до тих жеположень [2, с. 62]. На думку Гегеля, не може визнати совість у властивій їй формі,тобто як суб’єктивне знання, подібно до того, як в науці не має значення суб’єктивнадумка, запевнення і посилання на суб’єктивну думку [3, с. 179].
На думку В.С. Нерсесянца, якщо у абстрактному праві свобода волі мала своєнаявне буття у чомусь зовнішньому, то на ступені моралі воля володіє наявнимбуттям у самій собі. Мораль означає подальший розвиток свободи, а саме підготовкусуб’єктивної сторони свободи на шляху до справжньої реалізації поняття свободи воб’єктивному світі. Особа абстрактного права стає суб’єктом моральної свободи волі.Для абстрактного права є байдужими внутрішній принцип і наміри особи. Лише наступені моралі набувають значення самовизначення, мотиви, умисел і цілі вчинківсуб’єкта. Вимога суб’єктивної свободи є у тому, щоб про людину судили по їїсамовизначенню. І з моральної точки зору людина є вільною від зовнішніхвизначень.
21Мораль як етап розвитку у філософії об’єктивного духу Г. Гегеля
Cуб’єктивність у моралі виступає як невизначеність. Гегель зазначає у«Філософії права», що ця невизначеність вказує особі шлях до вищої моральноїсвободи, виховує його характер, перетворює просту схильність до добра у постійнучесноту, робить її правом, звичкою, другою природою. Протиріччя, іманентноприсутнє моральній свідомості, не може бути вирішене нию самою, оскільки вонолише суб’єктивне, а його свобода часто є свавіллям, що не піддається контролю.Тому необхідною є об’єктивна моральність, у якій право осіб отримує реальнезначення, свобода їх стає справжньою, вони дійсно володіють своєю власноюсутністю, своєю внутрішньою всезагальністю. Суб’єктивність моральної свідомостізаради самозбереження у якості свідомості, що наділена совістю, повинна набутиоб’єктивності, тобто перетворитися на моральність.
Висновок: мораль у філософії Г.В.Ф. Гегеля розглядається як етап розвиткуправа. Три основні елементи об’єктивного духу: право, мораль і моральність,являють собою моменти діалектичного розвитку права. Правова проблематика уГ.В.Ф. Гегеля є дуже широкою, вона охоплює всю його практичну філософію. Правозаймає у його філософській системі особливе, надзвичайно високе місце, і повноїсвоєї реалізації - тобто узгодження особистої і всезагальної волі - воно досягає уформі держави. Подальші дослідження можуть проводитися у напрямку виявлення іаналізу впливу свободи на категорії практичної філософії Г.В.Ф. Гегеля.
Список літератури
1. Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М.: Мысль, 1997. – 332 с.2. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля / В.С. Нерсесянц.– М.: Юрист, 1998. – 294 с.3. Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М., 1990. – 456 с.4. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Г.В.Ф. Гегель. – М.: ЄКСМО, 2007. – 632 с.5. Гиренок Ф.И. Антропологические исследования: Кант и Гегель / Ф.И. Гиренок // Труды
лаборатирии виртуалистики. Выпуск 17. – М.: Путь, 2001. – С. 45-89.6. Пушкарева М.А. Анализ понятия «деятельности» в учениях Фихте, Шеллинга и Гегеля / М.А.
Пушкарева // Философские науки. 2003. – № 5. – С. 28-41.
Павлова Т.С. Мораль как этап развития права в философии объективного духа Г.В.Ф. Гегеля// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия.Культурология. Политология. Социология. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 18-21.
Рассматриваются вопросы морально-правовой проблематики в философии объективного духаГ.В.Ф. Гегеля. Показывается развитие права на таком важном этапе развития объективного духа какмораль, а так же рассматриваются вопросы личности и ее сознания в данном контексте.
Ключевые слова: объективный дух, право, мораль, сознание, действительность.
Pavlova T.S. Moral as the stage of development of right in G.W.F. philosophy of objective spirit //Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Politicalsciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 18-21.
The moral questions are examined in G.W.F. Hegel’s philosophy of objective spirit. Development of rightis shown on such important stage of development of objective spirit as moral, and the questions on personalityand its consciousness are similarly examined in this context
Keywords: objective spirit, right, moral, consciousness, reality.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1.С. 22-29.
УДК 124.1
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ХАОС
Ратников В.С.
В статье исследуется вопрос о соответствии рациональности научного знания хаотическимпроцессам существования. Обосновывается идея детерминированного хаоса, позволяющая превратитьхаотическое существование в объект научного исследования.
Ключевые слова: научная рациональность, хаос, детерминизм.
Предмет исследования – соответствие научной рациональности хаотическимпроцессам существования. Цель исследования – обосновать возможность научно-рационального описания хаотических процессов существования.
Долгое время понятия “хаос” и “рациональность” в содержательном плане былинесовместимы: рациональность резко противопоставлялась всякойиррациональности, а порядок – хаосу. Рациональность обычно ассоциировалась спорядком, последовательностью, закономерностью, а хаос – с иррациональностью ибеспорядком. Однако ситуация за последние десятилетия качественно изменилась. Онекоторых из этих изменений – преимущественно в контексте методологииестественнонаучного познания – и пойдёт речь в данной статье.
В последнее время заметно возрос интерес к феномену хаоса – как со стороныучёных, так и со стороны философов и методологов. Так, модельдетерминированного хаоса (МДХ), во многом как результат активноговзаимодействия механики (нелинейной динамики) и топологии, является весьмапопулярным объектом научных исследований не только в физике и математике, но ив таких областях, как химия, биология, психология, экономика, метеорология и др.Тем не менее, в описаниях ДХ редко различают его математические, физические иэпистемологические аспекты. Исследователи чаще обращаются именно кматематическим его аспектам – вопросам устойчивости систем, вычислимости,соотношениям континуального и дискретного, индивидуального и статистическогоописаний и т.п. Реже пишут о физических его аспектах – о необратимости,сложности, самоорганизации и т.п. А об особенностях знания, которое несёт в себе (ис собой) МДХ, о способах его получения, о стиле мышления и вообще о дискурсе наэту тему, – обо всём этом пишут ещё реже. Хотя для философии и методологиинауки здесь много важных и актуальных аспектов.
В данной статье мы намереваемся обсудить то, в какой мере разработка иосвоение МДХ повлияли на изменение идеалов и критериев научнойрациональности, а также, в чём именно состоят эти изменения. К тому жесоответствующие идеалы и критерии научной рациональности определяют также инаучную парадигму, принимаемую в данную эпоху научным сообществом.
23Рациональность и хаос
Ключевые понятия данной статьи обозначены в её заголовке. Тем не менее, авторполагает целесообразным дополнить их ещё двумя оппозиционными –“иррациональность” (по отношению к “рациональности”) и “порядок” (поотношению к “хаосу”) – и представить все четыре в виде определенной схемы.
С давних пор рациональность ассоциируется с порядком и разумнымустройством мира, а также с порядком действий, т.е. с логичностью,алгоритмичностью, технологичностью. Такая ассоциация соотносит рациональностьи детерминизм, т.е. концепцию, согласно которой мир есть связное целое, в которомцарит определённость, системность, закономерность (а не стихия, иррациональностьи беспорядок), и любое событие в мире причинно обусловлено или, по крайней мере,рационально объяснимо (т.е. происходит без ссылки на чудеса или какую-нибудьтрансцендентность). Противоположная же концепция, сторонники которой отдаютприоритет стихийному, чудесам, иррациональному, сверхъестественному,необъяснимым явлениям (например, необъяснимым на основе законов науки),ассоциируется обычно с индетерминизмом.
Известно, что ещё со времени досократиков фундаментальная проблеманатурфилософии состояла в том, чтобы выяснить, каким образом порядок возникаетиз сложного, нерегулируемого и хаотического состояния материи. Например,Гераклит был убеждён в упорядочивающей силе особой энергии Логоса, котораягармонизирует нерегулярные взаимодействия и создаёт упорядоченные состоянияматерии. Для античности соотношение рациональности и детерминизма не стольпроблематично вследствие справедливости тезиса о тождестве бытия и мышления. Вопределённой мере это можно увидеть на примере того содержания, котороевкладывали тогда в понятие “Логос”.
В эпоху Нового времени, по мере становления классической науки,сформировались нормы научной рациональности – нормы логичности,обоснованности, общезначимости и т.п. Прежде всего, научная рациональностьявляется нормативно определенной и методологически ориентированной надостижение объективно-истинного и/или эффективного результата (например,результата в виде решенной задачи, либо разрешённой научной проблемы). В самомделе, научной рациональности имманентно присущ нормативный характер, которыйстановился всё более заметным по мере обретения наукой относительнойсамостоятельности от иных форм человеческой деятельности. Дело в том, что однаиз важнейших особенностей, отличающих науку Нового времени, − это резкоеповышение роли методологической компоненты в самой науке как особой формечеловеческой деятельности.
Длительное время, вплоть до ХХ в., более или менее чёткие трактовкирациональности связывались именно с наукой и успехами в осмыслении научнойдеятельности. Рациональность, как правило, отождествлялась с научностью. Здесьже следует говорить и о формировании парадигмы рационального номологическогообъяснения, т.е. объяснения посредством законов природы.
Подчеркивая связь концепций рациональности и детерминизма, уместнообратиться к трактовке рациональности в онтологическом плане именно как
24Ратников В.С.
детерминистском видении мира, осуществляемом посредством динамическихспособов описания. Это такие способы описания, которые отображают изменениесостояния (в том числе направленное, причинно обусловленное) описываемогообъекта. Динамические способы описания бывают, по крайней мере, двух типов −жёстко-детерминированные и вероятностно-статистические. Последниеотличаются использованием для описания вероятностных и статистических идей,чего нет в динамических способов описания первого типа, примером которого могутслужить классические законы Ньютона или Кеплера.
Образцы динамических способов описания формировались в период становленияклассической науки. Здесь же следует указать на концепцию лапласовскогодетерминизма, в рамках которой оттачивались и принципы (будущие каноны)научной рациональности. Такими канонами стали линейность причинно-следственных связей (с чем увязывался приоритет жёстко-детерминированныхспособов описания) и неограниченность предсказательных возможностей законовприроды. Это соответствует идеологии культа Разума в эпоху Просвещения: спредсказуемостью ассоциировалась рациональность (рационально то, чтопредсказуемо).
Тем самым, мы имеем своеобразную триаду: “рациональность – детерминизм –предсказуемость”. Дело в том, что, начиная с эпохи Нового времени, со времениформирования принципов классической науки, предсказательная функция наукирассматривается как одна из главных и существенных. Лапласовский вездесущий Умпри наличии необходимых начальных условий, не имеет, вообще говоря,ограничений своим предсказательным возможностям. Если с достаточной полнотойзнать начальные условия объекта, то можно рассчитать, например, его будущуютраекторию посредством жёстко-детерминированных способов описания,предсказать его последующую динамику, которая в декартовых координатах будетизображаться в виде непрерывной кривой без изломов и скачков.
Такое убеждение сохранилось в науке (в физике в том числе) вплоть до XX века.Во многом его подкрепляла давняя методологическая традиция следовать в познаниипринципу простоты, который также содействовал укреплению рационалистскойустановки. В своих предсказательных возможностях динамические СОэволюционируют от возможности прогноза движения простых объектов кпредсказанию динамики сложных систем и далее − к прогнозированию сложногоповедения (движения) нелинейных систем. В первом случае, при изучении динамикисложных многоэлементных систем, используются вероятностно-статистические СО,существенно упрощающие ситуацию введением средних величин и процедурусреднения, функций распределения и т.п. Второй случай предсказания поведениясложных нелинейных систем связан с исследованиями переходных процессов типа“порядок → хаос”. В изучении таких процессов видное место отводитсяпроблематике, связанной с новым феноменом – феноменом детерминированногохаоса, о котором – чуть позже.
До сих пор, в рамках лапласовского детерминизма, мы имели в видунехаотические объекты, т.е. объекты (и механические системы), которые
25Рациональность и хаос
репрезентируются жёстко-детерминированными способами описания и подчиняютсязаконам Ньютона. Однако, уже исследования А. Пуанкаре, А. Ляпунова, Э. Цермелои др. показали, что механическая система при определённых условиях можетутратить изначальную регулярность своего движения и возможность безграничнойпредсказуемости. Тем не менее, свойства нерегулярной динамики и границпредсказуемости более подробно были изучены в процессе “рационализации” хаоса,например, при описании хаотических систем в рамках модели детерминированногохаоса.
Под моделью детерминированного хаоса подразумевается модель,репрезентирующую хаотические системы и их динамику и обладающуюследующими свойствами: а) нелинейность; б) возможность хаотического движенияпростой детерминированной системы; в) “чувствительность” динамическихпеременных (и характера траекторий системы) к малым отклонениям в начальныхусловиях; г) ограниченность предсказуемости динамики системы (т.е. наличие“горизонта предсказуемости”). Эта модель позволяет исследовать хаотическоеповедение детерминированной динамической системы, т.е. системы, описываемойдетерминированными дифференциальными уравнениями.
Открытие явления детерминированного хаоса показало, что состояниямакроскопической динамической системы, достаточно удалённые по времени, вомногих случаях – в неравновесном состоянии – оказываются нескоррелированными,что можно рассматривать как эквивалентное существованию независимыхпричинных цепей. Это означает, что возможно возникновение случайности вмакросистеме в процессе “самопроизвольных изменений”, что, естественно, повлияети на возможности предсказания динамики системы [2].
С 70-х годов детерминированный хаос становится весьма популярным объектомнелинейной динамики, которая в то время успешно осваивает сложные движения, нерепрезентируемые традиционными динамическими СО. Хорошо известнымипримерами здесь является динамика нелинейных диссипативных систем, динамикатурбулентности, динамика странного аттрактора и т.п. В рамках нелинейнойдинамики было доказано существование ситуаций, в которых простая, жёстко-детерминированная система вследствие своей неустойчивости способна вести себяхаотично, сложно, весьма трудно прогнозируемо. Такие ситуации не вписываются влинейную картину классического (лапласовского) детерминизма, а такие простыеобъекты, но со сложным поведением, действительно, требуют для своейтеоретической репрезентации нелинейных СО.
О возможности сложного, хаотического поведения простой системы (и, какследствие, − трудности с предсказанием её траектории) свидетельствует и такойфундаментальный результат нелинейной динамики, как теория Колмогорова −Арнольда − Мозера (или кратко: КАМ-теория) [5, с. 17; с. 164]. Рассматривая вопрособ устойчивости фазовых траекторий, эта теория утверждает возможность (приопределенных условиях) как бы “перемешивания”, “запутывания” траекторийпростой динамической системы, чего в традиционной ньютоновской механике неможет быть в принципе. Кроме того, КАМ-теория подтверждает отказ от резкого
26Ратников В.С.
противопоставления жёстко-детерминированных и вероятностно-статистических СОдинамических систем, ибо, согласно этой теории, в классической механикедопустимы ситуации, когда движение в фазовом пространстве нельзя рассматриватьни как полностью регулярное, ни как полностью нерегулярное, а тип траекториизависит от выбора начальных условий. Устойчивое же регулярное движение вклассической механике − скорее, исключение, чем правило [5, с. 17]. В областистохастического движения фазовая траектория изменяет свою топологическуюприроду, переставая быть линией. Проявление взаимоисключающих типов поведенияв одной и той же динамической системе явилось одним из удивительных инеожиданных открытий в физике второй половины ХХ века.
Действительно, в классической механике возможны ситуации, когда траекториив фазовом пространстве во многом зависят от выбора начальных условий и когдамельчайшие отклонения в исходных данных приводят к совершенно различнымтраекториям последующего движения (знаменитый “эффект бабочки”). Поэтомуоказывается невозможным заранее вычислить будущие направления движения вхаотической системе, несмотря на то, что математически они полностью определеныи детерминированы. Здесь вновь (как и в случае квантовой механики) приходитсяпересматривать концепцию детерминизма и традиционную парадигмуматематической физики, согласно которой движение однозначно репрезентируетсянепрерывной кривой (изображающей траекторию движения) без каких бы то ни былоразрывов и изломов. Пересмотр здесь идет по двум направлениям.
Во-первых, решения уравнений нелинейной динамики допускают ветвление(например, раздвоение), бифуркацию кривой-траектории, что, в частности, ведёт и кпересмотру положения о неограниченной предсказуемости динамическойтраектории. В зоне бифуркации предсказуемость оказывается невозможной. Инымисловами, здесь мы имеем дело с локальной непредсказуемостью. Термин”локальный” мы вводим для того, чтобы как-то “смягчить” радикальность оценокэтой новой области и приблизить к реальности те часто поспешные истолкованиятакой нетрадиционной ситуации в научном познании, которые − несмотря на успехинелинейной динамики и неравновесной термодинамики открытых систем − нередковедут даже к отрицанию необходимости предсказательной функции для научногознания. Эти истолкования во многом коррелируют с современными версиямиантисциентизма (например, постмодернизма).
Второе же направление пересмотра традиционной парадигмы математическойфизики (а вместе с этой парадигмой – и традиционно трактуемого детерминизма)как раз и связано с феноменом детерминированного хаоса. Случайное поведение вэтом случае не обязательно возникает в результате действия внешних случайных сил,оно может появиться в изолированных строго детерминированных системах.Непредсказуемость здесь надо отличать от локальной непредсказуемости в зонебифуркаций. Ещё А. Пуанкаре в своё время указывал на то, что непредсказуемыеявления, возникающие “по воле случая”, встречаются, скорее всего, в такихсистемах, где небольшие изменения в настоящем приводят к весьма заметнымизменениям в будущем. Здесь мы имеем дело с неустойчивостью системы.
27Рациональность и хаос
Исследование этого феномена открыло новую страницу в истории механики какнауки о движении.
Изучая проблемы устойчивости и неравновесности, физиками был открыт иисследован эффект быстрого роста степени непредсказуемости динамики сложныхнелинейных систем. Здесь также пришлось ввести явную коррекцию в традиционнуютрактовку детерминизма, что связано, в частности, с экспоненциальным накоплениемошибок, свойственным хаотическим системам.
С выявленной выше триадой “рациональность – детерминизм –предсказуемость” можно сопоставить ещё одну концепцию, также вынуждающуюизменить наши прежние представления о научной рациональности и о хаосе. Речьидёт о концепции частичной детерминированности, которая разрабатывалась восновном известным советским физиком-теоретиком Ю.А. Кравцовым и егосотрудниками. Эта концепция обосновывает количественные критерииотносительной степени упорядоченности (или хаотичности). Она базируется насоглашении, по которому детерминированность некоего процесса связывается с егополной (с вероятностью, равной единице) предсказуемостью, а случайность – снепредсказуемостью. «При таком подходе, – пишет Ю.А. Кравцов, – случайность идетерминированность не противопоставляются друг другу, а рассматриваются какполюса единого свойства — частичной детерминированности» [1, с. 101]. При этомстепень предсказуемости, согласно Кравцову, коррелирует со степенью хаотичности.Заметим, что эту ситуацию уместно соотнести с известной моделью К. Поппера“облака – часы” [3], в которой “часы” символизируют детерминированность, а“облака” – случайность.
К переходным процессам типа “порядок ↔ хаос”, которые демонстрируютпростоту порядка, но сложность хаоса (хотя и как рационализируемую,“исчислимую” сложность), относят и те процессы, которые описываются достаточнопростыми детерминированными уравнениями и которые также можно отнести кстохастическим системам. Математики изучали феномен стохастичности ещёраньше, нежели физики. В частности, к нему относится так называемый феноменнеклассических бильярдов типа бильярда Синая (названного по имени известногосоветского математика Я.Г. Синая, впервые его исследовавшего) [5; 6]. Былопоказано, что система уже из двух шаров, в зависимости от формы границы, можетобладать свойством хаотичности. Тем самым была решена задача обэкспоненциальной неустойчивости (и как следствие - непредсказуемости) траекторийсистемы упругих шаров. В дальнейшем были изучены различные модификациибильярдных систем и исследованы их статистические свойства. Более того, на основеанализа бильярдов был получен результат о возможном переходе к броуновскомудвижению в поведении чисто детерминированной системы, что явилось одним изпервых строго-математических подтверждений рождения хаоса в динамическихсистемах.
Выводы. Детерминизм претерпел на сегодняшний день, по крайней мере,третью существенную модификацию после лапласовской своей версии. Этамодификация приводит к тому, что в современной концепции детерминизма:
28Ратников В.С.
• ранее существовавшая “непроходимая” грань между порядком и хаосомуступает место “подвижной границе”, например, в рамках рассмотреннойнами концепции частичной детерминированности;
• причинно-следственная связь носит нелинейный характер, допускаясуществование самодействия и циклопричинности;
• меняется статус случайности (она усложняется до стохастичности), ибодаже простое механическое движение на определённом уровне допускаетстохастичность, причём случайное, хаотическое поведение не обязательновозникает в результате действия внешних, случайных сил;
• признаётся наличие пределов предсказуемости.Прогресс современной теоретической физики, и прежде всего успехи
нелинейной динамики и синергетического подхода, ведут к признаниюправомерности и оправданности во многих гносеологических ситуациях более“мягкой” методологии научного познания (нежели методология классической науки,базировавшейся на приоритете жёстко-детерминированных способов описания) впроцессе принятия теоретических построений в качестве научных. Эту новуюметодологию можно (до некоторой степени условно) представить в виде по крайнеймере “трёх отказов”:
• отказа от приоритета классического (лапласовского) иквантовомеханического детерминизма и переход к более “мягким” егоформам (например, стохастическому детерминизму), допускающимсвоеобразное сочетание – как взаимно дополнительное – жёстко-детерминированных и вероятностно-статистических способов описания, хотяи с возможными ограничениями на их (этих способов описания)предсказательную способность (учёт “горизонта предсказуемости”);
• отказа от приоритета линейных СО и линейного стиля мышления и переход кнелинейным СО как более богатым возможностями и более реалистичным,позволяющим описывать также и хаотические системы;
• отказа от приоритета простоты в научном описании (репрезентации) иобъяснении мира и расширение класса допустимых для научногоисследования объектов (подробнее – см. [4]).
Иными словами, на пути к более совершенным средствам и методам научногоисследования мы всё чаще сталкиваемся с отказом от прежних “методологическихжёсткостей” в научно-теоретической деятельности. Теперь действительно «можноговорить об ослаблении “научной нетерпимости” к изменению жестких формнаучного дискурса». Если иметь в виду прогресс современной теоретической науки(и, в частности, теоретической физики), то он ведет к дальнейшему расширениюсферы научно репрезентируемого. Наличие в современной науке тенденции к более“мягкой” методологии свидетельствует о расширении её предметной области,расширении сферы рационально постижимого.
Итак, явление детерминированного хаоса демонстрирует, чтодетерминистический закон и хаотический характер движения не противоречат другдругу. Иными словами, рациональность (порядок, закон, детерминизм) с одной
29Рациональность и хаос
стороны, и хаос – с другой, уже не противостоят друг другу. Рациональность, с однойстороны, своими новыми критериями “снимает” прежнее противостояние жёстко-детерминированных и вероятностно-статистических способов описания, а с другой –хаос допускает теперь научно-рациональную репрезентацию (например, в рамкахрассмотренной выше модели детерминированного хаоса), хотя и с рациональноконтролируемым учётом “горизонта предсказуемости”.
Список литературы
1. Кравцов Ю.А. Случайность, детерминированность, предсказуемость / Кравцов Ю.А. // Успехифизических наук. − 1989. − т.158. − № 1. − С. 93-122.
2. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики / МалинецкийГ.Г., Потапов А.Б. – М., 2000. – 336 с.
3. Поппер К. Об облаках и часах. Подход к проблеме рациональности и человеческой свободы /Поппер К. // Объективное знание. – М.: Эдиториал УРСС, 2002, с. 200-247.
4. Ратников В.С. Методологическое сознание современной науки: на пути к “мягкой”методологии / Ратников В.С. // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 106. - С. 96-99.
5. Синай Я.Г. Случайность неслучайного / Синай Я.Г. // Природа. – 1981. – № 3. – С.72-80.6. Шустер Г. Детерминированный хаос. / Шустер Г. – М.: Мир, 1988. – 240 с.
Ратніков В.С. Раціональність і хаос // Вчені записки Таврійського національного університетуім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). -№1. – С. 22-29.
У статті досліджується питання про відповідність раціональності наукового пізнання хаотичнимпроцесам існування. Обгрунтовується ідея детермінованого хаосу, яка дозволяє перетворити хаотичнеіснування на об’єкт наукового пізнання.
Ключові слова: наукова раціональність, хаос, детермінізм.
Ratnikov V.S. Rationality and chaos // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 22-29.
The article researches a problem of scientific knowledge rationality and chaotic existence processaccordance. It is grounded the determinate chaos idea, that allows to transform chaotic existence into scientificknowledge object.
Keywords: scientific rationality, chaos, determinism.
Поступило в редакцию 15.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 30-35.
УДК 299.513: 17
ПАРАДОКСЫ ФЕНОМЕНА НЕДЕЯНИЯ
Архангельская А.С.
Автор предпринимает попытку нетривиального подхода к сопоставлению трех видов феноменанедеяния: от даосской этики запрета на действие к так называемой «имитации лени» в разныхкультурах.
Ключевые слова: недеяние, даосская этика, парадокс, культура
Передмет исследования – социокультурное значение феномена недеяния. Цельисследования – выявить основные философские интерпретации феномена недеянияв контексте парадоксальности его возможных смыслов.
Парадоксальность феномена недеяния остроумно была предложена ещеГригорием Сковородой (если не считать давно известную реплику Сократа омножестве вещей, без которых оказывается можно обойтись). Мы не станем здесьперечислять «факультет ненужных вещей» – необходимых так многим и ненужныхстоль немногим из нас. По-видимому, избыточность вещного мира современнойцивилизации стала очевидной настолько, что обращение к оппозиции«деяние/Недеяние» востребована если не исподволь, то достаточно явно. Некоторымсвидетельством этой востребованности можно считать и появление статьи С.А.Никольского, в журнале Вопросы философии [1] и специальный выпуск журнала«Русская жизнь», посвященный острой полемике вокруг проблем т.н. «имитациилени» [2].
Какие же три подхода автор данного текста считает интересным соотнести, дабывысветить особенность собственной, возможно, нетривиальной позиции? Преждевсего, мне кажется несколько странным, что ни Никольский, ни авторы в журнале«Русская жизнь» не сочли необходимым оглянуться на очень древних китайцев и ихдаосскую этику. Недаром слово «дао», как известно, означает «путь», а Недеяние, т.е.У ВЭЙ – принцип невмешательства в естественный порядок [3]. Перекинем желогический мост к даосской традиции, и тогда вот как вкратце выглядят триизбранных нами подхода:
1. Восток – Даосский подход – в формуле «Не навреди»! Не навреди природеземной. Не навреди гармонии Вселенной, не навреди самому себе бездумнымидействиями по отношению к другому человеку.
2. Отечественный подход, а точнее определенный ракурс феномена недеяния,как «меланхолическое и задумчивое нежелание включаться в суету повседневности»(по Дм. Быкову). И здесь прежде всего гончаровское Недеяние в лице ИлюшиОбломова, как классика русской лени у Ю. Лошица [4], представлена близкая и нампо духу «Апология Обломова», о ней – чуть позже). Наконец, наше т.н. долго-запряганье, которое тоже есть своеобразный вариант Недеяния, замедленного
31Парадоксы феномена недеяния
раскачивания… перед действием в любой сфере нашего бытия. Здесь надо добавить,что результаты этой раскачки бывают весьма близки в итоге к небытию.
3. Запад – Американский подход как парадокс соединения эскапизма иальтруизма. Торо и Уайдлер. Житие Генри Торо на берегу озера Уолден и ТорнтонУайдлер [5], как «пророк изящного Христа» – главного героя своего последнего исамого философского романа «Теофил Норт». Это имя легко переводится сгреческого, как «Любовь к Богу». А его создателю, американскому писателю-мыслителю Торнтону Уайдлеру один из критиков – Майк Голден предъявил упрёк:«Да американец ли Мистер Уайдлер? Может быть, он швед или грек?»
Итак, в чем же скрыта парадоксальность 1-го, даосского подхода, его этики, егосуперэтики (как и всей китайской философии) [6]? Дело в том, что сам даосизм, егообоснование – это «Единство крайностей». В этом запрете на действие («Ненавреди»!), в этой этике природосообразного Недеяния кроется не бездействие, адействие сообразно природе, причем деяние без борьбы с нею. Очень важно, чтоНедеяние включает стимулы к «Спонтанному творчеству» и т.н. «Возврат к началу».Таким образом У ВЭЙ – Недеяние – это принцип невмешательства, это отсутствиетакой деятельности, которая могла бы нарушить естественный ход вещей,естественный порядок. Оказывается, Недеяние этики даосизма вовсе не есть ленивоеприспособление к жизни, в том-то и парадокс, что и индивидуализм здесь особогорода. У А. Кобзева даосизм обозначается как «индивидуалистический натурализм»[7], а не точнее ли сделать акцент на понятии «естественность»? Тогда Недеяниеоткрывает стимулы для особого вида интеллекта во взаимосвязи с интуицией.
Невидимая миру дуга осевого времени Карла Ясперса исправно работала в эпохуЛао-Цзы, и у очень древних греков-стоиков одной из опор их этики тоже былоследование законам Природы. Этический ригоризм мудреца-стоика – бесстрастие идобровольное следование судьбе. Этот античный кодекс чести стоицизмаперекликается с принципом даосской мудрости: «не печалиться ни о жизни, ни осмерти, понимая их естественность и неизбежность». Эта позиция суперэтикидревнего Китая была сформулирована задолго до Средней Стои, во 2-й половинепервого тысячелетия до н.э. Но здесь для нас важно именно так называемое «эхо»восточной мудрости, сущность которого была осознана греками самостоятельно.Стоит ли говорить, что для европейской традиции античной и наших времен осталасьсовершенно чуждой заповедь даосизма: «Мудрый правитель, следуя Дао, не сделалничего, чтобы управлять страной, ибо мудрец ”свободен от пристрастий ипредвзятости”» [8]. Еще более далеки наследники великой даосской традициисовременного Китая от принципа Недеяния («не навреди!») по отношению кПрироде. Здесь пути Востока и Запада так переплелись, что экологическаякатастрофа оказалась поистине общепланетарной и нерешаемой. Какое уж тут длябурно развивающейся экономики перенаселенной страны «природосообразноенедеяние» [9]!
Как и было обещано выше, вернемся к т.н. «Апологии Обломова», именно такименует С. Никольский позицию Ю. Лошица. Своеобразие контекста этой Апологиизаключается прежде всего в истолковании Обломовки, как «обломка некогдаполноценной и всеохватной жизни …, и что также Обломовка, как НЕ всеми забытый
32Архангельская А.С.
чудом уцелевший [10] блаженный уголок – обломок Эдема»? Согласитесь, этаинтерпретация Родины Илюши Обломова, как «потерянного Рая» прямопротиворечит традиционной оценке самого понятия «обломовщина», которая сталапочти привычной и незыблемой с не самой легкой руки Ник. Добролюбова.
Наверное, здесь уместно будет сослаться на мнение нашего современника – Дм.Ольшанского в его статье—эссе «Малолетка беспечный» с подзаголовком: «Баловатьребёнка – значит подарить ему мир» [11]. Возможно, его вывод не бесспорен, но какраз нам – в тему: «Только годы, проведённые по-обломовски, в окружении близких,охраняют детей от сокрушительного слома, что готовит им вандал коллектив»...
Оппозиция «Обломов-Штольц» в русской литературной критике (и особенно – втрадиции школьного преподавания литературы) отчасти поставлена под сомнениеизвестным фильмом «Несколько дней из жизни Обломова» раннего Н. Михалкова.Илья Ильич в блистательном исполнении Олега Табакова не может вызвать ничегокроме симпатии и сочувствия, как и у Ю. Лошица: «мудрый лентяй, мудрый дурак».
Вот из этого контраста мудрости и русской лени и прорастают корни парадоксаотечественного феномена Недеяния. Какими-то неисповедимыми путями,причудливой игрой природы и истории, даосский принцип Недеяния перекочевал и кнам, на наши родные просторы. А перекочевав, заметно обрусел, формируя иустанавливая на протяжении столетий (а не китайских тысячелетий) свои контрасты«деяния – трудолюбия и Недеяния – лености». Одним из парадоксов нашейнациональной особости этого феномена является, по мнению Бориса Кагарлицкогото, что он обозначил как «Имитация лени». В своей статье с таким заглавием, онутверждает, что «Русский человек может быть трудолюбив, но никогда в этом непризнается» (поистине, здесь ключевое слово «признаться»). Продолжая эту мысль онеспособности хвастаться, можно было бы грустно пошутить, что нашему человеку,кажется, легче признаться, что он алкоголик, чем признать себя трудоголиком. Вот вэтом нежелании признаваться («стоять или молчать, как партизан»…) заложено одноиз ментальных отличий тех соотечественников, в чьём человеческом естестве как бызакодирована та самая «имитация лени». Как видим, мы здесь не имеем в видусоциальный статус русского барина Илюши Обломова (и верного слуги Захара –Обломова-2), или других баловней судьбы. Тем более, что в этом скромном опытеисследования для нас важнее всего обратить внимание на эффект повторяемости,сопоставимости подходов к анализу феномена Недеяния и, что наиболее интересно,их парадоксальность.
То, что в каждом русском обязательно присутствие Илюши Обломова – почтибесспорно признаваемая традиция. Это присутствие может отличаться лишьразницей или весом т.н. дозировки: он может или сидеть в своем кресле, иливозлежать на диване. Мы здесь намеренно упомянули слово «дозировка», так какимеем в виду еще некоторые составляющие (ингредиенты) этого виртуальногококтейля нашего национального характера. При всей кажущейся ихнесовместимости, нам представляется обязательным включение в этот коктейльдобавок или «маниловщины» или «карамазовщины». Притом, так как братьев былоне только трое, но был еще и четвертый – настоящий отцеубийца Смердяков, то,обозначая явление карамазовщины, мы здесь не в силах расшифровать всю
33Парадоксы феномена недеяния
сложность и неоднозначность их взаимосвязи. И их присутствия в нашем коктейле,ибо в этом напитке может быть больше доля только одного из них. Но это –отдельная тема, а доза нашей собственной склонности к Недеянию так велика, что мывеликодушно оставляем эту тему другим исследователям. Добавим лишь, что естьеще один вид отечественного Недеяния – это уже упомянутое выше «долго-запрягание». Умение откладывать на потом, на завтра, раскачиваться, отвлекаясь надругие, зачастую второстепенные дела – это и есть то самое родное долго-запрягание. Здесь не идет речь о чиновничьем бездушии на всех уровнях. Правда и упунктуальных немцев это явление зафиксировано в поговорке: «Morgen-morgen nurnicht heute» (Завтра-завтра, но не сегодня).
Тот же Борис Кагарлицкий убеждён, что «представление о том, что мы работаемплохо, что мы беспечны, мы ленивы, всё у нас из рук валится, сидит глубоко врусской культуре, и как ни удивительно, не оспаривается даже самыми отчаяннымипатриотами. Напротив, западный человек согласно нашим понятиям, трудолюбив,надежен и эффективен» [12]. Здесь, как мы видим, целый гордиев узелокпротиворечий и парадоксов. И западный человек бывает не самым эффективным всравнении с толковостью наших соотечественников, но зато почти всегдапревосходит нас в умении себя подать и в завышении собственной самооценки. Еслиучесть, сколько в наш технократический век наворочено и истрачено лишнего, топриходится согласиться с мнением Дмитрия Быкова об Илье Ильиче Обломове, чтоон «почти всю жизнь прожил, совершая благо Недеяния [13], будучи чуть ли непроводником божественной воли», и тем самым помогая сохранить status guo внезыблемости каких-то коренных установлений божьего мира…
Пожалуй, здесь трудно удержаться, дабы не сослатьcя на ту аргументацию,которую предлагает Дм. Быков в своем тексте «Думанье мира»: «Недеяниепредполагает праздность, а русский человек в моменты кажущегося безделья как разчто-то упорно и сосредоточено думает … для русского человека лучше ничего неделать, нежели думать и предавать свою бессмертную душу» [14].
Но, пожалуй, одной из самых неожиданных форм Недеяния, на наш взгляд,оказалось его появление в самой деловитой стране – Северной Америке. Мы имеемвиду житие Генри Торо на берегу озера Уолден – в русле своеобразного теченияэскапизма, описанного им в книге «Уолден или жизнь в лесу». Обычно понятие«эскапизм» относят к т.н. «бегству от мира», в религиозном ключе: уход вмонастырь, в скит, в монашество. Но стиль жизни Генри Торо, писателя и мыслителя,а потом и общественного деятеля, вполне светского человека и была мирскойформой ухода (но не бегства)! от действительности, подвергнутой им критическомуанализу. Нам важно здесь в образе его лесной жизни увидеть те черты «Возвращенияк истокам», которые так естественно были присущи еще древним даосам. Так онпришел к выводу, который перекликается с основой даосской этики: «нравственноеочищение возможно только лишь после глубокого осознания личностью своегоотчуждения от несправедливого общественного уклада и при условии постоянногоконтакта человека с природой, воплощающей трансцендентный идеал, чистоту,красоту и непорочность» [15].
34Архангельская А.С.
Но кроме этого вывода философа-романтика, Торо, как общественный деятель,проявил себя лидером в своем смелом эссе «О гражданском неповиновении» (1849г.), которому в текущем году исполняется 260 лет. Принято считать, что в этомпрограммном эссе Торо, призывая к ненасильственной революции, пыталсяразбудить общественное мнение в США и оказался предтечей М.Ганди и М.Л. Кинга.Интересно соотнести этимологию и смысловые оттенки слов: НЕНАСИЛИЕ иНЕДЕЯНИЕ. Вот такая оригинальная форма деятельного Недеяния, которое оказалостоль заметное влияние не только на Ганди и Кинга, но, как известно, и на графаЛьва Толстого.
Наверное, еще более оригинальной представляется нам такая формаамериканского вида Недеяния, как альтруизм. Кстати, как это не без лукавствапоказывает Уайлдер, альтруизм – отчасти вынужденный. Мы имеем в видупоследний и самый философский роман Торнтона Уайлдера – «Теофил Норт», гдеглавный герой в сущности, – alter ego самого автора, остроумно показавшегосвоеобразную форму « обречённости на альтруизм».
Как известно, последний роман Достоевского – «Братья Карамазовы» – такжесамый философский. Во многом благодаря включению в него притчи, придуманнойстаршим братом Иваном – «Великий инквизитор». Иногда этот роман трактуется какпсихологический детектив, а сейчас назвали бы – триллер…
А вот «Теофил Норт» некоторые наши издатели считают возможным отнести кжанру «плутовского романа». В то время, как другие им в противовес называютУайлдера за создание его Теофила – «пророком изящного Христа».
По-видимому, изящество этого alter ego автора, скорее всего в том, что он самсебя никому не навязывая, оказывается столь нужным и востребованным, что емусамому это если не в тягость, то оборачивается явлением несколько неожиданным иудивительным. Поистине, получается «Гипертрофия обратной связи», как называлакогда-то Виктория Токарева одну из своих давних повестей. А Теофил Норт, несобираясь делать никакую карьеру, несмотря на настояния родных, после службы нафлоте, сбежал, в сущности, из родного штата (о, романтика эскапизма в путешествиипо огромной стране!) в тот самый город-порт, в котором несколько лет назадпроходил морскую службу. Его статус человека со стороны, его непоказная доброта,его способности и располагающая к себе внешность, наконец, его альтруизм (безтени пафоса), оказываются столь необходимыми и детям, и взрослым. Итак,обладателю дара «гения общения» и бескорыстного альтруизма пришлось нестикрест востребованности. По-видимому, этот роман во многом документально-автобиографический, и тогда оказывается, что американская почва способна быларождать не только деловитость и предприимчивость. Теофил Норт обладаетчеловеческими качествами, далекими от этики утилитаризма, но зато приближающиеих носителя к этике бескорыстного благодеяния. А сочетание этих искреннихблагодеяний вызвало у одного из критиков Уайдлера реплику недоумения: даамериканец ли мистер Торнтон Уайлдер?
Выводы. Автор вовсе не ставил перед собой задачу всеохватногосопоставительного анализа феномена НЕДЕЯНИЯ в разных культурах и разныхментальностях. Здесь предложена лишь попытка наметить контур именно
35Парадоксы феномена недеяния
парадоксальности – как самого феномена, затеянного древней даосской этикой, так инеожиданные повороты этих парадоксов в их национальных одеяниях.
Как видно из предлагаемого текста, автора увлекает поиск проявленийпарадоксальности тех или иных исследуемых явлений, если хотите – эстетикапарадоксов даже в сфере этики. А особенно – в глубинах ментальности разныхкультур. Разумеется, здесь всего лишь заявка на постановку проблемы, ибо эстетикапарадоксов в этической сфере – это тоже своеобразный оксюморон. Если поэтМихаил Лермонтов мог себе позволить воскликнуть: «Но красоты их безобразной яскоро таинство постиг» [16], то автор данного текста при попытке аналитическогоподхода осознаёт нечто неизъяснимое в этических оксюморонах вообще, а впарадоксах феномена Недеяния – в особенности.
Список литературы1. Никольский С.А. Русский человек в деле и недеянии: опыт исследования И.А.Гончарова / С.А.
Никольский.// Вопросы философии. – 2009. – № 4. - С. 73-84.2. См. журнал «Русская жизнь». - № 47. - 2009 г.3. Никольский С.А. Указ. соч.4. Лошиц Ю. Гончаров И.А. / Ю. Лошиц. – М., 2004. - 392 с.5. Уайдлер Т. Теофил Норт / Т. Уайдлер. – М.: Художественная литература, 1981. - 543 с.6. Никольский С.А. Указ. соч.7. История этических учений – М.: Гардарики, 2003. - С.17-22.8. Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания / Е.А. Торчинов. – СПб.: Лань,
1998. – 448 с.9. Бажанов Е. Китай: догнал и перегнал Америку? / Е. Бажанов // «Известия в Украине». – 2009. –
№187. – С. 1–3.10. Лошиц Ю., Указ. соч.11. Ольшанский Д. Малолетка беспечный / Д. Ольшанский // Русская жизнь. – 2007. – № 2. - С.
116-119.12. Кагарлицкий Б. Имитация лени / Б. Кагарлицкий // Русская жизнь. -2009. – № 47. – С. 48-52.13. Быков Д. Думание мира / Д. Быков // Русская жизнь. – 2009. – № 47. – С. 27-30.14. Там же.15. Торо Г. Уолден, или жизнь в лесу / Г. Торо. – М., 1962. - 240 с.16. Лермонтов М.Ю. «В альбом С. Н. Карамзиной» (1841)
Архангельська А.С. Парадокси феномена недії // Вчені записки Таврійського національногоуніверситету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. –Т.23 (62). - №1. – С. 30-35.
Автор робить спробу нетривіального підходу до порівняння трьох видів феномену недії: віддаоської етики до так званої «імітації лінощі» у різних культурах.
Ключові слова: недія, даоська етика, парадокс, культура.
Arkhangelskaya A.S. Paradoxes of the non-acting phenomenon // Scientific Notes of Taurida NationalV.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23(62). – №1. – P. 30-35.
An author undertakes the attempt of the non-trivial going to three types of the non-acting phenomenoncomparison: from taoist ethic to the so-called «imitation of laziness» in different cultures.
Keywords: non-acting, taoist ethic, paradox, culture.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 36-40.
УДК 1:316.3:291:23
ЭСХАТОЛОГИЯ И ПРОГРЕСС: ПРОБЛЕМА КОНЦА/НАЧАЛАИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Беляева Т.Н.
Статья посвящена философскому осмыслению представлений о христианской эсхатологии васпекте ее влияния на историческое сознание и идею прогресса, лежащую в основании современнойтехногенной цивилизации. Рассматривается актуальность эсхатологических перспектив и идей каксмыслообразующих моделей дальнейшего исторического развития человеческого общества.
Ключевые слова: эсхатология, техногенная цивилизация, прогресс, конец истории.
Целью настоящей публикации является рассмотрение концептов конца/началаистории в контексте техногенной цивилизации. На сегодняшний день уже ни у когоне вызывает сомнений то, что современная техногенная цивилизация находится вглобальном мировоззренческом кризисе. Разрушены мифы прошлого, все большуюактуальность приобретает прогнозирование будущего. Актуальность даннойпроблемы обостряется вопросом о самой возможности дальнейшего историческогопроцесса.
В ХХ в. дискредитированы многие философские идеи, ставшие традиционнымидля европейской мысли, в частности, концепция единства истории, следствием чегофилософами и мыслителями различных отраслей знания был заявлен «конецистории». Отвергнув идею прогрессивного развития, человечество оказалосьохвачено «постмодернистской ситуацией» – существованием в таком состоянии,когда уже все завершено, все случилось, произошло, и дальнейшее движениевоспринимается крайне проблематичным.
Как пишет Бодрийяр: «…Вместо целенаправленного процесса, обладающегоидеальным развитием, перед нами порождающие модели. Вместо пророчеств –«зафиксированная» программа…. В этой перемене нет ничего«недетерминированного»: в ней находит завершение длительный процесс, когдаодин за другим умерли Бог, Человек, Прогресс, сама история, уступив место коду,когда умерла трансцендентность, уступив место имманентности…» [1, с. 130]. Илиу Слотердайка: «С тех пор как прогресс стал протекать самостоятельно, оптимизмотносительно будущего превратился в процессуальную меланхолию. Мы больше неедем из Генуи в Новое время, мы движемся по ленточному конвейеру в нечтонеобозримое» [2]. Однако, Слотердайк считает, что культура модерна, перешедшаяв постмодерн и понимающая сама себя как последнее время, не может перейти внечто другое, до тех пор, пока ясно не представит свое будущее. Будущее, времяпосле конца истории – открыто, это поле потенциальной актуализации неизвестныхв настоящее время социальных проблем и заданий.
Сегодня главной задачей философии является поиск новых жизненныхориентиров, новых смыслов и ценностей существования человечества. Как писал Л.Гумилев: «Говорить о незаконченных процессах можно лишь в порядке
37Эсхатология и прогресс: проблема конца/начала истории…
прогнозирования, а для последнего нужно иметь в руках формулу закономерности»[3, с. 26]. В.С. Степин указывает, что любая область человеческого познанияопирается на так называемую «наглядно – образную компоненту», и философия,как основа мировоззрения, всегда обращается к наиболее общим культурнымкомпонентам [4].
Эсхатология (с греческого – последнее учение) – религиозное учение о концеистории и конечной судьбе мира. Практически в любой религии существуютподобные описания конца света, глобальной катастрофы, которая ожидаетчеловечество. У Иудеев оно дано в книге пророка Даниила, у христиан – в книгеОткровения, у мусульман – в представлении о пришествии Махди и т. Однако, впроцессе исторического развития эсхатология преодолевает узко религиозныерамки и становится определенным культурным и мировоззренческим понятием. Вэтом состоит актуальность исследования, связанная с рассмотрением эсхатологиикак некой культурной универсалии, дающей перспективу для поиска новыхвозможностей развития личности, общества, для начала истории.
Для того чтобы выявить причины кризиса техногенной цивилизации,необходимо обратиться к рассмотрению ее социокультурных оснований.Непосредственной предпосылкой техногенной цивилизации явились прогрессивныеидеи эпохи Возрождения, и последующие научно-технические революции. Сама жеидея прогресса имеет свою историю формирования: она начинается, когда впроцессе развития и усложнения человеческого сознания, мифологическиепредставления трансформировались в историческое сознание, в результате чегосформировалась целостная картина мира, понимаемая как единый линейныйпроцесс.
Карлом Ясперсом предложено понятие «осевое время», период примерно с 800по 200 гг. до н.э., когда в различных регионах параллельно возникают мощныедуховные движения. Это период серьезных социальных трансформаций и кризисачеловеческого бытия, когда возникают религии спасения, связанные с идеейтрансцендентального единого Бога. Именно с этого периода можно говорить оединой истории человечества. Начало такому поступательному движению историибыло положено иудейскими пророчествами (Илии, Исайи и Второисайи),объединенными эсхатологическим восприятием исторического процесса, которыйохватывал прошлое, настоящее, и непременно конечное, завершающее будущеевремя [5, с. 76-83].
Николай Бердяев возникновение исторического сознания, также связывает смиссианско-эсхатологическим сознанием иудейских пророков, и повлиявшего наних персидского учения – Зароастризма: «Можно сказать, что мессианизмконструирует историческое. Философия истории имеет иранско-иудейские истоки.Учение о прогрессе 19 века, столь не христианское по своей внешности, имеет всете же истоки в мессианском ожидании» [6, с. 259].
Христианство интерпретировало узко национальную иудейскую эсхатологию.По сути, идея глобализации присутствует в христианстве, так как история в немпонимается как всемирный, универсальный наднациональный инадтерриториальный общечеловеческий проект, имеющий начало и завершение.
Христианство утверждает идею движения к будущему совершенству, идеюнравственного прогресса, опирающегося на свободный выбор личности. История,на основании идеи прогресса и эсхатологии, наполняется смыслом и целью –
38Беляева Т.Н.
человек, руководствующийся божьей волей, способен своими творческимиусилиями преобразовать несовершенства существующего мира. Такое пониманиеистории соответствует концепции хилиазма, которая содержится в рамкахэсхатологического учения и утверждает возможность светлого конца истории –наступление Тысячелетнего Царства на Земле.
Первые сообщества христиан ожидали конца света и наступления ЦарстваБожьего уже в обозримом будущем, чего, естественно, не случилось. В дальнейшем,подобная безвременность пророчеств, неопределенность апокалипсическогоокончания истории, разочарование в скором наступлении божьего правосудия,привели к приоритету гуманистических и рационалистических ценностей иустремлений. Больше не ожидается наступление Царства Небесного, аосуществляются попытки построения Царства Земного. На основании хилиазмавозникает жанр социальной утопии, главной идеей которого становится идеяпрогресса, идея построения свободного и справедливого социального общества.Слотердайк обращает внимание на то, что вся западноевропейская история былаоснована и воспринята мессианским – эсхатологическим, мышлением, котороеобязательно направлено на ожидание достижения и окончания истории.Мессианским мышлением создавались все прогрессивные общественные теориимодерна, и гуманистические, и социалистические и даже атеистические.
Социальные процессы XIX и XX вв., обнаружили явное несоответствиереальности оптимистическим, прогрессистским теориям. В современном мирепроизошла девальвация духовных ценностей, что повлияло на появлениетехнократического стиля мышления. Опора на рациональность, науку и технику какусловия преобразования мира, составляющие основу техногенной цивилизации,привели к зависимости жизнедеятельности человечества от технологий. Оказалось,что прогрессивные изменения в одной области сопровождаются регрессом в других,то есть, сведение прогресса к любому одному аспекту деструктивно для системы вцелом и ведет к деградации общества и человека. Таким образом, как пишет Ф.Фукуяма: «Современный пессимизм относительно возможности прогресса вистории был порожден двумя отдельными, но параллельными кризисами: кризисомполитики двадцатого столетия и интеллектуальным кризисом западногорационализма» [7, с. 41].
Главной идеей, которая привела к построению техногенной цивилизации, былаидея активного, деятельного преобразования этого мира, для удовлетворениянеобходимых, а затем и постоянно растущих потребностей. Природа стала объектомдля покорения. Раскрывая законы природы, человек приобретал новыевозможности. Такое же положение дел происходило и в социальной сфере – есличеловеческие возможности неограниченны, следовательно, построение идеальногообщества вполне реально. Изменяя мир, человек берет на себя функцию творца [8].В эсхатологии эти события выносятся за пределы истории, после событийапокалипсиса. Именно в этом и состоит принципиальное заблуждениепрогрессистов. Согласно эсхатологическому приданию, изначально было даноравноответственное пророчество, в котором всемогущество Божьей воли невступало в противоречие с человеческой свободой. Отказавшись же от самой идеинекого нравственного ориентира выбора, человечество оказалось в кризисной,тупиковой ситуации постмодерна. Слотердайк обращает внимание на то, чтосовременная западноевропейская цивилизация осуществляет нападки на
39Эсхатология и прогресс: проблема конца/начала истории…
традиционное понимание христианства, и все чаще пытается воскресить языческиетрадиции, но, даже «прощаясь» с традиционным христианством, историческоемышление с его эсхатологией все же остается.
Можно ужасаться негативным проявлениям техногенной цивилизации, но всамом прогрессивном принципе лежит возможность изменений, какположительных, так и разрушительных, стоит отметить двойственностьпротекающих на сегодняшний день процессов. Так, с одной стороны,разрабатываются экологические направления, (применимые к политике, экономике,идеологии и т.д.), главным принципом подобных перспектив становитсясотрудничество, сосуществование, коэволюция. В процессе изменения мира,человек рассматривается не как нечто внешнее, а как часть единоготрансформирующегося процесса. С другой же стороны, происходит стремительноеразвитие науки в таких направлениях, как милитаризация, генная инженерия,трансплантология, клонирование и др. Критерий различия этих направленийочевиден, это последствия и сопутствующие процессы.
Совершенно очевидно, что современный человек не может обойтись безтехники, однако, необходимо научиться осознанно и безопасно управлятьтехнологическими процессами. Прогрессивные изменения должны протекатьгармонично во всей системе, наряду с технологическим прогрессом необходимодолжен прогрессировать человек, и такая возможность изменения человеказаложена в эсхатологическом учении, как некий ориентир и принцип. Эсхатологияпредполагает дальнейшее нравственное совершенствование человека, котороеявляется синонимом спасения и выживания. Это может произойти, как осознанный,рациональный выбор, или же подобная трансформация человеческого сознанияможет стать следствием необходимой эволюционной мутации, но пока все остаетсяв рамках гипотетической возможности.
С точки зрения синергетики, для сложных, нелинейных систем, чем и являетсяокружающий нас мир, всегда существует множество путей развития. Возникаеттрансгрессивная открытость, человек, как сложная система, выбирает будущее, ивозможность такого выбора возрастает в точках бифуркации, в обострениинестабильности, в кризисной ситуации, пропорционально чему растет и мерачеловеческой ответственности. Если исходить из подобной перспективы, токризисы – необходимые этапы в развитии общества и человека. Санислав Грофназывает современный процесс – «революцией в сознании», в которой онусматривает позитивный знак нашего времени и: «признак того, как человечество,как культурный и биологический вид, отвечает на угрозы и задачи, стоящие передним в эти решающие и интригующие времена» [9, с. 225]
Вывод. Какие бы изменения не происходили в техногенной цивилизации, вобществе и в человеческом сознании на данном этапе развития, все-таки оносохраняет свою направленность, эсхатологическую историчность. Именно вкризисные времена, когда наука однозначно не может предсказать будущее,эсхатологическая открытость снова приобретает актуальность. Преодолеврелигиозные рамки, эсхатология остается полем для поиска и реализациинамеченных перспектив. В этом и заключается парадокс, – эсхатологическоеучение, как наличие постоянной возможности вобрало в себя все мыслимыевариации человеческого развития. Аллегории пророчеств дают возможность
40Беляева Т.Н.
многовариантного прочтения и различной интерпретации событий. Поэтомуэсхатология, как учение о грядущем, не может закончиться простой манифестацией«конца истории». Конец истории – это в конечном итоге достижение совершенства,идеала. Можно выразиться еще более буквально – если еще не наступило второепришествие, и не произошло духовное преображение мира – значит это еще неконец. Актуальным сегодня остается и жанр утопии, понимаемый в качествепринципиально недостижимой цели, постоянно отдаляющегося горизонта,намечающего перспективы развития человеческого общества.
Список литературы
1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М.: «Добросвет», 2000. – 387 с.2. Слотердайк П. После истории [Электронный ресурс] / П. Слотердайк. – Режим доступа:
http://www.politizdat.ru/article/103/.3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 560 с.4. Степин В.С. Экологический кризис и будущее цивилизации/ В.С. Степин // Хесле В.
Философия и экология. М.: Изд-во АО «Ками», 1994. - 188 с.5. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.6. Бердяев Н.А. Царство духа и царство Кесаря/ Сост. и послесл. П.В. Алексеева; подгот. текста
и прим. Р.К. Медведевой. – М.: Республика, 1995. – 383 с.7. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Френсис Фукуяма; пер. с англ. М.Б.
Левина. – М., АСТ: Ермак, 2005. – 588 с.8. Церковь, общество, культура в православном церковном Предании: Доклад на Совещании
православных, лютеранских и реформаторских богословов в Нью-Йорке (ноябрь 1975 г.)[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orthodox.zp.ua/?page_id=577.
9. Гроф С. Революция сознания: Трансатлантический диалог / С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел; пер.с англ. М. Драчинского. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 248 с.
Біляєва Т.М. Есхатологія та прогрес: проблема кінця/початку історії в контексті техногенноїцивілізації // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія:Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 36-40.
Головною метою статті є філософське осмислення уявлень про християнську есхатологію, їївпливу на історичну свідомість та ідею прогресу, яка є підґрунтям сучасної техногенної цивілізації. Встатті розглядається актуальність есхатологічних ідей, як сенсоутворюючих моделей подальшогоісторичного розвитку людського суспільства.
Ключові слова: есхатологія, техногенна цивілізація, прогрес, кінець історії.
Biliaieva T. Eschatology and progress: a problem of the end/beginning of the history in a context ofa technogenic civilization // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series:Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 36-40.
The main aim of this article is the philosophical comprehension of representation about Christianeschatology in aspect of its influence on historical consciousness and the idea of progress lying in the basis ofa modern technogenic civilization. In this article the actuality of eschatological perspectives and ideas assense-made models of the future historical development of a human society is considered.
Keywords: eschatology, technogenic civilization, progress, the end of the history.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 41-45.
УДК 100.37
МНОГОМЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МНОГОМЕРНОСТИ
Богатая Л.Н.
В статье вводится широкое и узкое толкование терминологического выражения «многомерноемышление». Многомерность рассматривается в связи с представлениями об онтологических уровнях иих мерности.
Ключевые слова: многомерность, онтологический уровень, многомерное мышление.
Предметом исследования выступает многомерность как способ интерпретациимышления. Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть онтологическиепредпосылки истолкования мышления в терминах многомерности.Мощные трансформационные процессы, происходящие в настоящее время во всехобластях культуры, являются отражением глобальных изменений, которыепретерпевает сам человек. Своеобразие и определенная сложность складывающейсяситуации состоит в том, что происходящие трансформации, внутренние и внешние,отслеживает «человек-изменяющийся». В результате все кажется неустойчивым,пластичным, переменчивым. Теряется точка опоры, которая так мучительнообреталась на протяжении последних столетий. Третья волна Возрождения, окоторой писали И.Пригожин и В.Налимов, стала напоминать перерождение, врезультате которого в привычных формах начинает обнаруживаться нечтопринципиально новое. В этот исторический момент особую роль приобретаютфилософия, наука, и религия, ибо именно они способствуют проявлению техидейных ориентиров, которые помогают каждому конкретному человеку выдержатьнатиск раздирающей неопределенности. Обнадеживающим в складывающеесяситуации оказывается то обстоятельство, что к фазе глобальных трансформацийфилософия и наука подошли со следующими ценностями:
• методологического плюрализма (П. Фейерабенд);• личностной ответственности (М. Полани, М. Бахтин), признания важности
каждой «ответственной» точки зрения;• с пониманием необходимости смены принципа борьбы на принцип
компромисса (Ф.В. Лазарев).«Человек-изменяющийся» начинает обнаруживать у себя необычные
способности, к примеру, способность мыслить по-новому. Мысль формируется ужеиначе. Ее появление нельзя объяснить правилами формальной логики. И потомувозникает необходимость в поиске новых правил, соответствующих новому способумышления. Отмеченная задача не является легкой, и приступить к ее разрешениюцелесообразно с акта именования.
42Богатая Л.Н.
Новый способ мышления есть основания именовать мышлением многомерным.Правомерность выбора такого именования нетрудно аргументировать. Аргументпервый можно назвать «аргументом обнаружения».
Интуиции по поводу возможности существования «иных» способов мышленияимеют определенную историю, предвосхищения. К такого рода предвосхищениямследует отнести, к примеру, представления о тропологическом мышлении,возникшие еще в средневековой философии (исследования по этому поводупредставлены в работах С.С. Неретиной), размышления о последовательноммышлении В. Шмакова, о вероятностном и спонтанном мышлении (В.В. Налимов), осериальном мышлении (Ж. Делез, постмодернистская философская традиция), осимволическом мышлении (К.Г. Юнг, Д. Редьяр, П. Флоренский). Всех авторов,представленных в отмеченном контексте, объединяет то, что они признавали наличиене только отклонений от правил формально-логического мышления, но и пыталисьпрояснить новые способы мыслительных практик. В настоящей культурной ситуациипоявляется возможность последовательного рассмотрения соответствующихнаработок в рамках единого исследовательского подхода (результатысоответствующих исследований отражены в авторской монографии «На пути кмногомерному мышлению», которая в настоящее время готовится к изданию).
Аргумент второй или аргумент в пользу многомерности. Если принять самувозможность существования способа мышления, отличного от того, которыйописывается правилами формальной логики, то возникает вопрос: в какихпознавательных ситуациях этот новый способ должен себя обнаруживать в первуюочередь? Один из вариантов ответа состоит в том, что дополнительные когнитивныевозможности должны проявляться в особо сложных познавательных ситуациях илииначе – в процессе исследования сложных объектов. Как известно, именносложность оказалась главным предметом внимания ученых в последней четверти ХХвека.
Общепризнанными теориями сложных самоорганизующихся объектов сталитеории, разработанные И. Пригожиным и Г. Хакеном. Они были положены воснование синергетического подхода, получившего широкое распространение кконцу ХХ века. Из синергетики в культурное обращение перешли представления обособенностях поведения сложных открытых нелинейных систем, появилисьтермины, позволяющие соответствующее поведение описывать. Определенныеестественнонаучные достижения в изучении сложного способствовалираспространению синергетического подхода и на исследование человекомерныхсистем. Сложившейся ситуации способствовало и то, что и сам человек, казалось бы,попадает под определение сложная открытая нелинейная система. И, тем не менее,при все более очевидно обнаруживающемся сближении (по степени сложности)объектов естественнонаучного и гуманитарного знания, никак нельзя недооцениватьтого, что между человеком и самой сложной неживой системой есть непреодолимоеразличие в виде искры жизни, которая либо есть, либо отсутствует. И потому, как бызаманчиво ни было использование синергетического инструментария вгуманитарных исследованиях, в каждом конкретном случае его применениянеобходимо соблюдать, с одной стороны, осторожность, с другой – пониматьограниченность соответствующих возможностей. Сформировавшаяся к началу ХХIвека синергетическая парадигма имеет общенаучный статус, что же касается
Многомерное мышление в контексте представлений о многомерности
парадигмы общекультурной, то ее, вероятно, как и предлагают многие специалисты,лучше именовать постнеклассической и она являет собой некий синтезсинергетической парадигмы и постмодернистских установок парадигмальногоуровня, ибо именно в рамках постмодернизма, с нашей точки зрения, формировалсяфилософский вариант рефлексии по поводу исследования сложного. К сожалению,изучение методологических новаций, парадигмальных элементов постмодернистскойфилософской традиции все еще не произошло. Поэтому постнеклассическаяпарадигма чаще всего редуцируется к парадигме синергетической, что приводит ксущественному упрощению тех гносеологических наработок, с которымичеловечество подошло к концу ХХ века.
Из отмеченного вовсе не следует, что только в рамках постмодернизма вфилософии нарабатывалось осмысление сложного. Изучение любого сложногообъекта предполагает наличие адекватного по степени организации инструментария.И потому любые философские подходы к исследованию, к примеру, сознания(объекта высокой степени сложности) могут уже на уровне используемого методаобнаруживать отражения новых ментальных установок.
Философская рефлексия в отношении сложного косвенно отражена висследованиях проблем нарастающего плюрализма мнений. В соответствующихисследовательских зонах сложность стимулирует размышления о многомерности,ибо сам факт появления сложного свидетельствует о своеобразном исчерпаниивозможностей существующей мерности. Поэтому именно «вблизи» изучениясложного обнаруживаются первые, осознанные или неосознанные, проявленияпереключения мерности.
Если принять положение о том, что исследование сложного способствуетобнаружению новых ментальных практик, то естественно задать вопрос: почему этиментальные проявления должны именоваться как многомерные?
Сам термин многомерность в первую очередь подчеркивает факт наличиямерности больше той, которая зафиксирована в настоящий момент, момент,соответствующий исследовательской ситуации. Поэтому, говоря о переходе кмногомерности, имеется в виду переход к освоению новой мерности, следующей засуществующей. Саму же мерность целесообразно соотносить с онтологическимуровнем. В философии существует определенная традиция развития представленийоб уровневости бытия. Если принять саму идею существования онтологическихуровней, то каждому уровню необходимо сопоставить ту или иную мерность,предопределяющую характер и способы уровневого развертывания. Более высокиеонтологические уровни имеют большую мерность, которая и воспринимается спозиции предшествующей онтологической проявленности как нечто многомерное.Уровневое развертывание находит свое отражение в гносеологической проекции, аименно, как совокупность результатов познания, оформленных в определенныекартины мира.
Исследование различных онтологических уровней предопределяет появлениегносеологической разномерности, которую лучше определить как гносеологическаямногомерность. Гносеологическая и онтологическая многомерностивзаимообусловливают друг друга.
Следы многомерности могут быть обнаружены при исследовании самихкогнитивных инструментов и, в первую очередь, – мышления. Проведенные
44Богатая Л.Н.
уточнения по поводу содержания термина многомерность позволяют выделить двасмысла понятия многомерного мышления. В широком смысле многомерноемышление можно рассматривать как совокупность различных способов мышления,мерность которых больше трех. Численно определяя мерность мышления,необходимо учитывать, что дополнительное количество степеней свободы (какминимум – одна) должно резервироваться для работы сознания, стимулирующегоментальную деятельность. Потому линейное мышление − это, как минимум,мышление трехмерное (линейное мышление – мышление, описываемое правиламиформальной логики). К сожалению, на данном этапе осмысления проблемысформулировать какие либо более четкие доводы по поводу численного определениямерности мышления едва ли возможно.
Многомерное мышление во втором, узком смысле можно понимать какконкретный способ мышления, следующий за линейным и соответствующий болеевысокому онтологическому уровню, имеющий большую мерность. Допустимостьподобного толкования обусловлена тем, что, специального названия длясоответствующего способа мышления пока не существует, а по отношению клинейному мышлению, мышление нового уровня является мышлением большеймерности или многомерным. Так как многомерное мышление определяется черезлинейное, то целесообразно провести их элементарное соотнесение, которое в самомобщем виде сводимо к следующему:
• линейное, многомерное, равно как и другие способы мышления, направлены наформирование вербально представленных ментальных связностей,обеспечивающих целостность пространства развертывания онтологическогоуровня;
• линейное мышление своим онтологическим основанием имеет объектыпроявленного мира, в то время как мышление многомерное в качествепредельной инстанции обращено к слову. При этом вопрос о первопричинеслова или вещи теряет свою актуальность, как вопрос, сформулированный врамках исключительно линейной парадигмы. Вещь и слово предстаютоснованиями для формирования различных онтологических уровней. Вконтексте отмеченного, знаменитый языковой поворот в философии ХХ векадостаточно естественно рассматривать как переход к освоению нового уровня,переход, требующий овладения многомерными мыслительными практиками;
• в отличие от линейного мышления, ориентированного на поиск причинно-следственных закономерностей и управляемого принципом классическойпричинности, мышление многомерное главной своей целью имеетпроникновение к сути мыслимого через объединение множества смыслов, какэксплицированных ранее, так и вновь обнаруживающихся в ходе многомерныхмыслительных актов. Возникновение новых смыслов мыслимого оказываетсярезультатом исследования спонтанно формирующихся соотнесенностей,обретаемых многомерно мыслящим субъектом в качестве итогаинтенционального напряжения по поводу предмета мышления;
• логической формой линейного мышления является понятие, мышлениемногомерное осуществляется путем оперирования концептами. При этомконцепт понимается как открытое множество смыслов, соответствующих
Многомерное мышление в контексте представлений о многомерности
термину, концепт именующему [2]. Таким образом, линейное и многомерноереализуются с помощью различных логических форм;
• смена культурных парадигм предопределяется появлением новыхмыслительных техник, осваиваемых человечеством. Если классическаяпарадигма основывалась на линейном мышлении, то в настоящее времяобнаруживает себя переход к многомерной парадигме, фундаментом которойстановится мышление многомерное. Соответствующий переход вызываетопределенные напряжения, связанные с невозможностью применения старыхпарадигмальных установок в культурном континууме, претепевающемфундаментальные трансформации.
Вывод: линейное и многомерное мышление не следует рассматривать как некиепротивоположности, природосообразнее их соотносить в контексте принципадополнительности. Многомерное мышление открывает путь к формированию новыхпознавательных стратегий, способствующих устранению культурных разрывов,являющихся следствием культурной дифференциации. В качестве некоторого итогаследует заметить, что изучение многомерного мышления, а затем и многомерныхметодологий находится в тесной взаимосвязи с исследованием болеефундаментальной проблемой онтологической многомерности, которую иначе можноопределить как проблему уровневости бытия. Размышления по поводу отмеченногопредставляются захватывающим интеллектуальным проектом, открывающим новыеперспективы развития самого человека.
Список литературы1. Богатая Л.Н. Конец постмодернизма / Л.Н. Богатая // Наукове пізнання: методологія та
технологія. – 2004. – № 13. – С. 17-25.2. Богатая Л.Н. Концепт: возрождение через возвращение / Л.Н. Богатая // Науковий вісник
Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Філософія». Вип.20.– 2006. – С. 36-43.
Богата Л.М. Багатомірне мислення у контексті уявлень про багатомірність // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 41-45.
У статті вводиться широке та вузьке тлумачення термінологічного висловлювання «багатомірнемислення». Багатомірність розглядається у зв’язку з уявленнями про онтологічні рівні та їх мірності.
Ключові слова: багатомірність, онтологічний рівень, багатомірне мислення.
Bogataya L. Multidimensional thinking in the context of ideas about the multidimensionality //Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Politicalsciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 41-45.
In the article the wide and narrow interpretation of terminological expression «multidimensional thinking»is introduced. Multidimensionality is examined in connection with the ideas about the ontological levels andtheir regularity.
Кeywords: multidimensionality, ontological level, multidimensional thinking.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 46-49.
УДК 130.1
ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ – ТРАНСГРЕССИИ – ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ?
Гусаченко В.В.
Рассматривается статус и возможности трансценденции и трансгрессии как типов социальногоизменения в условиях постмодерна. Проводится компаративный анализ постмодерна и «другогомодерна».
Ключевые слова: трансценденция, трансгрессия, постмодерн, «другой модерн».
Цель статьи – выяснить возможности трансцендентного изменения в условияхпостмодерна. Актуальность темы состоит в отсутствии подобного анализа всовременной философской литературе. Новизна заключается в трактовкепостмодерна под углом зрения трансцендентности, а не трансгрессии.
Степень разработанности: в отечественной литературе данная темапрактически не разработана. Примерно с 1950-х – 60-х годов развитое обществоначинает вести себя «странно». До сих пор оно поддавалось рассмотрению c точкизрения классической диалектики: тезис – антитезис – синтез; общество одного типа –переходный период – общество другого («нового») типа (феодализм – революция –капитализм и т.д.). Кто знает, может быть так будет и впоследствии. Что же касаетсянынешнего развитого общества, то тут несколько иная картина.
Трансгрессия сменяет снятие (Aufhebung), сущностный (не простокачественный!) скачок. М. Фуко и другие авторы в её истолковании сосредоточиваютвнимание на том, что трансгрессия, как и снятие, осуществляет переступаниепредела, однако этот акт не удаётся, и происходит просто ещё одна мутация в рамкахисходного состояния культуры. Отметим также спонтанный характер трансгрессий, –никто в момент трансгрессии не ставит себе не только задачи 1) преодолеть пределысвоего социума, своей культуры, но также и задачи 2) остаться в них.
Концепт кода культуры раскрывает нам главное изменение, происшедшее вобществе и культуре в результате смены снимающей формы трансформациитрансгрессивной. Это можно показать на нескольких примерах из революционныхсобытий 1960-х годов. В ходе их капитализму предъявлялся целый ряд требований.Возьмём из них два: обеспечение всеобщего права на высшее образование и свободусексуальных отношений. Располагая уже для этого средствами, «капитализм» (впервую очередь американский) создал целую сеть университетов среднего уровня,которым, конечно, далеко до Гарвардского, но которые, тем не менее, сумелиудовлетворить социальные претензии определённых слоёв общества. Произошласмена кода, капитализм остался.
Протестантски ригористичная и принципиальная мораль не допускаласексуальные свободы. Трудно представить, к чему бы это повело, если быгосударственные власти и здесь проявили принципиальность. Но осуществилась
47Трансценденции – трансгрессии – трансценденции?
смена кода: официально (а затем просто фактически) модерная мораль не былазапрещена, отменена и т.п., но наряду с ней, утвердились практически все остальныеформы сексуальной жизни. И, обслуживая их потребности, капитализм толькоукрепился. Резюмируя (в равной мере юмористически и реалистически): растётпопулярность Маркса, Че Гевары и революции – выпускай больше футболок с ихпортретами и автомобилей красного цвета.
Капитал является той максимально гибкой социальной технологией, котораяпозволяет социализировать, сделать легитимной практически любую новую формужизни (впрочем, как и старую), которая статуса легитимности ещё не приобрела, но укоторой достаточно сил, чтобы этого статуса добиваться. Жизнь (Ж. Делёз и Ф.Гваттари в подобных случаях говорят о желании) бесконечно разнообразна, все еёпроявления невозможно предусмотреть. Но капитал, с помощью множестватехнологий (технологик, т.е. техник и логик), следуя за этими проявлениями, как звукза светом, успевает придать им форму, совместимую с его существованием. Придатьдостаточно быстро, чтобы в этот период времени не успела произойти революция.Трансгрессию в этом смысле можно было бы сравнить с актуальной бесконечностью.Её можно определить и как «бессилие отрицания» (Гегель), и как различение,которое «в отличие от синтеза и идентификации – никому ничего не навязывает,никого не угнетает, никого ни с кем и ни с чем не уравнивает. Различение как быидёт нам навстречу, но не сталкивается с нами и не проходит мимо, а в безмолвии иблагожелательности открывает нам дальнейший путь различений» [1, с. 30].Трансгрессия представляет собой «жест, который подводит каждое существование икаждую ценность к их пределам» [2, с. 119], и – всё! Поскольку дальше – снятие.
Если говорить о выходах за пределы модерна, то таких выходов, в общем-то,может быть только три: 1) деструкция, при которой общество практически погибает;2) дегенерация, при которой модерн возвращается к каким-либо состояниямдомодерного типа, и 3) возникновение некоторого нового состояния, которое,однако, уже не относят к модерну. Пусть даже фактически это будет неправильно, ноесли в восприятии людей разрыв будет радикальным – значит, модерна уже нет.Может быть, там не будет капитала, может быть даже рациональности ирационализации, может быть всё это будет, но отойдёт на второй план – гадать обэтом не стоит. Не стоит даже не потому, что узнать всё равно невозможно, а потомучто как только мы начинаем заниматься чем-то подобным, мы сразу снова попадаемв модерн. Итак, – немыслимое немодерное новое. Спонтанная трансценденция,которая к нему приводит (если, конечно, приводит), может включать в себямножество проектов, сама же она, однако проектом не является. Преемственностьсоциального воспроизводства «предполагает рефлексивный мониторинг деятелей входе повседневной социальной деятельности. Однако сознательность всегдаограничена. Поток действий непрерывно производит последствия, которые являютсянепреднамеренными, и эти непреднамеренные последствия могут такжеформировать новые условия действия посредством обратной связи. Историячеловечества творится преднамеренной деятельностью, но не являетсяпреднамеренным проектом. Однако подобные попытки постоянно предпринимаютсялюдьми, которые действуют под угрозой и надеждой на то обстоятельство, что
48Гусаченко В.В.
являются единственными созданиями, творящими собственную «историю», –осознавая этот факт» [3, с. 72].
Трансценденция сетевого общества крайне затруднительна. Не говоря уже о том,что в ней нет особой нужды. Любое общество, любую систему можно разрушитьтолько извне. Внутренние конфликты системы, согласно Н. Луману, воспроизводятсятак же, как и все остальные процессы и ничем не угрожают ей. «Конец может прийтине из самого аутопойесиса, а лишь из окружающего мира системы – например,потому что один из конфликтующих убьёт другого и тем самым удалит его изсоциальной системы конфликта» [4, с. 515]. Но система не может поедать себя сама.Христиане были внешней силой для Рима, не говоря уже о варварских племенах.Пока города, капиталистые крестьяне и ремесленники не стали претендовать насамостоятельность, они не были опасны феодализму. Но рациональность сетевогообщества обладает таким богатством и гибкостью способов своего структурногосопряжения со всем, что попало, – что для него не может быть ничего внешнего! Ниафриканские сироты, ни женщины Афганистана, ни нефть в заповедных болотах, нибуддизм [5, с. 463-464] – ничто для него не является внешним. Здесь очень трудно иочень важно уметь определять то, от чего бы ты предпочёл отказаться.
А как же обещанное сопряжение (позднего) модерна и постмодерна? На мойвзгляд, это одно и то же общество, но поздний модерн обозначает его временныерамки – от 80-х годов ХХ века, например, – и далее; от 50-х годов ХХ века – и далее,а постмодерн выражает его внутреннее содержание – трансгрессии модерна, которыевозможно могут преодолеть пресловутый предел. Но никто не ставит такой цели!
Самая большая ошибка, допускаемая критиками постмодерна, состоит вутверждении того, что он якобы исключает всякую рациональность, в то время какон её не исключает, а редуцирует. Рациональность (линейная, нелинейная – любая)уже не является (трансцендентальным и социальным) субъектом. Но речь не идёт отом, что её нет (или нужно сделать, чтобы её не было) в обществе, равно как и о том,что «умерли» (здесь нельзя просмотреть кавычки) все «человеки» новоевропейскоготипа. Они живут и сейчас, и дай Бог им здоровья. Но разум утратил легитимациюсвоей всеобщности (хотя по природе, по интенции он никогда не может не бытьвсеобщим, – «логос общ всему»). Ярче всего это проявляется в деконструкции такихбинарных оппозиций, как:
• стабильность – изменчивость;• разум (рассудок) – чувственность;• рациональность – иррациональность.Деконструкция означает не смену одной доминанты другой (например,
стабильности – изменчивостью, мужского начала – женским и т. д.), а постоянныйпроцесс смены пропорции этих двух начал, а также диапазона, в котором онпроисходит между крайними значениями 0 и 1 (скажем, 0 – абсолютная энтропия, а 1– абсолютный порядок и т. д.).
Двумя основными определениями «другого» («второго») модерна,принадлежащими Э. Гидденсу, У. Беку, С. Лэшу, являются посттрадиционность ирефлексивность. Что касается традиционности, национальности, государственности
49Трансценденции – трансгрессии – трансценденции?
и т.д., то, пока что их никто не отменял: они, как и рациональность, толькоредуцированы.
Вывод. Следует отметить, что о рефлексивности трудно говорить внеравновесной, диссипативной системе, какой является развитое общество.Изменчивость, чувственность, иррациональность не рефлектируются разумом безостатка. А то, что говорит об аутопойесисе функционально-дифференцированногообщества Н. Луман, не касается индивидуальной жизни человека. Н. Луман невключает индивидов в общество.
Список литературы
1. Молчанов В.И. Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания / В.И. Молчанов.– М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2004. – 328 с.
2. Фуко М. О трансгрессии / М. Фуко // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысльсередины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – С. 111-131.
3. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс. – М.:Академический Проект, 2003. – 528 с.
4. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Н. Луман // Социо-логос. Вып. 1: Общество и сферы смысла. – М.: Прогресс, 1991. – С. 194-216.
5. Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / С. Жижек. – М.: Издательство«Европа», 2008. – 516 с.
Гусаченко В.В. Трансценденції – трансгресії – трансценденції? // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія.Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 46-49.
Стаття аналізує статус і можливості трансценденції і трансгресії, як типів соціальної зміни, вумовах постмодерну. Проведений компаративний аналіз постмодерну і «другого модерну».
Ключові слова: трансценденція, трансгресія, постмодерн, «другий модерн».
Gusachenko V.V. Transcendention – transgression - transcendention? // Scientific Notes of TauridaNational V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –Vol.23 (62). – №1. – P. 46-49.
The article views the status and the possibilities of transcendention and transgression as the types of socialchange in the circumstances of postmodern. The comparative analysis of the postmodern and the ”anothermodern” is carried out.
Keywords: transcendention, transgression, postmodern, ”another modern”.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 50-53.
УДК 130.3
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО
Ковальчук Н.Д.
В статье анализируются причины антропологического кризиса ХХ столетия в контекстеглобальных изменений под влиянием научно-технической революции, а также предлагаются путивыхода из него с опорой на ноосферную парадигму и концепцию формирования личности.
Ключевые слова: aнтропологический кризис, научно-техническая революция, ноосфернаяконцепция, личностью.
Предмет исследования составляет антропологический кризис. Цель работы втом, чтобы выявить и оценить перспективы выхода из антропологического кризиса вв ноосфрной парадигме.
Конец тысячелетия стимулирует подведение итогов всей предшествующейистории. Впечятляющие достижения научно технической революции особенно вразвитых странах, по выражению В. Гейзенберга, являются всего лишь средствомсделать ад более комфортным для проживания, поскольку техника решает проблемы,которые сама же и создает. И среди этих проблем на первый план выдвигаетсяпроблема антропологического кризиса человека, имеющая планетарный масштаб.Для решения проблемы антропологического кризиса необходимо прежде всегоосознать негативные последствия воздействия человека на природу, социум икультуру.
Романо Гвардини выразил ощущение кризиса человеческой цивилизации напороге третьего тысячилетия следущими словами: «Дикость в её первой формепобеждена: окружающая природа подчиняеться нам. Вновь появляеться внутрисамой культуры, и стихия её – то же самое, что победило первоначальную дикость:сама власть. В этой новой дикости открываються старые бездны первобытныхвремён. Всепоглащающие и удушающие на своём пути Джунгли стремительноразрастаются. Все чудища пустынь, все ужасы тьмы вокруг нас. Человек вновь стаетлицом к лицу с хаосом, и это тем страшнее, что большинство ничего не замечает:ведь по всюду машины работают учреждения функционируют, научно образованныелюди говорят без умолку» [1, с.115]. Мысль Р. Гвардини есть одно из свидетельствтого, что в современной философии характеризуют как антропологическуюкатастрофу. Этот термин обозначает суммарный результат всех негативныйпоследствий человеческой деятельности в сфере овладения природой иобщественным развитием.
Научно технический прогресс обернулся техническим кризисом, последствиякоторого трудно прогнозировать. Мощное развитие науки породило угрозутермоядерной войны. Крах в середине второй половины ХХ века «преступныхгосударств» (К. Ясперс) превратил в норму геноцид и кровавый террор по
51Антропологический кризис: пути выхода из него
отношению к собственным гражданам и тем самым был нанесен наиболеечувствительный удар человеческой экзистенции.
Этот антропологический кризис приобретает в современном мире специфическоеосознание. Как подчеркивает известный украинский философ С. Б. Крымский: «Еслиначало первого тысячелетия истории прошло под знаком ожидания Мессии, еслиначало второго тысячелетия в Западнохристианском мире было ознаменованоэсхатологическими пророчества конца мира, то преддверие третьего тысячелетияпризнается многими как конец истории» [22, с. 20]. В конце второго тысячелетиямировая история стала приобретать черты финальности. Именно в это времягамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» адресуется всей цивилизации в видевопроса «быть или не быть будущему?»
В последней четверти ХХ столетия усилилась концентрация вредных влияний всоциальной психологии таким образом, что терроризм, национализм, расизм, эротизмприобретают демоническую окраску. До третьего тысячелетия человечество впринципе использовало большинство возможных идей, проектов, утопий,достижения социального счастья людей и убедились в их слабой реализуемости.История все более настойчиво свидетельствует о беспомощности прогресса как путиприобретения абсолютных ценностей.
Среди предельных вопросов, поставленных историей на рубеже третьеготысячелетия существенное значение приобретает проблема лимитов практическойдеятельности. Проблема этих пределов заявляет о себе не только теоретически, но ипрактически. Во второй половине ХХ века человечество накопило такую массу«мёртвой» материи, которая превышает объём отходов производства за всю мировуюисторию. Сейчас индустриальные потребности ведут к тому, что из недр планеты наеё поверхность выбрасывается ежегодно сто миллионов тон сырья, из которыхтолько 1-3% перерабатывается в продукт, а 97-99 миллиардов тон идет в отвал.
По подсчётам экономистов, уже с начала третьего тысячелетия количественныепараметры превращения вещества планеты в отвалы «мёртвой материи» могутдостигнуть величины в 300 млрд тон, а с такого количественного показателяначинается агония природы, полное разрушение равновесия взаимодействиячеловека с окружающим миром. Так что производственная практика имеетопределённые пределы, к которым сейчас подошла мировая история.
В общественных моделях мирового экономического развития учёные «Римскогоклуба» с 1972 года ставят вопрос о пределах количественного роста производства идостаточно обосновано выдвигают определённые социально-экономическиестратегии человечества. Проблема заключается в том, что в развитыхкапиталистических странах, где проживают всего 13% населения планеты,используется 70% её международных ресурсов, которые не восстанавливаются. Ещеболее показательной в этом отношении является ситуация в США, где при населениисоставляющем 6% человечества, потребляется 40% мировых ресурсов.
Неограниченный прогресс потребления материальных благ ведет людей, в концеконцов, к «потреблению» самих себя, поскольку односторонний культ материально-потребительских ценностей извращает духовную природу человека и еёчеловеческие качества. Он приводит к экзистенциальной катастрофе, утрате смысла
52Ковальчук Н.Д.
жизни, возрастанию числа самоубийств, наркомании. Такой культ потребления ведетк требованию увеличения всего материально полезного.
В свете поставленных проблем одним из основных вопросов современности естьвопрос не о том как изменить человека, а, согласно А. Печчеи, вопрос о том, какжить, не губя самого себя; как жить, не губя природу; как жить, чтобы сохранитьпрошлое (традиции, культуру); как жить, чтобы не вступать в конфликт сразличными сообществами людей [3, с. 56].
Человечество вплотную подошло к черте, демаркирующей бытие и небытие. Вэтих условиях возникает новая, по словам Н. Моисеева, философия опасного рубежа,осознающая, что человек не может делать с природой то, что ему вздумается, что онтолько выражает кульминацию в развитии процессов самоорганизациисуществующего. Продолжением ответа на поставленную проблему служитпрограмма комплексных научных исследований, сформулированная В.И.Вернадским в его учении о ноосфере. В этой программе ноосфера выступает какмонолит планеты, жизни, инстинкта и духа. Это предполагает, прежде всего,ответственность человека как лидера жизни перед всеми планетарно-экологическимиподсистемами ноосферы.
Современная история, как предполагает Г. Парсонс, ставит новый эксперимент.Впервые появляется возможность накормить большую часть человечества или дажеуничтожить голод как социальное зло. Это и позволяло экспериментально решитьвопрос: ведёт ли удовлетворение материальных потребностей людей к их счастью?Соответственно новый импульс получает и исследование духовности.
Духовность – не тождественна духовной жизни общества. Она выступает какспособ самоусовершенствования и самостроительства личности. Духовность всегдапредполагает выбор личности своего духовного пути, своего образа, своей судьбы, тоесть встречи с самим собой. А это весьма сложное событие. Вот почему в обыденнойжизни мы встречаем часто попытки открестится от проблемы духовности. Как писалпо этому поводу А.И. Герцен: «Наша жизнь – постоянное бегство от себя, точноугрызения совести преследуют и пугают нас. Как только человек становится на своиноги, он начинает кричать, чтобы не слышать речей раздающихся внутри…, налагаетна себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-тоугрожающая истина, дремлющая внутри него. В боязни исследовать, чтобы неувидеть никчемность исследуемого, в этом искусственно созданном недосуге… мыпроходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепостей и пустяков, непришедших путем в себя» [4, с. 17-18].
Однако именно феномен встречи с самим собой является центральнойпроблемой духовности в наше время, когда идея личности выдвигается на авансценуистории. Общечеловеческие ценности становятся таковыми не в силу обращения кнеким средним характеристикам человеческих общностей, но через обогащения ихидеями личности, их прав и ценностей. Вот почему ООН декларирует в современнойобстановке принцип приоритета прав личностей над правами народов и наций.
Вывод. Способность представлять свой народ, своё время, национальнуюкультуру и социум есть у всех. Но в наибольшей степени она реализуется черезличность и её духовное развитие. Вот почему, в общественном сознании
53Антропологический кризис: пути выхода из него
утверждается мысль, что личность не единичное, но монадное образование, ибо онаможет репрезентовать всю вселенную. С нарастанием плотности социальных связейХХ века эффект монадности стал достоянием не только вождей и пророков (как этобыло в прошлом), но и многих людей. В ценностном сознании ХХ века такиеличности, как Махатма Ганди и М.Л. Кинг, Я. Корчак и мать Мария, А.Д. Сахаров иА.И. Солженицын, значат значительно больше, чем самые массовые политическиепартии. Сама личность в её монадном осуществления приобретает функцииавтопортрета человеческой общности. И никакие блага научно-техническойреволюции не могут освободить человека от ответственности за свои действия передприродой, обществом и самим собой.
Список литературы1. Гвардини Р. «Конец нового времени» / Р. Гвардини // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С. 113-173.2. Пахомов Ю. И., Крымский С.Б. Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации /
Ю.И. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю. В. Павленко. – К.: международный деловой центр, 1998. – 432 с.3. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. М.: Политиздат, 1980. – 326 с.4. Герцен А.И. С того берега. Избранные философские произведения в двух томах. Т.2. / Герцен
А.И. – М.: Политиздат, 1948. – 278 с.
Ковальчук Н.Д. Антропологічна криза: шляхи виходн з нього // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія.Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 50-53.
В статті аналізуються основні причини антропологічної кризи ХХ століття в контексті глобальнихзмін під впливом науково-технічної революції, а також пропонуються шляхи виходу з нього, щоспираються на ноосферну парадигму а також на концепцію формування особистості
Ключові слова: антропологічна криза, науково-технічна революція, ноосферна концепція,особистість.
Kovalchuk T.V. Anthropological crisis: the ways of issue // Scientific Notes of Taurida National V.І.Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). –№1. – P. 50-53.
The main reasons of the anthropological crisis of XX century in context of global changes, made byinfluence of the science-technical revolution are analyzed. The ways of issue from it using noosphereconception and conception of the formation of individuality are proposed.
Keywords: anthropological crisis, science-technical revolution, noosphere conception, individuality.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 54-60.
УДК 001.08
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ:ЄДИНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ.
Тихомірова Ф.А.
Стаття присвячена методологічному дослідженню процесів інтеграції та диференціації усучасному науковому пізнанні. Розглядається теорію індукції У. Уевелла, його концепція «збігів» упорівнянні з ідеями Ф. Бекона. У. Уевелл розглядав індукцію як всезагальний метод наукового пізнання,який сприяє прогресу науки. Проаналізовано деякі логічні засади процесів диференціації та інтеграції,зокрема індукцію та аналогію.
Ключові слова: диференціація, інтеграція, міждисциплінарна конвергенція, збіг, соціобіологія,індуктивні науки.
Предметом статті є процеси інтеграції та диференціації у сучасному науковомупізнанні. Ціль статті – проаналізувати логічні засади процесів інтеграції тадиференціації.
Науку можливо представити як багаторівневу та складну систему, певнуцілісність, що розвивається від відкриття законів до створення теорій. Розвитокнаукового знання повязаний із зміною його структури, звязків між науками.Проблема дослідження структури науки потребує розкриття взаємозв’язків міждисциплінами на підставі певних критеріїв та принципів. Важливимизакономірностями розвитку наукового знання дослідники вважають йогодиференціацію та інтеграцію. З процесами інтеграції та диференціації пов’язуютьзміни, перш за все, у логічній структурі сучасного наукового знання. В різніісторичні періоди в становленні та розвитку наукового знання відбуваласьпослідовна зміна механізмів інтеграції та диференціації. Яке співвідношення міжцими процесами у сучасній науці? Також необхідно визначити чинники, яківикликають інтегративні процеси та відокремлення галузей дослідження у розвиткунаукового знання.
Посилення інтегративних тенденцій в науковому пізнанні сприяє підвищеннюінтересу до проблеми інтеграції та диференціації наукового знання у вітчизняній таіноземній літературі.
Деякі важливі аспекти проблеми єдності наукового знання, його інтеграції тадиференціації залишаються актуальними та потребують сучасних підходів додослідження.
На сторінках часопису «Інтелектуальний форум» на основі аналізу низки статей замериканського часопису «Wilson Quarterly» опубліковано дискусію між Е.Уїлсоном, Р. Рорті та П. Гроссом.
Відомий американський ентомолог та етолог Е.О. Уілсон у статті «Возобновляяпоиски, начатые Просвещением» розглядає ідею «збігу» У. Уевелла саме стосовноінтегративних тенденцій у сучасній науці, приведення досягнень різних галузейзнань до «загального знаменника» [1].
55Інтеграція та диференціація: єдиний механізм розівитку наукового знання
Е. Уїлсон вважає наукою, на основі якої можливо поєднати знання про людинута довкілля біологію. Він закликає досліджувати фізичні основи мислення.Провідною тенденцією розвитку сучасної науки він вважає інтеграцію: «Со временУэвелла физика, химия и биология эволюционировали в систему объясняющих другдруга причинно-следственных связей и теорий, объединенных научной методологиейпознания. Весь познаваемый мир, от мельчайших внутриатомных частиц до самыхотдаленных галактик, можно охватить сегодня цепью «совпадающих» объяснений.Так, квантовая теория описывает атомную физику, та, в свою очередь, химиювеществ и выделившуюся в самостоятельную дисциплину биохимию,непосредственно связанную с молекулярной биологией и – на более высоких уровняхорганизации материи – с биологией клетки, живых существ и эволюционнойбиологией» [1].
Цікавими у статті Е.О. Уїлсона є роздуми про пристосування теорії «збігів»Уевелла до проблем сучасної науки : «Между тем поиски универсальной теории«совпадений», начатые эпохой Просвещения, обретают все более широкуюфактологическую основу. Пограничная область между основными разделами знанияпривлекает все более пристальное внимание ученых». Заслуговує уваги його ідея :«Теперь пришло время включить в эту универсальную причинно-следственнуюсистему социальные и гуманитарные науки» [1].
П.Р. Гросс у статті «Порыв Икара» [2] підтримує позицію Уїлсона та порівнюєсучасне наукове знання із кросвордом та вважає, що принцип «збігу» дає можливістьвстановити зв’язки між різними науками. Він вводить для сучасної науки визначення«наука пустых клеток», та вважає, що вона необхідна кожній людині, а не тільки длярішення певних наукових проблем. Досягнення біохімії, фізіології та фармакології,які в медичній практиці об’єднані саме за принципом «збігів» є вдалим прикладомрішенням практичних проблем в результаті інтеграції наукового знання.
На наш погляд, Е. Уїлсон та П.Р. Гросс розглядають процес інтеграції якпровідну тенденцію розвитку сучасної науки. Е. Уїлсону заперечує Р. Рорті у статті«Против объединения» [3].
Він відстоює множинність знань і автономність істин окремих науковихдисциплін. Р.Рорті вважає провідною тенденцією розвитку науки диференціацію.Крім того, Рорті не може собі уявити, як фізіологія мозку береться пояснитивиникнення і функціонування складних культурних універсалій. Для нього біологіяяк наука – лише один із способів дивитися на світ. Вона дає корисний набірінструментів, але лише один набір у ряді багатьох. Він полемізує із Уїлсоном: « То,что мне кажется разумным и необходимым разделением культурного труда, Уилсонупредставляется фрагментацией. Он говорит нам, что «величайшиминтеллектуальным начинанием всегда были и будут попытки соединитьестественные науки с гуманитарными. Продолжающаяся фрагментация знаний ихаос в философии, следовательно, не отражение мира реального, но артефактынаучного мира. Реальность одна, но описаний ее много. Их должно быть много, ибо улюдей есть и должно быть много разных целей» [3].
У зв’язку з цією дискусією привертають увагу погляди У. Уевелла на розвитокнауки.
Ставлячи за мету дослідження методологічний аналіз процесів інтеграції тадиференціації у сучасному науковому пізнанні, автор статті ставить завдання:
- Розглянути теорію індукції У. Уевелла, його концепцію «збігів» у порівнянніз ідеями Ф. Бекона;
56Тихомірова Ф.А.
- Проаналізувати деякі логічні засади процесів диференціації та інтеграції,зокрема індукцію та аналогію;
- Порівняти погляди У. Уїлсона, Р. Рорті, П. Гросса на розвиток сучасногонаукового знання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманихнаукових результатів;
У XVI-XVII ст., в час формування західноєвропейської науки як цілісногосоціокультурного феномену, Ф. Бекон, Р. Декарт здійснювали пошукиуніверсального методу наукового дослідження. Європейська філософська думка вXVII – XIX ст. ототожнювала будь-яке наукове знання з природничим, тазосереджувалася на розробці переважно природничо-наукової методології. Доречнопривернути увагу до ролі деяких ідей Ф. Бекона та У. Уевелла стосовнозакономірностей розвитку наукового знання у сучасному філософсько –методологічному дослідженні інтеграції та диференціації. Ф. Беконом було створеноспробу « Великого відновлення наук». Він запропонував класифікацію наук, в основіякої були пізнавальні здібності людини. Видатний англійський філософ Ф. Беконодним з перших запропонував розрізняти науки про природу та науки про людину, тарозділив науки на три групи: історія, що описує факти; теоретичні науки, або«філософія”; поезія та література, мистецтво. Розглядаючи класифікацію наук, Ф.Бекон виділяв два типи зв’язку між науковими дисциплінами: кореляційний таміждисциплінарний. Кореляційний зв’язок характеризує відношення міжтеоретичними та практичними науками. Фізика, як теоретична дисципліна, корелюєіз прикладною наукою механікою. Чинником зв’язку між природничими тагуманітарними науками Ф. Бекон вважав аналогію між явищами природи тасуспільного життя. Він наводив приклади, що підтверджують його ідею про те, що«сила действия возрастает благодаря противодействию противоположности – этофизический закон. Но он же удивительную силу имеет и в политике» [4, с. 201 – 202].
Уявлення про природу, фукції та типологію знання, зв’язок міжфундаментальними та прикладними, гуманітарними та природничими дисциплінами,що були розроблені Ф. Беконом, започаткували нову ступінь розвитку ідеї проінтеграцію та диференціацію наук.
Ідеї Ф. Бекона та І. Канта вплинули на англійського філософа – енциклопедистата методолога, У. Уевелла (1794-1866). Він хотів здійснити мрію Френсиса Беконапро створення єдиного методу, загальної логіки наукового знання. Уевелл ставивперед собою мету уніфікувати інтелектуальні досягнення свого часу. Звернемо увагуна дві найважливіших роботи У. Уевелла – «Філософія індуктивних наук» [5] та «Історія індуктивних наук» [6], які не втрачають наукової цінності і сьогодні.
У праці «Філософія індуктивних наук» У. Уевелл продовжує пошуки Ф. Бекона,наголошує на оновленні його індуктивного методу. Не випадково одна з частинкниги носить назву «Новий відновлений Органон» [7]. Найважливішою метоюнаукового пізнання У.Уевелл вважає створення всезагального методу науковогопізнання. Методологічний аналіз Уевелл ототожнював із створеної ним новоїнаукової концепції індукції, яку він розглядав як концепцію наукового прогресу.Перш за все, визначимо, що саме Уевелл розуміє під індукцією та дедукцією. У.Уевелл розглядав індукцію як всезагальний метод наукового пізнання, який сприяєпрогресу науки. За Уевеллом, індукція – складний процес розвитку науки,«процедура, посредством которой были построены существующие теперь среди наснауки.» Ці науки він визначив як індуктивні [8].
57Інтеграція та диференціація: єдиний механізм розівитку наукового знання
Його розуміння індукції кардинально відрізняється від традиційного,формально–логічного. В индукції «... завжди є нове поняття, принцип звязку таєдності, що поставляється розумом та накладається на окремі факти. Відбувається непросте розміщення ряду матеріалів, в результаті якого нове предположення міститьвсе, що було у його компонентах; тут присутній також творчий акт, якийвідображається у розумінні, таким чином ці матеріали містяться у новій формі» [5, p.84]. Таким чином, індукція – це найважливіший метод розвитку науки, «процесссобирания общих истин из исследования частных фактов, по которому эти наукиобразовались» [6, c. 14]. Ще Аристотель наголошував на тому, що наука досліджуєпричини. Ф.Бекон також зосереджував увагу дослідників на «формах», «законах дії»,під якими він розумів приховані механізми і рухи. Подібно Ф. Бекону, У. Уевеллвідкидає стандартне, вузьке розуміння індукції як простої форми індукції черезпростий перелік. Він визначає свою індукцію як індукцію «відкриттів» і вважає, що їїможна використовувати для відкриття законів як явищ, так і причин. Прогрес науки,за Уевеллом, полягає у поєднанні «посредством индукции истинных общих законовиз частных фактов и в соединении нескольких таких законов в одно высшееобобщение, где они сохраняют, однако, свою истинность» [6, c. 14] У вузькомурозумінні індукція за Уевеллом – логічна операція об’єднання зовнішнього матеріалуза допомогою понять. Він вважав, що в індукції міститься «Новый элемент,прибавляющийся к комбинациям фактов самим актом мышления, которым онисоединяются» [5, p. 48]. Такий процес Уевелл визначає як узагальнення, «colligation».Мисленнева операція об’єднання певної сукупності емпіричних фактів за допомогоюнаведення теорії визначається ним як суперіндукція («superinducing»). Таким чином,теорія відображає «истинную функцию того универсума, которым явлениясоединяются» [ 5, p. 46].
За Уевеллом, індукція та дедукція спираються на різні «ідеї». У випадку дедукціївихідними є визначення та аксіоми, у яких відображені фундаментальні ідеї(«Fundamental Ideas»). Побудова силогізмів поступово приводить до висновків, якідають можливість застосувати загальні істини до різноманітних конкретнихвипадків. При індукції, знайомлячись з фактами через чуттєві сприйняття іотримуючи таким чином необхідний матеріал, шукаємо і поширюємо на нього ідеї, зякими узгоджуються факти. Отже, індукція та дедукція спираються на різні типиідей: індукція – на ідеї, узгоджені із фактами, дедукція – на «фундаментальні» [9],[7].
У. Уевелл, на відміну від І. Канта, не дає повний список «фундаментальнихідей». Більш того, англійський філософ вважає, що більшість з «фундаментальнихідей» залишається відкритою, у процесі розвитку нових наук, диференціації наук,можуть доповнитися існуючі та з’явитися нові ідеї. Він допускає будь-якого типавиводи в узагальненні, що включає також і аналогію. Уевелл розглядає філософіюнауки як розвиток наукових ідей, висунувши програму паралельного вивченняфілософії та історії «індуктивних наук». Він вважав за мету одержання відповіді напитання про обставини,підвалини та механізми зміни фундаментальних понять [10].На наш погляд, незаслуговано ідеї У.Уевелла залишаються поза увагою багатьохвітчізняних дослідників.
За оцінкою американського фізика та філософа – неопозитивіста Ф. Франка (1884- 1966), У. Уевелл був першим автором, який сформулював уявлення про структурунауки так, як її розуміють тепер [12]. Російська дослідниця В.І. Співак наголошує натому, що його «філософія відкриття», ідея розвитку наукових знань була доповнена
58Тихомірова Ф.А.
Т. Куном Р. Коллінгвудом, К.Р. Поппером, С. Тулміним, І. Лакатосом [13]. Теоріяіндукції Уевелла, що спирається на його теорію пізнання,на наш погляд, не втратиласвого значення [14]. За Уевеллом, підвалинами справжньої науки є гіпотези, якіпідпорядковуються принципам збігу і послідовного спрощення. Термін «consilience»– «збіг» – неологізм, який належить самому Уевеллу і буквально означає «спільнийстрибок», від англійської ідіоми «jumping together». Він визначив цим терміномузгоджені дії, міждисциплінарну конвергенцію, збіг умовиводів з узагальнення явищрізних класів [15].
Принцип збігу – це встановлення взаємної відповідності (взаємозв'язки) міжрізними фактами або даними різних наук, що викликає ефект «несподіваногопояснення». Для У. Уевелла збіг даних різних наук був одним з критеріїв істини [16].
Збіг індукцій супроводжується спрямованістю теорії до простоти. У випадкупоєднання двох індуктивних положень в одне, або пристосуванні раніш побудованутеорію до випадків, фактів нового класу, ми власне робимо нове узагальнення. Вономоже бути визнане за вище, вважатися кроком вгору по «сходах аксіом», тому щопоєднує дві індукції, та поширюється на більшу,порівняно з окремими випадками,групу фактів.
На наш погляд, У. Уевелл фактично розглядає інтеграцію наукового знання. ІдеїУевелла стосовно збігу та спрощення знання вплинули на багатьох вчених того часу,серед яких були Дж.К. Максвелл та Ч. Дарвін. [17]. Деякі висновки У.Уевелластосовно індуктивного методу критикував Дж.Ст. Мілль [18], [19]. Цим булозапочатковано полеміку, яка може вважатися важливою для сучасного обговоренняпроблеми індукції [20], [8]. Погляди У. Уевелла, його опис видів, та дискусія,розвинута Дж.Ст. Міллем, вплинули на англійського позитивіста Г. Спенсера, якийуявляв загальний еволюційний розвиток шляхом диференціації та інтеграції [21].
Е.О. Уїлсон привертає увагу до нагальної необхідності використання «збігів», яківиникають на перетині природничих та гуманітарних наук для того, щоб наблизитисядо розуміння природи людини. Така позиція стає зрозумілою, якщо згадати, що Е.О.Уїлсон був одним з тих, хто започаткував у 70-ті р. ХХ ст. міждисциплінарнийнауковий напрямок – соціобіологію.
Він наголошує на тому, що ця інтегративна наука може стати основою для«синтезу соціальних та біологічних наук» [22]. Ця інтегративна наука вивчаєбіологічні засади соціальної організації та соціальної поведінки розглядає проблемувзаємозв’язку біологічного та культурного розвитку (створено концепцію генно –культурної еволюції) [23]. Соціобіологія є результатом інтеграції природничого тасоціoгуманітарного знання, вивчає біологічні підвалини соціальної поведінки тваринта людини, спираючись на генетику популяцій, екологію, етологію, синтетичнуеволюційну теорію, етнографію та соціальну психологію [24], [25], [26].
Уїлсоновськая версія принципу збігу відрізняється від концепції Уевелла – вінмодифікував його ідею. Принцип збігу Уевелл розглядав на прикладі фізики – самої«достеменної», на його думку, науки. Інтерпретація ідей Уевелла Е. Уїлсоном – цещось більше, ніж ефект «несподіваного пояснення» усередині однієї області знанняабо на кордоні між двома суміжними галузями. Критерій наукового руху до істини,запропонований Уілсоном – принцип збігу – відноситься не лише до конкретногодослідницького поля і явищ того або іншого рівня складності, але до всіх галузейзнання [27].
В різні історичні періоди в становленні та розвитку наукового знання відбуваласьпослідовна зміна механізмів інтеграції та диференціації. Яке співвідношення між
59Інтеграція та диференціація: єдиний механізм розівитку наукового знання
цими процесами у сучасній науці? Також необхідно визначити чинники, яківикликають інтегративні процеси та відокремлення галузей дослідження у розвиткунаукового знання. Наука досліджує певні властивості реальних об’єктів оточуючоїдійсності, тому, на наш погляд, пояснення або передбачення пов’язані переважно зонтологічним аспектом науковох діяльності. Гносеологічні та методологічні аспектинаукового пізнання – експлікація, пояснення, визначення, верифікація – більшоюмірою залежать від особливостей мисленневої діяльності, рівня теоретичногомислення, евристичних здібностей дослідника [28].
Висновок. Інтеграційні процеси, що відбуваються у конкретнонаукових галузях,класифікуються та розглядаються дослідниками з різних позицій. Такаплюралістичність, відсутність розуміння загальних механізмів, передумов тапідвалин процесів інтеграції та диференціації стають серйозними перешкодами дляпродуктивного вивчення проблеми. Існує нагальна необхідність порівняння існуючихпідходів до проблеми та дослідження процесів диференціації та інтеграції сучаснимиметодами. Загальна теорія систем дозволяє розглядати будь – які системи.Дослідження цих процесів на основі системної методології, на наш погляд, єперспективним напрямком.
Необхідно з’ясувати філософські передумови інтеграції та дифференціації якзакономірностей розвитку наукового знання. В цьому плані необхідно розглянутивесь комплекс логіко–методологічних передумов, які є підвалинами, абосупроводжують процеси інтеграціїї та дифференціації у сучасній науці.Багатовимірність типологізації, неможливість виділення єдиного крітерія можерозцінюватися як наслідок складності та багатовимірності науки як системи.
Список літератури
1. Уилсон Э.О. Возобновляя поиски, начатые Просвещением [Электронный вариант] / УилсонЭ.О. // Интеллектуальный Форум. – 2001. – 5 выпуск. – Режим доступа:if.russ.ru/2001/5/20010626_w.html
2. Гросс П.Р. Прорыв Икара [Электронный ресурс] / Гросс П.Р. // Интеллектуальный Форум. –2001 – 5 выпуск – Режим доступа: if.russ.ru/2001/5/20010626_w.html
3. Рорти Р. Против объединения [Электронный вариант] / Рорти Р. // Интеллектуальный Форум. –2001. – 5 выпуск. – Режим доступа: if.russ.ru/2001/5/20010626_w.html
4. Бэкон Ф. Соч. в 2 т. Т.1 / Бэкон Ф. – М.: Мысль, 1977.5. Whewell W. The Philosophy of the Inductive Sciences Founded upon their History, 2nd edition.
London: Frank Cass & Co. 1967. Vol. II.6. Уэвелл В. История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени ; [пер. с англ.
3-го издания М.А. Антоновича и А.Н. Пыпина] – В 3-х т. – СПб.: Изд-е «Русской книжной торговли»,1867. – Т. 1. – 589 с.
7. Whewell W. (1858). Novum organon renovatum. Reprinted as Part II of the 3rd ed. of The philosophyof the inductive sciences. London: Cass, 1967.
8. Butts R. Whewell s Logic of Induction // Giere R.N., Westfall R.S. (eds.). Foundations of ScientificMethod The Nineteenth Century. Bloomington IN, 1973. – PР.53-85.
9. Спивак В.И. Теория индукции Уильяма Уэвелла / Спивак В.И. // Я. (А. Слинин) и МЫ: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича Слинина. – СПб.: Санкт-Петербургское философскоеобщество, 2002. (Серия «Мыслители». Выпуск X). – С. 507-518
10. Whewell, W. // Theory of scientific method. Indianapolis / R. E. Butts (Ed.).- Cambridge.- HackettPublishing Company. – 1989.
11. Франк Ф. Философия науки: пер. с англ. / Ф. Франк. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. – 544 с
60Тихомірова Ф.А.
12. Спивак В.И. Эволюция научного знания в учении Уильяма Уэвелла / Спивак В.И. //Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. Материалы Х Общероссийскойнаучной конференции 26 – 28 июня 2008 г. – СПб., 2008.– С. 249 –251.
13. Schipper Frits. William Whewell's conception of scientific revolutions // Studies In History andPhilosophy of Science Part A, Volume 19, Issue 1, March 1988. – PP. 43-53
14. Harré R. William Whewell and the History and Philosophy of Science // The British Journal for theHistory of Science, Vol. 4, No. 4 (Dec., 1969). – PP. 399-400
15. Laudan L. William Whewell and the Consilience of Inductions // The Monist.- Spring.- PP. 368-391.16. Ruse M. Darwin`s Debt to Philosophy: An Examination of the influence of the Philosophical Ideas of
John F. W. Herschel and William Whewell on the Development of Charles Darwin`s Theory Evolution //Studies in History and Philosophy of Science .- 6. – 1975. – РP.159-181.
17. Butts R. Pragmatism in Theories of Induction in the Victorian Era Herchel, Whewell, Mach andMill // Stachowiak Н. Pragmatik Handbuch Pragmatishchen Denkens. Hamburg, 1987. – PР. 40-58.
18. Losee J. Whewell and Mill on the relation between philosophy of science and history of science //Studies In History and Philosophy of Science Part A, Volume 14, Issue 2, June 1983. – PP.113-126
19. Buchdahl G. Deductivist versus Inductivist Aproaches in the Philosophy of Science as Illustrated bySome Controversies Between Whewell and Mill // Fisch and Schaffer. 1991. – Р.311-344.
20. Спенсер Г. Основные начала: пер. с англ. / Спенсер Г. – СПб., Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1897. –IV. – 467 с.
21. Wilson Edward O. Sociobiology: the new synthesis. Cambridge. MA: Belknap Press, 1975. – 697 p.22. Игнатьев В. Н. Социобиология человека: «теория генно-культурной коэволюции» / Игнатьев В.
Н. // Вопросы философии. -1982. -№ 9. – С. 134-141.23. Никольский С. А. Аналогия и редукция – основные методы социобиологического исследования
/Никольский С. А. // Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания. – М., 1982. – С. 47-49.24. Сатдинова Н. X. Социобиология – «за и против» / Сатдинова Н. X. // Вопросы философии.-
1982.- № 3.- C. 129 – 136.25. Baldwin J. I. Beyond sociobiology. – N. Y., Elsevier, 1981. – 325 p.26. Wilson Edward O. Consilience: The Unity of Knowledge, New York: Alfred A. Knopf .- 1998.- 332 p.27. Niiniluoto I. Notes on Popper as a Follower of Whewell and Peirce // Ajatus 37. – 1978. – Р. 272-327
Тихомирова Ф.А. Интеграция и дифференциация: общий механизм развития научного знания// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия.Культурология. Политология. Социология. –- 2010. – Т. 23 (62). - №1.– С. 54-60.
Статья посвящена проблеме дифференциации и интеграции научного знания. Рассматриваетсятеория индукции У.Уэвелла, его концепция совпадений в сравнении с идеями Ф.Бэкона. У.Уэвеллрассматривал индукцию как всеобщий метод научного познания,способствующий прогрессу науки.Проведен анализ некоторых логических оснований процессов дифференциации и интеграции, вчастности, индукции и аналогии.
Ключевые слова: дифференциация, интеграция, междисциплинарная конвергенция, «совпадения»,социобиология, индуктивные науки.
Tichomirova F.A. Integration and differentiation: the single mechanism of development of scientificknowledge // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology.Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 54-60.
The article is devoted to the problem of differentiation and integration of scientific knowledge. W.Whewell’s theory of induction, his conception of coincidences in comparison with F.Bekon’s ideas are beingconsidered. W. Whewell investigated induction as a universal method of scientific cognition, cooperantingprogress of science. The analysis of some logical grounds of processes of differentiation and integration, inparticular inductions and analogies, have been considered.
Keywords: differentiation, integration, interdisciplinary convergation, «consilience», inductive science.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 61-67.
УДК 1(091)(470)+130.2
ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИТВОРЧЕСТВА Н.А. БЕРДЯЕВА
(В ПЕРИОД С КОНЦА 1910-Х ПО НАЧАЛО 1930-Х ГГ.)
Чекер Н.В., Титаренко С.А.
В статье рассмотрены особенности эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество в период сконца 1910-х по начало 1930-х гг. Авторами проанализированы ключевые характеристики, задающиеоригинальность подходам Н.А. Бердяева к проблематике творчества.
Ключевые слова: творчество, личность, свобода, персонализм, экзистенциализм.
Предмет исследования – философское учение Н.А. Бердяева о творчестве.Целью статьи является изучение изменений в подходах к раскрытию Бердяевымтемы творчества в период с конца 1910-х по начало 1930-х годов. Поискконцептуальных оснований философской системы Н.А. Бердяева является одной изнаиболее актуальных проблем сложившейся историко-философской ситуации.Рассмотрение эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество позволяет глубжепонять базовые смыслы своеобразной философской системы мыслителя. Из этоговытекают следующие задачи: дать сравнительный анализ раскрытия Бердяевымпроблематики творчества в рассматриваемый и предшествующий периоды; выявитьосновные тенденции в эволюции взглядов мыслителя на творчество.
Проблеме творчества в философии Бердяева уделяется внимание во многихисследовательских работах, отечественных и зарубежных. Попытки выявить ипроанализировать изменчивость во взглядах мыслителя осуществлялись как егосовременниками, так и исследователями последующих поколений, однакоцелостного подхода к истолкованию этой изменчивости представлено не было. Вданной статье предпринята попытка системного подхода к данной проблематике.
На начальном этапе рассуждений о творчестве, Бердяев по-сути решаетпредельные, «проклятые» вопросы о свободе и смысле жизни. В работе «Смыслтворчества» (первом, по признанию мыслителя, оригинальном выражении егофилософии) речь идёт именно о предельности. Человек в пределе есть творческоеусилие. Он весь «вытягивается» в это творческое усилие, как готический соборвытягивается в небо. Творчество противополагается пассивному приятию,восприятию, покорности, поэтому творчество – это некая одержимость не-одержимостью. Именно книга «Смысл творчества» по экспрессивности наиболееприближается к литературе потока сознания.1 Всё подчинено творческой активности.Можно сказать, что фигура автора здесь как таковая не важна, потому что творчествукак «жизненной позиции» уже как бы имманентно авторство. Проблема личностиещё не прорисовывается в своей полноте. Личность понимается как нечтодинамически самовыстраивающееся вокруг пробудившегося в духовной глубинетворческого «гейзера».
1 См. характеристику, данную в [8, с. 176-178].
62Чекер Н.В., Титаренко С.А.
Поэтому первично Бердяев решает три группы вопросов: о происхождении иоснованиях человеческого творчества; о направленности и возможностях творчества;о том, что мешает творчеству, то есть ограничивает и деформирует творческуюактивность человека. Иначе говоря, творчество понимаемо им как движение, какдуховная, преображающая экспансия и в этом смысле подвиг. Соответственновстают вопросы о том, что двигать и в каком направлении преображать.
В своих рассуждениях Бердяев приходит к убеждению, что если нет связичеловека с миром-космосом и с Богом (то есть с большим и высшим), то нет смысла.Отдельная, центрированная на себе человеческая жизнь бессмысленна. Отсюдарассуждения о человеке как микрокосме и утверждение о взаимной потребности, опотребности друг в друге человека и Бога, что, во-первых, задаёт космологическуюперспективу новой творческой эпохи и, во-вторых, – перспективу Богочеловеческую,то есть перспективу теозиса.
С другой стороны, можно говорить о том, что для Бердяева человеческоетворчество как Божий замысел становится своеобразным, не субстанциональнымоснованием его философской системы. Без человеческого творчества – нет человека.Без Божьего замысла – нет Бога. Именно через идею творчества мир обретаетдинамическое единство, а личность сверхличные энергийные истоки.
Первая мировая война, революционные события, гражданская война, высылка изстраны остро ставят перед мыслителем проблему зла и насилия и проблемумассовости, стихийной одержимости. Свобода может вылиться в массовый разгул,одержимость, рабство у низших стихий и привести к морально и законодательнозакреплённому насилию. Таким образом, на пути человеческого своеволия свободаосуществляет собственное вырождение и «самоубийство».
Первоначально Бердяев склоняется к мысли, что этот наплыв хаоса икатастрофичности – некие апокалиптические провозвестники, и после болезненнойдисгармонии всё должно космически, стихийно приблизиться к гармонизации, выйтина «точку прорыва» и иерархически преобразиться, и тогда человек сможет внебывалой полноте приступить к осуществлению своей творческой миссии. Поэтомумыслитель с обостренным вниманием анализирует дисгармонические чертыпроисходящего, провидя за ними приближающийся переход к новой эпохе, крелигиозному творческому откровению человеческого духа. О такоммировосприятии свидетельствуют работы «Судьба России», «Духовные основырусской революции», «Философия неравенства».
Постепенно пессимистические оценки происходящего нарастают. Перспективатворческого преображения мира отодвигается в неопределённость. Вера вбезграничные творческие возможности человека корректируется видением другихвозможностей направления человеческих усилий. Это заметно в таких работахБердяева как «Смысл истории» и «Новое средневековье».
В работе «Миросозерцание Достоевского» (1923) Бердяев вновь обращается кпроблематике человеческой свободы. Если в «Смысле творчества» свобода – это,прежде всего, условие и важнейшая основа творчества, а уже творчество задаётоснование, является опознавательным признаком и смыслом личности, то здесьсвобода непосредственно, конститутивно встраивается в перспективу личности. Иострое переживание зла и даже внутреннее «проживание» зла становится условиемпробуждения личностного начала.
В статье «Кошмар злого добра» (1926), явившейся ответом на книгу И. А.Ильина «О сопротивлении злу силою» Бердяев говорит, что любое насилие какинстинктивное, так и нормативно закреплённое разрушает возможность личностной
63Особенности религиозно-философской концепции творчества Н.А. Бердяева
полноты, ведёт к личностной ущербности. Эта ущербность непреодолимазаконническими средствами. Преодоление зла есть преодоление трагедии. Трагедияже непреодолима только лишь человеческими усилиями. Это становится причинойобращения к образу Христа и к третьей, просветлённой свободе, свободе Христа.Христоцентризм мышления Бердяева становится особенно явным в работе«Философия свободного духа» (1927).
Революционные потрясения, тяготы, вынужденная эмиграция и болезнистимулируют Бердяева по-иному рассмотреть проблему зла. Любовь побеждаетстрах. Но, что же тогда происходит, когда страшно, когда отчаянно и паническистрашно? Христианство побеждает смерть. Но, что мне до этого, когда на моихглазах медленно и мучительно умирает близкий и дорогой мне человек? Истинноетворчество побеждает зло. Тогда, откуда торжество зла в мире, в человеческойжизни? Подобные размышления заставляют Бердяева переосмысливать идоосмысливать проблему свободы.
Данные размышления результируют в идее новой теодицеи, впервые чётковыраженной в статье о Бёме, опубликованной в 1930 г. Суть её заключается в том,что Бердяев выводит бёмеанский Ungrund из природы Бога как самостоятельноепервоначало, он пишет: «Развивать же учение Бёме об Ungrunde и свободе нужно всторону различений между божественной бездной и божественной свободой ибездной и свободой меонической» [1, с. 79].
Иначе говоря, есть некая первичная, отдельная от Бога свобода – свобода изБездны. И именно она становится как бы внешней побудительной причиной Божьегозамысла о человеческом творчестве. Так как Бог не содержит её в себе, то ипреобразовать не может, и для этого нужен человек, рождённый из этой Бездны, нонаделённый, дарованной Богом творческой силой.
С одной стороны, Бог становится ещё более зависим от человека, так как без еготворческого соучастия не способен достроить мир, причём эта неспособность – не«субъективная» Божья тайна (как в «Смысле творчества»), а как бы «внеположная»Богу тайна.
С другой стороны, так как Божий замысел о творчестве имеет некую внешнююпричину, то он не является имманентным Богу, а соответственно и Бог, относительнотворчества, обретает большую «самостоятельность». Человек же становится, притаких рассуждениях, менее зависим от Бога, но, вот именно поэтому, Бог болеезначим для человека! И эта значимость обретает глубоко экзистенциальный,личностный характер. Если в «Смысле творчества» как закулисная тайна предстаёттоска Бога по человеку (как своему Другому), человек же выступает в ролинеблагодарного ребёнка, который никак не решится соответствовать высокиможиданиям Родителя, то теперь акцент смещается, и речь идёт скорее о тоскечеловека по Богу – и это уже экзистенциальная философия кьеркегоровского типа.
В книге «О назначении человека» (1931) Бердяев пишет: «Человек есть существосвободное, в нем есть элемент первородной, несотворенной, домирной свободы. Ноон бессилен справиться со своей собственной иррациональной свободой, с еебездонной тьмой. В этом его вековечная трагедия. И нужно, чтобы сам Бог низошел вглубь той свободы, в ее бездонную тьму и принял на себя последствия порожденногоею зла и страдания. …Все христианство есть не что иное, как приобретение силы воХристе и через Христа, силы перед лицом жизни и смерти, приобретение силыжизни, для которой не страшны страдания и тьма, силы, реально преображающей»[2, с. 168-171].
64Чекер Н.В., Титаренко С.А.
Если ранее Бердяева больше мучили вопросы: что мешает человеческой свободе?что её ограничивает? как эти объективированные ограничения преодолеть? То есть,иначе говоря, что нужно разрушить и превозмочь, чтобы «освободить» свободу. То врассматриваемый период более значимыми становятся вопросы о том, какреализовывать свободу и на что опираться в этой реализации. Опираться неопираясь! Не случайно же по Бердяеву этика, позволяющая раскрыть назначениечеловека, может быть только парадоксальной этикой! Мыслитель пытаетсяпродумать, что нужно сохранить и создать, чтобы свобода не перетекала в своюпротивоположность – рабство; как жить в условиях массовых психозов; каксоотнести новое религиозное творчество с социальными практиками так называемых«демократий» и так называемых «тоталитарных» государств.
Согласно Бердяеву, те нормы и правила, которые создаются в обществе, нужнытолько для общества, то есть для объективированного, «неподлинного»существования, но не для личности. В работе «Я и мир объектов» (1934) он дасткатегорически негативную оценку социализации. Личность не творится в обществе,она в обществе насилуется и извращается! Каковы же реальные ориентиры дляличности? По-сути Бердяев говорит, что таким ориентиром может быть неподражательно-копирующее, но живое обращение, приобщение к живому образуХриста. Единственным образцом для личности может быть Христос, именновследствие неподражаемости этого образца. Руководящими ориентирами дляличности могут быть евангельские истины, именно вследствие невоплотимости их(без ограничения, упрощения и опошления) в качестве правил и законов. В работе «Оназначении человека» Бердяев пишет: «В Евангелии все связано с личностью самогоХриста и все непонятно без связи с Христом. Евангельские заветы совершеннонеосуществимы и непосильны как правила. Но невозможное для человека возможнодля Бога. Лишь во Христе и через Христа осуществляется совершенство, подобноесовершенству Отца Небесного, и действительно наступает Царство Божье. В основеЕвангелия не закон, хотя бы новый, а сам Христос, Его личность» [2, с. 200].
Следует отметить, что в рассматриваемый период Бердяев приходит к выводу,что творчество само по себе, как и свобода, хоть и является абсолютной ценностью,но требует своего сознательного оформления, оформляющего усилия со сторонычеловека. Поскольку существует меоническая, непросветлённая, «злая» свобода, то итворчество может быть спонтанным, разрушительным, «злым». Иначе говоря,творчество может быть поглощено и искажено нижней бездной. Божий замысел очеловеке не может однозначно (а значит насильственно) подчинить себечеловеческую волю. Поэтому, чтобы творчество было очищающей и освящающейсилой, то есть истинным, полноценным творчеством, человек должен делать усилиепо реализации Божьей идеи. Божья же идея о человеке есть личность.
В работе «Я и мир объектов» Бердяев специально подчёркивает, что «я» несовпадает с личностью. Личность – это, скорее, организующее начало. Личность недана, а задана Богом и, соответственно, предполагает сознательное усилие для своегораскрытия. Творит «я» и это «я» может быть очень яркой и одарённойиндивидуальностью, но не личностью. Поэтому, не всякое, а только истинноетворчество личностно. Личность – это, прежде всего, созидательное усилие. Условноговоря, – внутреннее (самосовершенствование) и внешнее (трансцендирование).2
2 Поэтому и в зарубежном переиздании книги «Смысл творчества» творчество из «откровения человека»меняет свой статус на «раскрытие человека», а опыт аскетического самосовершенствования становитсяфактически равнозначным творчески-преобразовательному действию.
65Особенности религиозно-философской концепции творчества Н.А. Бердяева
Происходит очень серьёзное смещение акцентов, по сравнению со «Смысломтворчества». Ранее Бердяев по-сути утверждал, что человек потому является образоми подобием Бога, что представляет собой существо творческое. То есть творческаясила и есть образ и подобие Божественного Духа в духе человеческом. Теперь жеречь идёт о том, что образ и подобие Божье есть личность. Личность – высшаядуховная сила в человеке, творческая сила. Но, опять-таки, не всякое творчестволичностно!
Если ранее для Бердяева важным было различение между «окончательным»религиозным творчеством (творчеством новой религиозной эпохи) и творчествомкультурно-историческим, то теперь основная грань различения проходит междутворчеством личностным и не-личностным. Личностное творчество вечно, даже еслиего продукты «отяжелевают», объективируются в мире социально-культурном.
В книгах «О назначении человека», «Я и мир объектов» Бердяев специальноостанавливается на рассмотрении соотношения вечности и времени. В связи с этим,им выстраиваются как бы два «измерения» мира: экзистенциально-личностное,целостное, приобщённое вечности и объективированное, разорвано-множественное,измеряемое числом, временное. Числовая бесконечность, как и числовая конечностьодинаково не применимы к вечности как «предельному» существованию, одинаковобессмысленны.
Для Бердяева вечность – это некое единство, некий сокровенный слой бытия, нони в коем случае не застывшая неподвижность. Также и личность – не субстанция, атворческая динамика и, в то же время, целостность. Такое динамическое пониманиевечности формируется у мыслителя не сразу. В «Философии свободного духа» онпишет о Едином как о Бездвижной Вечности. Но в книге «О назначении человека»вечность теряет свою неподвижность, Бердяев пишет: «И если бы вся жизньчеловеческая могла превратиться в сплошной творческий акт, то времени больше небудет, не будет и будущего, как части времени, будет движение вне времени, вовневременном бытии» [2, с. 235-236] И далее: «Райскую жизнь нельзя пониматьстатически, ее надо понимать динамически. …Когда человеку снится полет, емуснится райская жизнь. Она есть полет, а не прикованность к земле, ненеподвижность» [2, с. 476].
Интересно провести параллель с современной холистической концепцией вфилософии науки, которая, утверждая своё основание в учении Парменида о Едином,и анализируя апории Зенона, приходит к выводу, что в них есть отрицание числовойизмеряемости мира «в пределе». Причём, независимо от того, применяется для этого«предельного» измерения гипотеза числовой бесконечности (бесконечнойделимости) или числовой же конечности. И в то же время, ни в апориях Зенона, ни,соответственно, в учении Парменида нет отрицания движения, отрицания динамики(что было лишь неверным их истолкованием в последующей научно-философскойтрадиции).3 Аналогично для Бердяева существует некая основа видимой реальности,не вымеряемая числом и не статическая.
Введение динамики в природу Бога, в природу Вечности (Царства Божьего) и вприроду личности позволяет Бердяеву прийти к своеобразному пониманиюконечного Единства как несростающейся, персонализированной соборности.Согласно Бердяеву личность соприкасается со сверхличным, с другими личностями,с Богом в общении и любви. Основанием подлинного общения является наличие
3 См [11, с. 64-72].
66Чекер Н.В., Титаренко С.А.
духовной глубины, на уровне которой возможно достижение реальной общности.Иначе говоря, общение и любовь, и есть достижение той глубины, находясь накоторой мир предстаёт как единое динамическое персонализированное «мы». Авсякие подлинные общение, приобщение, любовь являются творчеством. Такимобразом, творчество обретает глубинную перспективу.
Следует отметить, что смысловой основой персоналистической философииБердяева выступает особый не рационализированный, протоформический4 тип егомыслительной деятельности, который также можно охарактеризовать какдинамически-целостный.
Личностная динамика неизбежно противоречива, любая же рационализациястремится в пределе к уничтожению противоречий. Поэтому вполне естественно, чтопонимание предельных состояний мира, «предельной основы» жизни ирезультирующего состояния развития и преображения мира, как в рационально-религиозных, так и в рационально-научных концепциях стремится кдеперсонализации. При этом индивидуально-личностное либо растворяется всверхличном состоянии как, например, у Вл. Соловьёва или в концепции ноосферыП. Тейяра де Шардена. Либо личностное начало изначально задаёт основание только«горизонтальным», межчеловеческим отношениям, но не отношениям«вертикальным».5 В этом случае личность психологизируется, лишаясьметапсихического уровня, и имеет с миром лишь общий метафизический(субквантовый) уровень как, например, в холистической философии науки. Неслучайно Бердяев утверждает, что персонализм – это редкая философия.
Вывод. В исследуемый период в представлениях Бердяева происходитнарастание персоналистических тенденций, что существенно изменяет перспективы,в которых мыслитель рассматривает тему творчества. Соответственно творчество всистеме рассуждений Бердяева обретает новую экзистенциально-христологическуюглубину, соотносимую с будущим преображением мира в Царство Духа.
Список литературы1. Бердяев Н.А. Из этюдов о Я. Бёме. Этюд І. Учение об Ungrund’e и свободе / Н. Бердяев // Путь
(Париж) / под ред. Н. А. Бердяева и Б.П. Вышеславцева. – Февр. 1930. – № 20. – С. 47 – 79.2. Бердяев Н. А. О назначении человека / Николай Бердяев. – М. : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ,
2006. – 478 с. – (Философия. Психология).3. Гальцева Р.А. Николай Бердяев – философ творчества и теоретик культуры / Р.А. Гальцева ;
(предисл. Р.А. Гальцевой) // Н.А. Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. – М. :Искусство, Лига, 1994. – 542 с.
4. Ермичев А.А. Творчество и культура в философии Н.А. Бердяева / Ермичев А.А.; под ред.проф. С.Н. Савельева // Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе : межвуз. сб. –СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1991. – 183 с.
5. Зеньковский В.В. История русской философии / Василий Зеньковский. – М.: АкадемическийПроект, Раритет, 2001. – 880 с. – (Summa).
6. Зеньковский В.В. Проблема творчества. По поводу книги Н.А. Бердяева «Смысл творчества.Опыт оправдания человека» / В.В. Зеньковский // Н.А. Бердяев: pro et contra. Кн. 1 / сост., вступ. ст. иприм. А.А. Ермичева. – СПб. : РХГИ, 1994. – 573 с. – С. 284 – 305. – (Русский путь, т. Ι).
7. Иванов Вяч. Старая или новая вера? / В.И. Иванов // Н.А. Бердяев: pro et contra. Кн. 1 / сост.,вступ. ст. и прим. А.А. Ермичева. – СПб. : РХГИ, 1994. – 573 с. – С. 306 – 313. – (Русский путь, т. Ι).
4 О протоформности мышления Бердяева см., напр., [10, с. 27-40].5 См. [11, с. 16].
67Особенности религиозно-философской концепции творчества Н.А. Бердяева
8. Кувакин В. А. Религиозная философия в России: Начало ХХ века / В.А. Кувакин. – М.: Мысль,1980. – 309 с.
9. Лундберг Е. Творчество как спасение / Е. Лундберг // Мысль и слово: Философский ежегодник.Т. I / под ред. Г.Г. Шпета. – М., 1917. – С. 277 – 296.
10. Титаренко С.А. Специфика религиозной философии Н.А. Бердяева / С.А. Титаренко; науч. ред.Г.В. Драч; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 2006. – 288 с.
11. Цехмистро И.З. Холистическая философия науки: Учебное пособие / Цехмистро И.З. – Сумы :ИТД «Университетская книга», 2002. – 364 с.
12. Шкода В.В. Николай Бердяев: христианский смысл творчества / В.В. Шкода // Н.А. Бердяев иединство европейского духа / под ред. Владимира Поруса. – М.: Библейско-богословский институт св.апостола Андрея, 2007. – С. 278 – 283. – (Серия «Религиозные мыслители»).
13. Murdoch P. Champbell. Der Sakramentalphilosophische Aspect im Denken Nicolaj AleksandrovitschBerdjaevs / Murdoch P. Champbell. – Erlangen, 1981.
14. Nucho F. N. Berdyaev’s philosophy: The existential paradox of freedom and necessity / Nucho F.N. –New York: Anchor Books, 1967.
Чекер Н.В., Титаренко С.А. Особливості релігійно-філософської концепції творчості М.О.Бердяєва (в період з кінця 1910-х до початку 1930-х рр.) // Вчені записки Таврійського національногоуніверситету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. –Т.23 (62). - №1.– С. 61-67.
У статті розглянуті особливості еволюції поглядів М. О. Бердяєва на творчість в період з кінця1910-х до початку 1930-х рр. Авторами проаналізовані ключові характеристики, що надаютьсвоєрідності підходам М.О. Бердяєва до проблематики творчості.
Ключові слова: творчість, особистість, свобода, персоналізм, екзистенціалізм.
Cheker N., Titarenko S. The specificity of Nicolay Berdyaev’s religio-philosophical creativityconception (in the period from the late 1910s till the early 1930s) // Scientific Notes of Taurida National V.І.Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). –№1. – P. 61-67.
The article deals with the specificity of N. A. Berdyaev’s religio-philosophical creativity conception in theperiod after its first conceptualization (till the early 1930s). The authors analyse its evolution and some essentialfeatures.
Keywords: creativity, personality, freedom, personalism, existentialism.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 68-76.
УДК 141:340.12
ОСНОВАНИЯ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПРАВА У Л.Н. ТОЛСТОГО
Шевцов С.П.
В статье идет речь об основаниях негативной оценки права Л.Н.Толстого, показано, что Л.Н.Толстой видел в праве только обман и оправдание насилия. Анализ работ Толстого в данной статьепоказывает, что такое понимание права у него было основано на отказе от западноевропейскогопонимания личности как источника права.
Ключевые слова: право, индивид, насилие.
Предмет исследования – природа права в учении Л.Н. Толстого. Цельюнастоящей публикации является выявление оснований негативной оценки права втрудах Л.Н. Толстого.
В 1909 году в ответ на одно из писем к нему Л.Н. Толстой обстоятельно излагаетпричины своего негативного отношения к праву [1, с. 54-61]. Любопытно, что всамом этом письме приводится отрывок из книги Л.И. Петражицкого, в котором тотупоминает Толстого как противника права. Самый беглый анализ этого письмаможет указать нам на два момента: к 1909 году Толстой уже достаточно известен какпротивник права; при этом сам Толстой считает, что до сих пор он ясно своегоотношения к этому вопросу не излагал, в связи с чем и считает нужным свой ответопубликовать.
Теперь обратимся к содержанию письма, не затрагивая пока плана стилистики.Толстой пишет, что, во-первых, он сам в свое время увлеченно пытался вникнуть всмысл теории права (на втором курсе университета), но оказался не в силах понятьэту науку. Во-вторых, что никакого особого учения относительно права (и чего-либодругого) у него нет и не было. («Учения у меня никакого нет и не было. Я ничего незнаю такого, чего не знали бы все люди» [1, с. 60-61]). Вместе с тем, в-третьих,исходя из того, что «знают все люди», Толстой пишет, что право представляет собойразрешение тем, кто обладает властью, для самих себя заставлять делать других то,что выгодно властвующим; для тех, кто властью не обладает, правом называетсяразрешение делать все, что им не запрещено.
Таким образом, Толстой все же полагает, что он в конечном итоге постигсущность права, но исходя при этом не из самой науки о нем, а обратившись к нейизвне, через усвоение самых общих и всем известных вещей. При этом следуетотметить в целом крайне негативную оценку Толстым права и всего, связанного сним: право – суеверие и обман, в котором «нет ничего, кроме самого гадкогомошенничества, желания не только скрыть от людей сознаваемую всеминравственно-религиозную истину, но извратить ее, выдать за истину самые жестокиеи противные нравственности поступки: грабежи, насилия, убийства». И далее: «Едвали в каком-либо другом случае доходили до таких пределов и наглость лжи иглупость людей» [1, с. 57].
Анализ данной работы позволяет выделить два узловых момента прирассмотрении отношения Толстого к праву в теоретическом плане. Момент первый и
69Основания негативной оценки права у Л.Н. Толстого
основной: насколько последовательно и строго из своего общего мировоззренияТолстой выводит данную оценку права. Момент второй: как формировалось этоотношение – Толстой сам указывает на тот факт, что к своему нынешнемуубеждению он пришел не сразу.
Толстой, начиная говорить о сущности права, сразу оговаривает, что он будет«рассуждать не по «науке», т.е. не по атрибутивно-императивным переживаниям(здесь он иронически цитирует Петражицкого. – С. Ш.), а по общему всем людямздравому смыслу». Выходит, что и анализ его рассуждений должен строиться на«здравом смысле». При отсутствии явных противоречий и несоответствий, некотороенарушение логической или композиционной строгости будет вполне естественным,учитывая полемический пафос данного текста. Кроме того, в нашу задачу не входитоценка логической или доказательной состоятельности аргументов Толстого иликакая-либо другая оценка. Нас будут интересовать глубинные основания такоговзгляда. В этом отношении «Письмо» можно разделить на саму характеристикуправа и на изложение взглядов Льва Николаевича. Если опустить характеристикиоценочные, то оставшиеся сущностные следует признать несомненно верными. (1)Право – разрешение властьимущих, данное самим себе, на принуждениеподвластных им. (2) Право подвластных – на то, что не запрещено. Далее Толстойэто раскрывает на примерах государственного, гражданского, уголовного имеждународного права. Во всем ходе рассуждений Толстой остаетсяпоследовательным, добавляя в конце, что право – прямое оправдание насилиявластьимущих. Это не новый пункт, просто «принуждение» из (1) раскрывается какнасилие.
Особым пунктом можно выделить ту оценочную характеристику, которуюТолстой дает праву и юристам. Право – едва ли не худшее, что есть в мире вообще.Право – обман, который выступает главной причиной безнравственности людейнашего христианского мира, право неизбежно развращает людей даже хуже, чембогословие. Право прямо преследует цель – оправдать существующее зло. «Когдакакой-нибудь шах персидский, Иоанн Грозный, Чингисхан, Нерон режут, бьютлюдей тысячами, это ужасно, но все-таки не так ужасно, как то, что делают г-даПетражицкие и им подобные. Эти убивают не людей, а все то святое, что есть в них»[1, с. 56].
Если временно оставить в стороне оценочную характеристику права Л. Толстым,и обратиться только к содержательным пунктам, то надо признать, что даже самыйотчаянный сторонник права, сам Л. И. Петражицкий не мог бы отрицатьсправедливости данных тезисов. Единственное возражение возможное здесь – этопризнание такой характеристики неполной, возможно, настолько неполной, чтовторичные свойства (привходящие признаки) занимают место первичных(существенных) и полностью меняют картину. Отрицать стоящее за правом насилиеедва ли возможно, и естественно, что насилие находится в руках сильных, в первуюочередь – государства. Возникает вопрос, вокруг которого намечаются путирасхождения: насилие ради чего? В одном случае кто-либо (защитник права) будетговорить, что для избежания хаоса и еще большего, уже ничем не сдерживаемогонасилия, в другом случае (Толстой), речь будет идти о том, что насилие никогда неприводит к чему-либо, кроме другого насилия, и порядок обеспечить насилиемможно только в том случае, когда это несправедливый и противоестественныйпорядок. Вне сомнения, Толстой знал аргументы защитников права и учитывал их.
70Шевцов С.П.
Мне пришлось столь подробно изложить эти достаточно общие места ради того,чтобы попытаться взглянуть на проблему глубже. Суть дела начинается именно свопроса «ради чего?» Толстой считает саму постановку этого вопросанеправомерной. Он отвергает насилие в любом виде, всякое насилие, полагая, что это– зло, а от зла ничего хорошего произойти не может. Он готов принять насилиетолько как факт, как реальность, требующую признания и искоренения, а так какискоренить его сразу невозможно, то оно может существовать лишь как пережитокпрошлого, неизменно убывая с каждым новым шагом становящегося разума. Именноразум должен преодолеть насилие как остаток неразумной дикости, отсюда тоогромное значение, которое Толстой придавал образованию (правильному) ивнутреннему совершенству. Защитник права ставит вопрос иначе: право для него –инструмент коллективного насилия против насилия личностного, индивидуального.Здесь этот оппонент Толстого будет в той или иной мере опираться на учениеГоббса, согласно которому правовой порядок (возникающий одновременно сгосударством) останавливает естественную войну всех против всех (bellum omniumcontra omnes – о которой Гоббс пишет в XIII главе «Левиафана» [2]). Обе стороныпризнают, что право – инструмент в руках сильного, но одна сторона считает, что«сильный» – это всегда небольшая группа (властьимущие) хитростью и обманомприсвоившие себе это право, а другая, что подобная ситуация – лишь частныйслучай, в принципе же сильнейшей стороной является все общество, и именно егоинтересы должно выражать право.
Возникает достаточно запутанная картина. Обе стороны считают, что люди наопределенном уровне одинаковы и равны друг другу; именно равенство служит,согласно Гоббсу, причиной взаимного недоверия, а недоверие неизбежно приводит квойне [2, с. 94]. Толстой же считает, что именно равенство и сходность людей могутслужить основой их взаимной благополучной жизни вне государственных иправовых установлений. Здесь, таким образом, обнаруживается принципиальноеразногласие во взглядах на природу человека. Л.И. Петражицкий понимает это нехуже Л.Н. Толстого: «В основе этих воззрений... лежит незнание природы и значенияи той и другой ветви человеческой этики». То, что он говорит о природе в связи сэтикой, указывает, что речь идет о природе человека (или общества). И все жеметодологически эти позиции очень близки – за каждой из них стоит теоретическаяреконструкция плюс определенный исторический опыт. Поскольку нас интересуетпозиция Л. Толстого, то нам для уяснения ее необходимо обратиться к егопредставлениям о человеке, но работ, посвященных проблеме человека, мы среди егосочинений не найдем.
В рассматриваемом «Письме» об этом сказано довольно бегло: «Знаю же я совсеми людьми, с огромным большинством людей всего мира то, что все людисвободные, разумные существа, в душу которых вложен один высший, оченьпростой, ясный и доступный всем закон, не имеющий ничего общего спредписаниями людей, называемыми правами и законами. Высший закон этот, самыйпростой и доступный всякому человеку, состоит в том, чтобы любить ближнего, каксамого себя, и потому не делать другому того, чего не хочешь себе. Закон этот такблизок сердцу человеческому, так разумен, исполнение его так несомненноустанавливает благо как отдельного лица, так и всего человечества и так одинаковобыл провозглашен закон этот всеми мудрецами мира, от Ведантистов Индии, Будды,Христа, Конфуция до Руссо, Канта и позднейших мыслителей, что если бы не тековарные и зловредные усилия, которые делали и делают богословы и правоведы для
71Основания негативной оценки права у Л.Н. Толстого
того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы усвоеногромным большинством людей, и нравственность людей нашего времени не стоялабы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь» [1, с. 61].
Несмотря на старательно простую форму изложения, фрагмент этот вызываетмного вопросов. Толстой не разъясняет здесь того, что он понимает под «свободой» и«разумностью», а эти понятия трудно признать однозначными. Например, «свобода»у любимого Л. Толстым Ж. Ж. Руссо существенно отличается от «свободы» у А.Шопенгауэра, которого Лев Николаевич открыл для себя позже, но ценил не менеевысоко. И совсем уж неясно, почему Толстой, прекрасно сознавая историческийхарактер возникновения богословия и юриспруденции, считал именно ихответственными за нынешнюю низкую степень нравственности.
У Толстого нет явно представленной истории развития человеческого общества,которую можно найти, например, у Руссо [3]. Лишь в некоторых своихпублицистических работах он бегло будет обозначать общие закономерностиразвития человечества. Таким образом, нам придется обратиться к другим, болееранним работам (в данном случае – лишь к некоторым), чтобы прояснитьстановление представлений Толстого о праве, человеке и обществе. Сделаем это всамом общем виде, выбрав избранные моменты жизни.
Впервые Толстой заинтересовался правом во время учебы в казанскомуниверситете (1846 – 1847). После первого курса он переходит с факультетавосточных языков на юридический факультет. Отношения с правом, однако,складываются сложно. Биограф Толстого Н.Н. Гусев утверждал, что Толстой не имелсклонности к юридическим наукам [4, с. 230]. Кроме двух четверок, полученных поэнциклопедии права и русскому государственному праву (оба предмета читаладъюнкт А. Г. Станиславский), остальные оценки свидетельствуют о слабом интересек учебе: три двойки (по юридическим дисциплинам) и отсутствие оценок по шестипредметам (из них юридический один) [5, с. 342]. А.Г. Станиславский, был, по всейвидимости, учеником К.А. Неволина, чей учебник по энциклопедии права Толстой,по его признанию, старательно изучал «не для экзамена только» [1, с. 60]. Неволинже, в свою очередь, был сторонником гегелевского подхода к праву, а также близокисторической школе (близкой Гегелю в отношении роли истории). Тогда же, навтором курсе, Толстого заинтересовала тема, предложенная ему профессоромМаейером (несмотря на то, что по его предмету – истории русского гражданскогоправа – Толстой получил двойку) о сравнении «Наказа» Екатерины с «Духомзаконов» Ш.Л. Монтескье. Это увлечение заставило молодого человека сноваобратиться к работам любимого им Ж.Ж. Руссо, чье влияние на себя писательпризнавал сам. Далее мы вступаем в область догадок, но можно с большойвероятностью предположить, опираясь на поздние отзывы Толстого, что теорииправа Гегеля и Савиньи Толстой противопоставил теорию права Монтескье и Руссо,покоящихся на совершенно иных основаниях. Вообще к исторической науке иисторическому подходу в частных науках Толстой в то время относился весьмаскептически: «…они хотят решить философские вопросы исторически, забывая то,что история есть одна из самых отсталых наук и есть наука, потерявшая своеназначение. (…) История есть наука побочная» [6, с. 60].
По прошествии чуть более двадцати лет в эпилоге «Войны и мира» Толстойвыразил мысль о бессилии науки права ответить на вопросы, относящиеся к живомуисторическому развитию общества. «…Наука права может рассказать подробно отом, как, по ее мнению, надо бы устроить власть и что такое есть власть, неподвижно
72Шевцов С.П.
существующая вне времени; но на вопросы исторические о значениивидоизменяющейся во времени власти она не может ответить ничего» [7, с. 308].Таким образом, к 1869 году (году написания второй части эпилога) Толстой полагает,что наука о праве – чисто теоретическая и способна описывать лишь некоторуюмодель, некоторое идеальное общество, не развивающееся, не существующее вовремени. То есть, наука о праве – своего рода утопия. Правда едва ли случайноТолстой добавляет, что наука эта способна рассказать, «что такое власть».
Вторая часть эпилога в целом посвящена исторической науке и человеку вистории. Взгляд Толстого на историю заметно изменился: он по-прежнему низкооценивает историков и достижения истории как науки, но признает необходимостьисследовать общество и человека в их развитии. Забегая вперед, мы можем сказать,что для Толстого вопрос об историческом измерении при исследованиичеловеческого общества станет одним из основных. Примерно в то же время, когдаписалось «письмо студенту о праве», в апреле 1909 года, Толстой работал надстатьей «Неизбежный переворот», в которой он напишет следующее: «Много естьсуеверий, от которых страдают люди, но нет более общего, более губительного посвоим последствиям суеверия, чем то, по которому люди уверяют себя в том, чтосознание человечества (то, которое выражается учениями о смысле жизни и овытекающем из него руководстве поведения, называемыми религиями), что этосознание может остановиться и быть одно и то же во все времена жизни людей» [8, с.85]. При этом никакого возвращения к Гегелю или «исторической школе» не было,принцип «историчности» у Толстого скорее был противоположным – не освящениетрадицией, а постоянное обновление, нахождение новых форм для осуществлениянекой неизменной сущности во все новых условиях.
В том же эпилоге «Войны и мира» Толстой излагает свой взгляд на проблемусвободы человека (именно в связи с историей). Секретарь, а впоследствии биографписателя Н.Н. Гусев так суммирует этот взгляд: «Существуют, как полагает Толстой,две категории поступков, в одной из которых человек свободен, а в другой несвободен. Свободен человек в тех поступках, в которых он не связан с другимилюдьми; не свободен – в тех, в которых его деятельность связана с деятельностьюдругих» [4, с. 810].
К этому же периоду относится и увлечение Толстого философией А.Шопенгауэра, что достаточно важно для уяснения взглядов позднего Толстого начеловека и его свободу, общество, историю и многое другое. Б. Эйхенбаум несомневается, что это увлечение Толстого оставило свои следы в рассужденияхэпилога «Войны и мира» об исторической науке и о свободе воли [5, с. 95]. Но тот жеисследователь отмечает и другую сторону: «надо помнить, что Толстой – совершенноособый читатель: он никогда не входит в систему, мировоззрение чужого автора, атолько берет и ассимилирует себе отдельные элементы, задевающие его за живое» [5,с. 123 – 124].
Таким образом, к возрасту сорока лет Толстой окончательно отвергаетгегелевскую философию права и историческую школу права Ф.К. Савиньи. При этомон все же оставляет место для философии права Монтескье и Руссо, оценивая их каксвоего рода утопию. Связь науки права с представлением о свободе воли отдельногочеловека видится Толстым через общество, в котором человек остается несвободен, вто время как по своей природе он сохраняет свободу действий. Особо писательвыделяет богословскую теорию права как единственно стройную ипоследовательную, но неприменимую в современном мире. Сам Толстой в тот
73Основания негативной оценки права у Л.Н. Толстого
момент, по позднему признанию, был нигилистом «в смысле отсутствия всякойверы» [9, с. 304].
Спустя еще двадцать с лишним лет Толстой в трактате «Царство Божие внутривас» (1890 – 1893) вновь затрагивает вопросы права. К этому времени он пережилжизненный кризис, в его мировоззрении произошел перелом, одним из моментовкоторого было принятие учения Христа. Но сразу отметим, что вера эта не сделалаТолстого приверженцем богословской теории права и богословия вообще. УчениеХриста в понимании Толстого стояло куда ближе революционному взгляду все тогоже Руссо, чем примирительному и оправдательному взгляду Гегеля или историкаС.М. Соловьева (с которым Толстой вел полемику в семидесятые годы в отношениивзглядов на роль государства и правительства). Отметим также, что и от взглядовРуссо Толстой в этот период был весьма далек, но при этом сохранял в отношенииего некоторую симпатию и оставался «верен общему духу Руссо даже в самих своихотклонениях» от его учения [10, с. 125]. Не случайно чем с большей настойчивостьюотстаивал и выражал Толстой свой взгляд на учение Христа, тем дальше оказывалсяон от норм и канонов православной церкви, что и привело в конечном итоге котлучению Толстого от церкви в 1901 г.
В трактате «Царство Божие внутри вас» Толстой уже очень близок той позиции вотношении права, которую он выразил в «Письме студенту о праве». Это позволяетнам не рассматривать подробно все упоминания о праве в этом довольно-такиобъемном тексте, а выделить лишь некоторые моменты, новые по отношению к«Письму» и приблизиться к основаниям толстовского понимания права.
Трактат «Царство Божие внутри вас» главным образом посвящен непротивлениюи аргументации против насилия в любых формах. Ненасилие при этом представленокак корень учения Христа (и поэтому все государственные и церковные структурыничего общего с христианством иметь не могут – «Даже как-то смешно говорить овластвующих христианах» [11, с. 191]). При этом непротивление злу представлено некак пассивное терпение, а скорее как осознанное прямое и открытое действие любви,направленное на нравственное преобразование обеих сторон.
Именно нравственное преобразование и оказывается для Толстого основныммоментом его понимания личности. «Вся жизнь историческая человечества есть нечто иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного кжизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного кжизнепониманию божескому». Вся история «заканчивающаяся историей Рима, естьистория замены животного, личного жизнепонимания общественным игосударственным. Вся история со времени императорского Рима и появленияхристианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственногожизнепонимания божеским» [11, с. 70]. Такова общая картина истории, согласнопредставлению Толстого, и основание для такой замены и обращения человека – егоразум. Разум Толстой понимает в чем-то следуя Канту (но далеко не во всем): этообращение к своей душе, открытие внутри себя ясного и простого нравственногозакона (Толстой не устает повторять, что даже самые плохие люди знают в душе, чтохорошо, а что плохо) и осуществление этой нравственной нормы в своейповседневной деятельности. Препятствует этому как раз сложившаяся системавласти и неравенства, держащаяся главным образом на насилии («Основа власти естьтелесное насилие» [11, с. 132]), но использующая для своего оправдания методыустрашения и гипнотизации, одним из которых является наука о праве.
74Шевцов С.П.
Сложнее обстоит дело с пониманием свободы у Толстого, здесь остается многонеясного. Он использует его не так уж часто, но мне не удалось найти ни единогослучая разъяснения, что именно понимает Толстой под свободой. Он критикуетпонимание свободы у Руссо как основанное на праве, так как, по его мнению,человек может отставать свои права, только унижая и оскорбляя других [10, с. 137].Но все же неясно, полагает ли Толстой свободу некоей внутренней природой или онавсе же должна обязательно выражаться в общении с другими людьми (что, например,отвергал Шопенгауэр). Можно только предположить, что «свободой» Толстойназывал некую внутреннюю гармонию человека со своей деятельностью вокружающем мире. В этом случае едва ли не главной узловой составляющей такойсвободы будет спокойная совесть. Толстой, мучительно искавший сам свободы,чувствовавший почти всю жизнь себя скованным некими незримыми узами, могпонимать свободу как жизнь согласно открытыми разумом принципам среди такихже единомышленников. Толстой никогда не искал свободы для одного себя, что ипорождало бесконечные его трудности существования в семье. Даже его первыедетские воспоминания связаны со стремлением высвободиться из каких-то пут,приводя их, В.Б. Шкловский делает совершенно верный вывод: «Толстой всю жизньхотел освободиться; ему нужна была свобода» [12, с. 18]. Но надо отметить также,что, во-первых, Толстой не мыслил свободы лишь для себя – именно с этим связанаего страстная публицистическая деятельность, принесшая ему стольконеприятностей и разочарований, но ставшая главным делом его второй (и как он самсчитал – сознательной) половины жизни; а во-вторых, он не мыслил эту свободу какправовую, гражданскую или политическую.
Толстой представлял себе свободу примерно так, как он описывал изменениесвоей жизни после решения заняться физическим трудом. «Оказалось, что стоиломне сделать физический труд привычным условием своей жизни, чтобы тотчас жебольшинство моих ложных, дорогих привычек и требований при физическойпраздности сами собой, без малейшего усилия с моей стороны, отпали от меня. Неговоря уже о привычках обращать день в ночь и обратно, о постели, одежде,условной чистоте, прямо невозможных и стесняющих при физическом труде, пища,потребность качества пищи совершенно изменились. Вместо сладкого, жирного,утонченного, сложного, пряного, на что тянуло прежде, стала нужна и более всегоприятна самая простая пища: щи, каша, черный хлеб, чай вприкуску» [13, с.384].Физический труд понимается здесь как освобождение – это характерно для Толстого,он не мыслил человека вне физического труда и труд этот был направлен не наудовлетворение исключительно собственных потребностей, но на благо всехблизких.
«Отречение от животного блага ради духовного есть последствие изменениясознания. Если это изменение сознания совершилось, то, что казалось отречением отэтого изменения, представляется уже не отречением, а только естественнымудалением от ненужного», – пишет Толстой в «Круге чтения» от 4 августа. Вообщеидея самоотречения и жертвы очень близка Толстому, но только в связи с духовнымпреобразованием на основе веры и разума. Жертвенность ради государства, всякогорода патриотизм казались Толстому отвратительными.
В итоге мы приходим к той формуле, которую в письме от 30 марта 1908 года(одобренным самим Толстым) помещает Н. Н. Гусев, в тот момент его секретарь:«Все учение Льва Николаевича в том, чтобы усилиями духа освобождаться отличности…» [4, с. 130]. О том же гораздо раньше писал Л. Оболенский, что согласно
75Основания негативной оценки права у Л.Н. Толстого
учению Толстого, «нужно стремиться к подавлению своей личной воли.., то естьуничтожить свою личность» [14, с.171]. Такое понимание личности, раскрываемоечерез своеобразно трактуемые категории разума и свободы, лежит в основенегативного отношения Толстого к праву. То, что сам Толстой в том же «Письме кстуденту о праве» связывает это отношение к своему отношению к собственности инасилию представляет собой лишь первый слой аргументации. Руссо такженегативно относился к собственности, но совершенно иначе понимал разум исвободу, а следовательно, и личность. Он, например, категорически возражает наутверждение Пуфендорфа о возможности человека лишить себя части свободы,передав ее в чью-либо пользу [3, с. 128].
Доказательство выдвинутого здесь тезиса, безусловно, не является строгим. Нотот факт, что Толстой, неоднократно касаясь вопросов права в течение своей жизни,ни разу не счел нужным (до 1909 года – до «Письма») сделать его центральнойпроблемой одного из своих сочинений, тот факт, что право рассматривалось им всвязи с проблемами истории, религии, духовного развития человека – все это говоритнам, что вопрос о праве, при всей его важности для русского общества того времении при широкой известности столь категоричного и радикального отношенияТолстого к праву, вопрос этот был для Толстого побочным, вытекающим из егонегативного понимания личности.
Выводы. Толстому обычно приписывают отказ от исторического прогресса иидеализацию патриархальной общины. Рассмотренные выше сочинения под угломотношения к праву и человеку позволяют сделать вывод о том, что такой взгляд невполне верен. Толстой был сторонником прогресса, но считал важнейшим прогресснравственный, а не научный или технический, а нравственный прогресс, с его точкизрения, опирался на преодоление себялюбия, эгоизма и отвратительных привычек,возникших в ходе истории, то есть на отрицание большей части того, что понимаетпод «личностью» западная философия. Что касается крестьянской общины, то онвидел в ней скорее модель, возможность такого бытия человека и общества, но вовсене стремился «свести» к такой общине человечество, прекрасно понимая многие еенедостатки. Ведь ни одна община не ставит своей задачей нравственноепреобразование человека. Толстой стремился «поднять» общество до общиныподобной крестьянской, но стоящей на совершенно ином уровне и добиться этогоможно было только каждому самостоятельно на основании собственного разума иверы.
Список литературы
1. Толстой Л.Н. Письмо студенту о праве / Л. Н. Толстой // Полное собрание сочинений. Т. 38. –М., 1936. – С. 45-65.
2. См., напр.: Гоббс Т. Левиафан, или Материя форма и власть государства церковного игражданского / Т. Гоббс // Сочинения в 2-х тт. Т.2. – М.: Мысль, 1991. – 95 с .
3. Руссо Ж.Ж. Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми / Ж.Ж.Руссо // Об общественном договоре. Трактаты / Ж.Ж. Руссо. – М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле»,1998. – 442 с.
4. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. Т.1. / Н.Н. Гусев. – М.:Издательство АН СССР, 1954. – 354 с.
76Шевцов С.П.
5. Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы / Б. Эйхенбаум – Л.: Художественнаялитература, 1974. – 623 с.
6. Толстой Л.Н. Философические замечания на речи Ж.-Ж. Руссо / Л.Н. Толстой // Толстой Л.Н.Полное собрание сочинений. Т.1. – М., 1928. – С. 321-354.
7. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.12. / Л.Н. Толстой – М., 1933. – 678 с.8. Толстой Л.Н. Неизбежный переворот / Л.Н. Толстой // Толстой Л.Н. Полное собрание
сочинений. Т.12. – М., 1933. – С. 437-521.9. Толстой Л.Н. В чем моя вера? / Л.Н. Толстой // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений.
Т.23. – М., 1957. – С. 132-187.10. Дивильковский А. Толстой и Руссо / А. Дивильковский // Вестник Европы. – 1912. – № 7. – С. 43-84.11. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.28. / Л.Н. Толстой. – М., 1957. – 662 с.12. Шкловский В. Лев Толстой / В. Шкловский. – М.: Молодая гвардия, 1963. – 538 с.13. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.25. / Л.Н. Толстой. – М., 1937. – 772 с.14. Оболенский Л. Основные начала философии Л. Толстого / Л. Оболенский // Русское
богатство.– 1886. – № 9. – С. 205-224.
Шевцов С.П. Засади негативного оцінювання права у Л. Толстого // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 68-76.
Л.М. Толстой бачив у праві лише обдурювання та виправдання насилля. Аналіз праць Толстого уцій статті демонструє, що таке розуміння права у нього було обґрунтоване відмовою відзахідноєвропейського становлення до особистості як джерела права.
Ключові слова: право, індивід, насилля.
Shevtsov S.P. The Grounds of the Negative Understanding of Law by L. Tolstoj // Scientific Notes ofTaurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 68-76.
L. Tolstoj understood law only as false and the justification of violence. The analysis of Tolstoj’s worksdiscovers that the ground of his understanding of law is his rejection of the West-European understanding ofindividual as the law source.
Keywords: law, individual, violence
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 77-83.
УДК 111.32 : 316.324.7 /8
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТІЛЕСНОСТІ УТЕХНОГЕННІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Яцик С.П.
В статті проведено аналіз тілесності на основі праць сучасних дослідників та філософськоїспадщини. Поняття «тілесність» аналізується як можливість подолання опозицій «тіло-душа»,«природа-культура», «біологічне-соціальне», що були сформовані у класичній філософії. Зробленаспроба дослідження еволюції феномену тілесності як результату розвиток техногенної цивілізації.
Ключові слова: тілесність, тілесне буття, техногенна цивілізація.
Предмет дослідження – тілесність як феномен розвитку техногенної цивілізації.Ціль статті – дослідити еволюцію філософської інтерпретації тілесності в умовахсучасної культури.
На рубежі ХХ та ХІ століття пожвавився інтерес до питань людської тілесності,що був зумовлений змінами у науковій, політичній, екологічній, економічній таінших сферах буття людини. Зацікавленість питаннями людської тілесностівиходять на перший план в умовах техногенної цивілізації, що характеризуєтьсярозвитком принципово нових технологій, які безпосередньо вплинули на буттялюдини. Техногенна діяльність людства впродовж декількох століть якісно змінилане тільки природне середовище, а й культуру та соціум. Все частіше у науковихпублікаціях можна знайти припущення, що відомий нам вид homo sapiens зазнаєзмін. Може змінитися не тільки біологічна організація людини, але ще більшоюмірою її психіка та психофізіологічні функції. Адже технологічні можливостіновітніх біотехнологій уже сьогодні мають можливість необмеженого втручання вбіологію людини Такий стан речей зумовлює актуальність філософсько-антропологічного аналізу тілесних, соматичних передумов існування людини.
Потреба зміни світоглядної парадигми стосовно людини як об’єкту дослідженняу філософії визріла давно, але лише зусиллями М. Шелєра, Х. Плеснера, Е. Ротхакераі А. Гелена у філософії ХХ століття відбувся фундаментальний антропологічнийповорот – зміна думки про людину як унікальну, цілісну істоту. Саме у цей час, урамках загальнокультурного інтересу до проблеми людини виникає філософськаантропологія як самостійна дисципліна зі своєю системою категорій і методологією.Вона спирається на досягнення філософії життя, екзистенціалізму, феноменології,сучасної науки і методології пізнання. В її рамках проблематика розуміння людинипостає одним з ключових напрямів дослідження.
Філософська антропологія з початку свого виникнення і до оформлення всучасному вигляді була органічно пов’язана з практичною філософією, саме цезумовило багатовекторність у дослідженнях соматичного буття, завдяки якимможливий подальший розвиток філософської антропології.
78Яцик С.П.
Сучасний етап розвитку культури та суспільства у техногенній цивілізаціїхарактеризується подоланням вузькоспеціалізованого підходу до вивчення багатьохкультурних явищ; він пов'язаний з їх системним розглядом, зверненням до людини якдо цілісної, інтеграційної система.
Філософсько-антропологічний аналіз проблеми людської тілесності особливогоінтересу набуває у наш час через антропологічний «поворот» в сучасній філософії,розвиток науки і техніки, негативної дії науково-технічної революції на сутнісні силилюдини, його фізичний, духовний і психічний розвиток, у зв'язку з реальноюзагрозою жити людині в штучному, безприродному технічному світі.
У останні десятиріччя XX століття почався новий етап у дослідженнях людськоїтілесності: відмінні риси цього етапу визначаються визнанням присутностіособливого «продукту» взаємодії тіла і психіки, надзвичайної складності цього«продукту» і переконанням, що його необхідно вивчати на стику багатьох наук іобластей знання про людину. На зміну тлумаченню людини як істоти без плоті ікрові приходить усвідомлення того, що людина не лише плоть і душа, алеприрода і культура.
Як зазначено вище, тема даного дослідження обумовлена тим, що людськатілесність як філософська проблема постійно привертала інтерес філософів, алесьогодні, в умовах динамічно і суперечливо функціонуючого сучасного суспільства,питання взаємозв'язку тіла, душі та духу набули ще більшої актуальності. Якзауважує П. Саух, людське суспільство ще ніколи не володіло таким величезнимоб’ємом інформації, та водночас ніколи не було так далеко від глибин розуміннявласної сутності [1, с. 27].
Дійсно, тілесність – особливе явище: найближче людині і одне з якнайменшевідомих йому, займає домінуюче значення в людському житті.
Потрібно зазначити, що «чистої тілесності» не існує. Тілесне втілення людиниздійснюється не в просторі і часі як такому, а в соціокультурному світі. Людиніспочатку дані лише частини його тіла, які він повинен перетворити в певнуцілісність. Якщо будь-яке чуже тіло виступає для кожного предметом зовнішньогоспоглядання, то власне тіло ніколи таким не є, тобто ні предметом внутрішнього, нізовнішнього споглядання. Як зазначає Фіхте, тіло не є предметом внутрішньогоспоглядання, оскільки немає внутрішнього загального відчуття всього тіла, а тількийого частин (наприклад, при болі); воно не є і предметом зовнішнього споглядання:ми не бачимо себе цілком, а тільки частини свого тіла (винятком може бути дзеркало,але там ми бачимо не наше тіло, а тільки його образ) [2, с. 692].
Із зауваження Фіхте стає ясно, що людина повинна ще оволодіти тілом, зробитийого своїм, згідно власного морального призначення. Іншими словами, внутрішнійобраз тіла, або тілесність, завжди духовно трансформований і щоб зрозуміти сутьвласного «Я», розібратися в питаннях тілесного буття, необхідно зосередитись насамому собі, оволодіти собою як предметом пізнання [3, с. 8].
Реальні фізичні контури людської тілесності є, таким чином, не тільки те, щоналежить індивіду, але і те, що стикається із зовнішнім, культурним та природнимсвітом, а тому відноситься і до нього. Виходячи з даної тези, необхідно переглянутиточки зору, що склалися, на співвідношення тілесної і духовної організації, виявити
79Філософсько-антропологічний аналіз тілесності у техногенній цивілізації
тенденції розвитку духовного життя сучасного суспільства, дати відповідь напитання про те, яке місце займає тілесність на різних етапах суспільного розвитку всистемі ціннісних орієнтації людини, різних соціальних груп, потім, на які ідеали іцінності орієнтуються люди, намагаючись цілеспрямовано впливати на свій тілеснийстан.
Розробка концепції людської тілесності, як філософського способу осмисленняспецифіки тіла людини, її соматичного буття, нас цікавить перш за все з точки зоруфілософсько-антропологічного аспекту проблеми людської тілесності. Межітілесності людини, як певної цілісності, як відомо, не адекватні межам фізичного тілаконкретного індивіда. При цьому слід чітко розмежовувати поняття «тіло» та«організм». Організм людини Людський організм – це цілісна жива біологічнасистема, яка своїм функціонуванням забезпечує підтримку життєдіяльності людинияк живої істоти [4, с. 24]. А тіло – це фізична форма організму, його прояв узовнішній, тілесній організації людини [5, с. 92].
Деякі дослідники тілесності диференціюють тілесний простір людини. Зокрема,Фролова С.В. виділяє внутрішній тілесний простір, що включає різні переживання івідчуття органів, бажання, внутрішні ресурси людини; і зовнішній тілесний простір –простір можливостей самовираження і взаємодії з навколишнім світом, що єсвоєрідною тілесною експресією [6, с. 357].
Таким чином, розуміння тілесності можливо як шляхом штучного розширеннятілесних меж в зовнішньому просторі (соціальному або культурному), так і завдякиоптимізації внутрішнього екзистенціального вектора.
Аналізуючи сьогодення людини, ми розуміємо, що існує реальна загроза жити вбезприродному технічному світі. «…Оскільки зовнішня (оточуюча) і внутрішня(тілесна) природа людей, – пише В.А. Кутирєв, – нерозривно пов’язані, остількицілком штучне оточення несумісне з буттям людини як природної істоти» [7, с. 69].Техносфера розвивається значно швидше за біосферу, і людина, намагаючисьпристосовуватися до життя в штучному оточенні, вимушена займатися своєютілесною організацією. Сучасні форми діяльності є настільки багатоманітними, щовимагають не просто вироблення специфічних навиків та здібностей, але іподальшого вдосконалення світу внутрішніх відчуттів. Природа залишає людськетіло незавершеним для того, щоб воно було до кінця сформовано внутрішнім,екзистенціальним світом.
Проблематика тілесності охоплює достатньо широкий спектр людського буття.Вже у мислителів Стародавньої Греції (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель)докладно аналізувалися поняття душі і тіла.
Античні мислителі роздумували про здоровий спосіб життя, про співвідношеннятілесного і психічного здоров'я. Вони називали людину мікрокосмом в порівнянні зіВсесвітом-макрокосмом [8, с. 68]. При цьому тіло людини виступало як знаряддядуші, і в той же час як своєрідне «дзеркало» для відображення сутності космічноговсесвіту.
В епоху середньовіччя акценти були змінені. Філософи почали виділяти в людинівищу інстанцію – дух, а тіло-плоть розглядали як арену, на якій розгортаються низькіпристрасті. Однак, класична філософія середньовіччя, в основі якої лежала ідея
80Яцик С.П.
раціоналізації християнства, відстоювала переконання, що цілісна людськасубстанція – це єдність душі і тіла [9, с. 280]. На думку Фоми Аквінського, тіло єнеобхідне доповнення душі, а не її кайдани. Дещо іншої думки дотримувався ІоаннДунс Скот – він розвивав ідею про зближення рослинних, фізичних і розумовихфункцій душі. Дана концепцію розвивав Вільям Оккам: вважав, що про душу можнаговорити лише на підставі її різних психічних проявів. Звідси він спробувавобґрунтувати індивідуалістичну суть людської моралі, що відкривало шлях доекзистенційного аналізу особистості у суспільстві.
Арабо-мусульманські мислителі (Аль-Газалі, Ібн-Рушд, Ібн-Сина, Аль-Фарабі)також внесли вагомий внесок в розробку проблеми співвідношення духовного ітілесного. Саме Ібн-Сина розвинув ідею єдності і цілісності організму [10, с. 226].Загалом арабська філософія в аналізі проблеми тілесності призвела до появи новихпідходів до даної проблеми.
Епоху Відродження звертається до ідеалів античності. Знову ми бачимо ідеальнітіла героїв, богів і богинь, що втілюють різні тілесні достоїнства.
Реформація, в свою чергу, відділила духовне буття від тілесного, гріховного.Такий дуалізм призводить до появи нової людини – людини розділеної на безтілеснудуховність, що ґрунтується на потребі порятунку душі, і бездуховну тілесність, щообтяжує людину своєю тлінністю.
У століття посилення раціоналізму, були зроблені спроби дати цілісну картинусвіту, починаючи з космосу і закінчуючи людиною. Людині присвячені трактатиР. Декарта «Про людину», «Про будову людського тіла». Т. Гоббс в своєму«Левіафані» відстоює думку про уподібнення людського організму машині. Ж.-О. деЛаметрі описує людське тіло як годинниковий механізм, а серце як основнийробочий елемент людської машини.
Новий час і Просвітництво виходять з трактування тілесності в контекстіпроблеми розуму людину. Саме починаючи з епохи Просвітництва запанувалабезтілесна концепція людини і культури. Вважалося, що тілом повинні займатисямедицина та емпіричне природознавство.
К. Маркс акцентує увагу на діяльному, творчому початку в людині. Тілесністьвиступає у нього як «певне суспільне відношення», тобто як щось ідеальне або«дзеркальне». Тілесність не має нічого спільного з фізичним тілом людини, а являєсобою «суспільне відношенням самих людей», яке часто «приймає в їх очахфантастичну форму відношення між речами» [11, с. 62].
Опозиція німецької класичної філософії і марксизму представлена в основномупрацями А. Шопенгауэра і Ф. Ніцше. У західній культурі Ніцше вважає тілесніфункції важливішими, ніж функції свідомості. Зрозуміло, що розмірковування Ніцшебазувалося перш за все на боротьбі з власним тілом, захопленим фізіологією хвороби,яке намагалося, за його словами, «машинізувати» дух [12, с. 28].
Світ людської тілесності, людських діянь може зрозуміти лише у тому випадку,коли дослідник бере до уваги цінності і соціальні норми, звичаї і традиції, діючі всуспільстві. Саме з таких позицій підійшов до проблеми тілесності Р. Ріккерт,останній представник південно-західної школи неокантианства в Німеччині.
81Філософсько-антропологічний аналіз тілесності у техногенній цивілізації
Філософська думка XX століття характеризує людину як втілений суб'єкті(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понті). Але втілення людини здійснюється всвіті культури. З’ясування сутності тілесності полягає в тому, що для її розуміннянеобхідно подолати не тільки дуалізм душі і тіла, але й дуалізм «Я» та «Іншого»(проблема Е. Гуссерля), «Я» і «Інакшого» (проблема М. Фуко). Якщо Гуссерльвважає за краще говорити про трансцендентальне (чисто духовне) «Я», то Мерло-Понті переймається проблемою абсолютизації тіла, вважаючи, що предмети світуніби вбудовані в плоть тіла. Тіло, таким чином, є центром реальних і віртуальних дій,тоді як світ – це місце застосування досвіду органів людського тіла.
Величезний вплив на розуміння тілесності як культурного феномену здійснилипогляди лаканівського психоаналізу та деяких представників французькогопостструктуралізму (М. Фуко, Ж. Дельоз, Ж. Бодрійяр), фемінізму і постфемінізму(Дж. Батлер, С. Бордо, Е. Гросс), соціальної і культурної антропології (М. Мосс,А. Фельдман), представників сюрреалізму (Ж. Батай, А. Арто).
Потрібно відмітити роль російський філософів у дослідження феноменутілесності, зокрема в дослідженнях по філософській антропології, пов'язаних зкритичним аналізом зарубіжних концепцій (І. Вдовіна, Б. Григорьян, П. Гуревич,В. Подорога, К. Свасьян, Б. Марков); в роботах, пов’язаних з вивченням діяльноїсутності людини (Г. Батіщев, Л. Буєва, Л. Жаров, М. Каган, Л. Коган, B. Степін);цілісного вивчення людини (В. Розін).
Проблема тілесності досліджувалася і вітчизняними мислителями: Л. Газнюк,О. Гомілко, Ю. Доброносова, В. Косяк, О. Муха, А. Осипов, В. Табачковський,В. Слюсар та інші.
Ми проаналізували поступову еволюцію феномену тілесності, але якоїформи набуває тілесність у техногенній цивілізації? Тілесність є результатомсукупності триєдиної природи людини – людина має фізичне тіло, психіку і єсоціальною істотою. Тіло, яке пройшло соціалізацію, перестає бути простофізичним, про нього вже потрібно говорити як про соціальну тілесність. Людиназнаходить себе в світі не як думка, а як істота, якій належить жити і бути, буттювона належить саме як тілесна істота. Тілесність цього плану – не натуральнаречовинність організму. Це феноменальна тілесність як спосіб, яким людинапроживає і переживає ситуацію свого існування. Соціальне тіло стає головнимелементом цієї ситуації, людина знаходить своє «Я» як інтегрована в ситуаціютілесна істота. Екзистенційне сприйняття власного «Я» крізь призму тілесності, являєсобою існування як вибір і схвалення ситуації, де вибір і схвалення реалізуються тілесно.
Простір тілесного буття утворюється з дій феноменального тіла, якевизначається не зовнішнім, тривимірним універсальним простором, а буттям, тобтотим, що людина вважає істиною свого існування та здійснення. Фактично цепростір її надій, перемог, задоволень і насолоди. Тілесне буття є і просторомлюдських спокус, випробувань, поразок, сорому, страждань і розчарувань.Тілесність людини розкривається в просторі культури, відображає не стількиреальність людського світу, скільки його потенційність. Це зв’язано з тим, щолюдина має своє тілесне буття не як природне або культурне вирішення задачі,вона має тілесне буття як задачу, яку їй самій в ході життя належить вирішувати.
82Яцик С.П.
Трансцендентне традиційно включається в число основних категорійфілософського дискурсу. Тому ми не можемо обійтися без цієї категорії і при аналізілюдської тілесності. Однак, проблема полягає в тому, що людина, яка приймає нормиі правила життя певного соціуму, нівелює своє духовне «Я» і спотворює тим самимповерхню, на якій суспільство відображає найзначущіші культурні коди. Іншимисловами, людина, як духовне «Я», існує в тілі, а жити, діяти може тільки за йогомежами. Тому змушена вступати в боротьбу з ідентифікацією, тобто з духовним іфізичним «тілом» культури. Тілесність при цьому означає, на наш погляд, боротьбуданого культурного тіла проти самого себе, тобто вона є самоідентифікацією.Самоідентифікація при цьому виступає як особиста відповідальність людини заскоєні вчинки в концепції самоствердження особи.
Отже, тілесність є органічна єдність, що характеризується переплетінням природно-тілесних передумов існування з соціальними, культурними впливами на особистість. Увітчизняній філософській думці дедалі частіше на позначення такого особистісно-означеного буття тілесності вживають поняття «соматичне буття». Техногеннацивілізація змінила світ, підняла питання людського існування, змусила шукативідповіді на питання організації тілесного (соматичного) буття суспільства.
Ще М. Бердяев зазначав, що техніка володіє такою силою в нашому світі зовсімне тому, що вона є головною чи верховною цінністю, а з тієї причини, що без технікинеможлива культура, з нею пов’язано саме виникнення культури, і остаточнаперемога техніки в культурі, вступ до технічної епохи вабить культуру дозагибелі [13, с. 7].
Висновки. В культурі завжди наявні два елементи – елемент технічний і елементприродно-органічний. Остаточна перемога елемента технічного над елементомприродно-органічним означає переродження культури в щось інше, на культуру вжене схоже. Техніка руйнує старі тіла, створює нові, що не схожі на органічні – це тілаорганізовані. І головне завдання людства в добу техногенної цивілізації – не втратитивласну тілесність, захистити своє соматичне буття.
Список літератури1. Саух П. Методологічні «зсуви» постнекласичної науки та їх наслідки для освіти / Петро Саух //
Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 1. – С. 27–31.2. Фихте И.Г. Факты сознания / Фихте И.Г. // Соч. в 2-х т. : т.2. – СПб.: Мифрил, 1993. – С. 690 –692.3. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пьер Тейяр де Шарден. – М.: Устойчивый мир, 2001.– 232 с.4. Газарова Е.Э. Психология телесности / Газарова Е.Э. – М.: Институт Общегуманитарных
Исследований, 2002.– 192 с.5. Найдьонова Г. Проблема тілесності в психології та філософії / Ганна Найдьонова // Філософія
гуманітарного знання: раціональність і духовність: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науковоїконференції, 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 92–96.
6. Фролова С.В. Пространственные и информационные структуры человеческой телесности/ Фролова С.В. //Материалы третьего Российского Философского конгресса: [в 3 т.]. – Т.3. – С. 356–357.
7. Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров / Кутырев В.А. – Н. Новгород: Изд-во «Нижний Новгород», 1994. – С. 67–69.
8. Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты / Маковельский А.О. – Баку, 1946. – 460 с.9. Соколов В.В. Средневековая философия / Соколов В.В. – М.: Эдиториал, 2001. – С. 279–280.10. Ибн Сина (Авиценна). О душе (фрагмент из «Книги спасения») / Ибн Сина // Избр. произвед.
мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. – М., 1961.– С. 226–231.
83Філософсько-антропологічний аналіз тілесності у техногенній цивілізації
11. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Карл Маркс. – Т.1. – Кн.1. Процесспроизводства капитала. – М: Политиздат, 1983. – С. 62–82.
12. Подорога В.А. Мир без сознания (проблема телесности в философии Ф. Ницше)/ Подорога В.А. // Проблема сознания в современной западной философии: Критика некоторыхконцепций. – М., Наука, 1989. – С. 28-45.
13. Бердяев Н. Человек и машина. (Проблема социологии и метафизики техники) / НиколайБердяев // Путь. – Май 1933.– № 38. – С. 3–38.
Яцик С.П. Философско-антропологический анализ телесности в техногенной цивилизации //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия.Культурология. Политология. Социология. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 77-83.
В статье проведен анализ телесности на основе философского наследия. Понятие «телесность»анализируется как возможность преодоления сформированных оппозиций в классической философии,таких как «тело-душа», «природа-культура», «биологическое-социальное». Сделанная попытка анализаэволюции феномена телесности как результата развития техногенной цивилизации.
Ключевые слова: телесность, телесное бытие, техногенная цивилизация.
Yatsic S.P. Philosophical-anthropological analysis of corporal in technical civilization // ScientificNotes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 77-83.
In the article the analysis of corporal is conducted on the basis of labours and philosophical inheritance ofmodern researchers. The notion «corporal» is analysed as a possibility of overcoming the oppositions such us«body-soul», «nature-culture», «biological-social», which were formed in a classical philosophy. This attemptof the research of corporal evolution phenomenon is done as a result of development of technical civilizationdevelopment.
Keywords: corporal, corporal existence, technical civilization.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 84-87.
УДК 17ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ДОБРОДЕТЕЛЬ
Пороховская Т.И.
В статье рассматриваются содержание идеи и принципа толерантности в историческомразвитии, философско-идеологические основания современного понимания толерантности,регулятивные возможности этой идеи, ее влияние на мораль. Автор приходит к выводу о разной ролипринципа толерантности в различных сферах общественной жизни и указывает на необходимостьдополнять и ограничивать его другими принципами и ценностями.
Ключевые слова: толерантность, равнодушие, мораль.
Предмет исследования – принцип толерантности в качестве механизмасоциальной регуляции. Цель исследования – раскрыть влияние принципатолерантности на систему социальной регуляции.
Толерантность – один из самых неоднозначных феноменов современнойкультуры. Латинский термин «tolerantia» первоначально означал добровольноеперенесение страданий, пассивное терпение [1]. Эта идея оказалась востребованнойи получила новую жизнь в Новое время. Под влиянием негативной моральнойреакции на межрелигиозную нетерпимость периода религиозных войн XVI-XVIIвв. идея толерантности получает весьма определенный смысл: отказ от насилия вделе приобщения человека к вере, терпимость к чужим верованиям и принципневмешательства духовной и светской власти в дела друг друга. Позже, преждевсего под влиянием просветителей, в особенности французских, толерантностьначинает пониматься шире: как терпимость к чужим взглядам и другому образужизни. В утилитаристской политической традиции принцип толерантностиобосновывается как способ избежать большего зла – социальной нестабильности.
Толерантности как механизму урегулирования взаимоотношений междуносителями разнонаправленных интересов придается большое значение влиберальной идеологии. В основе либерального обоснования толерантности лежитособое понимание общества и личности. Общество – это союз равноправных исвободных индивидов с различными представлениями о собственном иобщественном благе. Как принцип действия индивидов толерантностьпредписывает относиться к другому как к равно достойной личности, признавать иуважать ее право на отличия. Задача же государства в том, чтобы законодательногарантировать каждому члену общества свободу самовыражения, не отдаваяпредпочтения ни одному из мнений. Практически же, подозревает Е.Л. Дубко,призывы к толерантости камуфлируют желание на государственном уровнеподдержать индивидуалистическую моральность и парализовать всехвозмущенных, представить острые проблемы повестки дня политическихдискуссий как не более чем чьи-то субъективные мнения.
85Толерантность как добродетель
Субъективизму индивидуальных суждений и оценок, согласно либеральнымпредставлениям, должна противостоять беспристрастность не только государства,но и морали. На мораль возлагаются функции предотвращения или смягченияконфликтов, примирения индивидов с различными жизненными установками.Мораль в роли арбитра должна приподняться над субъективными интересами исуждениями и занять объективистскую позицию: каждый имеет право насобственные взгляды и оценки, каждый имеет право жить по-своему; одни мненияи верования ничем не лучше и не хуже других, поэтому аморально преследовать заубеждения, принуждать отказываться от них или силой навязывать какое-либомнение. Человек, настаивающий на своем праве на собственное мнение, должензарезервировать такое же право и за любым другим. В рамках либеральнойфилософии разрабатываются различные аргументы в пользу тех или иных позиций,в том числе и противоположных друг другу, например, как в пользу религиозныхубеждений, так и в защиту представлений и ценностей, несовместимых срелигиозными убеждениями.
Толерантность представляется многим важной установкой и дажедобродетелью современного человека. В условиях культурного многообразиятолерантность делает возможным бесконфликтное сосуществование в единомсоциальном пространстве людей с различными интересами, верованиями,морально-политическими убеждениями и образами жизни. Это особенно важно длямногонациональных, многоконфессиональных стран. Вместе с другимимеханизмами социального регулирования толерантность как идея и личностнаяустановка поддерживает мирное сосуществование больших социальных групп.Поэтому есть определенные основания рассматривать толерантность не только какидею, но и как индивидуальную (политическую) добродетель. Только не стоитвозлагать неоправданные надежды на регулятивные возможности этой идеи.Толерантность – это не та добродетель, которая способна объединить людей илиразнородные социальные группы, превратить их в социальную общность. Какзамечает Е.Л. Дубко: «терпимость разрушает политическую мотивацию иполитическую общность» [2, c. 661]. Терпимо относятся к чужому, с кем ничто необъединяет и мало что связывает, но с которым по неприятной жизненнойнеобходимости приходится периодически вступать в контакты. За терпимостьюскрывается несогласие с чужим мнением, либо настороженное отношение к нему(«это мнение неверно и опасно»), либо снисходительное отношение к этомумнению («это, конечно, заблуждение, но оно безвредно, оно не стоит того, чтобыего опровергать и тем более из-за него портить личные отношения»). Конфликтценностей, таким образом, толерантным отношением не устраняется.
Гораздо больше оснований видеть в толерантности весьма опасный для моралифеномен. Толерантность если и не разрушает, то подрывает, ограничивает мораль,разлагает нравы. Одна из важнейших функций морали – ценностно-ориентирующая. Мораль маркирует все социальные явления, затрагивающиеинтересы людей, ценностными знаками: «добро» и «зло», «гуманность»,«справедливость», «порядочность» и др. Так, политика может оцениваться какгуманная или негуманная, экономические отношения – как справедливые или
Пороховская Т.И.
несправедливые, поступки людей оцениваются как нравственно достойные илинедостойные. Толерантность же ориентирует на беспристрастность, воздержаниеот оценок, в результате чего на одну доску ставятся, например, героическоесамопожертвование ради других и эгоистическое извлечение личной выгоды засчет других, - это, если руководствоваться аргументами радикального либерализма,добровольно избираемые поступки, личное дело каждого. Тем самым снижаетсяценностный статус нравственно достойного и повышается ценностный статуснравственно неприемлемого, что в конечном счете провоцирует вседозволенность,открывает путь произволу и насилию. Толерантность удерживает от однозначногоосуждения морально недопустимого, связывает руки субъекту моральной оценки,дезориентирует его. То, что с возмущением могло бы быть отвергнуто с моральныхпозиций, фактически санкционируется, охраняется, защищается доктринойтолерантности.
Идея терпимости не чужда морали. Моральное отношение к другому человекувключает в себя терпимость к его заблуждениям, предрассудкам, случайнымошибкам и другим проявлениям, которые оцениваются как обычные человеческиеслабости, - то несущественное, чем без ущерба для общей оценки личности другогочеловека можно пренебречь. Моральное отношение к другому человекупредполагает искренне заинтересованное отношение к нему, заботу о его благе,если это необходимо, поддержку, личное участие в его судьбе. Чем более тесными,более интимными являются отношения между людьми, тем чаще предметомобсуждения становятся моральные проблемы. В ходе этих дискуссийанализируется и обобщается моральный опыт, определяется относительнаязначимость моральных ценностей, отыскиваются оптимальные способы ихреализации во взаимоотношениях. Размышления над нравами, споры о должном, –это и есть жизнь морали. Толерантность замораживает, консервирует равнодушие,отчуждение между людьми. Как пишет Е.Л. Дубко: «скорее, это неохотное,молчаливое согласие, скрывающее презрение к чужому мнению, способигнорировать чужие интересы и мнения» [2, c. 661]. Толерантность деформируетличность. Индивид, которому внушают, что толерантность – это современный,более совершенный способ суждения о ценностях, дезориентирован, обезоружен:он вынужден не реагировать на аморальные явления, он скрывает свою позицию,лишен возможности защищать ее в споре. Он лукавит, он неискренен, онпритворяется, он принуждён к бесконечным компромиссам.
Выводы. Принцип толерантности играет разную роль в общественной жизни.Его роль повышается в тех областях отношений, где отсутствует «точныйкритерий оценки и доказательства предпочтительности каких-либо взглядов» [1],как, например, сфера искусства (область вкусов) или область верований. В научномсообществе толерантность также способствует плодотворности научныхдискуссий, взаимопониманию оппонентов. Но толерантность – не единственныйпринцип, регулирующий отношения в сфере науки. Только в единстве с другимипринципами, такими, как верность истине, интеллектуальная честность (Ф.Ницше), критическое отношение к результатам собственных и чужих исследованийобеспечивается цель деятельности данного сообщества. Точно так же и в
87Толерантность как добродетель
моральной и политической сферах этот принцип не следует абсолютизировать. Онне может быть доминирующим и должен быть уравновешен и ограничен другимипринципами и ценностями, которые позволяли бы сделать заключение о границахтолерантности, решить, где толерантность уместна и даже необходима, а где - нет.
Список литературы
1. Валитова Р.Р. Толерантность / Валитова Р.Р. // Новая философская энциклопедия в 4-х тт.– М.: Мысль, 2001. - Т. IV. – С. 590.
2. Дубко Е.Л. Политическая этика / Дубко Е.Л. – М.: Академический проект; Трикста, 2005.- 719 с.
Пороховська Т.І. Толерантність як чеснота // Вчені записки Таврійського національногоуніверситету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. –Т.23 (62). - №1. – С. 84-87.
У статті розглянуто зміст ідеї та принципу толерантності в історичному розвитку, філософсько-ідеологічні засади сучасного розуміння толерантності, регулятивні можливості цієї ідеї, її вплив намораль. Автор приходить до висновку про різну роль принципу толерантності в різних сферахсуспільного життя і вказує на необхідність доповнення й обмеження з боку інших принципів іцінностей.
Ключові слова: толерантність, байдужість, мораль.
Porokhovskaya T.I. Tolerance as a Virtue // Scientific Notes of Taurida National V.І. VernadskyUniversity. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 84-87.
The article studies the content of the tolerance idea and principal in historical development, philosophicaland ideological basis of contemporary understanding of the tolerance, adjustment opportunities of this idea, itsinfluence on the moral. Author concludes about different role of the tolerance principal in the different publiclife spheres and considers that it is necessary to add and to limit it by another principles and values.
Keywords: tolerance, indifference, moral.
Поступило в редакцию 13.09.2009
РАЗДЕЛ II«КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ»
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 88-92.
УДК 294.3 882
БУДДИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКОВ)
Бернюкевич Т.В.
Статья посвящена проблеме отражения буддийских идей, образов и умонастроений в русскойлитературе конца XIX – начала XX веков. В данном контексте рассматривается творчество И.Бунина, К. Бальмонта.
Ключевые слова: буддийские идеи, русская литература.
Предметом исследования является влияние буддизма на русскую литературуначала ХХ веа. Цель статьи – проанализировать философские идеи буддизма вконтексте литературного творчества.
Среди вопросов о влиянии буддизма на культуру России одним из самыхинтересных является вопрос о буддийских аллюзиях и реминисценциях в русскойлитературе конца XIX – начала XX вв. Странным может показаться интерес квосточной мудрости автора «Деревни» и «Суходола». С чем он связан? С егопутешествиями, чтением восточных текстов или особым мироощущением? Особымвосприятием памяти человеческой? Особым чувством жизни и смерти?
Наряду с ощущением смерти и смертности всего живого одной из доминантпроизведений Бунина является идея повторяемости жизни, а, значит, посколькужизнь и смерть сопряжены, и повторяемости смерти. Эта противоречиваяцелостность стремится к своему разрешению в феномене памяти [6, с. 78]. Память уБунина – это память о бесконечной череде жизней, о том, что было и быломногократно. А, значит, и будет еще. Так, в рассказе «Соотечественник» (1916)рассказывается о «брянском мужике» Зотове, который мальчишкой был привезен вМоскву из деревни, выучился в Германии, был послан в Среднюю Азию, изъездилвсю Сибирь, побывал на Амуре, в Китае и, который, наконец, благодаря «чайномуделу» попал на Цейлон.
«Рослый, узловатый, огненно-рыжий, с голубой веснушчатой кожей» Зотов достранности чувствует себя «своим» среди этой вековой растительности, «дикарскиххижин» и тропической духоты. В буддийском монастыре Зотов «по-русски и долго, скакой-то странной серьезностью, глядит на двухсаженную деревянную статую,красно и желто расписанную и раззолоченную, лежащую на боку за чернымкаменным жертвенником, на котором насыпаны мелкие монеты, никелевые кольца икурятся ароматическим дымком тончайшие коричневые палочки.
– А раскрашен-то, лакирован-то как! – говорит он отрывисто. – Точь-в-точьдеревянные миски и чашки на наших ярмарках...» [4, с. 511].
89Буддизм в творчестве русских писателей и поэтов …
Герой рассказа упорно твердит гостю о сходстве этого острова с Россией [4, с.511]. При всей устремленности героев Бунина к жизни, в его произведенияхприсутствует особое, поразительно близкое буддийскому, понимание ее трагичности.Общая трагедия человеческой жизни раскрывается не в совокупностииндивидуальных трагедий, не в личных коллизиях частных жизней – а в бесконечнойих повторяемости, в бесконечной Цепи, состоящей из множества звеньев –человеческих судеб. Трагически заканчивается любовь героев Бунина, трагическизаканчивается их жизнь. И дело не в конкретных событиях и обстоятельствах ихсудеб, а в том, что это происходит и будет происходить в жизни каждого, ктонаходится в Цепи, в кругу вечного повторения.
Любовь, привязанность, страдания теряют и заново обретают свою«вещественную» выраженность. Вот и герои рассказа «В ночном море» (1923) едвавспоминают женщину, давшую им столько света, память сохранила даже не ее образ,а только отблеск: «… Пассажир с прямыми плечами спросил:
– Ну, а скажите... Что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?– Да, почти ничего, – ответил пассажир под пледом. – Больше всего некоторое
удивление своему бесчувствию…Даже и грусти не вышло. Так только, слабая жалость какая-то... А ведь это та
самая, которую «вспомнила душа моя», была моя первая и такая жестокая,многолетняя любовь… Да и вы теперь, – теперь, конечно, – разве вы что-нибудьчувствуете?
– Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно, почти ничего... « [4, с. 556].Рефреном в рассказе звучит описание «однообразно шумящей», «кипящей»,
«бледно-снежной» и «бледно-млечной» дороги; «печален» и «таинственен»повторяющийся тонкий звон бечевы лага – «дзинь». Человеку свойственно забыватьсвои страдания, а страданиям свойственно повторяться.
Повторяемость страданий сопровождает бесконечную повторяемость жизни и побольшому счету не зависит от того, кто ее проживает. Особенно яркое выражениенашла эта тема в рассказе «Братья» (1914). Исследователь творчества Бунина КимКён Тэ пишет, что «… в исследовательских работах… отмечен ряд источников,которыми пользовался Бунин в работе над этим произведением. Это, прежде всегоСутта-Нипата… , …кроме того, легенда о слоне и вороне, рассказанная Буддой какпоучение индийскому царю, приводится в книге С. Ф. Ольденбурга «Буддийскиелегенды» [5, с. 20].
Одной из сюжетных линий рассказа является повествование о жизни и смертистарика-рикши, получившего особенный – седьмой – номер: «…Он имел жену, сынаи много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу оних”…» [4, с. 348]. И вот жизнь идет в своем обычном режиме «воли к жизни», где«… все в лесах пело и славило бога жизни-смерти Мару, бога «жаждысуществования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью,истребляя друг друга…». После смерти старика-рикши «счастливый номер»наследует его сын, «легконогий юноша», тоже уже пораженный жаждой любви ижизни, эта жажда и томление воплотились для него в «круглоликойтринадцатилетней» девочке-женщине, его невесте. И взволнован он был не смертьюотца, а своей любовью, которая «сильнее любви к отцам»... Начинается новый круг,новое звено нескончаемой Цепи.
Бесконечный, безумный бег под палящим солнцем, по улицам города, гдесмешались «запахи бетеля, пряной восточной пищи, разгоряченных человеческихтел… « [4, с. 353]. Словно вся «жажда существования» воплотилась в этом
90Бернюкевич Т.В.
бесконечном, изнуряющем беге, он олицетворяет само существование, забытьежизни и забытье от жизни. Но вот рикша, который потерял полгода назад свою юнуюневесту, увидел ее, стоявшую «возле открытого и освещенного окна второго этажа, –в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотыхшироких браслетах на обнаженных руках... « [4, с. 362].
Молодой рикша прекращает свое звено, свой короткий круг человеческой жизни.Смерть – самка ядовитого паука – купленная у старика-индуса, безжалостна иприродно красива… [4, с. 365]. Но закончен ли бег? Преодолена ли жажда жизни?Побежден ли бог смерти и жизни Мара? Увы. Сон будет недолгим, а мучения жизнивечным кругом повторения. Ибо на них обречен всякий существующий в Цепи, втом, что буддисты называют сансарой.
А что такое беззаботная жизнь его человеческого брата, антипода и двойника –англичанина? Автор несколько раз обращает внимание читателя на странный«невидящий» взгляд этого героя [4, с. 357-362]. Жизнь англичанина – это такая жежажда чувства жизни, при этом англичанин ради собственного ощущения жизниготов губить чужие... [4, с. 370]. Боль и страдания – удел всех, кто сосредоточил весьмир на себе, кто в зеркале судеб человеческих видит лишь себя одного.
В финале «Братьев» англичанин рассказывает уже сонному капитану страшнуюбуддийскую легенду о вороне и слоне … Капитан согласился: «Да, это ужасно» – и,«посидев из приличия еще пять минут, поднялся, пожал руку англичанину и пошел всвою большую покойную каюту» [4, с. 372].
Как же вырваться из Цепи? В чем Освобождение? В статье «ОсвобождениеТолстого» Бунин попытался понять кризис и духовное преображение великогорусского писателя в ряду преображения святых и мудрецов. Жизнь Толстого кажетсяему попыткой разорвать эту Цепь земной жизни.
В связи с анализом буддийских интенций в творчестве Бунина исследователизадают вопрос, насколько осознанно использовал Бунин буддийские идеи. Вчастности, Солоухина убеждена в том, что Бунин четко осознавал, что «многие тонаего мироощущения… совпадают с идеями проповедей Будды». И доказательствомтому служат его высказывания, многочисленные ссылки на тексты учения ипересказы легенд из жизни Будды [7, с. 49]. Исследовательница связывает обращениеБунина к буддизму с его увлечением толстовством и Толстым [7, с. 49]. По еемнению, сказалось и общее увлечение Востоком и восточными учениями российскойинтеллигенцией в конце XIX – начале XX вв. Она справедливо отмечает, что в тегоды активно переводятся научные работы М. Миллера, Г. Ольденберга, большоевлияние на общественную и литературно-художественную мысль оказываетдеятельность российских буддологов (Ф. И. Щербатского, С. Ф. Ольденбурга, О. О.Розенберга).
Без сомнения, во многом определило увлечение Востоком и путешествие Бунинана Цейлон, которое длилось с середины декабря 1910 г. до середины апреля 1911 г.Именно с темой Цейлона связаны у него такие произведения, как «Царь царей»,«Ночь отречения», «Готами», «Соотечественник», «Воды многие», «Ночь» и другиерассказы. Воспоминаниями о Цейлоне дышат и дневники Бунина: «Тихий, теплыйдень. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты и безжизненны. Пороюполное отчаяние. Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочетсянаписать…» [Цит. по: 7, с. 51].
Другим известным русским литератором, посетившим Индию и Цейлон, был К.Бальмонт. Как утверждает Бонгард-Левин, с письменными памятниками индийскойкультуры Бальмонт, вероятно, впервые познакомился в 1897 г., когда он читал
91Буддизм в творчестве русских писателей и поэтов …
лекции по русской литературе в Оксфорде. В архиве Оксфордского университетасохранились списки ученых, которые посещали лекции русского поэта. Среди нихбыл Макс Мюллер (1823–1900) [5, с. 44-61]. Это был выдающийся санскритолог,индолог, организатор всемирно известной серии «Священные книги Востока». Крометого, в Англии Бальмонт начал увлекаться теософией. Так, он прочитал книгу Е.Блаватской «Голос Молчания» (“The Voice of the Silence”), в которой был широкоиспользован индийский материал (Упанишады, «Бхагавадгита», буддийские тексты ит.д.). В качестве эпиграфа к разделу «Мертвые корабли» сборника «Тишина.Лирические поэмы» (СПб., 1898), изданного после первого пребывания в Оксфорде,взяты строки из книги Блаватской.
Стихотворение «Майя» и другие, в которых слышны мотивы индийских религийи философии Востока (как считает Бонгард-Левин, прежде всего Упанишад), вошлизатем в сборник «Лирика мыслей и символика настроений. Книга раздумий» (СПб.,1899) [3, с. 44-61]. А уже в книге, опубликованной годом позже – «Горящие здания.Лирика современной души» (М., 1900) – стихи на индийские сюжеты («Индийскиймотив», «Индийский мудрец», «Паук») объединены в специальный цикл подназванием «Индийские травы». В стихотворении «Майя» представлена картина«святого моления» «задумчивого йога». Поэт описывает красоту и яркость бытия(«Чампак, цветущий в столетие раз, / Пряный, дышал между гор, на вершинах…»).Но молитва йога, чтение мантры вызывает «призраки» – раскрывает бренность имучительность того, что порождается Майей:
Бешено мчатся и люди, и боги…«Майя! О, Майя! Лучистый обман!Жизнь для незнающих, призрак для йогиМайя – бездушный немой океан!»Однако эта сущность «немого океана», «ужас мучительный», «сон бытия»
скрыты от нас, как скрываются «виденья» «мага-заклинателя» [1, с. 108]. Темаповторения «земного бытия», «круговорота», «тяжелого плена… всё новыхперемен», в который ввергнуты не только «люди и герои», но и «царственные боги»,звучит в стихотворении «Круговорот» [1, с. 109]. Аналогии «бренного земногобытия» со сном, столь типичные для индийских религиозно-философских концепций,присутствуют практически во всех стихотворениях данного цикла.
Вторым, столь же значительным и тесно связанным с вышеназванным мотивомстихов цикла «Индийские травы» (жизнь – сон), является мотив мимолетностибытия. Кратковременность мига бытия и вечная повторяемость его мгновенийсоставляют бесконечную повторяемость жизни и смерти (стихотворения «Майя»,«Круговорот», «Жизнь», «Паук») [1, с. 110].
Во Франции Бальмонт познакомился с выдающимся французским индологом икитаистом Сильвэном Леви (1863–1935). Леви – автор известных трудов по религии икультуре Индии. По мнению Бонгарда-Левина, поскольку, «вероятно, идея переводапоэмы «Жизнь Будды» возникла «не без участия французского ученого”« [3, с. 51].
Сбывается мечта поэта о путешествии в Индию. 1 февраля 1912 г. КонстантинБальмонт отправляется в долгожданное путешествие. Как пишет Бонгард-Левин:«Судно взяло курс из Лондона к берегам Южной Африки через Плимут и Канарскиеострова. Оттуда путь лежал к Австралии, Новой Зеландии, Самоа, Фиджи, НовойГвинее, Яве, Суматре, Цейлону и – Индии [5, с. 53]. Во время поездки сразу же позавершении им было написан ряд стихотворений, связанных с впечатлениями отувиденного, они были включены в сборники «Белый зодчий» (1914) и «Ясень»(1916). К индийской тематике Бальмонт обращался и после эмиграции из России.
92Бернюкевич Т.В.
Статьи и стихотворения Бальмонта, посвященные Индии, изредка появлялись воФранции, в сборниках, изданных в Праге, Риге, Берлине, Стокгольме [3, с. 60]. Но,как заметил в своей статье Бонгард-Левин, «… в мир Бальмонта индийская тематикавошла настолько тесно, что он даже писал о своем «индийском» мышлении» [3, с.60].
Выводы. Рассмотрение ситуации освоения буддизма в культуре России в целомактуализирует важную философско-культурологическую проблему – проблемупонимания и нахождения общих смыслов в разных культурах. Поэтому вопрос овлиянии буддизма на художественную культуру России и, в частности, на литературучрезвычайно интересен. Именно период конца XIX – начала XX вв. характеризуетсяяркой мировоззренческой направленностью художественного творчества, поискомновых идей и художественных форм их воплощения. И оригинальную, недостаточноизученную сегодня роль в этом процессе сыграл буддизм.
Список литературы1. Бальмонт К. Избранное / К. Бальмонт. – М.: Правда, 1990. - 608 с.2. Бальмонт К. Солнечная пряжа. Стихотворения. Очерки / К. Бальмонт. – М.: Детская
литература, 1989. - 239 с.3. Бонгард-Левин Г.М. Свет мой, Индия, святыня / Г.М. Бонгард-Левин // Из «Русской мысли». –
СПб.: Алетейя. – 228 с. (Серия «Русское зарубежье»).4. Бунин И.А. Жизнь Арсеньева: Роман, рассказы / И.А. Бунин. – М.: Эксмо, 2007. – 608 с.5. Ким Кён Тэ. Мир востока в рассказе Бунина «Братья» / Ким Кён Тэ // Русская литература.
Историко-литературный журнал. – М.: Институт русской литературы (Пушкинский дом). – 2002. – № 3.– С. 19-37.
6. Сливицкая О.В. Чувство смерти в мире Бунина / О.В. Сливицкая // Русская литература.Историко-литературный журнал. – М.: Институт русской литературы (Пушкинский дом). – 2002. – № 1.– С. 64-78.
7. Солоухина О.В. О нравственно-философских взглядах И.А. Бунина / О.В. Солоухина // Русскаялитература. Историко-литературный журнал. – М.: Институт русской литературы (Пушкинский дом). –1984. – № 4. – С. 47-60.
Бернюкевич Т.В. Буддизм у творчостi росiйських письменникiв та поетiв (кiнець XIX –початок XX столiть) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 88-92.
Стаття присвячена проблемі відбиття буддійських ідей, образів і умонастроїв у російськійлітературі кінця XIX – початку XX століть. У даному контексті розглядається творчість І. Буніна, К.Бальмонта.
Ключові слова: буддійські ідеї, російська література.
Bernyukevich T.V. Buddhism at the work of Russian writeres and poets (the end of the XIX and thebeginning of the XX century) // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series:Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 88-92.
This article is devoted to the problem of reflecting Buddhist ideas, images and state of mind in the Russianliterature in the end of the 19th – beginning of the 20th centuries.
Keywords: Buddhist ideas, russian literature.
Поступило в редакцию 13.09.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 93-100.
УДК 136
ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ТАНАТОСА В СОВРЕМЕННОЙЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Величко С. А.
В статье анализируется воздействия феномена человеческой смертности на культуру. Изучаетсяпроцесс трансформации роли танатоса в современной европейской культуре. Выявляются причиныданного процесса. Исследуются его следствия для культуры, прямые и опосредованные.
Ключевые слова: смерть, культура, социальная власть, социальный контроль над смертью,некрофилия.
Смерть своей загадочностью и абсолютностью оказывает большое влияние наформирование духовного мира человека, и поэтому культура как одно из основныхпроявлений творческой активности личности не может не испытывать влияниячеловеческой смертности. Цель данной статьи: анализ воздействия человеческойсмертности на культуру и выявление причин данного процесса.
Наиболее заметное влияние летальности на развитие культурной реальностипроявляется, в первую очередь, через воздействие танатоса на формированиевнутреннего мира творящего индивида. Уже Платон, утверждая, что «истинныефилософы много думают о смерти», признавал влияние танатоса на развитиекультуры. По мнению Блеза Паскаля, порождаемые осознанием смертностисостояния тоски и тревоги способствуют развитию высокого трагического накаладуши, без наличия которого творчество просто невозможно. Иммануил Кант считал,что по-настоящему мудрый человек должен жить так, чтобы быть уверенным, чтопосле смерти его мысли и идеи не умрут, а станут материальной движущей силой, ноэто невозможно без активного творческого самовыражения. Н.А. Бердяев утверждал,что подлинная культура начинается с культа предков, с почитания могил ипамятников, со связи детей с родителями, ушедшими в другой мир.
Наличие влияния смерти признается не только философами, но и учеными, чьинаучные интересы соприкасаются в той или иной степени с исследованием феноменакультуры. Так, известный египтолог Б.А. Тураев утверждал, что зеленый цветдревнейших египетских текстов, надписей в пирамидах своим внешним видомсвидетельствует, что этот литературный памятник, кроме всего прочего, является идревнейшим словесным протестом личности против смерти, средством словеснойборьбы с нею [1, с. 601].
Не только философами и учеными, но и творцами культурной реальностизатрагивалась проблема взаимоотношения танатоса и культуры. Марина ИвановнаЦветаева, убежденная в том, что стихи – это материализованное превозможениесмерти, пишет:
«И если все ж – плеча, крыла, коленаСжав – на погост дала себя увесть, –
94Величко С.А.
То лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом,Стихом восстать – иль розаном расцвесть» [Цит. по: 2, с. 262].Все это свидетельствует о том, что танатос через влияние на самость творящего
человека оказывает существенное воздействие на развитие объективированныхдействий по освоению окружающей природной действительности. И уже толькопоэтому он играет важную роль в процессе культурного становления. В этом смыслекультура «… питается смертью, страхом кончины, пустотой небытия, созидая наэтом зыбком фундаменте собственную онтологию» [3, с. 45]. Являясь альтернативойбиологической смерти, культурная реальность стремится подарить человечествуиллюзию бессмертия.
Еще один аспект воздействия танатоса на развитие культуры раскрывается черезего влияние непосредственно на процесс творчества. Столь яркий и неоднозначныймомент, как миг превращения бытия в небытие, сам по себе является объектомхудожественного анализа. Сама по себе смерть является как ярким образом, так исильным эмоциональным переживанием. Причем мощь воздействия этогопереживания столь велика, что ряд исследователей культуры выводятпроисхождение всех видов искусства из глубочайших психологических потрясенийчеловека, вызванных событиями, связанными со смертью. Так, музыка возникает изпечальных стонов и жалоб по ушедшему. Литература складывается из горячегожелания рассказать о жизни близкого, оставившего этот мир человека. Скульптура –из желания запечатлеть телесный облик навсегда покинувшего [4, с. 138]. Поэтому вкаждом из периодов истории европейского искусства символы, связанные сосмертью, активно использовались и осмысливались в художественном творчестве.
Однако указанные стороны воздействия смерти на человеческое сознаниеявляются по сути лишь верхним, «явным» уровнем влияния «ухода» на культуру.Танатос является феноменом, который можно определить в качестве необходимогоэлемента самой сердцевины онтологии культуры. По мнению М.С. Кагана, культура– «это особая форма жизни, только жизни духа, воплощенного в той или инойматериальной оболочке, а не в самой материи в форме белкового тела» [5, с. 266].Гегель, считавший, что дух – это бытие, раскрытое в речи, в свою очередь,утверждал: «Смерть непосредственного единичного живого существа естьвыхождение духа, это выхождение следует понимать не плотски, а духовно – не каквыхождение по естеству, а как развитие понятия» [6, с. 24]. Выводя дух за пределыобыденной объективной действительности, смерть становится его проводником втрансцендентную реальность, зримым представителем которой в наличном бытииона фактически и является. Но без выхода за пределы обыденности никакаяподлинная культура просто невозможна. Иначе говоря, смерть есть то, что,порождает сам феномен культуры и придает ей онтологический смысл. Всевышеизложенное позволяет утверждать, что степень влияния феномена смерти наразвитие культуры во все периоды человеческой истории являлась очень высокой.
Однако практически все авторы, изучавшие проблему взаимоотношения танатосаи современной западной культуры, говорят о наличии процесса снижениятанатологичечкого влияния на развитие культуры и об определенном воздействиисоциальной власти, стимулирующей этот процесс. Жорж Батай, Жан Бодрийяр,Мишель Фуко и другие мыслители отмечали наличие процесса вытеснения танатосаиз поля зрения культуры. Это выражается прежде всего в том, что, некросимволика,
95Трансформация роли танатоса в современной европейской культуре
потенциально имеющая онтологическое, интимно-психологическое илиаксиологическое значение, фактически выводится за пределы культурного горизонта.
По выражению Жана Бодрийяра, «смерть больше не вызывает головокружения,она упразднена» [7, с. 318]. Иначе говоря, происходит процесс десимволизациисмерти. Танатос перестает играть сколь-нибудь заметную знаковую роль. Притом,что, как уже отмечалось, некросимволика играет в культурном развитии крайневажную роль. Прямым следствием десимволизации является то, что «уход»неизбежно превращается только в биографический или событийный факт жизниотдельного человека, имеющий сомнительное культурное значение.
Смерть перестает трактоваться и восприниматься как сакральное, как проявлениетрансцендентного или просто как великая тайна.
Еще в XIX веке было распространено мнение, что «…смерть всегда смешана споэзией и любовью, ибо ведет к осуществлению того и другого» [8, с. 344]. В XXвеке, с одной стороны, смерть уже начинает изображаться как естественное ибанальное событие, часто не оказывающее особого влияния на эмоциональную жизньокружающих людей, а с другой стороны, в культуре начинают обыгрыватьсяотталкивающие аспекты этого явления. Формируется новый образ смерти: «смертьбезобразная и спрятанная» [8, с. 463]. В литературных произведениях и в живописиконца XIX–XX веков изображаются наиболее негативные аспекты смерти. В повестиЛ. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» описываются отталкивающие моменты,сопровождающие умирание [8, с. 462]. В первой половине XX века безобразиесмерти станет одной из главных литературных и художественных тем. В литературеэта тема затрагивается в произведениях Эриха Ремарка, Анри Барбюса, Жана Жене.В живописи безобразие смерти изображалось Арнульфом Райнером и ХорстомЯнсеном. Однако наибольший вклад в формирование негативного образа внес, понашему мнению, новый вид искусства, возникший только в ХХ веке, –кинематограф. Многочисленные произведения этого жанра, в которых показывалсяужас и безобразие смерти, оказали определяющее влияние на формированиеотношения современного человека к смерти.
В результате существенно изменилось отношение к танатосу широких масснаселения. С одной стороны, средства массовой информации, литература икинематограф буквально эксплуатируют образ смерти, исполняя желаниезрительской и читательской аудитории, для которой зрелище чужой, прежде всегонасильственной, смерти стало насущной потребностью. Эта смерть воспринимается иподается как яркое зрелище и не несет никакой иной нагрузки [7, с. 318]. С другойстороны, современный человек старается как можно меньше думать о своей смерти исталкиваться с некросимволикой в повседневной жизни как можно реже.
Все следы и символы, связанные с действительным переживанием этого событиясовременным обществом, старательно вытесняются на периферию культурногосоциального и личного горизонтов. По замечанию Горера, «сегодня смерть и траурвызывают по отношению к себе ту же преувеличенную стыдливость, что исексуальное влечение столетие назад» [8, с. 475]. По мнению Бодрийяра, всовременном европейском обществе «смерть непристойна и неудобна…» [7, с. 318].
Из этого следует то, что воздействие танатоса на культуру в значительнойстепени уменьшилось. Смерть как онтологический феномен фактически перестаетбыть значимым явлением для формирования современной культуры. Но при этом
96Величко С.А.
остается открытым вопрос: а возможно ли столь радикальное изменение в процессевзаимодействия танатоса и культуры без активного внешнего воздействия? Ж.Бодрийяр, говоря о процессе вытеснения смерти из окружающей действительности,утверждал следующее: «Фундаментальный акт вытеснения заключается не ввытеснении бессознательных влечений, какой-либо энергии или либидо, он не носитантропологического характера – это акт вытеснения смерти, и характер егосоциальный в том смысле, что им осуществляется поворот к репрессивнойсоциализации жизни» [7, с. 238]. Далее он прямо указывает на то, что процессвытеснения смерти контролируется социальной властью, заинтересованной властью,так как данное вытеснение помогает ей истребить субъекта, вынести его за границыиндивидуальности и поместить в некоторую группу, ячейку [7, с. 264–265]. МишельФуко также считал, что именно современная власть старается исключить смерть извсех сфер общественной жизни, сделать ее присутствие незаметным.
Несмотря на то, что проблема методологии вытеснения еще не была всестороннеизучена, все же благодаря исследованиям Мишеля Фуко, Жана Бодрийяра, ФилиппаАрьеса можно выделить основные особенности западной модели «дисквалификациисмерти». Прежде всего, необходимо отметить, что воздействие европейскогополитикума на процесс вытеснения носит опосредованный характер. Так, из сферыпубличной политики исчезают практически все ритуалы, связанные со смертью.Исчезают не только публичные казни, но даже и просто смертные приговоры.
Развитие медицины, всесторонне поддерживаемое государством, резкоувеличило продолжительность жизни и уменьшило риск массовых эпидемий.Развитие системы правоохранительных органов уменьшило уровень преступности.Все эти, безусловно, положительные тенденции имеют ряд негативных следствий. Содной стороны, человек практически перестал сталкиваться в своей жизни с«реальной» смертью «иного», а, следовательно, воздействие танатоса на внутренниймир человека резко ослабевает. С другой стороны, смерть при таком положении делначинает восприниматься не как закономерный итог человеческой жизни, а какличное и общественное поражение. Аксиологически она трактуется в качествебезусловного зла. Развитие науки, а главное – становление материалистическогомировоззрения также оказали влияние на девальвацию танатологического влияния.Смерть в значительной степени перестает восприниматься как великая тайна.
Все изложенное позволяет сделать вывод о наличии влияния общественнойвласти на процесс вытеснения смерти из смыслового поля культуры. Каковы жепричины, заставляющие общество тратить значительные средства длястимулирования этой тенденции?
Мартин Хайдеггер, размышляя о влиянии смерти на человеческую самость,считал, что смерть обнаруживает человека в бытии и тем самым будит в немаутентичность. Философ-постмодернист Морис Бланшо, говоря о физической смертичеловека, утверждал: «Смерть вместе с нами производит в мире свою работу: это онаочеловечивает природу, возводит существование к бытию; она – самое человечное,что есть в нас самих…» [9, с. 48].
Для Жака Деррида смерть – это единственная экзистенциальная ситуация, вкоторой с наибольшей степенью проявляется субъективность. По мнению рядавыдающихся мыслителей ХХ века, именно наша смерть оказывает определяющеевлияние на формирование нашей самости, нашей субъективности, той человеческой
97Трансформация роли танатоса в современной европейской культуре
внутренней автономности, которую окружающая социальная действительностьстремится взять под свой полный контроль.
Но для развития культуры наличие такого феномена, как танатос, также являетсякрайне важным. Смерть стимулирует развитие культуры, причем наиболеезначительное воздействие она оказывает на «духовную культуру». Поэтомувытеснение танатоса из смыслового поля способствует падению уровня высокойкультуры, практически всегда находящейся в оппозиции по отношению к социальнойдействительности. По мнению Ю. Хабермаса, область культуры неподвластнаадминистративному манипулированию, которое осуществляет государство. Но вданном случае Ю. Хабермас говорит именно о подлинной культуре, а не о«массовой», суррогатной, заполонившей историческое пространство Европы в ХХстолетии. Выведение танатоса из культурного горизонта содействует изгнаниюподлинной культуры и развитию такого социально контролируемого явления, как«массовая культура».
Существуют и другие причины, заставляющие социальную власть стремиться кмаксимальному ослаблению танатологического воздействия. Человек погружен вкультурную действительность. Он воздействует на культуру, но и культура, вкоторой он живет, активно воздействует на него. В своих поисках смысла жизни исмерти человек опирается на матрицы, предоставляемые ему той культурой, всмысловом поле которой происходит его становление как личности. Поэтомухарактерное для данной культуры отношение к смерти имеет особое значение длястановления его мировоззрения.
Главным результатом указанного процесса является то, что культура,«освобожденная» от влияния смерти, в свою очередь, становится союзником ипомощником власти в ее борьбе со смертью. Ж. Бодрийяр замечает по этому поводу:«Наша культура сплошь гигиенична – она стремится очистить жизнь от смерти.Именно против смерти действуют наши моющие средства при любой стирке. Любойценой стерилизовать смерть, пластифицировать и заморозить ее, поместить взащитную оболочку…» [7, с. 315].
Однако помимо основного результата – вытеснения танатоса – можно увидетьеще ряд тенденций, которые прямо или опосредованно связано, по нашему мнению, спроцессом выдворения смерти.
Во второй половине ХХ века со всей очевидностью обозначилась проблемаразвития кризисных моментов в современной западной культуре. Ряд тенденций,составляющих этот кризис, являются, по нашему мнению, следствием вытеснениятанатоса из поля зрения культуры.
Так, развитие некрофильских тенденций в современной культуре напрямуюсвязано с вытеснением смерти за пределы культурного горизонта. По мнению рядамыслителей, становление некрофильского мировоззрения является одним изнаиболее ярких проявлений дегуманизации культуры. Современная индустриально-техническая цивилизация с помощью подконтрольной ей «массовой культуры»постулирует отношение индивида к своей потенциальной смерти как к ужасномуабсурдному явлению, о котором лучше вообще не думать, а к смерти иного как кяркому и интересному зрелищу. Символы и зрительные образы, в той или иной мересвязанные с ней, заполнили телевизионные экраны и страницы книг, вырабатывая
98Величко С.А.
привыкание к сценам насилия и смерти у постоянного потребителя «массовойкультуры».
Одним из следствий формирования такого отношения к смерти является падениеонтологической значимости этого феномена. Смерть перестает оказывать влияние накультурное развитие и на человеческое сознание. Массовая культура формируетвосприятие кончины «иного» только в качестве яркого зрелища, не вызывающегоглубоких экзистенциальных эмоций. У зрителя или читателя вырабатываетсяпотребность к сценам смерти и разрушения, то есть проявляется одна из ярчайшихчерт некрофильского типа характера. Но сама культура, способствуя развитиюсоответствующих черт у человека, неизбежно приобретает деструктивные свойства.
Дополнительным источником развития некрофильских тенденций выступаеттехногенный характер современной культуры. Технические средства являются еематериальной основой. Они заявляют о себе как ее «идолы». Но такое преклонениеперед техникой несет в себе некрофильские предпосылки, так как исключительныйинтерес ко всему чисто механическому (небиологическому), по мнениюсовременных психологов, является одним из симптомов мировоззрения, зараженногонекрофилией.
Еще одним симптомом культурного кризиса, связанного с вытеснением танатоса,является, по нашему мнению, духовная исчерпанность, потеря способности обществак творчеству. Под творчеством традиционно понимается деятельность человека, впроцессе которой создаются существенно (качественно) новые вещи, идеи итехнологии. Однако создание чего-либо принципиально нового, революционногоневозможно без выхода за рамки обыденной действительности. Этот выход, в своюочередь, может быть осуществлен только на базе героизма и энтузиазма, и самоеглавное – через осознание реальной опасности (психологической, но также,возможно, и физической) таких выходов. В современном обществе вместе свытеснением влияния танатоса на человеческую жизнедеятельность произошлапобеда стандарта над шедевром, морали безобидного существования над героизмом,мелочно-корыстного «житьеца» над бескорыстным энтузиазмом [10, с. 128–136].
Необходимым условием творчества является свобода. Без внутреннейраскрепощенности человек не сможет презреть власть авторитета, а, следовательно,не сможет и сотворить нечто новое, оригинальное. Но без ориентира на смертьсвобода обретает вектор произвола в форме «свободы от». «Человек созидает миркультуры и самого себя через стрессовые ситуации выбора и ответственности.Выбирая в условиях недостатка информации, человек рискует и зачастую страдает,но в этом праве на риск – его свобода… Люди рискуют престижем, деньгами,имуществом или даже здоровьем, но самой большой ставкой является собственнаяжизнь. Великий гуманист Ф. М. Достоевский, как ни странно на первый взгляд, былпринципиальным противником отмены смертной казни. Ибо по его мысли, человекдолжен быть свободным настолько, чтобы он мог совершать (или не совершать)поступки, цена которым высочайшей пробы и достойна его самого: его собственнаяжизнь. Так смерть конституирует диапазон свободы в его полноте» [11, с. 14–15].
Следовательно, вытеснение смерти из поля зрения культуры является одной изпричин понижения ее творческого потенциала. Этот процесс может иметь длякультуры самые печальные последствия, так как приводит к победе стандарта надшедевром, китча – над творческим произведением.
99Трансформация роли танатоса в современной европейской культуре
Еще одним проявлением кризисных тенденций в современной культуре являетсядесакрализация всех форм бытия человека, в результате чего происходит переход отглубинно-осмысленного бытия с целями, обеспечивающими его перспективы, – кповседневно-выраженному, прагматически ориентированному существованию. Изжизни стали исчезать священная норма, священный текст, священный символ,сокровенные сферы – все то, что связывало бытие человека с трансцендентнойреальностью [10, с. 129]. Вместе с этим исчезновением, как естественнаякомпенсация, стали функционировать имитации священного, его суррогаты исубституты, погружающие человека в окружающую его повседневность. Но, как и увсякого заменителя, их жизнь коротка. Ложные ценности образуют унылый рядбыстро сменяющихся кумиров профанного мира [10, с. 123].
Священные символы всегда прямо или косвенно связаны с трансцендентнойреальностью. Смерть же можно определить в качестве агента трансцендентного внашей действительности. Поэтому сакральное связано со смертью.
Нет ни одного явления священного в культуре или в религии, нет ни одногопрекрасного и великого порыва человеческой души, не детерминированногосмертью. Вытеснение смерти из культурного горизонта самым негативным образомсказывается на сакральных основаниях культуры. В итоге, вытеснение смертиявляется, по нашему мнению, одной из основных причин десакрализациикультурного бытия.
Одним из важных следствий этого, как уже отмечалось, является полноепогружение человека в окружающую его действительность. Но для рефлексии, безкоторой невозможно развитие человеческой самости, для существованияперсонального бытия необходима «…точка опоры, лежащая вне его реального мира,с которой он только и получает возможность взглянуть на мир и на самого себя состороны» [11, с. 12]. Сама человеческая жизнь как топос не может бытьконструирована без альтернатив, лежащих по ту сторону бытия – небытия и смерти[там же].
Поэтому исчерпывающая полнота присутствия человека в окружающей егодействительности тождественна не полноте человеческого бытия, а егоисчезновению, небытию. В древнеиндийской традиции исчерпывающая полнотаприсутствия, достигаемая в медитации, означает слияние индивидуального Атмана свсеобщим Брахманом и, тем самым, исчезновение Атмана [11, с. 12]. Следовательно,процесс десакрализации в современной культуре во многом является следствиемвытеснения смерти из ее поля зрения.
Причем сам переход от глубинно-осмысленного бытия с целями, всегдаобеспечивающими его перспективами, к повседневно-выраженному, прагматическиориентированному существованию имеет серьезные негативные последствия нетолько для культуры, но и для человека. Следствием такого перехода являетсяполное погружение человека в окружающую предметно-бытовую действительность.Такая погруженность является серьезным препятствием на пути становлениячеловеческой самости.
Выводы. Феномен человеческой смерти оказывает существенное иразностороннее влияние на культуру. Оно столь значимо, что танатос можноопределить в качестве базисного элемента бытия культуры. Автономность культурыпо отношению к социальной власти также не может существовать без феномена
100Величко С.А.
смерти. Культура, в свою очередь, оказывает определяющее влияние на отношениеобщества и индивида к смерти.
Процесс вытеснения смерти из поля зрения культуры детерминированстремлением социальной власти через контроль танатоса нивелировать воздействиесмерти на имманентное бытие индивида.
В результате вытеснения смерти происходит изгнание подлинной культуры иразвитие такого социально контролируемого явления, как «массовая культура».Развивается процесс ее дегуманизации, культура приобретает некрофильские черты,теряет способность к творчеству.
Список литературы
1. Берстед Д. История древнего Египта / Д. Берстед, Б. Тураев. – Минск : Харвест, 2003. – 832 с.2. Рабинович В. Л. Memento viere: «есть в опыте больших поэтов…» / В.Л.Рабинович // Идея
смерти в российском менталитете. – СПб.: Изд-во Русского Христианского Гуманитарного института,1999. - 304 c.
3. Курбатов С. Сократ и Гамлет : культурные парадигмы смерти / С. Курбатов // Человек. – 2004.– № 1. – С. 43—47.
4. Коновалова Л. В. Проблема смерти и современная биоэтика / Л. В. Коновалова // Идея смерти вроссийском менталитете. – СПб.: Изд-во Русского Христианского Гуманитарного института, 1999. - 304 c.
5. Каган М.С. «Се человек». Жизнь, смерть и бессмертие в «Волшебном зеркале»изобразительного искусства / М.С. Каган. – СПб.: Logos, 2003. – 320 с.
6. Гегель Ф. Энциклопедия философских наук / Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1977. – Т. 3: Философиядуха. – 471 с.
7. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.8. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 528 с.9. Бланшо М. Литература и право на смерть / М. Бланшо // Новое лит. обозрение. – 1994. – № 7. –
С. 75-101.10. Дудник С. И. Кризис культуры в контексте современных дискуссий и оценок / С.И. Дудник. –
СПб. : Санкт-Петербургское филос. об-во, 2001. – С. 128-136.11. Шоркин А. Д. Метафизика присутствия и небытия : Гипноз, Танатос и Асклепий в культуре /
А.Д. Шоркин // Межвузовский научный сборник. – Симферополь, 2003. – № 2. – С. 11-16.
Величко С.А. Трансформація ролі танатоса у сучасній європейській культурі // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 93-100.
У статті аналізується вплив феномена людської летальності на сучасну європейську культуру.Автор вивчається процес трансформації ролі танатоса в західному суспільстві, а також виявляє причиницього явища, досліджує його прямі та опосередковані наслідки для культури.
Ключові слова: смерть, культура, соціальна влада, соціальний контроль за смертю, некрофілія.
Velichko S.A. The transformation of the tanatos’ role at the contemporary European culture //Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Politicalsciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 93-100.
Human’s lethality influence on modern European culture is analyzed in this article. Author also learnstransformation of tanatos’ role in life of western society. Causes and effects of this process, direct and indirect,are found out by him.
Keywords: dearth, culture, social power, social control over death, necrophilia.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 101-106.
УДК 116.714
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД И КРИЗИС: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Кокорина Е.Г.
Предлагаемая статья посвящена анализу соотношения понятий «переходный период» и «кризис».Цель статьи – уточнение областей применения понятий «переходный период» и «кризис» и выявлениеих взаимосвязи.
Ключевые слова: переходный период, кризис, порядок, хаос.
Целью данной публикации является уточнение областей применения понятий«переходный период» и «кризис» и выявление их взаимосвязи. В ходе исследованиясинтетичности как особенности культуры переходного периода мы столкнулись спроблемой терминологии. Как в отечественной, так и в англоязычной литературенаряду с термином «переходный» (transitional) используется и термины«кризисный», «критический» (critical) и «кризис» (crisis) в отношении нестабильныхпериодов развития общества и культуры, так как процессы, характерные для этихявлений в развитии культуры, имеют общие черты и часто носят негативныйхарактер.
Проблема переходности изучается в различных областях гуманитарного знания,и, следовательно, данная тема требует исследования на грани наук и с применениемсинергетического метода. В частности, интерес представляют характеристикипереходных и кризисных периодов в жизни общества и личности, предлагаемыеспециалистами в сфере философии, экономической теории, социологии,культурологии, психологии.
Проблема переходности исследуется многими авторами: переходные периоды вразвитии культуры рассматриваются М.А. Хреновым, В.И. Силантьевой, А.Ю.Мережинской, И.А. Курьяновой, О.Г. Мормуль. Кризисы культуры исследуютсяЛ.М. Борисовой, В.Н. Леонтьевой, О.О. Яременко. Проблема переходных икризисных процессов в обществе и экономике разрабатывается в работах В.А.Волконского, Т.О. Ефременко, Т.В. Ивановой, И.И. Кального, Е.В. Красниковой.Кризисы в развитии личности рассматриваются в исследованиях Л.С. Выготского, Э.Эриксона, И.Н. Шванёвой и других авторов.
Такое широкое применение терминов «переходный период» и «кризис» привелок тому, что в некоторых случаях происходит подмена терминов или их значения«смешиваются». Например, в работе А.Ю. Мережинской «Художественнаяпарадигма переходной культурной эпохи: Русская проза 80-90-х годов XX века»автор пишет: «От констатации кризисных ситуаций и изучения отдельных феноменовкультуры, литературы учёные перешли к выработке методики исследования переходныхэпох, «эпох скачков», если использовать определение А. Панченко. Так, кризисрассматривается как «момент смены программ в развитии систем». Подобный подход
102Кокорина Е.Г.
вносит определённую упорядоченность в исследование нестабильного, хаотичного(выделено нами – Е.К.) состояния культуры, снимает апокалиптические интенции,предлагает видеть в кризисе два закономерных этапа: отрицания «старого»,разрушения и последующего восстановления уже измененной программы» [1, с.19].Очевидно, что в данном случае исследователь употребляет термины «переходный» и«кризисный» как синонимичные, что может быть оправдано с точки зрения стиля, но,в то же время, может привести к неточностям в понимании сути процессапереходности. Таким образом, целью данной работы являются уточнение областейприменения понятий «переходный период», «кризис», выявление их взаимосвязи сопорой на существующие определения этих терминов.
Характерно, что при попытке определений терминов «переходный период» и«кризис» мы сталкиваемся с типичной ситуацией: определения кризиса нетруднонайти в большинстве справочных изданий по различным отраслям знаний, а вотпонятие переходного периода чаще всего вводится косвенно с помощью описаний иобъяснений. Вероятно, причина такого положения заключается в том, что понятиекризиса известно и используется достаточно длительное время, а появление понятияпереходного периода скорее связано с появлением и развитием синергетики с еёосновополагающими категориями «порядок» и «хаос». В соответствии с этимперспективным подходом в истории культуры наблюдаются как относительностабильные, «классические» периоды (в которых доминантой является «порядок»),так и нестабильные, «неклассические» переходные периоды (с доминантой «хаос»).А период времени, находящийся «между» этими двумя состояниями принятоназывать «переходным».
В общепринятом представлении «период – промежуток времени, в течениекоторого что-нибудь происходит (начинается, развивается и заканчивается)» [2, с.502], «переходный – промежуточный, являющийся переходом от одного состояния кдругому» [2, с. 501].
Определения понятия «кризис» можно найти в справочных изданиях поразличным отраслям гуманитарного знания:
• в философии кризис – это «перерыв в функционировании системы спозитивным или негативным для неё результатом» [3, с. 381].
• в культурологии кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход)рассматривается как «временное ухудшение, тяжёлое положение, резкий, крутойперелом в протекании социального явления» [4, с. 445]; кризис культуры – «понятие,фиксирующее ситуацию, возникающую в результате разрыва между культурой совсеми её институтами и структурами и резко изменившимися условиямиобщественной жизни» [5, с. 113].
• в социологии жизненный кризис – «любое разрушительное событие жизни,вызывающее утрату важных отношений и социального статуса, требующеекорректировки, способное угрожать целостности личности и социальнымотношениям» [6, с. 208].
• в экономической теории кризис (экономический) – «резкое ухудшениеэкономического состояния страны, проявляющееся в значительном спадепроизводства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве
103Переходный период и кризис: соотношеие понятий
предприятий, росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня,благосостояния населения» [7, с. 860]. Экономический кризис «носит временныйхарактер и периодически повторяется» [8, с. 426].
• в психологии кризис – «тяжёлое переходное состояние, характеризующеесянедостаточностью имеющихся возможностей для поддержания жизнедеятельностина оптимальном уровне» [9, с. 186], возрастной кризис – «особые, относительнонепродолжительные (до года) периоды онтогенеза, характерные резкимипсихологическими изменениями. В отличие от кризисов невротического илитравматического характера, относятся к нормативным процессам, необходимым длянормального, поступательного хода личностного развития» [10, с. 205].
На наш взгляд, И.Н. Шванёва метко выразила конструктивную сторону кризиса:«Духовный кризис, как процесс переживания, понимается нами как поворотныйпункт (точка выбора) в реализации своего предназначения, а трансформация впроцессе становления человеческой индивидуальности подразумевает качественноепричинное изменение» [11, с. 110].
Возможно, проблема соотношения понятий «переходный период» и «кризис»имеет в своей основе тот факт, что и в переходном периоде, и в кризисеприсутствуют элементы хаоса, однако, по нашему мнению, различие этих явленийлежит в интенсивности и качестве процессов, им свойственных.
Так как ни порядок, ни хаос не существуют в чистом виде, в каждом из нихприсутствует противоположное начало, то можно представить движение от одногосостояния к другому, а также их взаимодействие следующим образом:
Схема 1.Тогда именно области пересечения во времени этих периодов следует называть
переходными (П.п.). Однако эта идея представляет взгляд на развитие системы(культуры, общества, экономики, личности) как бы издалека. При ближайшемрассмотрении оказывается, что процессы, происходящие в переходный период какобласть «встречи» хаоса и порядка, достойны более детального рассмотрения. Вчастности, особое внимание следует уделить месту кризиса в этих процессах.
Принимая во внимания существующие определения кризиса и понятиепереходного периода, можно представить следующие три основные возможности ихсоотношения: а) области понятий «переходный период» и «кризис» не пересекаются,б) области этих понятий пересекаются, в) области понятий совпадают.
104Кокорина Е.Г.
Схема 2.Если принять, что переходный период и кризис представляют собой абсолютно
разные явления (2, а) и области их понятий не пересекаются, тогда, говоря о развитиисистемы от порядка к хаосу (и наоборот), получается, что кризис совпадает ссостоянием хаоса, в котором где-то и наступает точка бифуркации, момент выбора,разрешения, когда система выбирает один из двух векторов движения (как вдвоичном счислении) – 0 (к хаосу) или 1 (к порядку).
В случае, если области понятий «переходный период» и «кризис» пересекаются,необходимо отметить, что чаще всего момент выбора находится не «где-то», оночевиден (2, б), и тогда кризис можно считать завершением периода перехода.
В третьем случае (2, в), при полном совпадении объёмов понятий «переходныйпериод» и «кризис», все процессы переходности (а они, очевидно, занимают большевремени, чем момент принятия решения) остаются скрытыми.
Традиционное понимание переходного периода подразумевает, что он находитсямежду состояниями порядка и хаоса (3).
Схема 3.Но учитывая то, что многие исследователи обращают внимание на нестабильное,
хаотичное состояние культуры переходного периода, можно сделать вывод, чтопереход осуществляется от состояния порядка к состоянию порядка, а сампереходный период и является состоянием хаоса (4, а).
Схема 4. Тогда, продолжая эту линию, синонимичными, совпадающими являются уже
три понятия – хаос, переходный период и кризис (4, б).И более того, рассматривая движение от одного состояния порядка к другому
через хаос, включить понятия «хаос» и «переходный период» в область понятия
105Переходный период и кризис: соотношеие понятий
«кризис», что, скорее всего, является неверным, учитывая такую особенностькризиса, как кратковременность.
Схема 5.В последних двух случаях (4 и 5) не виден момент «раздвоения», то есть точка
бифуркации. Возможно, он находится «внутри» переходного «тоннеля» (6), и вслучае, если выбран вектор 0, то есть движение в направлении хаоса, то оно всё ещёосуществляется в рамках переходного периода.
Схема 6.Очевидно, что после преодоления кризиса, в случае выбора вектора движения 1,
к порядку, стабильное состояние системы наступает не сразу, а переходный периодвсё ещё длится некоторое время.
Следовательно, мы считаем целесообразным отметить, что понятие кризиса несовпадает с понятием переходного периода, что кризис и есть та самая точкабифуркации, являясь не завершением переходного периода, а переломным моментом,его пиком.
Подтверждение этой идеи можно найти в работе И.И. Кального «Некоторыеразмышления об идее гражданского общества и её осуществлении», где автор,рассуждая о природе переходного периода, выделяет в нём три этапа:«деструктивный, инкубационный и созидательный» [12, с. 170-171]. Деструктивныйэтап имеет свой интервал и свои проблемы. Можно полагать, что ему болеесвойственны элементы хаоса, который предполагает многовариантность и широкуюобласть выбора. В этот период происходит подготовка предпосылок инкубационногои созидательного этапов с новыми задачами. Границы между этапами переходногопериода условны. То, что в рамках деструкции уже происходит поиск новых идей,демонстрирует возможности и задачи инкубационного этапа (в которомосуществляется и поиск того фактора, который повлечёт за собой кризис – точкубифуркации). Кризис может возникнуть лишь из внутренней готовности и привнешних условиях для появления и развития нового. К созидательному периоду,возможно, следует отнести то завершение переходного периода, которое следует закризисом и ведёт к новому стабильному состоянию.
106Кокорина Е.Г.
Вывод. Таким образом, сущность переходного периода заключается в том, что внём присутствуют элементы обоих начал – хаоса и порядка, что в итоге и приводит кточке бифуркации, делает возможным само её появление. В культуре это проявляетсяв том, что ценности и идеалы, ещё не нивелированы или не поменяли своего знака, аидёт процесс по их «опрокидыванию», «переворачиванию» с дальнейшимопределением направления движения и возникновения нового состояния культуры.
Список литературы1. Мережинская А.Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи: Русская проза 80-90-
х годов XX века: Монография / А.Ю. Мережинская. – Киев: ИПЦ «Киевский университет», 2001 – 433 с.2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Около 60 000 слов и фразеологических выражений / С.И.
Ожегов. – 25-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир иОбразование», 2006. – С. 501-502.
3. Філософський словник соціальних термінів: словник / [ред. В. П. Андрущенко] – Вид. 3-тє,допов. – К.: Р.И.Ф., 2005. – 381 с.
4. Культура и культурология: Словарь / Сост. и ред. А.И. Кравченко. – М.: АкадемическийПроект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.– 445 с.
5. Кононенко Б.И. Культурология в терминах, понятиях, именах. Справочное учебное пособие. /Кононенко Б.И. – М.: Издательство «Щит-М», 2000. – С. 113.
6. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер. с англ. – М.: Вече,АСТ, 1999. – 208 с.
7. Борисов А.Б. Большой экономический словар / Борисов А.Б. – М.: Книжный мир, 2004. – 860 с.8. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.:
Институт новой экономики, 2002. – 426 с.9. Общая и социальная психология: энциклопедия / [сост. М. И. Еникеев]. – М.: Издательство
ПРИОР, 2002. – 186 с.10. Психологический словарь / авт.-сост. В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнов, Н.О. Гордеева, Л.М.
Балабанова; Под общей ред. Ю.Л. Неймера. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 205 с.11. Шванёва И.Н. Генезис души – неоткрытый путь в нас / Ирина Николаевна Шванёва. – М., 2009.
– 218 с.12. Кальной И.И. Некоторые размышления об идее гражданского общества и её осуществлении /
Игорь Иванович Кальной // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского: науч. журнал. Серия [5], Политические науки. – Симферополь. – 2003. – Т. 16 (55). – №1. –С. 170-175.
Кокоріна Є.Г. Перехідний період та криза: співвідношення понять // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 101-106.
Стаття, що пропонується, присвячена аналізу співвідношення понять «перехідний період» та«криза». Ціль статті – уточнення областей уживання понять «перехідний період» та «криза» і виявленняїхнього взаємозв’язку.
Ключові слова: перехідний період, криза, порядок, хаос.
Kokorina E.G. А transitional period and a crisis: the notions correlation // Scientific Notes of TauridaNational V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –Vol.23 (62). – №1. – P. 101-106.
The article is devoted to the analysis of «a transitional period» and «a crisis» notions correlation. The aimof the article is to specify «a transitional period» and «a crisis» notions area and to reveal their interconnection.
Keywords: transitional period, crisis, order, chaos.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 107-112.
УДК 130.2 (470)
ПРОБЛЕМА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ В ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВАРУССКОГО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Митина И.В.
В статье анализируются ключевые положения философии искусства русского серебряного века,касающиеся проблемы содержания и формы художественного произведения. Рассматриваютсяисторико-философские корни данной концепции, её принадлежность определённой парадигмемышления, показывается историчность этой парадигмы. Специальное внимание уделено анализуспецифики деятельности художника-творца.
Ключевые слова: Содержание, форма, художественное произведение.
Цель данной статьи – на материале русской философии серебряного векавыявить роль содержания и формы в создании единства художественногопроизведения; показать трудности и неудачи, подстерегающие художника-творца,создающего произведение искусства; обнаружить процессуальность пониманияпроблемы, обусловленность её решений внеэстетическими и внехудожественнымифакторами.
Метафизической предпосылкой рассмотрения проблемы формы и содержания вфилософии искусства русского серебряного века становится обоснование различия«между идеальным, т.е. достойным, должным, бытием и бытием недолжным, илинедостойным» [11, с. 394]. Такое различие, по Вл.С. Соловьёву, всецело зависит «оттого или иного отношения частных элементов мира друг к другу и к целому» [11, с.394]. Положительное идеальное определение достойного бытия раскрывается Вл.С.Соловьёвым посредством следующих характеристик: « … (1) чтобы бытие можнобыло признать идеальным, то есть достойным и должным, его частные элементы недолжны взаимно исключать друг друга, а, напротив, должны взаимно полагать другдруга, проявляя определённый солидаризм; (2) чтобы бытие можно было признатьидеальным, его частные элементы не должны исключать целого, а, напротив, должныутверждать себя на единой основе всеединого целого; (3) в идеальном бытии частныеэлементы не подавляются единым всеобщим началом или абсолютной основойцелого, а, напротив, получают простор, раскрывая в себе основу целого» [11, с. 394].Аналогично недостойное или недолжное бытие определяется Вл.С. Соловьёвым какнарушение «взаимной солидарности и равновесия частей и целого» [11, с. 395].
Эта метафизическая конструкция – назовём её метафизическим солидаризмом,хотя у Вл.С. Соловьёва это, скорее, один из аспектов принципа всеединства, –проецируясь в области нравственно-практической жизни, теоретического познания иэстетического совершенства, становится основой, соответственно, этического,теоретического и эстетического солидаризма. Идеальное бытие в практической жизниопределяется как добро, в теории как истина, в эстетике как красота. Недолжное или
108Митина И.В.
недостойное бытие проявляет себя в практической жизни как зло, в теории как ложь,в эстетике как безобразие.
Как видим, понимание красоты и безобразия в искусстве формулируется Вл.С.Соловьёвым прежде всего на основе не содержательного, а формального критерия, тоесть форма полагается более активным, действующим началом. Зададимся вопросом,почему это так? В работах философов русского серебряного века можно отыскать, покрайней мере, два объяснения. Первое - художественное произведение есть фактэстетический, подлежащий эстетическому суждению и эстетической оценке.Эстетическое по существу своему, пишет Вл.С. Соловьёв, определяется не только какчистое или незаинтересованное (то есть не утилитарное по преимуществу), но и какформальное, имеющее непосредственно-созерцательный характер. Эстетическоехарактеризуется как прекрасное или как возвышенное на основании формы [10, с.469]. Но каков критерий совершенства эстетической формы? Действительноеприсутствие идеи, идеального содержания в материальном явлении, каковымявляется произведение искусства, и не только в произведении искусства как целом, нои во всех мыслимых его частях [11, с. 394].
Форма мыслится русскими философами серебряного века как активноеорганизующее начало. В этом можно было бы усмотреть некий неоаристотелизм,если бы не одно «но». У Аристотеля, как мы помним, форма – это первая причинабытия, которая определяет, образует материю, переводя её из недетерминированнойпотенциальности в чувственно воспринимаемую вещную конкретность. Особоследует отметить чрезвычайно тонкий и важный для нашего анализа аспектаристотелевской метафизики: реальность человека такова, что его плоть – материя, адуша – форма. Душа человека оформляет его конкретную бытийную суть [1].
В русской философии серебряного века душа как третья определенность сущегоесть «субъект чувства и носительница красоты» [12, с. 252]. Идея души – красота, она«обладает наибольшею актуальностью, наибольшею полнотой формального бытия иесть поэтому последнее, окончательное осуществление, или реализация, идеи кактакой» [12, с. 256]. Как «субъект чувства» душа оформляет художественно-эстетические впечатления и восприятия. Можно было бы говорить здесь о сходстве саристотелевской концепцией активности формы, тем более, что и Вл.С. Соловьёвнеоднократно подчёркивает неопределённость и пассивность материи, если быконструкция русских философов сводилась к этим начальным положениям илиисчерпывалась ими. На деле, однако, мы видим нечто иное.
В русской философии идея также есть форма, но, в этом принципиальнаясложность и новизна, идея не есть только форма, идея в самой себе имеет материю[12, с. 285], точнее, идея и есть «первая материя». Prima materia есть чистая потенция,первоначальная сущность, не обладающая никаким объективным бытием и неспособная самостоятельно что-либо определить. Идея есть другое сущего, которое иесть чистая актуальность. Материализуясь в идее, абсолютно-сущее предстаёт какосуществлённый Логос. Идея, материализуясь, предстаёт как реальная и ощущаемая.Форма не мыслится в этой концепции как нечто абсолютно не материальное. Формаздесь сродни материи, точнее, тем или иным аспектам её, а потому оформляет нелюбые, а лишь материально-духовно близкие аспекты идеи как materia prima. Но исодержание не безразлично формам. В самом общем плане внутри данной парадигмы
109Проблема формы и содержания в философии искусства …
содержание определяется как абсолютно-сущее, точнее, абсолютно-сущее определяетсобой любое содержание.
Всякое бытие есть «проявление» или «откровение» сущего и сущности илисодержания, в том числе художественное бытие, бытие художественногопроизведения. Поскольку «бытие есть самоопределение Логоса», а сущность илисодержание есть «определённая Логосом первая материя» [12, с. 244], формахудожественного произведения определяется в философии русского серебряного векапосредством логики, но логики не формальной, а смысловой или эйдетической, асодержание посредством отсылки к Абсолюту, абсолютному первоисточнику всегосущего. Отсюда становятся ясны, по меньшей мере, три аспекта данной парадигмы,касающиеся специфики художественных произведений и некоторых особенностейпроцесса их создания. Первый: поскольку содержание искусства предзадано, онооткрывает себя художнику, прозревается им, художественное творчество есть попреимуществу творчество форм. В области природы формы сотворены, но сотворенытак, что абсолютное идеальное содержание лишь слабо присутствует в них, лишьвнешне воплощается в формах, а потому прекрасные природные формы остаются«под властью материального процесса, который сначала прорывает его прекраснуюформу, а потом и совсем его разрушает» [12, с. 397-398]. В сфере искусства истинноевоплощение абсолютного идеального содержания должно делать материальный илиформальный элемент художественного произведения «действительно причастнымбессмертию другого» [12, с. 397].
Здесь мы находим второй важный аспект – особую роль художника-творца,который в процессе создания художественного произведения должен со-творитьнечто бессмертное. Это – христианизированный вариант Возрожденческой идеигения, титана, увековечивающего себя в своих творениях [5]. Пассивная«отражательность» – удел природы, но человек, как существо не только природное,но и духовно-душевное сущностно активен. Здесь проявляется типичная для всейрусской философии серебряного века персоналистская интенция в еёхристианизированном варианте, поскольку здесь субъект творчества лишь со-причастен первому Творцу, он лишь находит адекватное выражение для одной изсозданных Абсолютом идей. В данной парадигме художник не творит идей, оноткрывает идею в себе и даёт ей формальное воплощение. Художник как медиум,через которого говорит сущее – нововременная интерпретация неоплатоновскойконцепции предназначения человека: подняться от телесной жизни к душе, далее куму и, наконец, к общению с Единым. Но абсолютное актуальное принципиально неможет быть замкнуто, оно само ищет потенциальность для воплощения собственнойдействительности. Но если создание художественных форм есть задача и проблемахудожественного творчества, то – это третий аспект данного этапа анализа – ифилософская рефлексия создания художественного произведения должна уделятьпреимущественное внимание рассмотрению именно художественной формы. Вотпочему в философии русского серебряного века проблема формы художественногопроизведения явно доминирует. Перейдём к следующему этапу анализа. Еслисодержание и форма художественного произведения равно ищут друг друга как «своёдругое», то основным принципом их взаимодействия становится принцип ихорганической целостности: единство, неделимость и взаимное соответствие формы и
110Митина И.В.
содержания художественного произведения [2, с. 235]. Этот принцип философырусского серебряного века нашли уже сложившимся и, дав ему существенно новоеистолкование, обогатили другим принципом, который можно назвать принципомвзаимной относительности содержания и формы. Как таковой, наиболее чётко он былсформулирован Г.Г. Шпетом. Поскольку всё внутреннее существует, лишь проявляясьво-вне, форма как внешнее способна вбирать и вбирает в себя определённую дозувнутреннего, то есть содержания. «Соотносительность терминов форма и содержаниеозначает не только то, что один из терминов немыслим без другого, и не толькоравным образом то, что форма на низшей ступени есть содержание для ступенивысшей, а ещё и то, что чем больше мы забираем в форму, тем меньше содержание иобратно» [14, с. 424].
Содержание само по себе неопределённо и безгранично, будучи определено,содержание становится множеством «”низших” форм по отношению к высшейединой форме» [14, с. 424]. Именно в этом смысле чисто эйдетические формы у А.Ф.Лосева разворачиваются в целостные структуры форм, как, например, музыкальнаяалогически-эйдетическая форма состоит из качественно-акустической (то естьмелодико-гармонической) и чисто временно (то есть темпо-ритмической) [4, с. 120-121]. Если учесть, что эйдетически-логическая структура музыкальногопроизведения отличается слитностью и взаимопроникнутостью внеположенныхчастей, при которых немыслима произвольность каких-либо частей [3, с. 230-242],станет ясно, что в музыкальном бытии любой мелодический, тональный илиритмический отрезок является формально-организованным, то есть и качественно-акустическая и чисто-временная формы расчленяются на сотни подформ.
Присутствие в музыкальном произведении идеальных логических форм создаёт«внутренние идеальные отношения, дающие впечатление ясности и раздельности,вызывают своеобразное чувство интеллектуального наслаждения, а не чистоэстетического, «чувственного» [14, с. 440]. Так действует лишённое формальныхнебрежностей классическое искусство. Но любое формально-логическоенесовершенство понижает и собственно-эстетическое наслаждение, поскольку логикаесть фундамент художественности [14, с. 442]. Даже конструируя алогическуюстихию, художник-творец использует логические средства так, что меональноестановится эйдетически-логическим [3, с. 291]. Тем не менее, сущностьхудожественного произведения не логическая, а эстетическая, не понятийная, аобразная. Русская философия искусства серебряного века в целом разделялаидеалистическую трактовку искусства «как выражения идей в чувственных формах»[2, с. 236]. Но как возможно идее выразить себя образно? Благодаря природе самойидеи. Идея, как точно замечает С.А. Левицкий, это не «идея-понятие», а «идея-образ». Сравнивая идею и понятие, С.А. Левицкий подчёркивает, что они разнятся вдвух главных аспектах – по отношению к объёму содержания и по отношению кчувственному выражению. Если объём понятия обратно пропорционаленсодержанию, то объём идеи находится в прямой пропорциональной зависимости ксодержанию. Чувственное выражение затемняет и искажает понятие, в то время какидея стремится выразить себя в чувственном образе. Выразить идею в искусстве –значит выразить её естественно-символически [2, с. 236].
111Проблема формы и содержания в философии искусства …
Здесь – близость платоновскому пониманию идеи как эйдоса, а именно,специфического предмета мысли, внешняя форма которого может быть уловленазрением. Отсюда, видимо, и столь часто используемый русскими философами термин«умозрение». Есть ещё один аспект концепции русских философов серебряного века,обойти вниманием который не представляется возможным. Это – их отчётливоепонимание причастности собственного мышления некой парадигме и осознаниепринципиальной неединственности этой парадигмы. В данной парадигмеизобретение художественных форм мыслилось как средство раскрытия некоегоневыразимого, несказанного, уже существующего содержания. В исторически болееранней парадигме искусство в его целом и каждое отдельное художественноепроизведение как часть искусства есть часть собранного, целого и благодатного мира[13, с. 385], в котором художник находит предзаданными не только содержание, но иформу художественного произведения и лишь повторяет их «по прописи», как виконописи.
Что касается парадигмы будущей, то в пору активной творческой деятельностипоследних представителей серебряного века русской культуры она уже вступила всвои права и разительно отличалась от той, которую пророчествовал Вл.С. Соловьёв.Искусство стало чистой игрой форм. И предпосылкой этого русские философыназывали кризис мировосприятия [14, с. 370], бытийственную пустоту мира. В этойпарадигме художнику нет нужды ни корреспондироваться к высшим началом бытия,ни искать способы претворения идеи в смысл. В некотором смысле формальнаясторона искусства сродни здесь формальной красоте природы. Но формальноематериальное совершенство, даже будучи чистой бесполезностью, является«безусловно-ценным, что существует не ради другого, а ради самого себя», она есть«цель сама в себе» [8, с. 35]. Но и такая, объективно-природная эстетичность имеет,по Вл.С. Соловьёиу, онтологическое основание: противоборствовать первобытномухаосу и воплощать реальную идею света и жизни [8, с. 72]. Можно сказать, что внебольшой статье 1889 года, далёкой казалось бы от обсуждения философскихоснований формальных экспериментов в искусстве, Вл.С. Соловьёву удалосьимплицитно обозначить онтологический смысл следующей, реально наступавшейуже в ту пору, эстетической парадигмы. Но какова в ней роль художника? Неуподобляется ли он здесь «космическому художнику» (Вл.С. Соловьёв), целькоторого – облечь безобразие в красоту, сначала «прикрыть и прикрасить»безобразие, а затем превратить его в красоту [8, с. 66]? В какой из парадигмвзаимоотношения содержания и формы сложнее и утончённее, а художественноепроизведение более ценно? В какой из парадигм деятельность художника-творцаболее значима или более трудна? Вероятно, эти вопросы должны остаться открытымидля дискуссии.
Выводы. Философы русского серебряного века практически не разрабатывалипроблемы философии искусства вне систематического философского рассмотрения.Именно поэтому рассмотрение сугубо, казалось бы, эстетической проблемысодержания и формы искусства получает в философии искусства русскогосеребряного века первоначально метафизическое и лишь затем собственноэстетическое обоснование.
112Митина И.В.
Список литературы1. Аристотель. Метафизика / Аристотель. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 664 с.2. Левицкий С.А. Основы органического мировоззрения / С.А. Левицкий // Левицкий С.А. Свобода
и ответственность: Основы органического мировоззрения и статьи о солидаризме. – М.: Посев, 2003. –С. 26-264.
3. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики / А.Ф. Лосев // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. –М.: Правда, 1990. – С. 193-330.
4. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы / А.Ф. Лосев // Лосев А.Ф. Форма. Стиль.Выражение. – М.: Искусство, 1990. – С. 3-296.
5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1982.6. Соловьёв Вл.С. О лирической поэзии / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С. Философия искусства и
литературная критика. – М.: Искусство, 1991. – С. 399-425.7. Соловьёв Вл.С. Поэзия гр. А.К. Толстого / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С. Философия
искусства и литературная критика. – М.: Искусство, 1991. – С. 399-425.8. Соловьёв Вл.С. Красота в природе / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С. Философия искусства и
литературная критика. – М.: Искусство, 1991. – С. 30-73.9. Соловьёв Вл.С. Что значит слово «живописность»? / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С.
Философия искусства и литературная критика. – М.: Искусство, 1991. – С. 218-222.10. Соловьёв Вл.С. Кант (Immаnuel Kant, первонач. Cant) / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С.
Сочинения в 2 ч. 2-е изд. Т. 2. – М.: Мысль, 1990. С. 441-479.11. Соловьёв Вл.С. Общий смысл искусства / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С. Сочинения в 2 т. 2-е
изд. Т. 2. – М.: Мысль, 1990. С. 390-404.12. Соловьёв Вл.С. Философские начала цельного знания / Вл.С. Соловьёв // Соловьёв Вл.С.
Сочинения в 2 т. 2-е изд. Т. 2. – М.: Мысль, 1990. С. 139-288.13. Трубецкой Е.Н. Из лекции «Россия в её иконе» / Е.Н. Трубецкой // Из русской мысли о России. –
Калининград: Янтарный сказ, 2002. – С. 381-386.14. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты / Г.Г. Шпет // Шпет Г.Г. Сочинения. – М.: Правда, 1989. – С. 345-472.
Мiтiна І.В. Проблема форми й змiсту у фiлософiї мистецтва росiйського срiбного столiття //Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія.Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 107-112.
У статтi аналiзуються ключовi положення фiлософiї мистецтва росiйського срiбного столiття, щостосуються проблеми змiсту й форми художнього твору. Розглядається iсторико-фiлософське корiнняданної концепцiї, iї належнiсть певнiй парадигмi мислення, показується iсторичнiсть цiєї парадигми.Спецiальна увага придiлена аналiзу специфiки дiяльностi художника-творця.
Ключовi слова: змiст, форма, художнiй твiр.
Мitina I.V. Philosophy of art of Russian ‘Silver Age’ on the problem of content and form // ScientificNotes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 107-112.
The paper is elaborated the key issues of the philosophy of art of the Russian silver age concerning theproblem of content and form of work of art. The philosophical roots of the conception are elaborated andshowed the conception belongs to the certain paradigm which has a historical character. An especial attention isgiven to the analysis of the specific character of art activity.
Keywords: Content, form, work of art.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 113-120.
УДК 130.123
АНТИНОМИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК ПРЕДМЕТФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ
Соболевская Е.К.
В статье актуализируются и проясняются основополагающие антиномии творческого процесса,как они представлены в пространстве рефлексирующей мысли М. Цветаевой. Показываетсятеснейшая взаимосвязь данных антиномий с фундаментальными вопросами человеческогосуществования.
Ключевые слова: антиномии, творческий процесс, грех, святость, свобода, стихия,ответственность.
Творческое наследие М. Цветаевой, как и судьба этого одного из величайшихпоэтов ХХ столетия, является ярким подтверждением антиномической природыискусства. Антиномичность искусства, и конкретнее – антиномичность самоготворческого процесса, неизменно выступала в качестве предмета её размышлений.Цветаева в высшей степени интенсивно переживала обнажающиеся в ходетворческого процесса антиномии и обстоятельно фиксировала живой опытпроисходящего. В отличие от своих ближайших собратьев по перу символистов,отдававших предпочтение более или менее явным указаниям на суть дела, Цветаевапрактически всегда была склонна говорить открытым текстом и даже намеренно себяна этот открытый текст обязывать. Актуальность заявленной темы обусловлена,прежде всего, тем, что противоречия творческого процесса в контекстерефлексирующей мысли Цветаевой доводятся до предельных антиномий мирозданьяи вплотную приближают нас к последним вопросам человеческого бытия. Цельнастоящей статьи: актуализировать и прояснить основополагающие антиномиитворческого процесса, как они представлены в пространстве рефлексирующей мыслипоэта, а также продемонстрировать их теснейшую взаимосвязь с фундаментальнымивопросами человеческого существования. Наиболее показательным текстом в этомплане является довольно объемная работа Цветаевой с самим себя кажущимназванием – «Искусство при свете Совести» (1932). К ней мы и обратимся.
Уже при первом вхождении в тему мышление Цветаевой балансирует на границедвух антагонистичных понятий: «святость» и «грех». Ни понятие «пользы» (нипротивоположное ему понятие «вреда»), ни понятие «красоты», традиционноиспользуемые в связи с выявлением природы искусства и его предназначения,Цветаевой в расчет не принимаются. Этого же крайнего мыслительного напряженияона требует и от своего читателя. Заняв искомую диалектическую позицию, Цветаеваопределяет искусство в рамках свойственного поэту метафорического дискурса: «…Оно – ни небо, ни земля, а нечто третье, со своим миром подводных чудищ <…>, неподчиняющихся никаким законам, кроме самого необычного из всех:
114Соболевская Е.К.
притягивающей силы луны. Океан с его дарующими отливами и грабящимиприливами, океан – и колыбель, и убийца, обольстивший стольких!». И далее: «Третьецарство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее (и какчасто – в низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Междунебом духа и адом рода искусство – чистилище, из которого никто не хочет в рай»[6,с. 14, 30] (курсив мой – Е.С.).
Поэт, с точки зрения Цветаевой, есть тот, кто подвержен наитию стихий-демонов, открыт для вхождения их одновременно губительной и чарующей силы(«Все, все, что гибелью грозит, – для сердца смертного сулит – неизъяснимынаслажденья»). Поэт, можно сказать, есть та точка безумия, через которую самимстихиям-демонам позволено выйти наружу, чудесно обратившись при этом в песнь, вслово о сущем. Так, в свое время стихия, демон Чумы, выговорилась через Пушкина,оставив нам «Пир во время Чумы»; позднее стихия, демон «данного часаРеволюции», выговорилась через Блока, оставив и для самого Блока самуюнезнакомую из всех его Незнакомок – «Двенадцать».*
В связи с попыткой понять антиномическую природу творческого процесса всамых его глубинных истоках необходимо обратить внимание на принципиальноедля Цветаевой положение. А именно: когда она говорит об одержимости поэта, онавовсе не имеет в виду его одержимость искусством, она вовсе не имеет в виду егособлазн эстетизмом. Это, с её точки зрения, для поэта не должно являтьсясоблазном. Если уж такого соблазна поэт преодолеть не может, то он, конечно же, –лже-поэт, или, по её выражению, «существо, погибшее и для Бога и для людей».Итак, не об одержимости искусством идет речь, а о том, что искусство есть«средство держания (нас – стихиями), а не самодержавие, состояниеодержимости, не содержание одержимости. <…> Одержимость работой своих рукесть одержимость нас в чьих-то руках», а точнее – в руках стихии-демона [ 6, с. 36](курсив мой – Е.С.).
В ходе творческого процесса дремлющие в человеке темные, хаотическиеприродные силы оживают и срастаются, сливаются воедино с природными силамистихии. Человек-творец оказывается в ситуации антиномической зависимости: вситуации какой-то странной полной свободы, которая есть в то же время его полнаянесвобода; в ситуации, когда ему предоставляется выбор, который в то же время неесть его выбор; в ситуации, когда он сам совершает поступок, который в то жевремя не он совершает, а через него совершается. Причем эта антиномическаязависимость, как считает Цветаева, не является результатом его неправильногоповедения, или способа бытия в мире. Антиномично само бытие, и поэт в силу своейустроенности – опять-таки не от него зависящей – попадает в ту его сферу, где само
* Эта же обреченность поэта на топос, подверженный наитию стихий, на место, которое, подобновыдвинутому в море молу, принимает на себя удар стихий и таким образом сдерживает катастрофу,угрожающую гибелью упорядоченному пространству жизни, показана Цветаевой и в формелирического стихотворения «Занавес» [см. подробнее: 4].
115Антиномии творческого процесса …
бытие ежеминутно раскалывается надвое, или другими словами: где оно находится всостоянии последнего спора.
«Демон (стихия), – говорит Цветаева, – жертве платит. Ты мне – кровь, жизнь,совесть, честь, я тебе – такое сознание силы (ибо сила – моя!), такую власть надвсеми (кроме себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках свободу, что всякая инаясила будет тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая иная свобода – тесна ивсякая иная тюрьма – просторна» [6, с. 36].
В данном случае Цветаева определенным образом рационализирует ирастягивает во времени тот неизъяснимый момент творческого процесса, когдахудожник становится одержимым. Но ведь не контракт со стихией он в конечномитоге подписывает, не представляет себя заранее таким-то и таким-то, непросчитывает возможных последствий от своего союза со стихией или от своегоотказа от этого союза. На него просто, как говорится, непонятно откуда и непонятнокак «находит». И почему-то именно на него «находит». И «находит» так, что он накакой-то неопределяемый земными мерами срок как бы изгоняется из самого себя,из себя-человека с присущими ему разумом, волей, совестью, честью и совершаетпоступок вне сферы человеческого, вне сферы всеобщего, вне сферы этического:«твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы». И в этомсмысле он свободен, но его свобода кажущаяся, поскольку не он сам её источник, ата необузданная сила, в плену у которой он находится. Он должен выдерживатьнакал свободы. Или, припоминая сходные откровения Блока, скажем: выдерживатьветер из миров искусства [1, с. 333].
Полная, безотчетная свобода обладает такой разрушающей и, одновременно,чарующей силой, что находящийся под её воздействием поэт всегда имеет чуть ли нестопроцентный шанс раствориться в ней без остатка. Ведь из него уже «вычищено»практически всё (совесть, честь, жизнь). Единственное пребывающее в сохранности –это его глубинное поэтово естество, поэтово есть, но и оно может быть отнято. Онможет в качестве поэта (художника) погибнуть, то есть закончить немотой илибредом. И не случайно Цветаева в данной связи цитирует многоговорящие строки изстихотворения Байрона «Эвтаназия» («Euthanasia»): «Признай, что кем бы ни был тыв сем мире, – / Есть нечто более прекрасное: не быть.» («And know? Whatever thouhast been? / 'Tis something better not to be.»). Это заключительное «не быть» вконтексте её мысли означает не прямой отказ от бытия, а, прежде всего, отказ отбытия-в-слове и уже через отказ от бытия-в-слове – само собой разумеющийся дляпоэта – отказ от бытия вообще.
Тот, кто невольно отдан в плен стихии, должен удерживаться в этом «атомесопротивления», в этом атоме противоборства, потому что из полной, практическинеограниченной свободы, в тисках которой он оказался, можно выйти невредимымтолько через противостояние. Другими словами, поэт может отдать всё, но не долженотдавать своего глубинного поэтического «нутра» – центра определяющей его вкачестве поэта самости. Сохранность его гарантирована только одним –самоопределением через стихию Слова. Одной стихии должна бытьпротивопоставлена другая стихия.
116Соболевская Е.К.
«Гений, – говорит Цветаева, – высшая степень подверженности наитию – раз,управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая –собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности» [6, с. 15].
Продолжая мысль Цветаевой на примере Пушкинского «Пира во время Чумы» и«Двенадцати» Блока, можно сказать, что Пушкин и Блок выполнили своёпоэтическое назначение и через него – свой долг перед жизнью. И первый, и второйгениальны не только потому, что имели высшую степень душевной разъятости иприняли в себя нашествие стихий, но и потому, что имели высшую степеньдушевной собранности и нашли в себе силы совершить «наивысший подвигсопротивления» – быть-петь – самоопределиться через стихию Слова. Не дали себяувлечь в небытие. В противном случае – немота, бред, гибель.
Говоря о «наивысшем подвиге сопротивления» Цветаева вовсе не прибегает кфигурам речи: это для неё не метафора и не гипербола. Она обнажает процесстворчества, а в общем и способ бытия поэта (художника) в мире как неизбежныйвыбор между двумя крайностями: либо ты полностью отдаешься во властьпленительной силы стихии, и тогда стихия тебя раздавит, либо ты, преодолеваясоблазн стихии, самоопределяешься через слово и тогда каким-то чудом выживаешь.Причем в некоторых случаях, пусть и довольно редких, это может бытьконкретизировано ещё более жестко: либо ты совершаешь преступление в жизни и поотношению к жизни (к примеру, самоубийство), либо ты, разрушая единствочеловеческой личности, совершаешь «преступление» (самоубийство) в искусстве:подставляешь вместо себя своего героя, двойника. Третьего не дано. Именно так всвое время поступила и сама Цветаева, создав «Поэму Воздуха» (1927). Она стала длянеё своего рода спасением, в буквальном смысле поэмой воздуха: выходом изэмпирики жизни и, одновременно, – уходом от действительной смерти.Невызревшая, насильственная, преступная по отношению к самому ходу жизнисмерть (демон самоубийства) была изжита в слове.*
В то же время самоопределение поэта через Слово – и это моментпринципиальный – не является процессом, выстраивающимся на основе его личногосвоеволия. Творческая воля, по убеждению Цветаевой, есть – прежде всего –терпение, неустанная способность вслушивания в ритм становящейся вещи. И делопоэта состоит в том, чтобы среди множества стихийно возникающих строк различатьи записывать только те, которые через постоянное отбрасывание неподходящихвариантов наконец даются как явно услышанные, а не как самим поэтом изреченные.Так, Цветаева укоряет Пушкина в том, что в его «Пире во время Чумы» есть двестроки «только-авторские», то есть самовольно им выписанные, не данные, не
* В одной из статей М. Л. Гаспарова содержится указание на следующую интерпретацию этогопроизведения, которой, однако, сам Гаспаров, по его словам, не придерживается: «В перспективедальнейшей жизни и судьбы Цветаевой содержание ПВ [«Поэмы Воздуха»] осмысляется не просто каксмерть, а как самоубийство: слова «петля мертвая» – ключевые; «первый гвоздь» в начале – тот, накоторый самоубийца закидывает петлю; «редкий» и «резкий» воздух», «полуостановки» вздоха и сердца– предсмертное удушье; «полная оторванность темени от плеч сброшенных», ощущение летящейголовы – встряска тела в петле» [2, с. 268], [см. подробнее: 3].
117Антиномии творческого процесса …
услышанные (а именно – финальные строки Вальсингамова гимна Чуме: «И счастливтот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог»).
При описании творческого процесса Цветаева не обходится указанием тольколишь на темное, демоническое начало. Оно каким-то таинственным образомоказывается у неё переплетенным с началом ему противостоящим. «Бог, – говоритона, – посылает кару**, но дает и силу. То неуловимое движение мускула, которого втакой-то час достаточно, чтобы сдвинуть не только гору, а и собственнуюнадгробную плиту. Этой-то последней крупицы рассудка достаточно для уцеления,дабы потом сотворился свет» [6, с. 16].
Казалось бы, на данном «синтетическом» положении можно было быостановиться и тем самым воздержаться от постановки предельных вопросовсуществования. Но при соприкосновении с областью несказанного Цветаевскаямысль, получив небывалый запас энергии, начинает разворачиваться с новой силой:«Кому молиться в такие минуты? – вопрошает она. – Богу? <…> Стихиям? <…>Перу? Столу? И кто тот, кто нас и без молитвы слышит? Кто под темный ливеньвдохновения выводит на белый лист – свет Божий – наши личные записные книжки?Кому нужно, чтобы пир во время чумы – был? Кто наш, нас беспутных, – вожатый,нас безбожных – покровитель?» [6, с. 16-17].
Поначалу эти вопросы остаются открытыми. Но в итоге, ближе к концу статьи,всё же нетрудно найти строки, подводящие нас к довольно жесткому и однозначномусо стороны Цветаевой ответу: «Когда я пишу своего Молодца [название поэмы] –любовь упыря к девушке и девушки к упырю – я никакому Богу не служу: знаю,какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу,кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны.Нужно различать, какие силы im Spiel. Когда же мы наконец перестанем приниматьсилу за правду и чару за святость!» [6, с. 29-30] (курсив мой – Е.С.). Эти и без тогоуже предельные противопоставления (сила искусства, сила чары, колдовства –истина духа, святость) становятся ещё более выразительными, когда Цветаевасвязывает один из полюсов с язычеством и Дионисом, а другой – с христианством иХристом, утверждая, что одно лишь «сопоставление этих имен – кощунство исвятотатство».
И так вроде бы получается, что художник, или в данном случае поэт, с точкизрения Цветаевой, всё же невольный слуга темных, демонических, противостоящихсвету сил. Однако в творческом наследии Цветаевой на этот тезис есть свойантитезис. Она всегда силы у Бога просила и каждую свою вещь, даже упомянутогогреховного «Молодца», начинала со слов: «С Богом!», или: «Господи, дай!» [см.: 5, с.615; 7, с. 139, 143]. И именно Цветаевой, при свете Совести сознающейся, что онаникакому Богу не служит, принадлежат слова: «Поэт (подлинник*) к двум данным(ему Господом Богом строкам) ищет – находит – две заданные. Ищет их в арсеналевозможного, направляемый роковой необходимостью рифм – тех, Господом данных,являющихся – императивом» [5, с. 612].
** «Кара» в контексте работы Цветаевой означает «нашествие стихий».* «В смысле – не переводчик» [примеч. – М. Цветаевой].
118Соболевская Е.К.
Принимая во внимание эти противоречивые признания Цветаевой, мы всё-такиможем решиться на следующую интерпретацию: Бог не прямо, но косвенно, черезсоблазн стихией, через ниспосылаемую кару, восстанавливает художника противсебя. Это бунт против Бога, который в то же время самим Богом и провоцируется.Когда художник одержим стихией-демоном, когда он вычищен, выброшен из себя-человека, в нем неизменно остается тот трудно уловимый, Богом данный «атомсопротивления» темной силе небытия (и он должен в нем непременноудерживаться), который и в «дьявольском сплаве миров» помогает ему различитьголос Божественный и в свете этого голоса и через этот голос самоопределиться:сотворить песнь-бытие. Когда художник невольно против Бога восстает и невольноБогу противится, именно тогда к нему Бог обращается, Он привлекает и зовет его кСебе. Он ниспосылает кару, но ниспосылает и силу. Удаляясь от Божественного,художник приближается к Божественному. Вне этого «удаления», являющегосяодновременно «приближением», не было бы искусства. И, возможно, Бог бесконечнозаинтересован именно в такой экзистенциально противоречивой, антиномическойситуации, ибо сказано: «Входите тесными вратами; потому что широки врата ипространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13) и «… кто хочетдушу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня,тот обретет её» (Мф. 16:25).
В ходе творческого процесса осуществляется борьба противоположных начал впредельно актуализированной форме, и художник находится в самом её средостении,или и есть само это средостение. И весь парадокс состоит в невозможностиокончательно примирить противоборствующие стороны. Даже если художник черезсвоё произведение сумел преодолеть наитие стихий и услышать строки, данные емусвыше, то мы не вправе утверждать, что остаток спора между светлым и темнымначалами – собственно само произведение – ничего от этого последнего спора несодержит. Мы не вправе утверждать, что произведение в том виде, в каком оно намдается, только Добру, или Благу, служит. В нем, пусть и на самом глубинном,имплицитном уровне, дремлет то стихийное, природное начало, во власти которогоможет оказаться каждый его воспринимающий, ибо никто из нас от этогостихийного начала не свободен. И Благу произведение только в том случае служитьбудет, если в момент его актуализации мы сумеем преодолеть соблазн содержащихсяв нем демонических сил. В противном случае оно другой силе служить будет.
В Гёте, как говорит Цветаева, вселился «самоубийственный демон поколения», ион, спасаясь от этого демона, создал «Вертера», т. е подставил вместо себя своегодвойника. В результате: «Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертераи, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил как Вертер, другой,как Гете» [6, с. 20]. – Из произведения можно извлечь и то, и другое. Непризнаниеэтой его антиномичности, этой его двойственности означает сознательную ложь. Исуть трагедии художника и, в общем, трагедии искусства в том, что произведениеможет быть использовано и в самом высоком, и в самом низком смысле. Искусствоможет преобразить человека, а может и погубить.
Но с искусства (самой его данности) никто не спрашивает, никто на него вины иответственности не возлагает. Вина и ответственность перекладывается на
119Антиномии творческого процесса …
художника. И было бы ещё полбеды, если бы художник принимал на свои плечиисключительно вину и ответственность перед людьми, перед временем исовременностью. Здесь еще нет трагедии, здесь еще не сплетается, не встречаетсялицом к лицу индивидуальное и универсальное. И сам художник в большинствеслучаев ни таковой вины, ни таковой ответственности перед «малым» временем непринимает. И я бы даже не сказала, по крайней мере, в отношении Цветаевой, чтохудожник принимает или во всей глубине сознает свою вину и ответственность перед«большим» временем (в смысле исторической перспективы бесконечного будущего).Другое дело, что и «малое», и «большое» время никогда не упускают случаяустроить художнику очередной ареопаг. Но не этот суд времени заботит его.
У художника до предела обнажено чувство собственной греховности,отторженности от Божественного, до предела обнажено чувство собственной передБогом вины. Художник стоит в отношении к абсолютному, универсальному началунапрямую, не через посредствующее звено. Это не теоретическое осознаниевсеобщего первородного греха и общечеловеческой вины за всех и за каждого, что впринципе доступно любому мыслящему человеку. Это совершенно реальноеонтологическое состояние, которое основывается на добровольном акте (поступке)принятия иного греха и иной вины, помимо всеобщего, или поверх всеобщего.
«Все ведающее, – утверждает Цветаева, – заведомо повинно. Тем, что мне данасовесть (знание), я раз и навсегда во всех случаях преступления её законов, будь тослабость воли или сила дара (по мне – удара) – виновна. Перед Богом, не передлюдьми» [6, с. 41].
Причем осознание своего греха и своей личностной перед Богом вины внекоторых случаях принимает самые крайние формы вплоть до добровольного отказаот прощения (спасения души). Так, Цветаева даже и не помышляла и не вопрошала освоем спасении, о своей вечной жизни во Христе. Ей необходимо было хотя бы здесьот нашествия стихий спастись, хотя бы здесь и сейчас выполнить свой перед жизньюдолг. А если мысль о вечной жизни и посещала её, то она заведомо знала, чтоединственная возможная форма её существования в мире сейчас и после такназываемой смерти – это мучительный путь Вечного Жида. И потому в заключениесвоего при свете Совести отчета она без каких бы то ни было колебаний заявляет:«… Мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится.Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста» [6, с. 43]. Это итоговоеразведение по разные стороны Суда Божьего и Суда слова ещё раз указывает нанеустранимую антиномичность творческого процесса, как он представлен вконтексте рефлексирующей мысли М. Цветаевой. Мы вольны соглашаться с такимего специфическим усмотрением или не соглашаться.
Выводы. Антиномическая ситуация, в которую нас вовлекает не знающая покоямысль Цветаевой, понуждает пробудиться от привычного догматического сна:«искусство свято»; «священник служит Богу по-своему, художник – по-своему»;«искусство создается во имя красоты»; «искусство должно приносить пользу» илиже: «искусство бесполезно»; «искусство греховно, стало быть, вредно» и т. д. Лишьуяснив и на самом деле существующие противоречия, мы можем приблизиться кпониманию природы искусства и в рамках личного опыта пережить процесс
120Соболевская Е.К.
сотворчества как борьбу предельных антиномий. И не исключено, что в раздумьяхнад фундаментальными вопросами человеческого существования нам откроется тасфера, где противоположности примиряются.
Список литературы
1. Блок А.А. О современном состоянии русского символизма / А.А. Блок // Блок А.А. Сочинения:В 6 т. – Т.5. – М.: Правда, 1971. – С. 326 – 336.
2. Гаспаров М. Л. «Поэма воздуха» Марины Цветаевой: Опыт интерпретации / М. Л. Гаспаров //Гаспаров М. Л. Избранные статьи. – М.: НЛО, 1995. – С. 259 – 274.
3. Соболевская Е. К. Апология смерти, или Размышления по поводу ухода М. Цветаевой / Е.К.Соболевская // Лики Марины Цветаевой: XIII Международная научно-тематическая конференция (9-12октября 2005): Сб. докладов. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – С. 337 – 349.
4. Соболевская Е.К. Искусство – Художник – Жизнь (Развитие античной традиции в культуреСеребряного века) / Е.К. Соболевская // ∆οξα/Докса: Зб. наук. праць з філософії та філології. – Вип.8:Грецька традиція в сучасній культурі. – Одеса, 2005. – С. 311 – 319.
5. Цветаева М.И. Из записных книжек и тетрадей / М. И. Цветаева // Цветаева М.И. Собраниесочинений: В 7 т. – Т.4. – М.: Эллис Лак, 1994.– С. 555 – 616.
6. Цветаева М.И. Искусство при свете Совести (Реконструкция полного текста статьи) / М.И.Цветаева. – М.: Дом Марины Цветаевой, 1993. – 47 с.
7. Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради / М.И. Цветаева. – М.: Эллис Лак, 1997. – 639 с.
Соболевська О. Антиномії творчого процесу як предмет філософсько-естетичних рефлексій М.Цветаєвої // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія:Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 113-120.
У статті актуалізуються й прояснюються основні антиномії творчого процесу, як вони представленів просторі рефлексивної думки М. Цветаєвої. Показується найтісніший взаємозв'язок цих антиномій зфундаментальними питаннями людського існування.
Ключові слова: антиномії, творчий процес, гріх, святість, воля, стихія, відповідальність.
Sobolevskaya E. Antinomies of the creative process as subject of philosophically-aesthetic reflectionsof M. Tsvetaeva // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy.Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 113-120.
In the article the basic antinomies of the creative process as they are presented in space of M. Tsvetaeva’sreflexing thought are exposed and cleared up. It is shown close interrelation the antinomies with fundamentalquestions of human existence.
Keywords: antinomies, a creative process, a sin, sanctity, freedom, the elements, responsibility
Поступило в редакцию 13.10.2009
РАЗДЕЛ III«СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 121-126.
УДК 316.277
КОНСТИТУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГОВ СИТУАЦИЯХ ФАКТИЧНОСТИ
Волковинская В.А.
Социальная феноменология своей целью ставит описание встречи с социальным, описаниеопыта конституирования социального. Необходимо обозначить те структуры человеческой жизни,которые несут в себе возможность осознания социальности как нередуцируемой части этой жизни.В качестве такого поля мы и предлагаем фактичность и ситуацию.
Ключевые слова: социальная феноменология, конституирование, ситуация.
Предмет исследования – феноменологическая структура социального мира.Цель исследования – выявить фактичность и ситуацию в качестве базовых структурфеноменологии социального мира.
Социальная философия постоянно обновляется. Важны, однако, повороты ивыходы за пределы уже описанного к тому, что все еще не входило в поле зрения,что еще не было охвачено мыслью. Большинство концепций в социальнойфилософии и социологии опирались на понимание общества как самодовлеющего исамостоятельно существующего мира, независимого даже от описания его в этихконцепциях. Современные подходы, среди них социальная феноменология, выходятза границы субстанционалистского дискурса. В поле зрения входит уже не«общество» как некая сущность, но «социальное» как некое измерение, создаваемоеименно в процесс его описания на самых разных уровнях. Это значит, чтоневозможно говорить о существовании общества независимо от представлений онем. Ведь, как пишет К. Пигров, «Согласно феноменологической модели, нетникакого основания, заранее заданного, неизменного, всегда равного самому себе,которое бы определяло социум. Во всяком случае, нам об этом основании ничего неизвестно» [1, с. 148]. Поэтому феноменологическая социология делает акцент не наописании самих общественных процессов и не на объяснении того, что или кто заними стоит, но делает своей задачей описание феноменов социального. Это значит,что главное для нашего рассмотрения – явление и конституирование социального.Социальная феноменология своей целью видит описание встречи с социальным,моментов его раскрытия нам, описание опыта конституирования социального.
Однако недостаточно сформулировать задачу исследования конституированиясоциального, нужно еще определить поле такого исследования. Другими словами,необходимо обозначить те структуры человеческой жизни, которые несут в себе
122Волковинская В.А.
возможность осознания социальности как нередуцируемой части этой жизни. Вкачестве такого поля мы и предлагаем фактичность и ситуацию. В описаниифактичности и ситуации как поля опыта социального необходимо, конечно же,обратиться к определению самих этих понятий М. Хайдеггером, Ж.-П. Сартром иМ. Мерло-Понти, а так же к работам В. Бимеля [2], М. Кисселя [3],Г. Шпигельберга [4], в которых анализируются позиции этих философов.
Через фактичность и ситуативность человеческого бытия показать самосоциальное как нечто, что конституируется самим человеком и состоит из встреч сфактичностью и ситуацией. Именно в этом и состоит задача наших исследований.Эмпиричность человеческого бытия, его всегда-уже встроенность в мир и вопределенное положение вещей, М. Хайдеггер называл фактичностью. Как замечаетВ. Бимель, «мирское оказывается конститутивным моментом здесь-бытия, то естьэкзистенциалом» [2, с. 78]. Присутствие человека в мире всегда облечено в покровобстоятельств, избавиться от которого невозможно. Не конкретное устроение черезобстоятельства и положения дел, но саму необходимость такого устроенияфиксирует М. Хайдеггер: «это «так оно есть» мы именуем брошенностью этогосущего в его вот, а именно так, что оно как бытие-в-мире есть это вот» [5, с. 135].Однако этой фиксацией «вот» еще не все прояснено. «Вот» человеческого бытия –это не только экзистенциальная втянутость меня лично в такие-то обстоятельства,это еще и возможность сравнить их с другими обстоятельствами, и также бытьпредметом такого сравнения со стороны. «Вот» присутствия предполагаетвозможность конкретного указания на него, определения присутствия через это«вот» в указующем жесте со стороны. Брошенность же состоит не только вневозможности как-либо отменить фактичность, встроенность в мир, но и внеобходимости переносить этот указующий жест, исходящий от Другого.Фактичность в аспекте переплетения взаимоуказания на «вот» бытия раскрываетсоциальность как со-бытие в одних и тех же или в разных фактичныхопределенностях, как со-имение дела или наоборот – не-имение дела друг с другом.
Фактичность как переплетение взаимоуказаний на «вот» бытия друг другаконкретизируется в понятии «ситуации» и присущих ситуации взаимоуказаний какоснования социальности на этом уровне. Вернее, правильнее говорить не обоснованиях, а о базовых феноменах. Для начала необходимо обрисовать самопонятие, истоки его истолкования, а такими для нас являются работы Ж.-П. Сартраи М. Мерло-Понти.
Первым шагом в раскрытии позиции Ж.-П. Сартра есть понимание основногонапряжения всей его философии, напряжения между бытием-в-себе и бытием-для-себя. Ситуация же, даже если в первом приближении мы ее понимаем какокружающую среду, не тождественна замкнутому в себе сущему и егорасположению вокруг меня. Необходимо еще и отношение к этому расположению.Эту мысль озвучивает М. Киссель, когда констатирует: «Понятие «ситуация», поСартру, может получить разъяснение только в связи с понятием «свобода»«[3, с. 64]. Однако Г. Шпигельберг повторяет всего лишь очень близкую Ж.-П. Сартру мысль: сознание абсолютно свободно в выборе проектов и в определениисмысла ситуации. М. Киссель наполняет ее оценкой. Он подчеркивает, что Ж.-
123Конституирование социального в ситуациях фактичности
П. Сартр описывает ситуацию только «изнутри», придавая решающее значение ееинтерпретации человеком и определение ее смысла в зависимости от своих целей.«В результате ситуация совершенно лишается каких-либо объективныхдетерминирующих факторов» [3, с. 67]. Все же ни один взгляд, никакаяинтерпретация не способна устранить эти «факторы», да и не стремятся к этому.Речь идет лишь о том, что действительно ни один «фактор» не находит места вжизни человека без какой-либо интерпретации. И ситуация не только складываетсяиз обстоятельств, но и определяется окончательно именно смысловой нагрузкой,которая в свою очередь зависит от точки зрения.
Взаимодействие обстоятельств и их оценки, взаимоопределение взгляда ипредмета составляют ситуацию как таковую. Ж.-М. Муйи обращает внимание на то,что Ж.-П. Сартр называет «двойной детерминацией»: нечто для подсматривания задверьми существует только в виду моей ревности, но, с другой стороны, ревностьесть всего лишь ответом на то, что происходит за закрытыми дверьми. Такимобразом, ситуация отражает и мою свободу, и мою фактичность. Ж.-М. Муйивыражает это так: «Человек делает свой выбор в определенной ситуации, котораяесть и инструмент этого выбора: свобода и судьба черпают свой смысл друг в друге,свобода сообщает судьбе ее смысл и открывается самой себе в выборе смысла того,что чего она не выбирала» [6, с. 100]. Таким образом, Ж.-М. Муйи имеет в виду дватипа выбора, которые чрезвычайно важны для понимания ситуации как таковой. Содной стороны, наделение определенных обстоятельств смыслом, выделяющих ихиз массы всех остальных происшествий, является актом выбора, актом свободы. Сдругой стороны, Ж.-М. Муйи называет саму ситуацию «инструментом выбора».Действительно, если говорить о выборе вообще, бессмысленно делать это, забываяо той ситуации, которая ставит человека перед выбором. Вне ситуации выбор неимеет смысла, ведь выбор в своей необходимости и фатальности должен бытьоснован на диспозиции, расположении обстоятельств, которые невозможнооставить в таком именно положении. Ситуация является инструментом выбораименно потому, что диспозиция обстоятельств, наделенная смыслом, побуждает квыбору, делает необходимым принятие решение с целью изменения этойдиспозиции или выхода за ее пределы.
Именно М. Мерло-Понти. заменяет тезис Ж.-П. Сартра «Мы обречены насвободу» другим, одновременно близким и несхожим тезисом: «Мы обречены насмысл». Г. Шпигельберг рассматривает «Феноменологию восприятия» в разрезеограничения свободы бытия-для-себя, в том числе свободы интерпретации, бытием-в-себе как уже имеющим свой собственный смысл, независимый от интерпретаций.На основании противопоставления концепций смысла, принадлежащих Ж.-П. Сартру и М. Мерло-Понти, Г. Шпигельберг делает вывод, выходящий далеко зарамки полемики по поводу различий и новшеств в философских концепциях. По егомнению, Ж.-П. Сартр считал ситуацию только материалом для утвержденияабсолютной свободы, тогда как «Для Мерло-Понти за наличной ситуацией стоитнечто гораздо большее. Она – это часть сущностной вовлеченности человека каксуществующего посреди мира» [4, с. 563]. Имеется в виду, что невозможноабсолютно свободно придать смысл ситуации – каждая такая ситуация отнюдь не
124Волковинская В.А.
отдельна, она существует как часть мира, а потому несет в себе имманентный мирусмысл. Поэтому в оценке ситуации никогда нельзя «начать с нуля», а это, в своюочередь, говорит о том, что свобода не абсолютна. Не углубляясь в существодискуссии по поводу свободы и смысла экзистенциалистских деклараций, вовсе нетаких плоских, следует обратить внимание на заключительную часть замечанияГ. Шпигельберга. Ситуация – часть сущностной вовлеченности человека каксуществующего посреди мира.
Ситуация это не просто нечто, что случается изредка с человеком, этосущностная черта его бытия как бытия-в-мире. Очевидно, что ситуация как таковаяотсылает к своему целому – к миру как полноте и разнообразию всех возможныхобстоятельств. Только в этой полноте имеют смысл «мои обстоятельства» каккомбинация, отличная от всех иных комбинаций обстоятельств. Только в виду всехэтих иных комбинаций стремление изменить свою ситуацию имеет смысл. Мы ужевыяснили, что ситуация невозможна без организующего ее смысла. И мир, конечноже, невозможен без смысла. М. Дюфрен, описывая концепцию М. Мерло-Понти втом, что касается восприятия и смыслопридания, замечает: «Да, мир мне всегда даннадежно и достоверно. И, тем не менее, это всегда означает, что вещи приобретаютформу и смысл на моих глазах» [7, с. 99]. Однако, для нас важно не только то, чтокаждая вещь так или иначе осмыслена нами самими и воспринята согласно этомусмыслу. Важно то, что смысл вещей не есть нашим личным делом. Так, говоря обопыте культурного, М. Мело-Понти утверждает, что «В культурном объекте яощущаю скрытое под покровом анонимности близкое присутствие другого. ...именно через восприятие человеческого действия и другого человека могло быподтвердиться восприятие культурного мира» [8, с. 444]. Действительно, ни одинэлемент культурного мира невозможен без Другого, стоящего за ним, создавшегоего и придавшего ему смысл. То, что М. Мерло-Понти говорит о мире культуры,можно сказать и о мире как таковом. Все, что я встречаю в мире, было ужевстречено или даже создано Другим ранее, до меня, и будет встречено Другимпозже. И каждый приписанный мной смысл определенным образом коррелятивенсмыслу, приписанному Другим той же вещи.
Сам смысл оказывается свидетельством молчаливого присутствия Другого вмоем мире. Собственно говоря, именно взаимодействие смыслов, моих и Другого,создает этот мир как полную значимости среду жизни. И. Вдовина рассматривает«Феноменологию восприятия» как описание пути от первичного восприятия к мирукультуры, и в связи с этим отмечает также роль Другого в этом пути:«Феноменологически понимаемый мир есть смысл, просвечивающий в пересеченииопыта «я» и опыта «другого», в их взаимном переплетении» [9, с. 587]. Этодействительно очень точное определение того, как предстает мир дляфеноменологически подготовленного взгляда. Смысл вещей, тот смысл, которыйобеспечивает ориентацию в мире, выбор цели и оценку обстоятельств, рождается впересечении взглядов. Иначе невозможна была бы ориентация в мире на основеэтого смысла. То, что мы придаем ситуации смысл, размещающий ее среди всехвозможных или известных нам комбинаций обстоятельств других людей, говорит отом, что в саму организацию ситуации, диспозиции обстоятельств, входит
125Конституирование социального в ситуациях фактичности
социальность. И этот тезис подтверждается не только благодаря интерпретации«Феноменологии восприятия» М. Мерло-Понти, но и благодаря размышлениям Ж.-П. Сартра.
Итак, Ж.-П. Сартр характеризует ситуацию как ансамбль средств,инструментальности с одной стороны и свободного проекта с другой. Ситуация какдиспозиция обстоятельств побуждает к выбору, действию, так как эта конкретнаядиспозиция в чем-то противоречит проекту субъекта. Однако ничем не связанныйнабор фактов не приводит к тому, что решение становится необходимым. Ситуациядолжна иметь «форму», расположение фактов, организованных общим смыслом.Закрытые передо мной двери, шепот, неясные улыбки, насмешливые взглядытолько тогда требуют моего вмешательства, только тогда становятся ситуацией,когда я наделяю их смыслом измены.
Ансамбль «инструмент – возможность меня самого перед инструментом»организован в мире через Другого, поскольку со взглядом Другого ситуацияобретает некое имя, ярлык, определенность. Вся сложность ситуации, всямногочисленность обстоятельств, вся значимость тайных мотивов, оттенков чувств,все богатство переживаний, колебаний и размытость всех слов под взглядомДругого превращается в нечто ординарное, в сущности очень распространенноесобытие, очень легко поддающееся определению, целиком и полностьюумещающееся в словах: «Тебе изменяют». Так ситуация предстает в своей простойопределенности, очищенная от полутонов, нюансов и неясных чувств. Неконкретная оценка, а сама возможность того, что Другой увидит меня, всегдаприсутствует в ситуации и всегда замыкает круг обстоятельств простым и понятныммне смыслом, определением, названием, именем. И так каждая ситуация, котораяимеет для меня вид законченный, определенный, содержит в себе указание насуществование Другого.
То, что каждая ситуация, в которой я нахожусь, о которой думаю, выхода изкоторой ищу, связана с существованием Другого, важно именно для социально-философского взгляда на мир. Эта связь, это присутствие Другого без фактичногоего присутствия является одним из базовых феноменов социальности. Поэтомуситуация как таковая должна стать объектом исследования феноменологическиориентированной социальной философии, принципы которой позволяют раскрытьпотенциал этого понятия. Для феноменологической социологии первостепеннуюважность имеет тот факт, что социальность входит в саму организацию ситуации, иименно через эту организационную роль мы можем понять социальность как нечтопостоянно присутствующее в нас самих в качестве нашего понимания собственнойситуации.
Выводы. Полем социально-феноменологического исследования должна статьфактичность во всей своей ситуативной конкретности. Фактичность это ипостоянное «вот» бытия человека, и возможность указания на это «вот», а какрезультат – переплетение таких взаимных указаний на «вот» присутствия. Ситуацияявляется постоянным элементом раскрытия для меня моей фактичности, моейжизни, моего мира как того, что содержится в ситуации, и того, что проглядывает заней. Весь мир мы понимаем через разнородность ситуаций, возможность и
126Волковинская В.А.
невозможность их смены друг другом. Социальность входит в саму организациюситуации. Мы придаем ситуации смысл, размещающий ее среди всех возможныхили известных нам комбинаций обстоятельств других людей. Возможность того,что Другой увидит меня, всегда присутствует в ситуации и всегда замыкает кругобстоятельств простым и понятным мне смыслом, определением, названием,именем. Следовательно, в постоянных встречах с ситуациями человек понимаетсоциальное, с одной стороны, как элемент фактичности и каждой конкретнойдиспозиции, с другой стороны, социальность предстает перед нами в видеперекрещивания взглядов и взаимоуказаний «вот», взаимоопределений бытия-в-ситуации и со-бытия в разных или схожих фактичных определенностях.
Список литературы1. Пигров К.С. Социальная философия: Учебник. / К.С. Пигров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2005. – 296 с.2. Бимель В. Мартин Хайдеггер сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением
фотодокументов и иллюстраций) / Вальтер Бимель; [пер. с нем. А.Верников]. – Тверь: Урал LTD, 1998– 286 с. – (Биографические ландшафты).
3. Киссель М.А. Философская эволюция Ж.-П.Сартра / Михаил Антонович Киссель. – Лениздат,1976. – 238 с.
4. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение / ГербертШпигельберг; [Пер. с англ. под ред. М. Лебедева, О. Никифорова]. – М.: «Логос», 2002. – 680с.
5. Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер; [пер. с нем. В.В. Бибихин]. – СПб.:«Наука», 2002. – 451с.
6. Муйи Ж.-М. Субъективность и незнание. Парадокс экзистенции: от онтологии к этике / Жан-Марк Муйи // Ж.-П. Сартр в настоящем времени: автобиографизм в литературе, философии иполитике: Материалы международной конференции в Санкт-Петербурге 8-9 июня 2005 года / Сост. ипер. с франц. С.Л.Фокина. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – С. 99-123.
7. Дюфрен М. О Морисе Мерло-Понти / М. Дюфрен // Интенциональность и текстуальность.Философская мысль Франции XX века. – Томск: Изд-во «Водолей», 1998. – С. 96-109.
8. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Морис Мерло-Понти; [пер. с фр., под ред. И.С.Вдовиной, С.Л. Фокина]. – СПб.: «Ювента», «Наука», 1999 – 606 с.
9. Вдовина И.С. М.Мерло-Понти: от первичного восприятия – к миру культуры / И.С. Вдовина //Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Морис Мерло-Понти; [пер. с фр., под ред. И.С.Вдовиной, С.Л. Фокина]. – СПб.: «Ювента», «Наука», 1999 – С. 582-596.
Волковинська В.О. Конституювання соціального в ситуаціях фактичності // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 121-126.
Соціальна феноменологія ставить собі за мету опис зустрічі з соціальним, опис досвідуконституювання соціального. Необхідно позначити ті структури людського життя, що несуть в собіможливість усвідомлення соціальності як нередукованої частини цього життя. В якості такого поля мипропонуємо фактичність та ситуацію.
Ключові слова: соціальна феноменологія, конституювання, ситуація.
Volkovynskaya V.A. Social constitution at factuality’s situations // Scientific Notes of TauridaNational V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –Vol.23 (62). – №1. – P. 121-126.
Social phenomenology sets itself as an object description of the meeting with sociality and the socialconstitution’s experience. It is necessary to mark life structures, which create possibility of sociality’srealization. As such field of investigation factuality and situations are suggested.
Keywords: social phenomenology, constitution, situation.Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 127-131.
УДК 316.28:004.946:794.05
ИГРОВАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ:ПРАВИЛА И РИТУАЛЫ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Дроботенко О.А.
В статье анализируются принципы коммуникативных практик в социальной виртуальнойреальности и определяются механизмы функционирования виртуальной социальности.
Ключевые слова: социальная виртуальная реальность, игра, правило, ритуал, самоирония.
Предмет исследования – виртуальная коммуникация. Цель иследования –проанализировать принципы коммуникативных практик субъекта в социальнойвиртуальной реальности и определить механизмы функционирования виртуальнойсоциальности.
Категория виртуальности возникла задолго до появления Интернета,компьютера, виртуального шлема – и даже самого термина «virtual reality»,родившегося в 60-х годах прошлого века в Массачусетском технологическоминституте. Чтобы изучить его историю, нам пришлось бы пройти долгий путь отсхоластики до квантовой физики. Но мы сосредоточим своё внимание наприсутствии виртуальной реальности в жизни современного человека и построимсюжет вокруг взаимодействия виртуализированной социальной реальности,реальности симулякров – нашей повседневной жизни – и виртуальной реальностиИнтернета. В свете развития общества Модерна до его наивысшей стадии, измененияпринципа экономических и социальных связей распространение информационныхтехнологий и формирование сети Интернет с ее нынешней конфигурацией истилистикой является, скорее, не причиной, а следствием виртуализацииобщественной жизни. В то же время виртуальные технологии, развиваясь, начинаютоказывать влияние на социальные и межличностные отношения, внедряясь вповседневные практики современного человека. Необходимость изученияизменяющихся параметров социального пространства, в котором новый субъектосуществляет свои новые практики, делает актуальной избранную тематику.
Философское осмысление социальных проявлений феномена виртуальнойреальности (и Интернета как её технического воплощения) отсылает к работам, вкоторых поднимаются вопросы социокультурных особенностей ситуации«постмодерна» (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.Бодрийяр, Р. Барт, Ю. Кристева, П. Вирильо, М. Постер, М. Хардт, А. Негри, У. Бек,З. Бауман, Н.Б. Маньковская, А.А. Мамалуй, В.В. Гусаченко и др.). Описанияэффектов виртуальной реальности, которая конструируется посредствомразнообразных технических средств (наиболее часто – компьютерной сети),представлены в многочисленных произведениях ученых (Д. Дойч, Д. Шапиро) иписателей-фантастов (У. Гибсон, Дж. Нун, В. Пелевин, Мерси Шелли). Отдельный
128Дроботенко О.А.
интерес исследователей вызывает вопрос об онтологическом статусе виртуальнойреальности (С. Хоружий, Н. Носов, C. Дацюк). Базой для нашего исследования сталотакже направление, описывающее современную социокультурную ситуацию втерминах виртуального подхода. Тема виртуализации социальной реальностиподнимается в работах Ж. Бодрийяра, который вводит в философский обиходконцепт гиперреальности. Исследованием этой проблемы занимается Д. Иванов,сосредотачивая свое внимание на социологическом анализе виртуализациисоциальных институтов и намечая точки взаимовлияния между социальнымипроцессами, происходящими сегодня, и распространением компьютеризации иинтернетизации. С. Жижека в изучении феномена виртуализации больше интересует«антропологический» аспект – трансформация телесности, а также онтологическийстатус субъекта в виртуальной реальности.
Существует немало теоретических работ, исследующих игровую, карнавальнуюоснову постмодерной социальности и, в частности, интернет-общения. И большоймассив конкретных социологических и психологических исследований феноменаглобальной сети Интернет, из которого меня более всего интересовали посвященныеизучению психологических аспектов самопрезентации индивида в виртуальнойреальности и влияния Интернета на личность (Ш. Тёкл, А.Е. Войскунский, А.Е.Жичкина, А.П. Белинская, Н.Д. Чеботарёва и др.), структуры киберпространства ипрактик субъекта в Интернет-среде (С. Дацюк, В. Емелин, Г. Крупнин, А.Митрофанова, Д. Ростовцева и др.).
Используя данные работы в качестве отправной точки, рассмотрим тему игровойсоциальности в новом аспекте – с точки зрения механизмов ее функционирования иосновных стратегий коммуникации в виртуальном пространстве. Итак, наша цель –проанализировать принципы коммуникативных практик субъекта в социальнойвиртуальной реальности и определить механизмы функционирования виртуальнойсоциальности.
Мировосприятие современного человека напоминает «домодерное» сознание – сего неопределенностью, неустойчивостью, множественностью миров, следовательно,правомерно говорить и об изменениях принципов социальности – от сознательноконструируемой социальной реальности норм и институтов (Модерн) к «вселеннойигры и ритуальности». Назовем ли мы это возвращением к домодерному состоянию(«премодерн» – [4]) или переходом в ситуацию постмодерна, не суть важно. Главное,что нас интересует – игра как основа социальности, которая обнаруживает себя как вдомодерном обществе (в виде культов, ритуалов, карнавалов), так и в постмодернойситуации (где любая сфера становится «жертвой» экспансирующей игры знаков).Неинституциональность пространства коммуникации, которое охватывает каквиртуальную реальность Интернета, так и часть реальности повседневной жизни,позволяет говорить об изменении форм социальности. Несколько упрощенноесравнение двух видов социальности позволяет нам назвать их основные признаки.Модерн: конструирование социальности на основе принципа рациональности(общественный договор, выгода, безопасность), мораль на основе закона.Постмодерн: симулированная, «виртуальная» социальность конструируется попринципу игры, в основе ее нравственности лежит чувственность, в основе ее
129Игровая социальность: правила и ритуалы виртуальной коммуникации
«морали» – не законы, а правила. Поэтому о морали как таковой нельзя говорить: всоциальной виртуальной реальности обычные законы и моральные устои перестаютдействовать. Невозможной становится и трансгрессия.
Хакер, взламывающий компьютерную систему Пентагона, нарушает законСоединенных штатов Америки, но согласно правилам киберпространства ондействует целиком в рамках своей роли. Нарушение же правила не влечет за собой«общественного порицания», оно означает выбывание из игры. Если новыйпосетитель интернет-форума не вписывается в общую тематику и стилистику«старожилов», он просто игнорируется остальными участниками, равно – несуществует для них, поскольку именно коммуникация в виртуальном пространствеподтверждает существование. Бодрийяр пишет: «Для функционирования правилу ненужна никакая формальная, моральная или же психологическая структура илинадстройка. Именно в силу того, что правило произвольно, ни на чем неосновывается и ни к чему не относится, ему не нужен консенсус, воля или истинагруппы: оно существует, и всё – причём существует, разделяемое всеми партнерами,тогда как Закон витает где-то поверх множества разрозненных индивидов» [3, с. 238].Наличие правил, неписаных, но принимаемых всеми участниками коммуникации,образует социальность (повторяемость) интерсубъективых коммуникативныхпрактик в виртуальной реальности.
Социальное пространство Интернета структурируется не институционально, нечерез систему законов, норм и контроля; но нельзя говорить и об абсолютной«дигитальности» – холодной системе моделей и сигналов. Механическиесостыковки, спонтанные электронные контакты «возвращают» (или возводят нановый уровень) коммуникативные практики современного человека к «очарованиюигры», в такт им звучат щелчки-клики компьютерной «мышки». Правила и ритуалыконструируют игровую имитацию социальности в виртуальном пространстве.Момент имитации, «штрих», который добавляется к реальности, понижает ставки вигре до нуля: никто не хочет рисковать, да и нечем. Холодный соблазн мерцающегоэкрана.
Игровая социальность основана на исполнении ритуалов. При этом вовсе необязательно, чтобы один диалог походил на другой, но в одинаковойкоммуникативной ситуации сценарий всегда присутствует, и участникамкоммуникации остается только играть свои роли. Подобная ритуальность напоминаеттеорию игр Эрика Берна [2]. Однако в отличие от транзактных психодинамическихигр, проигрывание которых основано на определенных «застреваниях» и связано сполучением психологических «выигрышей» участниками, ход виртуальнойкоммуникации может быть никак не обусловлен психологическими особенностямикоммуникантов, и выбор определенных ролей участниками коммуникации (созданиевиртуальных персонажей) вовсе не объясняется полностью в рамках, например,компенсаторной теории. Виртуальный персонаж спроектирован/спроецирован самойвиртуальной реальностью (игра играет, коммуникация коммуницирует). Это неисключает и того, что виртуальный персонаж может служить образом «реального»или «идеального» «Я» коммуницирующего субъекта, что объясняет использованиевиртуальной реальности в психотерапевтических целях. И всё же я склонна
130Дроботенко О.А.
рассматривать виртуальную коммуникацию не как психологическое маневрирование,а как игру, доставляющую играющему эстетическое удовольствие, в первуюочередь – удовольствие от письма (ср. с [1]) и наслаждение самоиронией.
В то же время, при поставленном под вопрос психологическом удовлетворении,правило в игре отрицает и какую бы то ни было целесообразность и смысл,например, у Бодрийяра можно найти следующее замечание: «У Правила нетсубъекта… его не расшифровывают, и удовольствие от смысла здесь отсутствует –имеет значение лишь соблюдение Правила и умопомрачительность его соблюдения.Это отличает ритуальную страсть, интенсивность игры от наслаждения, связанного сповиновением Закону – или с его трансгрессией» [3, с. 231]. Правило, в отличие отзакона, может быть неписаным, неизвестным или даже не осознаваться игроком.Правило вписано в саму игру. Всё, что требуется от игрока (то есть социальногосубъекта в виртуальной реальности), – это позволить игре продолжаться.
Еще в начале мы оговорили, что будем проводить аналогию междукоммуникацией в интернет-пространстве и повседневными практиками. Во всехсферах жизни – от политической до интимной – мы можем наблюдать, чтовзаимодействие между людьми управляется набором правил и ритуалов. Яркий томупример – приход нового человека в корпорацию. Не важно, будет ли это завод,университет или супермаркет; новичок никогда не станет «своим», пока не впишетсяв местную систему правил и ритуалов. Не хочешь играть по правилам – тебяисключают из игры. Даже если эти правила не нравятся никому из игроков, никто небудет их менять, приводя в своё оправдание простое объяснение: «Такова система!»
Правило структурирует коммуникативные практики субъекта (виртуальногоперсонажа), возрождая очарование игры «избавлением от всеобщности в конечномпространстве – этим избавлением от равенства в непосредственном дуальномпаритете – этим избавлением от свободы в обязательстве – этим избавлением отЗакона в произвольности Правила и церемониала. Правило избавляет от тяжестисвободы, в конечном счете – от всякой личностной ответственности (поскольку нет иникакого личного выбора), подменяя ее легкостью «виртуальной» свободы иироничной улыбкой «холодного» соблазна.
Самоиронична сама «игра идентичностями», поскольку не имеет значения,«примеряет» ли человек в ситуации виртуальной коммуникации другиеидентичности или раскрывает собственную: в любом случае он проигрывает этиидентичности. А стало быть, даже если он не надевает маски, а разоблачает их, онвсе равно играет самого себя. Таким образом, его собственное «Я» является лишьодним из проигрываемых виртуальных персонажей. Самоощущение человека вситуации виртуальной коммуникации сродни опыту актера, который играет в фильмесамого себя. Пытаясь «сыграть» себя, человек изо всех сил старается быть самимсобой – и, как говорят актеры, переигрывает. Сверх-натуралистичность(гиперреальность) в презентации самого себя оборачивается отрицанием самойсконструированной идентичности. Субъект, закавыченный бесконечными играми сидентичностями, перевоплотившийся в череду виртуальных персонажей,одновременно как будто наблюдает за своей игрой со стороны и смеется над собой.Ирония тождественна самоиронии.
131Игровая социальность: правила и ритуалы виртуальной коммуникации
Виртуальная реальность играет человеком, порождая множественныеидентичности (виртуальных персонажей). Дистанцирование и игра с собственнойидентичностью превращает субъекта в персонаж. Персонаж, который/которымиграют. Смысл этой игры – в самой игре. Коммуникация ради коммуникации. Когдасубъект коммуникации упраздняется, коммуницирует сама коммуникация.
Выводы. Принципом осуществления коммуникативных практик и основойсоциальности виртуальной реальности является игра. В результате анализамеханизмов функционирования игровой социальности делается вывод о том, чтосоциальная виртуальная реальность является внеинституциональной, основываетсяна функционировании правил и ритуалов. Исследуя различные формы виртуальнойкоммуникации (чаты, сетевая литература, сайты знакомств), мы приходим к выводу отом, что основной коммуникативной стратегией в социальной виртуальнойреальности является ирония, которая неизменно обращается в самоиронию, что иопределяет весь стиль Интернета. Однако установленные нами характеристики изакономерности определяют не только сферу опосредованного компьютернымисетями взаимодействия, но экстраполируются и на практики повседневной жизничеловека в виртуализированной реальности.
Список литературы
1. Барт Р. Удовольствие от текста / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика;[Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова]. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. –С. 462-518.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. / Э. Берн; [Пер. с англ.под редакцией Н. Бурыгиной, Р. Кучкаровой]. – М.: Апрель Пресс, изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 640 с.
3. Бодрийяр Ж. Соблазн. / Ж. Бодрийяр; [Пер. с фр. А. Гараджи]. – М.: Ad Marginem, 2000. – 318 с.4. Песков Д. Н. Интернет-пространство: состояние премодерна? / Д.Н. Песков // Полис.- 2003. –
№ 5. – С. 46-55.
Дроботенко О.О. Ігрова соціальність: правила та ритуали віртуальної комунікації // Вченізаписки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія.Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 127-131.
Стаття присвячена визначенню принципів комунікативних практик у соціальній віртуальнійреальності та механізмів функціонування віртуальної соціальності.
Ключові слова: соціальна віртуальна реальність, гра, правила, ритуал, самоіронія.
Drobotenko O.A. The Game Sociality: Rules and Rituals of Virtual Communication // ScientificNotes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 127-131.
The article is devoted to the research of the communicative practices in social virtual reality and thefunctioning mechanisms of virtual sociality.
Keywords: social virtual reality, game, rule, ritual, irony.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 132-137.
УДК 1:316.774:316.64
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАСС-МЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИИ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Горбенко Е.В.
В статье рассмотрено взаимодействие средств масс-медийной коммуникации и массовогосознания, которое присуще человеку техногенного общества и в результате которого человекприобретает роль функции. Показано воздействие на индивидов основных разновидностей масс-медийной коммуникации: новостей, развлечения, рекламы. Дается вывод о роли масс-медиа наискусственное формирование индивида.
Ключевые слова: индивид, масс-медийная коммуникация, массовое сознание.
Целью данной статьи является исследование взаимодействия средств масс-медийной коммуникации и массового сознания в условиях техногенного общества.Актуальность обусловлена каждодневным воздействием на индивида средств масс-медийной коммуникации. Новизна заключается в отображении способоввоздействия на сознание индивида.
Техногенная цивилизация – это такое устройство и организация цивилизации,которое построено на примате покорения и реорганизации окружающей человекасреды посредством науки и техники. Это – так называемое индустриальноеобщество, главной чертой которого является крупномасштабное вторжение техникиво все сферы социума. Техника является наивысшим проявлением принципарациональности, лежащего в основе техногенной цивилизации. Техника исследует,преобразует, упорядочивает и создает свой собственный мир для удобногосуществования в нем человека. Техника усиливает естественные способностичеловека, превращая его в творца и вершителя судеб мира. В техногенном обществетехника внедряется во все области духовной и культурной жизни общества. Техникапроникает и в сферу массовой коммуникации, создав единое глобальноеинформационное общество. Мир, устроенный по законам техники, превращается вогромный механизм, главной функцией которого является стремление удовлетворитьсиюминутные потребности человека.
В мире, организованном как механизм, каждая отдельная его часть должнавыполнять только ей присущую функцию. Этой участи не избегают и люди. Пословам К. Ясперса: «Индивид распадается на функции. Быть означает быть в деле;там, где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена» [4, c. 309]. «Бытиечеловека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как производительнойединицы…» [4, с. 309]. Главной характеристикой человека становится деловитость,человек оценивается и определяется количеством умелых действий, которые онспособен и умеет совершать.
133Взаимодействие средств масс-мелийной коммуникации и массового сознания …
Такую же точку зрения разделяет и Г. Маркузе: «Техника и технологическаярациональность обеспечивают базис для прогресса, устанавливая ментальную иповеденческую модель производительного выполнения функции, что практическиозначает тождество цивилизации и «власти над природой»« [3, с. 80].
Не всякий человек способен и желает быть исполнителем определеннойфункции. Такой человек должен прагматически относиться к знаниям. Знания длянего не должны носить универсальный характер познания принципов бытия ипредметного разнообразия его воплощения. Общая повсеместная деловитостьтребует от человека простоты, понятности каждому, единых подобных и одинаковыхпроявлений поведения, единой моды, правил общения, жестов, манеры говорить. Ондолжен воспринимать вещи также, прежде всего, как функции, должен обладатьценностями потребителя этих вещей, прислушиваться к тому, что принятопотреблять и покупать в современном обществе потребления. Такой человек долженопределяться мнением большинства. Он не должен быть самим собой, не должендумать, обладать критическим мышлением.
«Человек–функция» – вряд ли эта формулировка является воплощениемподлинной природы человека, олицетворением лучших его качеств. Это – результатналичия в человеке в том или ином количестве и в той или иной степени массовогосознания, которым в социальной философии обозначается шаблонное,деперсонализированное сознание субъектов развитого индустриального общества,формирующегося под массированным воздействием средств массовой информации истереотипов массовой культуры. Образы реальности, складывающиеся в подобноммассовом сознании, существуют за пределами теоретической рефлексии ивоспринимаются их носителями как нечто естественное и самоочевидное, полностьютождественное настоящему положению дел. Основные установки массовогосознания представляют собой набор эмоционально-образных суждений о реальностии конкретно-практических моделей поведения.
Каким же образом в отдельном человеке формируются установки, присущиемассовому сознанию? Эти установки формируются с помощью средств масс-медийной коммуникации. В современном мире пространство медиа-коммуникаций –это среда существования индивида, иногда заслоняющая от него остальной мир идаже тождественная ему.
В данный момент – масс-медийная коммуникация вытеснила Слово какноситель Логоса Словом как орудием суггестии. Современная передача информациичерез аудео-видео ряд не только в понятийной, но и в образной форме способнасоздавать значительно более сильный суггестивный эффект, что находит своевыражение в современных рекламных технологиях. Возрастает акцент наразвлекательной функции искусства, свойственной массовой культуре.
М. Блюменкранц так описывает современную ситуацию: «Стены квартирпревратились в гигантские телеэкраны. Человек ускользает в мир сновидений и тампереживает самые сильные эмоции своего фантомного бытия. На смену духовнойреальности, встреча с которой требует постоянного личностного усилия, актасотворчества приходит хорошо накатанное эмоциональное скольжение в миревиртуальной мечты. Дефицит личностной реализации в жесткой и суровой
134Горбенко Е.В.
действительности компенсируется ложной самоидентификацией с жизньютелевизионных героев и звезд шоу-бизнеса» [1, с. 162].
По Н. Луману понятие «масс-медиа» – это «…все общественные учреждения,использующие технические средства для распространения сообщений(Kommunikation). Прежде всего, подразумеваются книги, журналы, газеты,изготавливаемые на печатном станке; а также результаты всякого рода фото- илиэлектронного копирования, в том случае, если массовые продукты производятся имидля еще не определенных адресатов. Распространение сообщений в эфире такжеподпадает под это понятие, если сообщения общедоступны, а не служатисключительно для телефонной связи отдельных участников» [2, с. 9].Следовательно, Н. Луман полагает, что только машинное производство какого-либопродукта, как носителя коммуникации, а не письменность как таковая, привело кобособлению особой системы масс-медиа.
Н. Луман в своей работе «Реальность массмедиа» дает простую и понятнуюклассификацию всех основных разновидностей жанров масс-медийнойкоммуникации. Это – новости, развлечения и реклама.
Мы привыкли к ежедневным новостям. Необходимость привнесения нового ииспользования его как аргумента в маркетинге проявилась в XVI столетии, – преждевсего в секторе развлечений и в производстве дешевой печатной продукции.Учреждение предприятия, основанного на ожидании, что печатная информациябудет поступать еженедельно, требовало мощного предпринимательского духа,оценки рынка, весьма рискованной, и организации, обеспечивающей получениеинформации. Серийное производство новостей является необходимым условиемналичия обмана, а именно, нужно было придумать адекватный стиль, который вотносительно незнакомых контекстах производил бы впечатление, будто нечто ужеслучилось, но случилось только что, а следовательно, не могло быть представлено внормальных временных формах ни прошлого, ни настоящего. Всеми средствамижурналистской стилистики – специально созданной для этого – должно былопробуждаться впечатление, будто только что произошедшее все еще остаетсянастоящим, все еще интересно и информативно. События должны получитьслучающуюся драматизацию – и раствориться во времени. Во времени, котороеначинает течь быстрее.
Реклама относится к загадочнейшим феноменам всей сферы масс-медиа. Онаманипулирует людьми, работает неискренне и предполагает, что это понимаютдругие. Реклама осуществляется с помощью психологических комплексно-воздействующих средств, которые стараются обойти склонную к критикекогнитивную сферу. Осознанное внимание привлекается на крайне короткое время,так чтобы не осталось времени на критическую оценку и продуманное решение.Дефицит времени компенсируется яркостью. Для этого масс-медиа обращаются кэстетическому пониманию красоты и берут на вооружение прекрасное. Ведьпрекрасное – это целесообразность без цели, оно не служит никакой функции, неявляется чем-то полезным, утилитарным. «Прекрасная форма», в которой предстаетрекламный товар, сбивает с толку воспринимающего рекламу. Реклама использует
135Взаимодействие средств масс-мелийной коммуникации и массового сознания …
систему намеренных напоминаний, что есть что-то, что можно купить. Никто необманывается относительно цели рекламы и мотива ее сообщений.
Скорее можно предположить обратное: именно в силу того, что рекламодательоткрыто заявляет о своем рекламном интересе, он с меньшим стеснением можетобращаться с памятью и мотивами поведения того, кому предлагается реклама.Рекламная техника нацелена на внедрение противоположного мотива. К важнейшимскрытым функциям рекламы относится формирование измененного вкуса у людей,его не имеющих. Создается символическое качество объектов, кроме всего прочего,выражаемое, пусть и не полно, также и в их цене. С помощью их функций можнообеспечивать себя гарантиями правильности выбора там, где покупатель не имеет всвоем распоряжении собственных критериев.
Развлечение, вне всякого сомнения, является частью современной культурысвободного времени, ему вверяется функция уничтожения лишнего времени.Современный роман и его новая версия телевизионный роман – сериал какхудожественная форма и выводимые из этого формы художественного вымысла,повествующие об увлекательном развлечении, рассчитаны на индивидов, которыеуже не выводят свою идентичность из своего происхождения, но формируют ееякобы сами. Модерная открытая, опирающаяся на «внутренние» ценности и гарантиисоциализация берет свое начало среди буржуазных слоев в XVIII столетии. Сейчасэто неизбежно, что всякий, едва родившись, обнаруживает себя в виде кого-тотакого, кто еще только должен определить свою индивидуальность или долженпозволить ей определиться по правилам некоей игры. Тогда становится весьмасоблазнительным испробовать виртуальные реальности на себе самом, по меньшеймере, в воображении. Воплотившаяся в романе форма нарративного развлеченияныне уже не является определяющей. По меньшей мере, со времени распространениятелевидения и наряду с ним укоренилась вторая форма, а именно, разновидностьпредставления в высшей степени личного опыта. Известные личности предстают наэкране в качестве какого-то зримого образа, им задают вопросы, расспрашивают их оличной жизни.
Дифференциация типовых программ прорисовывает формы, в которыхсовременное общество предоставляет в распоряжение масс-медийной коммуникациииндивидуальные мотивационные состояния. Речь идет о том, как в коммуникациирассматривается приписывание индивидам их мотивов.
Новости и репортажи предполагают наличие индивидов в качестве когнитивно-заинтересованных наблюдателей, которые лишь принимают к сведению то, что имдемонстрируют. Вместе с тем, масс-медиа компенсируют эту гипотетическуюпассивность благодаря тому, что они атомизируют отдельных акторов, о которых онисообщают, представляя их причинами собственных действий. Зрителя удерживают оттого, чтобы он делал выводы о самом себе. Тем самым подчеркивается его пассивнаяроль как одного из многих миллиардов.
Реклама полагает индивида в качестве существа, калькулирующего свою пользу.Предполагаемое мотивационное состояние, несмотря на свое единообразие, льститиндивиду, поскольку описывает его как хозяина над своими собственнымирешениями, т. е. как выразителя только своих собственных интересов.
136Горбенко Е.В.
Здесь можно перейти к дополнительной гипотезе об отношении между масс-медиа и индивидами. Каждый человек существует, прежде всего, как конкретныйиндивид, т. е. отличается от других людей своей внешностью, именем и другимипризнаками. Отличие собственного Я от других индивидов дано человекуизначально, с самого рождения. Любой изначально является тем, кем он является.
Но в определенный момент у индивида возникает проблема собственнойидентификации. И здесь он обращается к опыту других. Сначала он его черпает изсвоего непосредственного окружения, затем, когда список доступных для негопримеров исчерпан, индивид понимает, что он может обратиться к опыту,запечатленному средствами различных масс-медиа (их выбор зависит от конкретно-исторической ситуации, в которой находится человек). Подобно театру, масс-медиапомещают индивида на сцену, но вне всякого спектакля или постановки. Масс-медиапорождают мир, в котором индивиды обнаруживают самих себя. Это относится ковсем программным секторам: к новостям, рекламе, развлечениям. Например, Н.Луман уточняет свою позицию: «То, что им предлагается, затрагивает,следовательно, и их, ведь именно в этом мире они должны проживать свою жизнь; иэто касается их даже тогда, когда им отлично известно, что сами они никогда непопадут в те ситуации и никогда не будут играть те роли, которые им – какдействительные или фиктивные – презентуются. Вместо этого им остаетсявозможность идентифицировать себя с культовыми объектами или мотивами,которые предлагают им масс-медийные скрипты. Индивиды, воспринимая масс-медиа как текст или образ, существуют вне их реальности; переживая в себе ихвоздействия, они существуют внутри нее. Они неизменно вынуждены колебатьсямежду «вне» и «внутри», причем в парадоксальной ситуации: быстро, почти не теряявремени, будучи не в состоянии принимать решения. Ведь всякая позиция возможналишь благодаря другой – и наоборот» [2, с. 178-179].
Выводы. В современном глобальном мире средства масс-медийнойкоммуникации берут на себя функцию воспитания, которая раньше осуществлялась,прежде всего, в семье или в тех коллективах, в которых индивид находилсянепосредственно. Именно, масс-медиа вкладывают в сознание индивида спектржеланий, присущих данному обществу, они вкладывают систему ценностей,необходимых для функционирования индивида в современном обществе, ониотвлекают человека от размышления о самом себе, о том, кто он есть, кем он хочетбыть, о путях выбора своего жизненного пути и предлагают ему всевозможныеварианты самоидентификации. Они не оставляют времени индивиду понять, чтосвою идентичность он может конструировать только сам. Не существует никакойнеобходимости перенимать свое «Я» по аналогии извне. Никто не может бытьдругим, а не самим собой. Никто не сможет воспринять себя полным отображениемдругого. Никто не должен быть просто механизмом и выполнять навязанныефункции.
Но, с другой стороны нельзя утверждать, что это состояние является следствиемименно оснований техногенной цивилизации. Техника предлагает способыреализации интересов людей. Таким образом, именно люди, создающие масс-медиа,выбирают для чего им использовать технику. В свою же очередь, люди,
137Взаимодействие средств масс-мелийной коммуникации и массового сознания …
потребляющие «продукцию» масс-медиа, занимают пассивную позицию и нетребуют от масс-медиа удовлетворения своих личных запросов и интересов. Насамом деле, проблемы и парадоксы, возникающие в столкновении человека стехногенной средой, могут быть отнесены исключительно к человеческомумышлению.
Список литературы
1. Блюменкранц М. Глобальные проблемы современного культурного процесса / М.Блюменкранц // Вопросы философии. – 2007. – № 5. – С. 160-164.
2. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман; [Пер. с нем. А. Ю. Антоновского]. – М.: Праксис,2005. – 256 с.
3. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитогоиндустриального общества / Г. Маркузе; [Пер. с англ. А.А. Юдина]. – М.: ООО «Издательство АСТ»,2003. – 526 с.
4. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.
Горбенко О.В. Взаємодія засобів мас-медійної комунікації та масової свідомості як необхіднавимога техногенної цивілізації // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 132-137.
У статті розглянута взаємодія засобів мас-медійної комунікації та масової свідомості, якепритаманне людині техногенного суспільства та в наслідок якого людина набуває роль функції.Показана дія на індивідів основних різновидів мас-медійної комунікації: новин, розваг, реклами.Робиться висновок про роль мас-медіа на штучне формування індивіда.
Ключові слова: індивід, мас-медійна комунікація, масова свідомість.
Gorbenko E. The interaction of mass-communication and mass consciousness as necessary conditiontechno-genic civilization // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy.Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 132-137.
The article examined the interaction of mass-communication and mass consciousness, which inherent inman of the techno-genic society, in which a person acquires the role of the function. The following effect on theindividual main varieties of mass-media communication have been mentioned: news, entertainments,advertising. The conclusion about the role of mass-media on the artificial formation of semi-individual.
Keywords: individual, mass-media communication, mass consciousness.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 138-143.
УДК 1:37
ТЕХНИКИ МЫШЛЕНИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Дольская О.А.
Статья посвящена проблеме мышления в современной парадигме образования. Установка назаконодательность разума и диалектическую технику мышления, которые были характерны дляобразования Нового времени, неприемлема для современности. Мышление опирается на многообразныетехники, что ведет к утверждению гетерогенности разума в современном образовании.
Ключевые слова: мышление, рациональность, образование, рефлексия, гетерогенный разум.
Актуальность. Современная «компетентностная» парадигма образованиятребует нового типа мышления. Диалектическая техника сталкивается спарадоксальной ситуацией, при которой происходит ее деконструкция. Опираясь наметодологию Рорти, Рикера, Гадамера, возможно говорить об интерпретационнойтехнике мышления. Цель - показать, что «компетентностная» парадигма «задает»совершенно новую организацию знаний в виде умения соединять в один ряд такиеданные, которые в принципе считались несоединимыми.
Ясперс, описывая разные техники мышления, подчеркивал следующуюособенность мыслительного процесса: «Даже если мы сознательно выберем новыетехники мышления, неожиданно можно увидеть цепляние за наши старые привычкимышления, которые неожиданно заставляют нас мыслить по-старому, даже если мыуже преодолели это в нашем сознании» [1, с. 94]. Смыслы (вещей, процессов,явлений) при таком типе мышления выведены из юрисдикции рефлексии ипринимаются «на веру». Ученик привыкает к устойчивым, готовым представлениямо реалиях мира, он предвосхищает смыслы, а его вхождение в реальный мирограничивается усвоением некоего объема культурных смыслов и умениемоперировать ими. Такая ситуация является следствием классической картезианскойобразовательной парадигмы образования Нового времени, в которой освоение мирапроисходит с опорой на единственно верный логико-математический метод. Приэтом ученик пытается в процессе обучения и в его результате как можно более точновоспроизвести полученный материал от учителя. Это приводит к тому, что встреча смиром культурных смыслов уже как бы предугадана, а мышление нацелено на то,чтобы как можно точнее повторить ход, движение мыслей учителя, учебника.Образовательная картина мира индустриального общества складывается «не столькоиз знаний материала отдельных наук, сколько из обучения специфическомумышлению в отдельных предметных сферах» [1, с. 94].
Ясперс различает такие техники мышления, как схоластическую,экспериментальную и диалектическую [2]. Для первого правильным и,следовательно, характерным является недопустимость противоречий в мышленииотносительно того, что не противоречит само себе. Экспериментальная техникамышления в центр своего внимания ставит не феномен, а связь. Поэтому вмышлении конструируются всевозможные связи, осуществляется их опытная
139Техники мышления в новой парадигме образования
проверка на истинноть. Мышление этого типа возможно представить каквзаимодействие теории и практики, причем теория выступает двигателем мысли.Наконец диалектическая техника основывается на противоречиях, в которыхрациональное мышление осуществляется с учетом исключения одной из ее сторон.Такая техника мышления использует метафору борьбы нового со старым.
Действительно, диалектическая техника мышления дает возможность обеспечитьцелостность охвата интересующего явления. Но при этом диалектическая техникамышления, представленная, например, марксистской парадигмой, игнорируетважные в социологическом плане моменты соотношения формальных и смысловыхсторон нового, которое предстает как результат предшествующего развития,подчиненного логике отрицания отрицания. Хабермас замечает, что эта схемаработает во всех исторических эпохах, кроме современностит: «Современность ужене получает от предыдущих эпох образцы для ориентации и задаваемые имимасштабы. Она представлена исключительно самой себе и должна черпать своюнормативность из самой себя» [3, с. 62].
Однако мышление преобразовывается, появляются новые его техники. Так,Рорти говорит об интерпретационной технике мышления. В ее основе лежит принципрационального соглашения относительно разногласий. Он настаивает на том, чтоесть некие общие основания для конструирования знания, эпистемологии. Имивыступает – «общая для всех рациональность» [4, с.235]. Для подтверждения наличиятаких общих оснований он проводит параллель между нормальным и анормальнымдискурсом. «Нормальный дискурс – это то, что происходит в рамках множествапринятых всеми конвенций о том, что считать относящимся к делу рассмотрением,что считать ответом на вопрос, что считать хорошим аргументом в пользу такогоответа или его обоснованной критикой. «Анормальный» дискурс – это то, чтослучается, когда человек, не ведающий об этих конвенциях или оставляющий их безвнимания, присоединяет их к дискурсу… Результатом анормального дискурса можетбыть все, что угодно: от полной бессмыслицы до интеллектуальной революции, иникакая дициплина не может описать этот дискурс, как нельзя описатьнепредсказуемое или «творческое» [4, с. 237].
В качестве названия для нахождения нового способа вести разговор Рортипредлагает термин «наставление». Для образования он не является новым, но смысл,который мы будем в него вкладыват несколько иной. Рорти пишет, что наставлениеможет заключаться в герменевтической деятельности по установлению связей междунашей собственной культурой и иной, или «между нашей собственной дисциплинойи другой дисциплиной, которая, как нам кажется, преследует несоизмеримые снашими цели в несоизмеримом с нашим словаре. Наставительный дискурспредполагается быть анормальным, призванным вытащит нас из нашего старого Ясилой непривычности для того, чтобы помочь нам в становлении новых существ» [4,с. 253].
С опорой на эти методологические подходы мы можем говорить о формированииновой техники мышления, которая основана на способности видеть не типичное, непредзаданное в явлениях, процессах и событиях, на культивировании необычного,отличного от стереотипного. Отсюда и особый настрой к противоположному. Вновой технике мышления речь уже не идет о его уничтожении (отрицании) илипеределывании, теперь его необходимо заметить и соотнести с остальным миром.
140Дольская О.А.
При этом акценты необходимо ставить на изменчивости как существенном элементемира. По сути, речь идет о деконструкции диалектического мышления. Стоя наодной позиции с Гадамером, Рорти настаивал на том, чтобы образование не былосведено только к обучению результатам «нормального» исследования. Задачаобразования сводится к переописанию себя, предстает и открывается неожиданно, внепредсказуемых ситуациях: как столкновение с парадоксальным. Такое мышлениеприсутствует в методике школы диалога культур Библера.
Концепция действия представителя франкфурткой школы Э. Гидденсараскрывается с позиции социологии процесса как беспрерывного потока поведения,как течение непредвиденных причин, как вклинивание живых существ вбесконечный поток событий в мире. Человеческое действие всегда окрашенорациональностью, под которой Гидденс понимает «умение индивида находить иобъяснять самому себе прицины и цели действия» [5, с. 200]. Под рационализациейдействия он понимает процесс, который внутренне присущ акторам, и которыйпредставляет собой «согласие участников взаимодействия относительнокомпетенции каждого», а также способность поддерживать постоянное«теоретическое понимание» оснований своей деятельности [5, с. 201].
Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» дает характеристикусовременной философии высшего образования для постиндустриального общества.Между собеседниками в процессе поиска истины создается некий горизонтконсенсуса. В создавшемся пространстве поиска истины присутсвуют специалист итот, который выступает в роли получателся его высказывания, который также можетстать отправителем – партнером по коммуникации. Без обсуждения «становитсяневозможной проверка его высказывания, компетенция без обновления такжестановится невозможной. В таком споре не только истинность его высказывания, носама его компетенция ставится под вопрос, поскольку она не является нечто раз инавсегда приобретенное, а зависит от того, считается или нет в кругу равныхпредложенное высказывание чем-то подлежащим обсуждению посредствомдоказательств и опровержений. Истинность высказывания и компетенциявысказывающегося зависят…от одобрения коллектива равных по компетенции.Следовательно, нужно формировать равных» [6, с. 376], – делает вывод Лиотар.
Возможность обеспечения такого «воспроизводства» компетентных людейЛиотар отводит дидактике, отталкиваясь при этом от следующих позиций. Во-первых, получатель высказывания – студент – не знает того, что знает преподаватель(отправитель) и ему, следовательно, необходимо учиться. Во-вторых, он можетвыучиться и стать таким же экспертом того же уровня компетенции, что и учитель.Из этого вытекает третья установка. Существующие высказывания, о которых ужесостоялся обмен мнениями, аргументами, доказательствами и которые считаютсядостаточными, могут передаваться в процессе обучения в том виде, в каком есть, какне подлежащие более обсуждению истины [6, с. 376]. Однако в процессе обученияпроисходит наращивание компетенции, и преподаватель «может дать ему (студенту)знать о том, что он не знает, но хочет узнать. Так студент вводится в диалектикуисследования, т.е. в игру формирования научного знания» [6, с. 376].
Лиотар развивает тему невозможности легитимации знания в направлениипоиска универсального консенсуса, как это предлагал Хабермас [6, с. 386]. Вусловиях культуры постмодерна, считает он, консенсус – это не конец дискуссии, а
141Техники мышления в новой парадигме образования
ее состояние, представленное настоящим временем, т.е. событием. Луман как бывторит ему, предполагая, что в современном мышлении несколько иные приоритеты.В диалектике акцент ставился на движении. Но понятие движение теряет своюфундаментальную роль, если основополагающее различение «прежде / после»заменено на оппозицию «прошедшее / будущее». Он утверждает, что нет никакого«движения» из прошедшего через настоящее в будущее, а позиция, котораяотводилась раньше движению, теперь отводится настоящему [7, с. 205]. Теперьнастоящее включает в себя и прошедшее, и будущее, не будучи ни тем, ни другим.
В современном обществе консенсус устарел, зато пришло время признаниягетероморфности языковых игр, время отказа от террора, к которому прибегали впериод индустриального общества. В этом проявляется ограниченность научногознания (и, как следствие, научной рациональности) для современного пониманияситуации. Лиотар сравнивает прагматику научного знания и прагматикунарративного знания, отмечая следующее:
1. Научное знание требует выбора одной из языковых игр и исключения других.Любое истинное высказывание, высказанное специалистом-экспертом (с учетомверификации и фальсификации), принадлежит ученому.
2. Такое знание оказывается изолированным от других языковых игр, сочетаниекоторых оформляет социальную связь. А это свидетельствует о том, что данный видзнания не является более непосредственной и общепринятой составляющей, чтоприводит к проблеме противопоставления научных институтов – обществу.
3. Научное знание само по себе всегда находится в опасности «фальсификации»,т.к. требуемая для понимания научного знания компетентность обращена только настатус высказывающегося. Поэтому, в отличии от общепонятных высказываний тогоже референта, его научное высказывание не может «вписаться» в языковую игрузнаний ненаучного характера, ибо для каждой игры и их игроков существуют рамкиспецифических правил [6, с. 377]. Нарративное знание не придает особого значениясвоей легитимации, т.к. подтверждает себя через передачу своей прагматики [6,с. 377]. Поэтому научное знание просматривается всего лишь как одно изсоставляющих нарративной культуры.
4. В эпоху постмодерна меняется не только отношение к научному знанию, но исмысл слова «знание», т.к. оно производит не известное, а неизвестное знание.Постмодернистская наука «внушает модель легитимации, не имеющей ничегообщего с моделью наибольшей результативности, но представляющую собой модельразличия, которое понимает как паралогию» [6, с. 382]. Паралогия понимается им какдифференцирующая деятельность или как воображение [6, с. 386]. Лиотар выдвигаетжесткое, но обоснованное требование к постмодернистской научной прагматике:принимать паралогию, т.к. она способствует производству новых идей, творческомувдохновению, отказу от стереотипного мышления [6, с. 386]. Эпоха постмодерна«задает» совершенно новую организацию знаний: умение соединять в один ряд такиеданные, которые в принципе считались несоединимыми. Именно такой процесс иполучает у Лиотара наименование «воображение».
Постановкой рефлексии учащегося в центр поисковых истин преодолеваетсяформализм разума. Теперь в центре внимания находится рефлексия. Луман,настаивая на преодолении формализма разума и идеализма «Я», писал, что этовозможно, если мы «возведем рефлексию в высшую степень» [7, с. 197]. Возникает
142Дольская О.А.
вопрос, какой должна быть рациональность современного мира и на какой идеалразума должно опираться мышление?
Выводы. Современное мышление необходимо рассматривать как такое, в основекоторого лежит идея гетерогенного разума, для которого при получении знанияимеет значимость не только научная рациональность, но и ее разнообразные типы. Вобществе риска воспитание и образование, которые были унаследованы от проекта«Модерн» с четко определенными целями и указаними, уже не в полной мереотвечают реалиям постиндустриальных трансформаций. Особенностямисегодняшнего дня становится то, что эти реалии скрывают в себе моментнепредвиденности. Луман комментирует это так: «педагогика должна быть такой,чтобы она могла готовить своих учащихся к встрече с новым будущим, котороеостается неизвестным…, поэтому обучение получения знаний необходимо заменитьна обучение принятия решения» [8, с. 199]. При этом одна из существенныхкатегорий, которая должна быть в центре внимания педагогики – это категория«решения» или «выбора».
Именно на такой тип рациональности опирается критическая педагогикаП. Макларена, который стремится определить, как отношения между властью,привилегиями и идентичностью отображаются в повседневной жизни массовойкультуры. Так конструируется логика повседневной жизни в ее постмодернистскойинтерпретации [9, с. 13]. При этом Макларен ссылается именно на Лиотара иподчеркивает, что употребляет термин «логика» в наиболее значимом смысле – какразрыв гомогенизирующей логики гранднарративов западноевропейской мысли. Онуказывает на масштабное употребление образов, мифов, которые возникают врезультате расширения сферы влияния капитала, и которые проводят пограничнуюлинию между высоким и массовым искусством. Он предлагает отказаться от истины,которая основывается на трансцендентальной реальности. Критическая педагогикапомогает ученикам разобраться с тем, как они действуют: с целью воссозданиярепрезентаций значений, воссоздания идентичности, или, наоборот, осознать, чтоидентичность создает наши действия. Макларен пишет: «Жить как критическимыслящий социальный агент – означает знать, как жить непредвиденно и временно,без уверенности знания истины и одновременно мужественно» [9, с. 15].
На аналогичной позиции стоит и Фрейре, критически относясь ктехнократическому подходу в решении проблемных вопросов. Он считает, что поискиз проблемной ситуации необходимо осуществлять исключительно на основекритического мышления [10].
На основе удивления и «взрыва» от столкновения смыслов вырастает и особыйметод современного образования – виртуалистика. Т.к. реальность строится намножественности смыслов, миров, которые, с одной стороны, не сводятся один кдругому, а с другой, – взаимосвязаны, идея виртуалистики сопряжена с совершеннонепривычной техникой мышления. Категория «виртуальность» заставляет по-новомуоценить устоявшееся представление об объективности и субъективности,возможности и действительности, потенциальности и актуальности. Ученик наоснове рефлексии своего опыта, знаний и культуры другого (или смыслов другого),выстраивает «возможные» миры, в которых происходит столкновение двух и болеемиров, культур. В такой ситуации ученик оказывается перед выбором возможногознания как со-бытия сопряженных миров. Обучаясь строить возможные миры,
143Техники мышления в новой парадигме образования
ученик приобретает образовательную компетентность, способность осмысления мирас позиции разных техник мышления. Как результат, можно сделать вывод:современное образование немыслимо без учета присутствия в нем разнообразныхтехник мышления. В этом и состоит важная особенность современности, которой всеболее характерен гетерогенный разум.
Список литературы
1. Култаєва М. Ідеально-типові конструкциї філософського мислення / Култаєва М. //Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 83 – 94.
2. Ясперс К. Техніки мислення / Ясперс К. // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 95 – 103.3. Habermas J. Die Krise des Wohlfahrstaates und die Erschupfung utopischer Energien / Habermas J. //
Philosophie als Zeitdiagnose. – Darmstadt: Ruprecht 1991. – S. 62 – 84. (№ 304).4. Рорти Р. Философия и зеркало культуры / Рорти Р.; [научн. ред. изд. и пер. с англ.
В.В. Целищев] – Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1997. – 296 с.5. Култаєва М.Д. Європейська теоретична соціологія ХХ-ХХІ століття: навч. пос. / Култаєва
М.Д., Навроцький О.І., Шеремет І.І. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008 – 328 с.6. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Лиотар Ж.-Ф. // Постмодерн в философии, науке, культуре:
хрестоматия; [сост. В.И. Штанько, И.З. Цехмистро, В.Н. Сумятин] – Харьков, 2000. – С. 369 – 386.7. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Луман Н. // Социо-
логос: Социология, антропология, метафизика; [пер. с англ., нем, фр.] – Вып. 1: Общество и сферысмысла; [сост. и ред. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова]. – М.: Прогресс, 1991. - 480 с.
8. Luhmann N. Das Erziehungessysten der Gesellshaft / Luhmann N.– Frankfurt am Main, 2004. – 232 S.9. McLaren P. Critical Pedagogy and Predatory Culture / McLaren P. – London, N. Y., 1995. – 198 р.10. Freire P. Prefase // McLaren P. Critical Pedagogy and Predatory Culture. – London, N. Y., 1995. – P. ix – xi.
Дольська О.О. Техніки мислення в сучасній парадигмі освіти // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія.Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 138-143.
Стаття присвячена проблемі мислення в сучасній парадигмі освіти. Установка на законодавчийрозум та діалектичну техніку мислення, які були характерними для освіти Нового часу, не працюють усучасності. Мислення спирається на різноманітні техніки, що веде до ствердження гетерогемностірозуму.
Ключові слова: мислення, раціональність, освіта, рефлексія, гетерогенний розум.
Dolska O.О. The Technology of the thinking in modern paradigm of the education // Scientific Notesof Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 138-143.
The Article is dedicated to problem of the thinking in modern paradigm of the education. Installation onlawgiver’s reason and dialectical technology of the thinking, which were typical of formation of New time,unacceptable for contemporaneity. The Thinking rests in multiform technology that leads to statementheterogeneous reason in modern formation.
Keywords: thinking, rationality, formation, reflection, heterogeneous reason.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 144-152.
УДК 316.344.42.000.141
ПРОБЛЕМА ЭЛИТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Зиннурова Л.И.
В статье предпринята попытка переосмыслить понимание элиты и элитарности в современноммире и выделить функции современной элиты и возможный механизм ее формирования.
Ключевые слова: элита, элитарность.
Целью настоящей статьи является выявление механизма формированиясовременной элиты и функций элиты в современном обществе. Современная эпохаприбывает в состоянии глубокого кризиса, и это – констатация ситуации, ненуждающаяся в доказательствах. Понятно, что мыслители современности, философы,писатели, политологи, крупные ученые глубоко обеспокоены и озабочены поискомвыхода из кризисного состояния, потому что на кону жизнь и существованиечеловечества и Земли. Первое, что выдающиеся умы человечества предприняли, это– внедрение в общественное сознание понимания серьезности и опасностисложившегося положения вещей. Написаны глубокие и вместе с тем впечатляющиепо форме работы, само название которых заставляет задуматься: «Конец истории ипоследний человек» Ф. Фукуямы, «На пути к сверхобществу» А.А. Зиновьева,«Великий разрыв» Ф. Фукуямы, «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона,«Высокая технология, глубокая гуманность» Дж. Нейсбита.
В этих работах помимо анализа состояния современного общества предлагаютсяи возможные варианты выведения человечества из тупика, и среди них, если не явнопреобладает, то, по крайней мере, везде присутствует идея создания некоегосообщества, группы выдающихся людей, способных глубоко осознать ситуацию,увидеть перспективы выхода и повлиять на тех, от кого зависит принятие иреализация решений.
Существуют уже и попытки создания таких сообществ, среди которых,безусловно, наиболее интересным и перспективным является Римский клуб –сообщество ученых и предпринимателей, которые предложили программупреобразования общества и попытались вовлечь в ее реализацию правительстваевропейских стран, обращаясь к ним за содействием и апеллируя к пониманию.
Но окажется ли такая простая схема: «Международное сообщество ↔правительство» эффективной? Общеизвестно, что правительство любой странырешает прежде всего задачи политического и экономического характера, а Римскийклуб в качестве приоритета выдвигает то, что касается воспитания, образованиялюдей, связанных с областью морали, психологии. Мораль и политика если ненесовместимы, то, по меньшей мере, довольно далеки друг от друга.Безнравственность современной экономики – общеизвестный факт. Экономика
145Проблема элиты в современном обществе
перестает быть нравственной, когда она начинает производить то, что не связано сдействительными потребностями людей.
Правительства в подавляющем большинстве случаев состоят из людей, не всегдаспособных понять и тем более принять глубокие мысли, идеи, многие из которыхкасаются чаще перспективы, а не сиюминутных обстоятельств. Политики несправятся с задачей оздоровления общества и людей, прежде всего в силу ихнеукротимой жажды власти, которая чаще всего принимает иррациональныйхарактер. К тому же, приобретая вожделенную власть, они деформируются истановятся опасными. Нельзя не согласиться с Э. Фроммом, что «главнойопасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек,наделенный необычайной властью» [1, с. 20].
Сообщество выделяющихся людей, способных повлиять на ситуациюсовременности, по всей вероятности, должно включать деятелей искусства ирелигии, философов, поскольку характер ситуации определяется не столькоэкономикой и наукой, сколько состоянием культуры. Поэтому сообщества, о которыхидет речь, могут быть представлены культурной элитой.
Вряд ли кто-либо будет оспаривать положение, согласно которому развитиеобщества любого масштаба осуществляется посредством выделения лидеров, элиты,за которыми идут массы. Раньше фундаментальные процессы в развитии обществаинициировались создающими культуру элитами.
Элита – от французского elite – лучшее, отборное; от латинского – eligo –выбираю – высший привилегированный слой в обществе. Обычно выделяютполитическую элиту, административную, экономическую, военную, религиозную,научную, культурную.
В БСЭ (Большая Советская Энциклопедия) элита определяется как лучшиепредставители общества или какой-либо его части, как группа лиц, осуществляющаяправление (правящая элита). Идея о том, что элита – необходимый слой в обществе,осуществляющий функции управления, развития науки, культуры постепенновызревала в общественном сознании усилиями Пифагора, Платона, Макиавелли, Т.Карлейля, Ф Ницше, которые осмыслили глубокие исторические переломы и сумелиразглядеть в них ведущую роль элиты.
Но теории элиты были явно сформулированы лишь в ХХ веке В. Парето,Г. Моска, Ч.Р. Миллсом. Обозначились макиавеллиевский вариант (Дж. Бёрнхам),ценностный (Ла Валетт), структурно-функциональный (Р. Даль, С. Келлер),неоэлитизм (Т. Дай, Х. Цайглер). Возникли теория конкуренции открытых элит(Манхейм), теория плюрализма элит (Р. Даль), идея консенсуса элит относительносуществующей политической системы (Т. Дай, Х. Цайглер). Среди элитсущественными полагали: политическую, экономическую, административную,военную, идеологическую; они уравновешивают друг друга и предотвращаютвозникновение тоталитаризма. Согласно теории элиты любой человек, обладающийвыдающимися способностями в экономике, политике, идеологии, может приизвестном везении войти в элиту.
Лидерство, элитарность в истории базировалось на разных, важных в ту илииную эпоху, человеческих качествах. Сначала это была физическая сила, мужество,
146Зиннурова Л.И.
смелость, храбрость, временами хитрость, умение распознавать человеческиеслабости и манипулировать ими; затем ум, мудрость, интеллект. По мере усложненияобщественного устройства в качестве базы для лидерства, элитарности все большевыступает богатство, преуспевание, деньги. С ростом техническихусовершенствований почти напрочь исчезает такое базовое качество элитарности,как физическая сила. Формируется элита, которая напрямую связана спроисхождением, родословной. Затем знатность и родословность уступают местоденьгам со всем их всевластием. С помощью денег можно поставить себе на службуи силу, и интеллект, и хитрость, и все, что связано с их существованием икультивированием.
Власть денег не ведет ни к счастью, ни к прогрессу как показателю гуманности вчеловеческом обществе. Напротив, она все очевиднее увлекает человечество кпропасти небытия. Понимание этого и приводит к необходимости переосмыслениялидерства и элитарности. Это и произошло в эпоху Возрождение, когда элитарностьначинает основываться на интеллектуальном, творческом, художественном и даженравственном качествах. Человек, начиная с Реформации и Возрождения, суважением относится к авторитету ученых, философов, историков, помогавшим емуформулировать его собственные убеждения и обретать уверенность в собственныхубеждениях. Выдвижение в центр общественного развития науки и техникиобусловило идею Ф.Бэкона о технократической и наукократической элите,существенными качествами представителей который являются интеллект,рациональность, творчество. В качестве элиты в эпоху Возрождения и Новоговремени предполагается духовенство, художественно-творческое и научноесообщество или их симбиоз, что нашло свое выражение в социальных утопиях Т.Мора, Т. Кампанеллы и того же Ф.Бэкона.
В эпоху Просвещения элиту аристократически-родовую и религиозно-духовнуювсе более оттесняет философско-научная, художественно-творческая элита, где нетместа духовенству. Авторитет в общественном сознании Франции и Европы XVIIIвека в конечном счете принадлежит исключительно философам, ученым,художникам. Это длилось не долго, но было весьма впечатляющим. Такая элита нестала и не могла стать правящей, она могла претендовать лишь на авторитет. XIX векпо инерции сохраняет элитарность, основанную на интеллектуально-творческомначале, но развитие науки и техники обеспечили торжество капитализма, власти иавторитета денег, богатства. Большую роль все больше демонстрирует политика, ивсе это оттеснило на задний план превосходство интеллектуально-художественное. Иболее того, власти денег были подчинены авторитеты в области духа и интеллекта,которые превратились из властителей и кумиров общества в лакеев новых хозяевжизни.
Бывшие кумиры вытесняются на периферию и превращаются в «лишних людей»,переживают «горе от ума» от своей исключительности, что случилось в России.Вспомним знаменитое: «угораздило же меня родиться с талантом и умом в России».Элитарность и обладание реальной властью расходятся все дальше, более того,элитарность в прежнем понимании как авторитет образованности, духовности итворчества девальвируется. Отчасти это связано с широким распространением
147Проблема элиты в современном обществе
образования, но более всего с возвышением значимости и всесилия денег, капитала.Власть и деньги объединяются до полного отождествления, а во имя их достиженияне брезгуют ничем.
Правящая элита, предполагающая высокое положение в обществе наиерархической лестнице социальных позиций, активность, контроль над ресурсами,богатство, известность, популярность, влиятельность в обществе, исключительнуюроль в принятии решений, формируется из богатых людей или с их ведома.
В ХХ веке произошли резкие качественные сдвиги в социальном развитии, врезультате чего традиционная социальная структура общества с устойчивойиерархией и господством просвещенной элиты уступила место обществу, в которомна власть начинают претендовать массы. Это прозорливо заметили и осмыслили К.Манхейм и Х. Ортега-и-Гассет. Произошло то, что было названо Х. Ортега-и-Гассетом «восстание масс». Теории элиты начали размываться.
В конце ХХ века видный философ А.А. Зиновьев отметил еще один чрезвычайноважный аспект размывания современных теорий элит – способ образованияиндивидуализированной элиты общества, который «исключает проявление в нейличностей, аккумулирующих в своем внутреннем мире (сознании, менталитете, вдуше) достижения культуры, нравственности, интеллекта. Отобранные в нееиндивиды общеизвестны… Но они лишь социальные символы, они еще более пустывнутренне, чем обезличенные миллионы» [2, с. 476].
Элиту составляют известные, видные люди: президенты, министры, короли,управляющие банков, экономических империй, артисты, спортсмены, гангстеры, топ-модели, но они лишь символы. Причины такой элитарности – чрезмерное развитиеиндивидуализма, «Я – цивилизации», конечным результатом которой и явился мирбезликих величин. Сложились возможности управлять и руководить механизмами иобщественными системами для миллионов серых безликих людей. А.А.Зиновьевприводит блестящую аллегорию: управлять автомобилем, над которым трудилисьгении и таланты, может любой посредственный человек, который часто не знаетустройства и принципа действия автомобиля. Но серости не только сели за рульавтомобиля, а стали министрами, президентами, в той же мере не знающие объектсвоего управления, который несоизмеримо сложнее самого хитроумноготехнического устройства.
Издержки широкого распространения информации, расширение и ростобразования, демократизация общественной жизни, безусловно, привели к такомуположению вещей. «Существуют три пути выделения индивидуализированнойличности из мира безликих величин: власть над другими людьми, богатство ивыдающиеся личные способности» [2, с. 480], – считает А.А. Зиновьев.
У большей части людей нет претензий и желания на то, чтобы статьинтеллектуальной элитой человечества. К тому же развитие компьютернойтехнологии в массе сводится к развлечениям. Компьютеры в массовомиспользовании примитивизируют поведение, интеллект, создавая видимостьинтеллектуального развития и снижая сенсибилизирующую сторону жизни людей.
148Зиннурова Л.И.
Возможности элитарности имеют явные тенденции к уменьшению как вколичественном, так и в качественном аспектах: остаются богатство, деньги иоснованная на них власть над другими людьми.
Такого рода элита с выхолощенным содержанием – псевдоэлита, или квазиэлита.Она не обладает качествами подлинного лидерства и поэтому не в состояниивозглавить общество в его движении по пути усовершенствования. Она успешналишь в деле манипулирования обществом, для чего разрабатываются все болееухищренные технологии. Результатом ее работы общество не может бытьудовлетворено, потому что квазиэлита не дает людям представления о будущем.Благосостояние и успех; комфорт и богатство – это только предпосылки будущего,которого, кстати, в условиях жесточайшей конкуренции и уже ощутимойограниченности материальных благ может не быть. Мы все больше живем в страхеперед таким будущим.
Кто из людей современного сообщества может составить подлинную элиту?Философы, ученые, видные деятели религии и исскуства, которые должныобъединиться и энергично действовать, подвергая глубокому анализу всесущественные метаморфозы в жизни человечества, прогнозируя возможныепоследствия их и разрабатывая программы предотвращения нежелательныхпоследствий. Как назвать этих лидеров, особенно значения не имеет. То ли они будутименоваться интеллигентами, как это сейчас чаще всего принято, то ли «лучшимилюдьми», как это предлагал В.И. Вернадский, то ли как-либо иначе. Существенно то,что им должно быть присуще. Безусловно, это все то, что делает человекавыдающимся. Существуют профессионалы высокого уровня во всех сферах, и ихдостаточно много. Профессионализм характеризуется высокой техничностью.Выдающиеся люди – это те, кто преодолевает пределы техники, выбивается изнекоего алгоритма, создает новое; это – оригинальные, смелые, неординарные,незаурядные люди.
Эти люди, по мнению А. Швейцера, должны оставаться в оппозиции кобщепринятым догмам и составить ту силу, которая будет стимулировать общество ксовершенствованию. Кроме того, это должны быть люди, любящие жизнь –биофилы. Биофил «хочет организовать и влиять посредством любви, разума ипримера, а не с помощью силы, не тем, что он разнимает вещи и бюрократическиуправляет людьми, как будто речь идет о вещах» [3, с. 63], – утверждает Э. Фромм.Современное техногенное общество производит технически ориентированныхлюдей, а система образования такова, что она препятствует развитию у людейспособности мыслить аналитически, т.е. по-человечески.
Технократизм овладевает все более глобально умонастроением общества, а эточрезвычайно опасно для человека. Как следствие неумолимо проникающего во всепоры общественного бытия технократизма – выдвижение технократов во власть,часто преобладание технократов в правительстве и правящих кругах. Э. Фроммпредупреждал еще полвека тому, что «диктатура технократии – этотехнократический фашизм» [4, с. 299].
И дело не только в собственно технократах, а в том, что в современном обществепреобладает технократический стиль мышления, который формируется современным
149Проблема элиты в современном обществе
образованием. В поисках вариантов ответа на вопрос, как создать элиту или, покрайней мере, создать условия для ее спонтанного возникновения, резоннообратиться к наиболее ярким и показательным эпизодам человеческой истории, вкоторых существовала такая безусловная элита. Античная Греция, V век до н.э.,время правления Перикла, в Афинах – весь цвет общества при дворе Перикла –трагики, поэты, философы, ученые, архитекторы, скульпторы. Перикл их собирал совсей Эллады. VI век до н.э., пифагорейская школа, где также жили и работали врачи,ученые, философы, где они тщательно готовились всем процессам обучения иобразом жизни, в котором всячески подчеркивалась и культивировалась элитарность.Эта элитарность заранее обеспечивалась строгим отбором, предварительнымиспытательным сроком, изолированностью и закрытостью от мирского. Нопифагорейцы активно отторгались античным обществом.
Средневековье, арабоязычный мир в рамках арабского халифата также весьмапоказателен: при дворах халифов во всех городах этого региона собраны,сосредоточены математики и медики, звездочеты, поэты, алхимики, философы;именно они обеспечивают блеск двора халифа, им созданы определенные условиядля творчества и жизни, хотя в этом случае, по сравнению с вышеназваннымипримерами, удручающе мала степень свободы, и даже более того, представителейнаучно-художественной элиты унижают, третируют, оскорбляют халифы и ихприближенные, и очень многое зависит от человеческого качества халифа-правителя.Зависимость от Перикла, гипертрофированная авторитарность Пифагора такжеощущалась включенными в элиту, но она была гораздо менее деспотичной ижесткой. Не лишне вспомнить, что характер власти на Ближнем Востокезапечатлелся доже в названии ее формы – деспотия. Далее, эпоха Возрождения,блестящий двор братьев Медичи во Флоренции, созданная ими Академия,сплотившая столь же блестящее сообщество ученых, художников, философов,деятелей религии. Чуть раньше – Каролингский Ренессанс в период окончательногоутверждения феодализма в Западной Европе. Ко двору Карла были привлеченысамые образованные люди с окраин европейского мира – Ирландии, Южной Италии,где в силу именно удаленности от эпицентра исторических потрясений осталиськниги, теплилось образование, жили и работали выдающиеся люди.
И наконец, чтобы закончить этот ретроспективный обзор, следует вспомнитьпериод идеологической подготовки Великой французской революции – серединуXVIII века, французское Просвещение, в период которого явно признанная, и дажеудостоенная повышенного внимания элита – ученые, философы, писатели, поэты,политические теоретики, объединенные благородным делом создания великой ипервой энциклопедии наук, искусств и ремесел. Дени Дидро сумел скоординироватьусилия таких разных и в творческом, и в человеческом плане людей для выпускаэнциклопедии в очень непростых условиях. Эта просвещенческая элита не былаустойчивым и гармоничным образованием, т.к. творческие люди плохо поддаютсяорганизованности. Но их все-таки объединяла великая цель, связанная совладевшими безоговорочно всеми идеями Просвещения. Можно вспомнить«Ученую дружину» Петра I.
150Зиннурова Л.И.
Перечень подобных примеров мог бы быть и продолжен. Но сами по себе яркиепримеры одним своим впечатляющим количеством еще не аргумент. Существенноувидеть в них тенденцию, общее, может быть, даже закономерное.
Во-первых, это необходимость элиты, которая, как правило, ощущается иосознается в кризисные, переломные или активные периоды истории народа, страны,региона. Во-вторых, такая элита явно демонстрирует интеллектуальный,художественный, нравственный преобладающий аспект. В-третьих, элитенеобходимо принятие и твердое основание своей исключительности. В-четвертых,должны быть обеспечены условия существования и творчества, как прозаически-материальные, так и духовно-идеальные (свобода, уважение, признание и т.п.). В-пятых, необходима поддержка власть предержащих и даже, в некоторых случаях, ихинициатива. Хорошо, если власть имущие сами разделяют мироощущение элиты идаже хоть в какой-то степени к ней причастны: достаточно образованны, и можетбыть, не абсолютно безнадежны в творческом плане. Наверное, это должны бытьлюди достаточно высокого нравственного уровня, или обладающие хотя быминимумом сострадания, сочувствия, справедливости.
Что можно сказать о современном мире?Элитарность все более приобретает знаковый, символический, условный
характер. Есть высокие места, они ранжированы и их можно занять, даже не обладаядля этого соответствующим этим местам качествами. Такая ситуация установилась вполитике, в искусстве, в религии; пока еще держится наука. Причин такогоположения дел довольно много, но, по-видимому, среди претендующих на главные,беспрепятственная возможность манипулировать сознанием людей и общественнымсознанием, обеспеченная небывалым развитием СМИ и характером современногообразования.
Периклов, и даже взыскующих блеска халифов практически нет, Петр I нагоризонте не просматривается, гораздо привлекательнее для нынешних правителей –деньги, экономическая и военная мощь, для достижения которых ученых ихудожников просто используют, не всегда вознаграждая их достойным образом.Справедливости ради, следует оговориться: в России и в США руководство ужеосознало культурный и интеллектуальный недостаток, уже обозначаются некоторыешаги для исправления положения.
Однако, с другой стороны, едва сдерживаются попытки целенаправленногосоздания сверхчеловека посредством биотехнологии, когда не только вповеденческом аспекте, но и в телесности человеку будет предписано некое заданноеустройство. Можно и должно ли это допустить? Правящие политические,экономические элиты обанкротились, они бессильны. Будущее за культурной элитой.С одной стороны, безусловно то, что «трагедия большой мировой истории состоит нев том, что какие-то плохие, корыстные и глупые люди толкают человечество внежелательном направлении, а в том, что человечество вынуждено двигаться в этомнаправлении вопреки желаниями воле хороших, бескорыстных и умных людей» [2, с.545], что технотронность и техногенность объективно неизбежны.
С другой, «сегодня люди имеют уникальную возможность предвосхититьсоциальные, экономические и этические последствия этих повергающих в трепет
151Проблема элиты в современном обществе
технологий – предвосхитить, а не запоздало реагировать», утверждает Дж.Нейсбит[5, с. 167], а «обсуждение и публичное понимание повышают наши шансыдействовать мудро и осмотрительно в виду нарождающихся генетическихтехнологий» [5, с. 170].
Обозначаются перспективы, весьма оптимистические, просматриваются задачи:- возродить к жизни публичную философию (У.Липман);- «необходимо создать Верховный Совет по вопросам культуры, который будет
выполнять экспертную и консультативную функции по отношению к правительству,политическим деятелям, простым гражданам и всем тем, кто нуждается в знании. Вэтот орган должны войти представители духовной и творческой элиты нации,одаренные художественным талантом мужчины и женщины, порядочность которыхне подлежит сомнению» [4,с. 293];
- необходимы не идеи и лозунги, а личности (А.А.Зиновьев);Можно выделить функции элиты:- систематизация и четкое выражение желания масс людей и формирование их в
идеал;- разработка возможности осуществления идеала;- обоснование обещания, что идеал осуществиться в будущем при определенных
условиях;- экспертная;- консультативная;- прогностическая;- оптимизирующая;- гуманизирующая.Настоятельно необходим и механизм выявления неординарных, выдающихся,
продвинутых людей, которые бы составили элиту.Знаково-символическая система, обеспечивающая выдвижение в политическую,
экономическую, художественную элиту не работает, а лишь затрудняетформирование элиты.
Тестирование, которое сейчас принято везде и всюду, позволяет выявить лишьпсихологически легко адаптирующихся людей, в общем весьма посредственных вовсех других отношения, что обоснованно зафиксировал Э.Фромм.
Конкурсы – это одно из средств манипулирования массами и оболванивания их,а так же источник наживы для бесчисленных паразитов и жуликов [А.А.Зиновьев].
Социальные опросы не дают должных результатов в силу их определеннойпредзаданности, а так же того, что проводятся они в условиях недостаточнообъективной информированности опрашиваемых.
Э. Фромм считает, что «по поводу выдающихся представителей духовной,культуры в обществе существует некоторый консенсус» [4, с. 293].
«Трудность не в том, чтобы найти подходящих людей, а в том, как провестипроцедуру отбора» [4, с. 293], – отмечает далее Э. Фромм.
Этот консенсус не имеет четких механизмов становления. Следовало быпоразмыслить над выявлением этого механизма, что представляется задачей весьма
152Зиннурова Л.И.
трудно разрешимой в условиях дезориентированности людей в информационномокеане.
Вывод. Духовно-творческая элита необходима, ее следует создавать, и толькоона может, по крайней мере, вернуть людям веру в будущее и освободить их отстраха перед ужасами будущего.
Список литературы1. Фромм Э. Душа человека / Фромм Э. – М.: АСТ Москва, 2009. – 572 с.2. Зиновьев А.А. Светлое будущее / Зиновьев А.А. – М.: Астрель, 2008. – 453 c.3. Фромм Э. Здоровое общество / Фромм Э. – М.: АСТ Москва : Хранитель, 2006. – 571 c.4. Фромм Э. Иметь или быть / Фромм Э. – М.: АСТ Москва, 2008. – 448 c.5. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность / Нейсбит Дж. – АСТ Москва:Транзиткнига, 2005. – 452 с.
Зіннурова Л.І. Проблема еліти у сучасному суспільстві // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія.Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 144-152.
У статті зроблена спроба переосмислити розуміння еліти й елітарності в сучасному світі і виділитифункції сучасної еліти й можливий механізм ії формування.
Ключові слова: еліта, елітарність.
Zinnurova L.I. The problem of elite at the contemporary society // Scientific Notes of Taurida NationalV.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23(62). – №1. – P. 144-152.
The attempt to reconsider the understanding of elite and elitism in the modern world is undertaker in thearticle and to single out functions of modern elite and possible mechanism of its formation.
Keywords: elite, elitism.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 153–161.
УДК 1:316.28
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ АПГРЕЙД КОММУНИКАЦИОННЫХСПОСОБНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИРА
Лаптинова Ю.И.
Статья представляет собой философское осмысление социальной реальности,сконструированной современными медиатехнологиями. Автор предлагает свое понимание сущноститехники и рассуждает о социокультурных последствиях технического развития. Также авторговорит о появлении современного Гермеса, способного «выжить» в медиатехнологическомокружении.
Ключевые слова: teukhein, информационная технология, технологическое изобретение,технокультура, технократическое общество, метапространство, герметическое techne,аутентичность.
Предмет исследования – медиатехнологии социального конструирования. Цельисследования – раскрыть коммуникативные возможности применениямедиатехнологий социального конструирования.
Разнообразные technai (ремесленная, машинная, информационная) – эторезультат реализации сознательного технического творчества. Без техническойспособности целесообразно созидать, проектировать, представлять то, что,возможно, состоится в будущем, другими словами «способности полагать какмогущее-быть то, что еще не существует», не было бы общества. «В историиteukhein наиболее значительным его проявлением можно считать способностьсобирать-выверять-конструировать, находящую свое выражение в самойинституционализации: деревня или город, азиатская монархия, полис, современноегосударство равно суть продукты teukhein, гигантские орудия или инструменты:мегамашина Льюиса Мамфорда, армии, организованные из рабочих и рабов ииспользуемые «азиатскими» монархами – по существу это результаты и средствасоциального teukhein, средства произведения продуктов. Таковы также любыеtechne в самом широком смысле слова: техники продуктивные или сексуальные,магические или политические, организации людей или дискурса, тела или разума,художественной выразительности или ведения войны. Такова и techne,производящая самое эффективное из когда-либо созданных обществом орудий, аименно общественного индивида» [3, c. 338].
История человечества – есть не что иное, как история развития этойтехнической способности «различать-выбирать-полагать-считать-высказывать».Технология – это своего рода трюкачество, мошенничество, манипуляционнаяпрактика по изменению мира, поведения людей и их отношений. В союзе стехникой человек реализовывает страсть к изменению существующего порядка ипостроению нового. Мыслители, изобретатели, исследователи, преобразователи,конструктора, технологи, мастера, ремесленники с их жаждой познания ипреобразования границ сознания и материи, с их стремлением выйти за пределыбиологических необходимостей, освободиться от ограничений, налагаемых
154Лаптинова Ю.И.
естественными законами, направляли все свои силы, волю и разум на сотворениепосредством различных технологий себя и большого мира вокруг себя. Идеяпреобразования мира, подчинения человеком природы определяет самосуществование и эволюцию техногенного общества. Мы предельнотехнологизировали окружающую среду. Наш собственный человеческий мир, нашаестественная среда существования, создающаяся вокруг нас, есть, прежде всего,современный технологический мир, техносфера, техническая искусственная среда,сверхприрода, рукотворный мир машин.
Одна из самых могущественных и загадочных технологий трансформации,способная переделать этот мир, – это собственно человеческая технология,связанная с непосредственной передачей и воспроизведением информации, т.е. скоммуникацией. Информационные технологии – это новый этап в историческомразвитии техники, который начал складываться примерно с середины ХХ столетияи который определяет организацию современного человеческого сообщества. ЭрикДэвис убежден, что «… взрывом, потрясшим мир в 1940-е, был не атомный взрыв,а информационный» [2, c. 118]. Бесспорно, что своим трансформирующимвлиянием на форму социального общежития медиатехнологии превосходят все,что было до сих пор достигнуто человечеством. В связи с этим не случайно, что вначале XXI столетия все более значимым становится философская рефлексиясоциокультурных последствий развития информационных технологий.
Анализу и изучению современного технического общества посвящены работыА. Тоффлера, Р. Арона, Ж. Фурастье, Д. Белла, З. Бжезинского, Ж. Эллюля,Л. Мэмфорда, Г. М. Мак-Люэна, Е. Масуды. Все они говорят о грядущем «новомобществе», построенном структурно и функционально в прямой зависимости отновой техники и технологий, способных коренным образом изменить структуручеловеческой деятельности и создать принципиально новую ситуацию в сферепроизводства, быта, отдыха. Провоцируемые медиатехнологиями социокультурныеизменения во взаимодействии индивидов информационного социума, а такжевызываемый информационными технологиями резонанс в культуре (сетевые войны,терроризм, информационные войны, взрыв беззакония, киберкультура, экспансиявиртуальной реальности, распространение антиценностей, потеря нравственныхориентиров, дегуманизация жизнедеятельности человека) заставляют по-новомуосмыслить происходящие процессы, требуют концептуально-теоретическогоанализа сущности, смысла, перспектив развития медиатехнологий, их влияния настановление социальной реальности.
Герметический разум – это медиа-трикстер, трюкач, хитрый мошенник,который производит и распространяет информацию. Ему нужны для этого средства,поэтому он объединяется с различными технологиями кодирования мысли.Визуальные изображения, фонетические знаки, идеограммы, иероглифы, буквыалфавита – все это информационные технологические средства передачисообщений, идей, информации, знания. Будучи внетелесным, «ментальным»элементом, информация, тем не менее, прочно связана с материальным миромвещей. Герметический разум создает средства, технические приспособления(палочки, чернила, папирус, пергамент, дощечки, печатный пресс, рекламные щиты,фотокопирующие машины, экраны электронных компьютеров) для реализациипоставленных целей, в данном случае, для передачи сообщений. Каждоепринципиально новое технологическое изобретение передачи информации,внедряемое в наш повседневный мир, частично реконструирует «я», создаёт новые
155Герметический апгрейд коммуникационных способностей технологического мира
преимущества или опасности для мысли, восприятия, новые жизненные ситуации.«Мы уже слышали заявление американского конгрессмена Ф.О. Дж. Смита о том,что телеграф, «уничтожая пространство», вызовет «революцию, которую не можетпревзойти по нравственному величию ни одно открытие, сделанное в искусствах инауках» [2, с. 366].
Электронная беспроводная связь, стала самым завораживающим медиумомнашего времени. Эта новая могущественная информационная технология, новоеtechne – «апгрейд коммуникационных способностей» – больше чем какое-либодругое изобретение, преобразовало человеческое сознание, вызвало к жизнимножество новых, неизвестных раннее возможностей по трансформации мира,указала на более глубокую мутацию социальной реальности. Когда обнаружилось,что передача сообщений может быть обеспечена электронными средствами,технологи, технологисты, технократы, технологические энтузиасты, техноутописты,техноманы, технофобы были потрясены и зачарованы трансформирующимивозможностями новых информационных технологий. Помешательство наэлектронной коммуникации, маниакальный энтузиазм в отношении производства,передачи и потребления информации, возможно, основываются на неосознанном иосознанном желании всеобщего объединения, подчинения и отчасти мотивируютсявсе той же неугомонной страстью к манипулированию, завоеванию, переделываниюмира. Технические действия всегда направлены на преобразование чего-то с цельюудовлетворения потребностей как естественных так и «сверхестественных». Каждоеудовлетворение человеческих желаний, потребностей, вызывает к жизни множествоновых. Душа творческого человека ненасытна, его энергия неистощима, его воляникогда не может быть окончательно удовлетворена.
Можно без преувеличения сказать, что возникновение новых сложныхинформационных технологий определило нашу жизнь на заре XI века.Компьютерные сети и виртуальные технологии, открыв глобальное пространствообщности, расширив возможности человеческого, заставили нас переопределитьсобственные границы и очертить перспективу новой формы социальногообщежития. Очевидно, что все информационные технологий несут в себепотенциал для конструирования новой формы социального общежития. Остаетсявопрос, какой именно формы социального общежития? Никто не сомневается, чтоновые цифровые устройства могут перепрограммировать состояния сознания, ноявляются ли эти трансформации духовными, достигнем ли мы при этомнравственного совершенства. Во времена интенсивной технологизации общества,поставлен ли вопрос о границах рациональности техники. Можно ли, вообще,возможности науки и технологии назвать рациональными. Цель техники не всоздании машин и инструментов. Любая техника существует всегда для чего-тоиного, чем то, чем является она сама. Техника всегда есть средство, орудиедостижения цели, целенаправленное манипулирование чем-то для чего-то. Всеинформационные технологии – это попытки настроить коммуникацию междуиндивидами и таким образом построить новую социальную форму сожительства.
Трагизм современной технической цивилизации заключается в том, что людине в силах предвидеть последствия собственной деятельности. Здесь мы имеем делоне с технической, а с общечеловеческой проблемой, связанной с целямитехнической деятельности. Ни один изобретатель, обладатель научно-техническихзнаний, не закладывает в изобретения плохие цели, но он и не в состояниипредсказать, каким будет практическое воздействие его деяния, к каким результатам
156Лаптинова Ю.И.
приведет его открытие. Техника, будучи «рациональной», порождаетиррациональные последствия, совершенно непредсказуемые. К. Касториадис вкниге «Воображаемое установление общества» пишет, что «… техника никогда небыла способна отдавать себе отчет в тех целях, которым она служит» [2, c. 194].Можно с уверенностью согласиться с мнением автора, что цель, результат, продукт,ввиду которых применено средство, орудие, инструмент, действие, не действенны втот момент, когда совершается их полагание.
То, что способна создать техника, еще не существует в наличии в тот момент,когда техника, ейдос производится как средство. Результаты технических действийпредставляют собой перспективу того, что, возможно, когда-нибудь осуществится.Социальные технологи, эксперты, инженеры, аналитики, маркетологи, увлеченныеконструированием социальной реальности посредством новых коммуникационныхтехнологий, не подозревают о глобальных изменениях в организации социального.Цифровая коммуникация – этот технокультурный мутаген ХХ столетия, вызвалполную и безвозвратную мутацию всего социального порядка. Куда движется нашаповседневная жизнь, направляемая технологическими метаморфозами: внаправлении гигантского коллективного общества, в котором восстановленаобщность, создана подлинно творческая, открытая, мультикультурная среда длясоучастия, или в направлении глобального торгового центра космополитов,настроенных на потребление; или в направлении «высокотехнологичногомуравейника с тоталитарным режимом секретности и скрытых форм социальногоконтроля»; или в направлении цифрового сверхразума бестелесной матрицыИнтернета. Можем ли мы надеяться на развитие жизнеспособной и гуманнойтехнологической культуры, которая обеспечит объединение не только втехнологическом обновлении, но и в духовном возрождении.
Мечта об универсальной и совершенной коллективной коммуникации,связывающей человеческие индивиды в единую планетарную систему, сбыласьблагодаря телекоммуникации и компьютерным сетям. Однако, реализациясостояния, когда «все взаимосвязано и все непрерывно влияет на все», не принесложелаемого освобождения, «глубоко человечного торжества единства общины»,раскрытия творческого потенциала, демократических свобод, мира, согласие.Наоборот, нас окружают панические страхи, угрозы заражения, ментальные вирусы,насилие, психические расстройства и патологии. Мир предстал в образегипертекста, мегамашины, медиапредставления, но никак не в образе соучастия,который Дьюи отождествляет с результатом коммуникации: «… из всех видовдеятельности удивительнейший – это коммуникация. То, что результатомкоммуникации должно быть соучастие – чудо, перед которым бледнеетпресуществление» [цит. по 2, c. 374].
Продолжающие манить человеческий разум возможности захвата власти иполучения прибыли возбуждаются и реализуются активно применяемыми СМИинформационными технологиями программирования человеческого тела исознания. Разрешение на производство того или иного технического проекта илитехнической разработки диктуется интересами рынка и потребностью капитала вразвитии. Прибыль и власть, а не всеобщее процветание и раскрытие человеческогопотенциала, являются движущим духом коммуникационных технологий,господствующих в современном мире. Современные гермесы (телепродюсеры,режиссеры, социальные технологи, имиджмейкеры) пытаются при помощиманипуляций с информацией и сознанием создать определенный порядок и форму,
157Герметический апгрейд коммуникационных способностей технологического мира
установить контроль и производство. Если фокус промышленных технологийнаправлен на изменение внешней природы, то фокус герметическихмедиатехнологий, переместился на бесплотные области человеческоговоображения, сознания: «Ресурсы, служащие предметом рынка высокихтехнологий, имеют больше отношение к сознанию, чем к материи. Под влияниемвысоких технологий мир все быстрее движется от физической экономии к тому, чтоможно назвать «метафизической экономией». Мы вовлечены в процесс пониманиятого, что сознание в гораздо большей степени, чем материальное сырье, составляетбогатство» [2, c. 166]. И далее: «Информационная экономика не только расширяет,но и превосходит, преодолевает предшествующую материальную экономикуиндустрии и сельского хозяйства» [2, c. 167].
За ментальную власть над душой, эстетическим чувством и воображениемчеловека СМИ постоянно подвергаются критике со стороны социологов. Тем неменее, на протяжении всего XX века и в начале XXI века социальная инженерияпродолжает доводить до совершенства свои эксперименты в деле конструированиясоциальной реальности. Радио, телевидение, Интернет превратились в«интерактивное» средство, эффективный и эффектный медиум для распространенияментальной инфекции, которая позволяет контролировать сознание и поведение.Мы поглощены визуальной коммуникацией, погружены в пропагандистское мореобразов (не только визуальных), которые не столько информируют нас, сколькоовладевают нашим вниманием и манипулируют нашим воображением. Нашиощущения искусственно созданы. Индустрия СМИ сделала нас участникамимедиапредставления, организованного посредством творческой манипуляции своображением и желаниями, посредством стимуляции и контролирования страхов,посредством приемов хитроумной пропаганды и посредством драматическогоязыка жестов, символов, образов, звуков, действующего в обход интеллекта. Мы всемедиа-мутанты, киборги, беби-бумеры, чьи тела находятся в атмосфере,наполненной смертоносными вирусами, биологическим оружием, токсичнымидымами и газами, и чьи сознания находятся внутри искусственногомедиаокружения.
Находиться в таком метапространстве все равно, что принимать изменяющиесознание препараты (психоделики). Дэвис отмечает: «… наши цифровые устройстваи медиамашины гораздо лучше способны обдолбать население, подключая вообщевсю культуру к совершенно психоделическому режиму восприятия» [2, c. 243]. Воснове общества оказался заложен не принцип соучастия, а механизм контроля.Ж. Делёз говорит об обществе контроля, в котором «власть одновременно ииндивидуализирует и запрессовывает в массу, т.е. собирает подвластнуюсубстанцию в единое тело, которым управляет, и вместе с тем отливает взаконченную форму каждый индивидуальный фрагмент этого тела» [1]. Новыемедиатехнологии превратились в средство формирования и производства мощнойсоциальной организации нового типа, которая получила названиетехнократического общества – общества технократических манипуляций счеловеческими умами и телами. Только при жестком тотальном контроле надинформацией можно обеспечить слаженность работы «мегамашины» и сберечь ееот разрушения. Метапространство единения оказалось новой формой тоталитарногоконтроля, абстрактной системой управления не посредством физической силы, аментальной власти СМИ. Уже не тюрьмы, психиатрические больницы, школы,
158Лаптинова Ю.И.
армия организуют пространство и время, ограничивая индивидов, аинформационные властные технологии улавливают индивидов в свои сети.
Технологическое общество применяет гораздо более утонченные, ухищренныеи замаскированные методы угнетения и подавления, такие, что зависимоеположение кажется даже очень приятным. Продвинутые властные технологиисоциальной инженерии вышли за пределы видимого пространства, они действуютспонтанно, растворившись в индустрии медиа, поэтому кажутся магическими,сверхъестественными. Поскольку человеческий мозг не способен овладетьподавляющим хаосом медиаокружения, то электронные коммуникационныетехнологии и сконструированное ими глобальное метопространство,фетишизируются, приобретают мистическую ауру возвышенного, того, что наспревосходит, как бы стоит над нами, вызывает восхищение и даже поклонение.Работа этой вычислительной, коммуникационной системы, не управляется нашимииндивидуальными мыслями и верованиями, разумом и воображением, поэтому мыпопадаем в функциональную зависимость от нее.
Подавляет человека не сама техника как таковая, а логика техники, способ,метод, принцип применения техники. Автор книги «Технологическое общество»,опубликованной в 1954 году, французский теолог Жак Эллюль отмечал, что силы«техники» стали выходить из-под контроля, вторгаясь во все сферы человеческойактивности и преобразуя их. Согласно Эллюлю, техника – это не просто то, чтоимеет отношение к машинам. Скорее, это логика манипуляции и достиженияцелей, стоящая за работой машин. В социологическом аспекте техника означаетпроцедуры, языки и социальные условия, порождаемые «рациональностью»современных социальных институтов, бюрократии и технократическихорганизаций. После Второй мировой войны эти институты оказались в еще болеетесной связи с техникой, когда они стали компьютеризироваться и перестраиватьсвои структуры управления в соответствии с логикой контроля, с ее цикламиобратной связи и информационных потоков. Система, как ее стали называтьвпоследствии, стала развиваться в полную силу. «Техника – это вид логики» [3,c. 206], - утверждает К. Касториадис. Общественная жизнь существует благодарягосподству этой технической логики социальной инженерии, которая определяетсобой все аспекты жизни общества, все формы человеческой деятельности,организует сообщество в соответствии с техническими манипуляциями и приводитк технократическому обществу. Мы же остаемся пленниками содержания (правил,наставлений, принципов, установок) этой сциентистски-техницистской формымышления и деятельности, которая основывается на прибыли, т.е. исходит изэкономического расчета. Человек как активное, творческое и свободное существополностью «аннигилируется» этой логикой, низводится до уровня средства. Онлишается подлинного человеческого измерения духовности, а значит, теряет своюсамость и спонтанность своего существования, и, таким образом, отчуждается отсамого себя, от своей подлинной сущности. Потеря человеком своей самости(подлинной сущности), постоянный внутренний разлад с самим собой, утилитарноеотношение к действительности – следствие господства «техническойрациональности», технической логики современного общества.
Технокультура (глобальная электронная культура) преобразовала социальноепространство в медиапредставление, торгово-развлекательный центр, отличноорганизованную систему магического стимулирования и создания потребностей.Медиатехнологии объединяют человеческие существа в мощную и приносящую
159Герметический апгрейд коммуникационных способностей технологического мира
прибыль, производящую и потребляющую мегамашину. Эта мегамашина собираетвсе фрагменты мира, связывая их воедино коллективной сетью взаимныхсоединений, но не соучастий. Подлинная, не механическая, коммуникация,результатом которой должно стать соучастие, предполагает свободного,сознательного, активного субъекта своего собственного опыта. Наш собственныйразум, попав под непрестанно усиливающееся влияние могущественных ивездесущих медиапризраков, кажется, уже не принадлежит нам, став объектомконтроля. Медиатехнологии колонизировали внутреннее пространство «я», которое,плавая в медиапотоке, теряет способность управлять собой из-за отсутствияпроясняющего кода. Ж. Делез так описывает ситуацию: «Когда мы пытаемсяуправлять этой атакой звуковых байтов, электронной почты, временныхразъединений и свалок данных, мы утрачиваем медленные ритмы и тревожащуютишину внутреннего мира. Мы теряем способность говорить и действовать изнутри,и коммуникация сводится к реактивной, почти технической операции. Итак, если увас нет кода, вы останетесь в неведении. А всех кодов больше нет ни у кого» [1,c. 258].
Восприятие все в большей степени оказывается сконструированным(культурные институты, опосредуют наше познание и восприятие реальности),значит невозможно никакое сопротивление. Однако, изобретенный намитехнологический мир одновременно создает пребывающему в нем и угрозу, ипреимущества. Техногенное общество, с одной стороны, предоставляет удобства,комфорт, безопасность жизни, с другой стороны, оно представляет большуюопасность для индивида быть превращенным в сырье для производящей ипотребляющей машины, а значит, требует от индивида большего внимания,сосредоточенности, духовного мужества, ответственности и активности.Преодолеть запрограммированность своего поведения, освободиться отпсихосоциального давления, противостоять стремительно вторгающемусятехнологическому мышлению возможно, если не терять веру в свободную волю, несписывать со счетов общую духовную сущность, не сводить целостностьчеловеческой личности к генетической информации (информационному коду).Противостоять Мегамашине может только аутентичность, свободный человек,личность, сознательное, инициативное, предельно рациональное существо.
Аутентичная жизнь начинается тогда, когда через осознание своейзомбированности, преодолеваются механические аспекты существования ивзращиваются глубоко человечные аспекты существования. Борьба зааутентичность и свободу ведется внутри навязываемой нам вселенной«технологических симулякров», в гуще экзистенциальных условий реальной жизнисо всеми ее ограничениями, страданиями, неустроенностью, в плотном опытематериальной человеческой жизни. Мы уже захвачены глобальным медиапотоком,поэтому: либо границы нашего «я» растворяются в аморфных системахинформационных потоков, противоречивых сообщений, маргинальнойинформации, намеков, текстовой двусмыслице и человеческая идентичностьраспадается, тонет, утратив ориентацию в этой раздробленной бесконечности,избегая этических решений, уклоняясь от внутренней рефлексии и принятияограничений, которые оформляют жизнь и наполняют ее смыслом; либо, находясьвнутри глобального медиапотока, мы учимся использовать его для пробуждениясвоих собственных творческих сил, для развития ускользающего «я», длятворческого исследования и поиска объяснительного кода, который дал бы нам
160Лаптинова Ю.И.
возможность все связать, преодолеть раздробленность, бессвязность, найтипозитивное основание для жизни, увидеть в ней нечто большее, чем слепуюслучайность.
Человеческая идентичность подвижна в интерактивном протоке, постояннонаходится в процессе само-конструирования. Задача становления человеческойидентичности не означает морально осуждать и отвергать развитие техники,выступая за возврат к дотехнологическому обществу. Нам необходимо понять, чтонаше высокотехнологическое окружение – самый искусственный из человеческихартефактов – создано нашими же желаниями, стремлениями, потребностями (этижелания могут противостоять нам как чуждая и враждебная сила). Необходимонаучиться вступать в диалог с техникой и технологиями как с частью самихсебя, вынесенной вовне. М. Маклюэн говорит о том, что «Любое изобретение илюбая технология представляют собой внешнюю проекцию, илисамоампутацию, наших физических тел…» [4, c. 54]. И далее: «… когда человек спомощью электрической технологии вынес наружу свою центральную нервнуюсистему, поле битвы переместилось в ментальное сотворение-и-сокрушение-образов– как в войне, так и в бизнесе» [4, c. 117]. Приученные к телевидению, радио,компьютерам, газетам, теленовостям, противозачаточным таблеткам, световым шоу,и другим потребительским технологиям, без которых современную жизньневозможно вообразить, мы не столько отрицаем, сколько пересматриваем технику.Следует отказаться не от самой техники как таковой, а только от так называемой«идеологии техники», подавляющей человеческую индивидуальность и подлинныйсмысл человеческого бытия, отказаться от прежних установок (заменить«технологический императив на противоположную установку»), установитьэтический контроль и ограничения на все методы, принципы техническойдеятельности.
Французский философ Ф. Гваттари выступает против противопоставлениямашины человеческому духу: «Некоторые философы утверждали, что современнаятехнология блокировала доступ к нашим онтологическим основаниям, кпримордиальному бытию», но, спрашивает он, что, если, правильным являетсяпротивоположное представление и «возрождение духа и человеческих ценностейможет быть достигнуто через новый союз с машинами» [цит. по 2, c. 231]. И далее:«Машина в этом случае может послужить интерактивным зеркалом, Иным, черезкоторое и в противостоянии которому мы узнаем самих себя и сами становимсямерой всех вещей» [2, c. 190]. В таком случае технологическая системапредставляет путь самопознания. Наделенный технической способностью ктворческой адаптации человек обречен постоянно производить себя, быть техникомсвоей жизни. Если один из аспектов нашего существования подобен машине,другой должен стать инженером-технологом. Быть техником – значит постоянноизобретать новое techne необходимое для осуществления соответствующегожизненного замысла. Индивидуальное, освободительное techne – апгрейд(преобразование, усовершенствование) сознания и поведения – целенаправленнаятехническая деятельность, форма активной творческой практики, осуществляющаятакое вписывание в установившийся социальный порядок, при котором сохраняетсясамоконтроль, автономия, уникальность, критическое внимание к происходящему.Не будучи в силах избежать «тоннелей лжи», которыми сегодня изрезана всяреальность, человек может сопротивляться, рассчитывая только на хитрость,пронырливость, на то, что ему удастся заново открыть в беспорядочном сплетении
161Герметический апгрейд коммуникационных способностей технологического мира
слов, образов, звуков и сигналов традиционное «искусство» Гермеса. Технокультураспособствует появлению нового Гермеса-технолога, искателя, динамического,критически мыслящего изобретателя творческой техники-тактики своей жизни. Спомощью экспериментальных творческих техник, он создает новые пространствадля ускользания, сопротивления и пробуждения к жизни новых способов виденияи бытия в технокультурном мире.
Вывод. Установление общества стало возможным благодаря техническойспособности «различать-выбирать-полагать-считать-высказывать», которой былнаделен человек. Информационные технологии – это определенный этаптехнической эволюции. Новое информационное techne – электронная связь –произвело революционные изменения в устройстве человеческого сообщества. С
одной стороны, новое информационное techne вызвало интенсивный ростпроизводительных сил, что является основной характеристикой техногенногообщества, но, с другой стороны, проблема коммуникации индивидов не быларешена. Чтобы отстоять свою свободу и не оказаться сырьем для производящей ипотребляющей машины, современный человек становится изобретелем своегоиндивидуального, творческого techne, позволяющего ему сопротивлятьсяподавляющей власти медиатехнологий.
Список литературы
1. Делез Ж. Общество контроля [Электронный ресурс] / Ж. Делез. – Режим доступа:http://www.irms.ru/delez.html
2. Дэвис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху / Э. Дэвис; [Пер.с англ. С. Кормильцева, Е. Бачининой, В. Харитонова]. – Екатеринбург: Ультра. Культура, 2008. –480 с. – (Philosophy).
3. Касториадис К. Воображаемое установление общества / К. Касториадис; [Пер.Г. Волковой, С. Офертаса]. – М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2003. - 480 с.
4. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / М. Маклюэн; [Пер. сангл. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова]. – М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. – 464 с.
Лаптінова Ю.І. Герметичний апгрейд комунікаційних здібностей технологічного світу //Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія.Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 153-161.
Стаття є філософським осмисленням соціальної реальності, сконструюваної сучаснимимедіатехнологіями. Автор пропонує своє розуміння сутності техніки і розмірковує надсоціокультурними наслідками технічного розвитку. Також автор говорить про появу сучасногоГермеса, здатного «вижити» у медіатехнологічному середовищі.
Ключові слова: teukhein, інформаційна технологія, технологічний винахід, технокультура,технократичне суспільство, метапростір, герметичне techne, аутентичність.
Laptinova Y.I. Hermetic upgrade of the communicational abilities of the technological world //Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Politicalsciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 153-161.
The article is a philosophical analysis of the social reality, constructed by the modern mediatechnologies. The author presents her understanding of the essence of the technique and discusses the socio-cultural results of the technical development. Also the author says about the appearance of modern Hermescapable to «survive» in the mediatechnological environment.
Keywords: teukhein, information technology, technological invention, technoculture, technocraticsociety, meta-area, hermetic techne, authentic.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 162-166.
УДК 141.7
ВПЛИВ МАСОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ТАДИНАМІКУ НАСИЛЛЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Метілка Д.В.
У статті розглядаються особливості насилля в інформаційному суспільстві. Робляться висновкипро основні тенденції розвитку насилля в глобальному суспільстві та про залежність нових формнасилля від розвитку інформаційних технологій.
Ключові слова: насилля, інформаційне суспільство, комунікація.
Предмет дослідження – форми прояву насильства в умовах формуванняглобального суспільного устрою. Мета дослідження – розкрити впливінформаційних технологій на прояви насильства в контексті процесів глобалізації.
У наш час людство переживає бурхливий розвиток автоматизації,інформатизації і комп'ютеризації всіх сфер життя. За даними Internet World Stats,кількість користувачів глобальної мережі Internet з 80 тис. у 1988 р. зросла до 360млн. на кінець 2000 р., а на 1 квітня 2009 р. кількість користувачів Internet вжедосягла близько 1,6 млрд., що становить 23,8% населення планети [1].
Комп'ютерні системи мають не тільки позитивний соціально-культурнийпотенціал (відкривають небачені можливості для міжнародного співробітництва,розширення й удосконалювання сфери послуг та ін.), але також й містять у собі новідосконалі можливості для невідомих раніше правопорушень, а також для вчиненнятрадиційних злочинів нетрадиційними засобами. Технічний прогрес розвиваєтьсянастільки стрімко, що деякі негативні його наслідки усвідомлюються суспільствомзанадто пізно, коли для виправлення ситуації потрібні вже значні зусилля. Стрімкезростання комп'ютерних правопорушень свідчить про те, що сучасне суспільствопоки не в змозі належним чином нейтралізувати негативні наслідки масовоїкомп'ютеризації. Соціально-культурний розвиток відстає від розвиткутехнологічного, що підвищує ризик соціальних катастроф і навіть може привестивсе людство до загибелі, оскільки протягом всієї людської історії запорукою сталогосоціального розвитку були саме механізми культурної регуляції, а не технічнийпрогрес – лише завдяки цьому ми усе ще існуємо. За словами творця ОС LinuxЛінуса Торвальдса: «технології не змінюють суспільство – це суспільство змінюєтехнології» [2].
Конструктивність наших технічних досягнень ретроспективно залежить відтого, наскільки конструктивно ми ними розпоряджаємося. Двозначний фармаконтехнічного прогресу може виявитися для нас як отрутою, так і ліками, – залежно відтого, як ми ним скористаємося. Але відмова визнавати детермінованість насилля вінформаційному суспільстві розвитком комп'ютерних технологій, звичайно, неозначає того, що варто відмовитися від досліджень їхнього впливу на змінуструктури й динаміки насилля в умовах глобалізації – просто варто пам'ятати проте, що з метою збереження суспільства треба віддавати пріоритет гуманітарним
163Вплив масової комп’ютеризації на структуру та динаміку насилля …
факторам соціальної динаміки перед техногенними: людина не повинна (і – більшетого – не може) бути об'єктом своїх власних знарядь.
Тому для того, щоб зрозуміти тенденції розвитку насилля в інформаційномусуспільстві в їхній залежності від розвитку засобів комунікації, насамперед, вартозробити феноменологічний начерк життєвого світу (Lebenswelt) якогосьгіпотетичного суб'єкта комп'ютерної комунікації, тобто розглянути, яким чиномнові можливості сприйняття, що виникають завдяки розвитку комп'ютерної техніки,трансформують індивідуальну й суспільну свідомість, а через це – впливають напрояви насилля. Отже, розглянемо основні особливості трансформацій сприйняттядійсності, які в значній мірі обумовлені бурхливим розвитком комп'ютернихтехнологій.
1. Інтерактивні комп'ютерні мережі ростуть по експоненті, створюючи новіформи й канали комунікації, формуючи життя й, у той самий час, формуючисьжиттям. У цей час виникають нові просторові форми й процеси, що маютьвіртуальний характер. Деякі дослідники масових комунікацій у сфері соціальнихсистем як посередників комунікації виділяють гроші, владу, вплив, ціннісніорієнтації [3; 4]. Всі ці посередники споконвічно мають властивість віртуальності взначенні «ідеальності», тобто знаковості, заміщення іншого. Дійсною відмінноюрисою сучасного типу віртуального спілкування є технічний характер сучасноївіртуальності: комп'ютерне віртуальне середовище виступає як новий посередниквсіх минулих соціальних посередників, що вже й раніше мали характервіртуальності (своєрідна «віртуальність у квадраті» як відмінна риса сучасноготипу віртуальності) [5, с. 36].
2. У розвитку комп'ютерної техніки переважає тенденція до конвергенції різнихтехнічних пристроїв і локальних мереж, що дозволяє використовувати комп'ютернутехніку як найбільш діючий засіб її уніфікації й об'єднання в глобальну мережу,тобто використовувати її як основний інструмент глобалізації. У свою чергу,уніфіковані форми технічної віртуальності провокують прогресуючу уніфікаціюіндивідів, нейтралізують їхні міжкультурні відмінності. Способи сприйняттядійсності стають усе більш однорідними й стандартизованими.
3. Взаємодія міжособистісної й масової комунікації міняє свій характер: якщо в«масовому» суспільстві міжособистісні зв'язки опосередковуваються ЗМІ, то в«інформаційному» суспільстві, навпаки, масова комунікація все більше починаєопосередковуватися міжособистісними зв'язками. У комп'ютерній мережізв'язування глобального і локального відбувається переважно на локальному рівні.У зв'язку із цим можна говорити про парадоксальний феномен індивідуалізаціїмасової комунікації. Роль суб'єктивного фактора в суспільному житті зростає.Оскільки комп'ютерні інтеракції опосередковуваються машинною взаємодією, їхнісуб'єкти стають усе більш ізольованими й самотніми, тому що навітьнайрозвиненіші медіа-засоби не можуть замінити для людини безпосередньогоспілкування.
4. Віртуальне середовище влаштоване найвищою мірою мозаїчно, а неієрархічно, що призводить до фрагментарності, децентрованості й розсіюваннясучасних дискурсивних практик. В умовах кризи традиційних світоглядних моделей,що поставляються релігією й філософією, для індивіда різко зростає небезпекавтрати базових цінностей і критеріїв розрізнення блага й зла. Сучасна людиназалишається один на один з величезним потоком різнорідної інформації. Міць
164Метілка Д.В.
інформаційних потоків уже не стримується ні моральними, ні культурними межами.У зв'язку із цим першорядну важливість представляє не захист інформації, а захиствід інформації.
5. Якщо споживання інформації виступає як спосіб усвідомленого пошукуінформаційних фрагментів, необхідних для рішення певного пізнавального,поведінкового або якого-небудь іншого завдання, то присвоєння суб'єктом деякоїнової інформації означає розширення кола його особливостей як реального суб'єктадіяльності й спілкування. Але доступність інформаційних ресурсів для рядовогокористувача найчастіше сприяє його приспанню, наркотизації, ніж активності. Всебільша частина часу приділяється читанню й пошуку інформації, і, відповідно,менша частина може бути приділена організованій соціальній дії. Індивід може бутизадоволений своїм високим рівнем інформованості, але не помічати своєївідірваності від прийняття рішень і дій, він ототожнює знання про проблеми з діямивідносно цих проблем. Його соціальна свідомість залишається абсолютно чистою,але його соціальна діяльність повністю витиснута процесом інформаційногоспоглядання.
6. У людини, що починає сприймати світ через Інтернет, виникає нова картинасвіту. У цій ситуації змінюється навіть традиційне уявлення про знакові системи:
• по-перше, величезний потік інформації переводить її з дискретного рівня наконтинуальний;
• по-друге, губиться можливість веріфікувати цю інформацію.Позначивши основні аспекти впливу комп'ютерних технологій на свідомість
гіпотетичного суб'єкта сучасних масових комунікацій, розглянемо тепер у зв'язку ізцим особливості насилля в інформаційному суспільстві.
У даному випадку під насиллям розуміється обмеження або повне запереченнясвободи життєдіяльності одного соціального суб'єкта іншим, що виражається внав'язуванні своєї волі й заподіянні фізичних і моральних страждань.
Специфіка насилля в інформаційному суспільстві визначається наступнимифакторами:
• віртуалізація насилля;• витиснення прямого насилля опосередкованим;• зростання анонімності насилля;• трансформація дискретних насильницьких актів у континуальні;• технічний розвиток різних засобів маніпуляції суспільною свідомістю і їхнє
масове застосування через комп’ютерні мережі;• поява нових видів насилля, пов'язаних з новими комунікативними
технологіями (наприклад, розповсюдження комп'ютерних вірусів та СПАМу,створення та поширення бот-мереж, кібертероризм).
Також слід зазначити, що інформаційний компонент присутній у всіх проявахнасилля, навіть самих архаїчних, але лише в інформаційному суспільстві цейкомпонент набуває парадигматичного значення й визначає домінуючі у цьомусуспільстві форми насилля, які можна об'єднати під загальною назвоюінформаційного насилля. Тому особливе значення для аналізу насилля вінформаційному суспільстві має аналіз різних видів інформаційного насилля.Відповідно до класифікації, розробленою групою вітчизняних дослідників [6, с. 32-34], основними видами інформаційного насилля є:
• дезінформування;
165Вплив масової комп’ютеризації на структуру та динаміку насилля …
• пропаганда;• психологічний тиск;• диверсифікація суспільної свідомості;• розповсюдження чуток.Інтернет – це відкрите поле для інформаційного насилля. Інформаційне насилля
є квазікомунікацією, що може іноді досить успішно імітувати комунікацію, аленіколи не в змозі забезпечити виконання її основної функції – узгодження дійсуб'єктів загальної діяльності. Очевидно, що неадекватність сприйняття можепривести людину до самих пагубних наслідків – навіть до загибелі. Тому боротьба зінформаційним насиллям стає в сучасному світі боротьбою людини за виживання.Ця боротьба орієнтована на пошук резервів функціонування комунікаторів.Очевидно, що пошук цей неможливий поза вивченням процесів сприйняття йрозуміння інформаційних повідомлень і текстів, розповсюджуваних за допомогоюцих засобів.
Людство перебуває на новій стадії формування інформаційної сфери існування.В інформаційну сферу переноситься вся існуюча система геополітичних взаємин,учасники якої прагнуть забезпечити собі найбільш вигідне положення всформованому світовому порядку, застосовуючи й силові методи. Закономірнітенденції розвитку людського суспільства дозволили в останні роки реалізуватиметоди протиборства, засновані на маніпулюванні інформацією в будь-якій її формій методах інформаційної війни. Сьогодні зростає залежність всіх сфер діяльностісуспільства від електронних засобів обробки інформації й комунікацій,модифікується й розмивається поняття міжнародних конфліктів і криз.
У цей час іде освоєння терористами інформаційної зброї. Сучасні розвиненісуспільства стали більш залежними від електронних баз даних, аналізу й передачіінформації. Таким чином, багато життєво важливих секторів відкрито длянесанкціонованого впливу, а погоджений вплив може паралізувати всю країну.Тому росте тривога із приводу комп'ютерного тероризму. Якщо раніше єдинимвидом інформаційної зброї були ЗМІ, то тепер величезну роль грає комп'ютернаінформація. Якщо терор за допомогою засобів масової інформації моглаздійснювати тільки держава, то вплив через комп'ютерні системи став можливимдля окремих особистостей, що робить кібертероризм, мабуть, самим небезпечнимвидом насилля в інформаційному суспільстві. Не випадково новий президент СШАБ. Обама проголосив боротьбу з хакерами одним з головних пріоритетівнаціональної безпеки [7].
Серед самих помітних трендів у кіберзлочинності останніх років експерти [8]називають наступні:
• по-перше, зростаюча загроза національній безпеці, викликана веб-шпигунством. Зловмисники від хакерів-одинаків до добре організованих іфінансованих груп використовують Інтернет не тільки для фінансової, але йполітичної й технологічний вигоди;
• по-друге, підвищеному ризику піддаються онлайн-сервіси, користувачівяких атакують фішери, озброєні прийомами соціальної інженерії.
• по-третє, поява ринку програмних уразливостей.Висновки. Кіберзлочинність усе частіше здобуває транснаціонального
характеру. З використанням глобальної мережі Інтернет такі види злочинів немають державних кордонів і можуть легко відбуватися з однієї держави відносно
166Метілка Д.В.
суб'єктів іншої держави. З урахуванням цього, стратегія боротьби з комп'ютерноюзлочинністю повинна будуватися на посилці про те, що даною проблемоюнеобхідно займатися системно й комплексно, а це, у свою чергу, вимагає тісногоспівробітництва, як на національному, так і на міжнародному рівні.
Список літератури
1. Internet world statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.internetworldstats.com/stats.htm
2. Берд К. Гигабайты власти [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.sharebook.ru/kiwi/gbop.htm
3. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.4. Луман Н. Власть / Н. Луман. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.5. Михайлов В.А. Особенности развития информационно-коммуникативной среды
современного общества / В.А. Михайлов, С.В. Михайлов // Актуальные проблемы теориикоммуникации. Сборник научных трудов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. – С. 34-52.
6. Петрик В.М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційнихвійн і спеціальних інформаційних операцій / В.М. Петрик, О.А. Штоквиш, В.І. Полевий. – К.: Росава,2006. – 208 с.
7. Президент США объявил войну хакерам. Центр исследования компьютерной преступности[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crime-research.ru/news/01.06.2009/5980/
8. Компьютерная преступность: новые возможности [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.cybercrime.report.ru/
Метилка Д.В. Влияние массовой компьютеризации на структуру и динамику насилия винформационном обществе // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. –- 2010. – Т.23 (62). -№1.– С. 162-166.
В статье рассматриваются особенности насилия в информационном обществе. Делаются выводыоб основных тенденциях развития насилия в глобальном обществе и о зависимости новых формнасилия от развития информационных технологий.
Ключевые слова: насилие, информационное общество, коммуникация.
Metilka D.V. Influence of mass computerization on a structure and dynamics of violence ininformation society // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy.Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 162-166.
In the article are examined the features of violence in an information society. Drawn the conclusionsabout the basic progress of violence trends in a global society and about dependence of new forms of violencefrom development of information technologies.
Keywords: violence, information society, communication.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 167-171.
УДК 183К ВОПРОСУ О ДИДАКТОГЕННОМ НЕВРОЗЕ
Медведева А.А.
В статье рассматривается сущность и причины дидактогенного невроза. Проблематики в том,что распространенность и выраженность «школьных стрессов» в последние годы только усилилась.Целью предлагаемой статьи является сбор материала для подготовки анкетного опроса учащихся всвязи с дидактогенным неврозом
Ключевые слова: дидактогенный невроз, дидактогения, кризис, школьная тревожность.
В сентябре - декабре 2008 года на базе Крымского республиканского институтапоследипломного педагогического образования проводились исследования с цельювыяснения отношения педагогов к проблеме кризиса традиционной парадигмыобразования. Проблема кризиса в образовании неизбежно влечет за собойобсуждение вопросов дидактогении, дидактогенных неврозов. Большинствослушателей (77%) не знакомы с таким понятием как «дидактогенный невроз»: этоотметили 399 человек из 518 анкетируемых. Только 119 чел. (23%) подтвердили,что им известно это явление. Это является доказательством неосведомленностинепосредственных участников учебного процесса и, вероятно, некоторойнеразработанности данной проблемы.
Актуальность данной проблематики в том, что распространенность ивыраженность «школьных стрессов» в последние годы только усилилась. Цельюпредлагаемой статьи является сбор материала для подготовки анкетного опросаучащихся в связи с дидактогенным неврозом.
Первоначально необходимо определиться, что мы будем понимать под«дидактогенным неврозом». Поисковая система Google дает всего 485 ссылок позапросу «дидактогенный невроз». Подавляющее число источников рассматриваетпонятия «дидактогенный невроз», «дидактогения», «негативное обучение» каксинонимичные. Словари определяют интересующее нас понятие как « негативноепсихическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта состороны учителя (воспитателя). Термин происходит от греческих слов: «didaktikos»– поучительный и «genos» – происхождение и означает негативное психическоесостояние учащегося, вызванное педагогом, тренером. Выражается в повышенномнервно-психическом напряжении, страхах, подавленном настроении и т.п.Отрицательно сказывается на деятельности учащихся, затрудняет общение. Воснове возникновения дидактогении лежит психическая травма, полученнаяучеником по вине педагога. Этим объясняется близость симптоматикидидактогении и неврозов у детей, причем дидактогения нередко перерастает вневроз [1, 2, 3, 4, 5].
Понятие «дидактогения» было введено К.И. Платоновым. Близким по значениюявляется понятие «дидаскогения», введенное Е.С. Катковым. Может проявиться вособенностях личностного контакта (неуважительное отношение к ученику,студенту, подавление его инициативы) и в том, как преподносятся знания(подчеркивание отрицательных моментов того или иного явления, с которым может
168Медведева А.А.
столкнуться в своей жизни ученик, утверждение о недоступности для негоизучаемого материала и т.д.). К дидактогении относится также нервно психическоерасстройство, возникшее в связи с прослушанной лекцией или вслед за объяснениемпреподавателя, где шла речь о каком-либо заболевании, после прочтения статьи намедицинскую тему, просмотра научно-популярного фильма и т. д. [6] .
Ряд исследователей считает дидактогению явлением историческим и трактуютее как пережиток авторитарной педагогики, как черствое и бездушное отношение кдетям, сводя проблему дидактогенных неврозов к проблеме педагогическогообщения [7, c. 298]. Классик советской педагогики В.А. Сухомлинский указывал,что дидактогении – детище несправедливости [8]. Некоторыми из исследователейшкольные (дидактогенные) неврозы рассматриваются как нарушениепедагогического такта со стороны педагога. Невроз понимается здесь не вмедицинском плане, а скорее как неадекватный способ реагирования на те, илииные сложности в школьной жизни.
Многие исследователи все же рассматривают дидактогенный невроз в широкоми узком смыслах. В узком, собственно психиатрическом смысле, школьные неврозыпонимаются как особый случай невроза страха, связанного либо с ощущениемчуждости и враждебности школьного окружения (фобия школы), либо с опасениемтрудностей в учебе (школьный страх). В более широком – психолого-педагогическом аспекте школьные неврозы понимают как особые, вызываемыесамим процессом обучения психические нарушения – дидактогении и связанные снеправильным отношением педагога психогенные расстройства – дидаскалогении.Сведение проявлений школьной дезадаптации к школьному неврозу неправомерно,т.е. понятие «школьный невроз» не охватывает всей проблемы [10].
«Школьная фобия», «школьный невроз», «дидактогенный невроз» являютсяблизкими терминами к понятию «школьная дезадаптация». Школьная дезадаптациязаключается в отставании ребенка от его собственных возможностей. В качествекритериев отнесения детей к дезадаптированным обычно используется двапоказателя: неуспеваемость и недисциплинированность. В целом нужно отметить,что в этом направлении нет пока крупных теоретических и конкретно-экспериментальных исследований, а в имеющихся работах раскрываются лишьотдельные аспекты школьной дезадаптации. Также в научной литературе нет до сихпор четкого и однозначного определения понятия «школьная дезадаптация»,которое бы учитывало всю противоречивость и сложность этого процесса и былобы раскрыто и исследовано с различных позиций [10]. Школьная тревожность – этосравнительно мягкая форма проявления эмоционального неблагополучия ребенка.Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, вклассе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороныпедагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную неадекватность,неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих решений.Термин «школьный невроз» употребляется в основном в тех случаях, когда боязньшколы, тревога существуют на неосознанном уровне, проявляясь в видесоматических симптомов (рвота, головная боль, повышение температуры и т.п.)перед посещением школы.
Самый неопределенный термин – «школьная фобия». Он используется дляобозначения различных форм страха, вызываемого посещением школы. Термины«дидактогения», «дидактогенные неврозы», «дидактоскалогения» используются длятого, чтобы указать, что тревога, страх ребенка вызваны непосредственно системойобучения (или более узко – отношением к ребенку педагога, несправедливым,
169К вопросу о дидактогенном неврозе
нетактичным поведением учителя). Дидактогенный невроз можно рассматриватькак частный случай социофобии [11].
Говоря о дидактогениях, дидактогенных неврозах, обычно подчеркивают, чтопсихотравмирующей является в первую очередь сама система обучения. По даннымболгарского исследователя И. Божанова, во взаимоотношениях между учебно-образовательным процессом и развитием невроза обнаруживаются три аспекта.Первый аспект – невротизирующее влияние учебно-образовательного процесса наобучающегося. Второй аспект – невротизирующее влияние учебной работы напреподавателя. И третий аспект – невротизирующее действие возникающей в ходеучебно-воспитательного процесса коммуникации ученик-учитель. Неврозогенноевоздействие учителя на ученика обозначается, как мы уже говорили, терминомдидактогения, ученика на учителя – именуется как матетогения [12].
Наши исследования на базе КРИППО показали, что мониторинг состоянияздоровья учащихся проводится нерегулярно. Проведение мониторинга в той школе,где учится ребенок респондента, подтвердили 251 человек (48%). Несколькочеловек отметили, что проводится он формально. Ничего не знают о мониторинге –62 респондента (12%). То, что такая процедура не проводится, знают 205 человек(40%). По меньшей мере, две группы жалоб, в соответствии с предложенной намиклассификацией, могут быть индикаторами дидактогении: жалобыпсихологического и дидактического плана. Жалобы психологического порядка(обиды на учителя, несправедливую оценку, на школу и жизнь, на физическоенасилие; плохое настроение, не хочется делать уроки, и др.) отметили 50 чел. (13%ответов). И – 74 человека (19,6% респондентов) сообщили о жалобахдидактического плана (много уроков, много заданий, трудные домашние задания,перегрузка, не интересно, шум в классе, нет желания, не спрашивают домашниезадания, мало творчества, много информации, загруженность и др.). Таким образом,порядка 33% педагогов фактически признают наличие у детей признаковдидактогенного невроза. Ко всему этому добавляется перегрузка от пребывания вшколе: шесть и более часов в школе проводит подавляющее большинство детей –414 анкет (82%). От 3 до 5 часов – 68 человек (13%) и 78 человек (15%) признали,что дети проводят в школе восемь(!) и более часов. Полученные нами данныесоотносимы с официальной статистикой по Российской Федерации.
Доктор педагогических наук Л.Б. Соколова указывает, что на дидактогенныеневрозы приходится 35-40% всех детских неврозов [13]. На эту же цифру указываютисследования С.С. Хапаевой [14]. А.М. Прихожан, доктор психологических наук,профессор РГГУ, старший научный сотрудник Института психологии РАОотмечает, что случаи дидактогении плохо фиксируются. Только в крайнем случае,когда ребенок уже попал в больницу с настоящим неврозом, факт налицо. Это 1–2%детей. Обычно взрослые не придают должного значения состоянию ребенка.Родители могут не узнать о решении ребенка не ходить в школу. Естьмеждународная статистика по всем видам школьных страхов: 10–15% детей. ВРоссии этот процент намного выше – до 40%, по последним данным, причем сборданных проводился только по Москве и крупным городам [8].
Исследования в школах показывают, что около 30% детей обладаютнеуравновешенной психикой и нуждаются в специальной психологической помощи[4]. Известный детский врач С.Я. Долецкий ввел в научный оборот специальныйтермин – синдром опасного обращения с детьми (СООСД). Медики утверждают,что есть заболевания детей, вызванные характером обращения с ними учителей.Таковы дидактогенные неврозы, на них приходится 35-40% всех детских неврозов.
170Медведева А.А.
«Хотелось ли тебе сегодня идти в школу?» - с таким вопросом обратиласьсоциологическая служба агентства ЮН-ПРЕСС в 10 городах России. Оказалось, чтолишь 30% подростков хотели идти в школу, а 2/3 заявили о своем нежеланиипосещать ее [15]. Ситуация с нервно-психической заболеваемостью иболезненностью ещё тяжелее. При сплошном обследовании учащихся городских исельских школ, ПТУ невропсихическая патология устанавливается в 70-80%случаев. Выявляется неблагоприятная тенденция к увеличению числа больных спограничными нервно-психическими расстройствами (прежде всего сневротическими состояниями) во всё более раннем возрасте со среднегодовымприростом заболеваемости в 8-11%. Отклонения в психическом здоровьеотмечаются у 55 % детей, находящихся в дошкольных учреждениях [12]. Крометого возникает порочный круг: мальчишка, у которого потребность в разрядкебольше, чем у девочек, на уроке вертится. На него прикрикивают, он нервничает иот этого еще хуже усваивает материал. Ему пишут замечание в дневник. Онприходит домой, где его тоже ждет за это наказание. Потом родителямвыговаривают за то, что они неправильно воспитывают ребенка и вообще онумственно недоразвит. Мальчик начинает заниматься с репетиторами. В результатееще меньше отдыхает. Вот и порочный круг, когда дидактогения переходит вшкольный невроз. У ребенка возникает отвращение к школе. Обращаем внимание,чаще всего – в 90% случаев! – школьный невроз наблюдается у мальчиков. Прираздельном обучении этого можно было бы избежать [5].
Повседневная лечебная практика, а также сведения из литературы позволяютсчитать, что учительская профессия – это труд, который нередко создаёт ситуациюхронического стресса. Очень часто приходится видеть учителей с различнымиформами неврозов. По данным доктора педагогических наук В.И. Петрушина до70% учителей страдают невротическими расстройствами [16, с. 111].
Вывод. Распространенность дидактогенных неврозов деформирует самусистему школьного образования. Однако четкая симптоматика данного явления неопределена. Дальнейшие исследования связаны с необходимостью составленияпроекта-анкеты для учащихся. Вероятнее всего, она должна содержать следующиевопросы:
• Ходишь ли ты в школу с удовольствием?• Хотелось ли тебе сегодня идти в школу?• Как ты учишься?• Как часто ты получаешь замечания от учителей?• Как часто ты прогуливаешь занятия?
Четкое определение детей-невротиков и их статуса в системе образования даствозможность описать кризис объемной модели системы образования.
Список литературы
1. Психологос. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://www.psychologos.ru/.
2. Дидактогения. Электронный словарь тренера и консультанта [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://msk.treko.ru/show_dict_407.
3. Дидактогения. Педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=5&f=53.
4. Кодохмаева Ф.А.Дидактогения [Электронный ресурс] / Ф.А. Кодохмаева. – Режим доступа:http://festival.1september.ru/articles/314022/.
171К вопросу о дидактогенном неврозе
5. Женщина и мужчина – по-разному устроенные организмы [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://www.orthomama.ru/cat39text189.htm.
6. Дидактогения. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Дидактогения.
7. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. Для средних специальныхучебных заведений / И. П. Подласый. – M.: Владос, 2002. – 332 c.
8. Прихожан А. Но самое страшное место – у доски [Электронный ресурс] / А. Прихожан. –Режим доступа: / http://www.ombudsman.perm.ru/_res/fs/file457.doc.
9. Педагогика. (Коррекционная педагогика с основами специальной психологии): методическиерекомендации для самостоятельной работы студентов / Составитель Е.Н. Михайлова. - Томск: Центручебно-методической литературы ТГПУ, 2004. - 16 с.
10. Тагирова Г.С. К проблеме социально-психологической дезадаптации школьников[Электронный ресурс] / Г.С. Тагирова. – Режим доступа: http://www.jourclub.ru/6/217.
11. Навигатор. В гостях у психолога [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.navigato.ru/years/2004/2004-04-30/psiholog/.
12. Шевелева В.С. Школьные, дидактогенные неврозы и другие психические реакции[Электронный ресурс] / В.С. Шевелева. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/stories/50347.
13. Соколова Л.Б. Духовность как интегративная сила образования [Электронный ресурс] / Л.Б.Соколова. – Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/250/26/.
14. Ольшанский В.Б., Волжская Н.Ю. Игры, в которые мы играем, или почему возникают и какпроходят школьные конфликты [Электронный ресурс] / В.Б. Ольшанский, Н.Ю. Волжская. – Режимдоступа: http://www.ecsocman.edu.ru/direktor/msg/177657.html.
15. Шнекендорф З.К. Конвенция о правах ребенка и нравственно-правовая защищенностьшкольника (лекция) [Электронный ресурс] / З.К. Шнекендорф. – Режим доступа:http://schoolsector.relarn.ru/prava/school/seminars/s1/p6.htm.
16. Петрушин В.И. Психология крика / В.И. Петрушин // Завуч. – 2002. – №2. – С.109-119.
Медведєва Г.О. До питання про дидактогений невроз // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія.Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 167-171.
В статті розглядається сутність і причина дидактогенного неврозу. Проблематики в тім, щопоширеність і виразність «шкільних стресів» в останні роки тільки підсилилася. Метою пропонованоїстатті є збір матеріалу для підготовки анкетного опитування учнів у зв'язку з дидактогенным неврозом.
Ключові слова: дидактогений невроз, дидактогенія, криза, шкільна тривожність
Medvedeva A. About the question of didaktogenom neurosis // Scientific Notes of Taurida NationalV.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23(62). – №1. – P. 167-171.
The article deals with the nature and causes of didaktogenom neurosis. Problematics in that prevalenceand expressiveness of «school stresses» last years only has amplified. The purpose of offered article isgathering of a material for preparation of questionnaire of pupils in connection with a neurosis.
Keywords: didaktogenny neurosis, didaktogeniya, crisis, school inadequacy
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 172-176.
УДК 100+501+612
СИСТЕМА «ИНДИВИД – ОБЩЕСТВО» В СВЕТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Паскалова М.И.
Автор предпринимает попытку апробировать ряд принципов и понятий синергетики вприложении к социальной системе «индивид-общество».
Ключевые слова: сложность, самоорганизация, открытая система, нелинейность, система«индивид-общество».
Предмет исследования – социальная система «индивид – общество». Цельисследования – анализ возможностей применения синергетических понятий кисследованию социальной системы «индивид – общество».
Новые идеи, как правило, вначале отвергаются научным сообществом. Но современем, если они выдерживают проверку на истинность, становятсяобщепринятыми. Так же происходит и с синергетикой. Синергетику еще называютнаукой о самоорганизации. Самоорганизация – это упорядоченное изменениесистемы, вызываемое внутренними силами или факторами, причиной которыхявляется сама система [4].
Наука о самоорганизации ищет общие правила возникновения и эволюциисимметричных структур, исследует формы, которые они могут принимать,разрабатывает методы предсказания их будущей организации в зависимости отизменений отдельных компонентов системы.
Идеи синергетической теории на современном этапе развития науки ужеоформились в новую парадигму. Мы принимаем определение Т. Куна, согласнокоторому парадигма это – признанные всеми научные достижения, которые втечение определенного времени дают модель постановки проблем и их решенийнаучному сообществу [7, с. 30]. На наш взгляд, синергетика полностьюсоответствует этому определению. Огромное количество научных публикацийразличного направления подхватывают новую синергетическую терминологию.Такие понятия, как нелинейность и открытость, самоорганизация и самоуправление,альтернативность путей эволюции и их выбор в точках бифуркации, порядок черезфлуктуации и другие, все чаще встраиваются в структуру научных текстов. Привсем обилии возражений и критических разборов по поводу терминологическойновизны теории самоорганизации в современных исследованиях гуманитариев, а втрудах естественников тем более, новый понятийный корпус синергетики получаетприменение и нередко работает на новом материале.
К тому же, синергетика как новое научное мировоззрение представлена сегоднянесколькими научными школами, исследовательскими группами, которыеобъединены идеями целостности мира, общности характеристик развития егообъектов всех уровней, единой модели механизма его эволюции. Синергетикаподсказывает и даже предписывает ученым теоретически обоснованныенаправления поиска проблем при изучении своих объектов, критерии выборапроблем и оценки их решения [5, с. 29-30].
173Система «индивид – общество» в свете новой парадигмы
Рассматриваемая нами социальная система «индивид-общество», несомненно,является сложноорганизованной системой. Поэтому мы делаем попыткуапробировать ряд понятий и принципов синергетики в приложении к выбраннойсоциальной системе.
Синергетика имеет дело со сложными объектами. Сложность – особаяхарактеристика системы, проявляющаяся в кооперативности, согласованности.Данное свойство многие авторы – идеологи системного подхода – считаютопределяющим для того, чтобы совокупность элементов и связей между нимисчитать системой [2, с. 59].
Многими исследователями отмечается тот факт, что «... Система – это не простосовокупность множества единиц, в которой каждая единица подчиняется законам.Это единство отношений и связей отдельных частей, обусловливающих выполнениеопределенной сложной функции, которая и возможна лишь благодаря структуре избольшого числа взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов»[8].
Сложная система состоит из множества взаимодействующих компонентовформирующих её целостность. Компоненты (в нашем случае индивиды) являютсянепременной принадлежностью целостной системы, они – это именно то, из чегонепосредственно образовано целое и без чего оно невозможно. Система есть,прежде всего, продукт своих компонентов. Противоречивое единство, сцепление,взаимодействие этих компонентов утверждают систему в рамках определенногокачества, обеспечивают функционирование и развитие именно этой системы.Иерархия уровней организации элементов делает возможным возникновение впроцессе развития системы новых уровней. Причем каждый такой новый уровеньоказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, врезультате чего система обретает новую целостность.
В рассматриваемой нами системе «индивид – общество» наименьшимкомпонентом выступает индивид. Он относится к обществу как часть к целому.Взаимодействуя с себе подобными, организовывая различного рода сообщества,индивид усложняет структуру общественной системы, таким образом, наименьшаячасть становится строительным материалом и причиной возникновения болеесложного целого. Богатое структурное разнообразие социальной системыформируется благодаря биосоциальности индивида.
Система «индивид – общество», как и всякая сложная саморазвивающаясясистема, является открытой системой. Система действует, развивается во внешнейпо отношению к ней среде, связана с ней множеством коммуникаций. Как всякаяоткрытая система, общество нуждается в обмене веществом и информацией,окружающими её системами, и составляющими её подструктурами, для которыхона сама выступает внешней системой. Так, Л.А. Петрушенко в свое время отмечал,что при рассмотрении системы надо рассматривать и ту часть среды, котораяпредставляет собой необходимые условия её существования [8, с. 37].Действительно, изучая ту или иную общественную систему, для полноты картины,немаловажным будет учитывать такие показатели, как климатический пояс,природный ландшафт, соседство других общностей, мировоззрения и традиции,сложившиеся исторически, только в этом случае мы сможем более точно ответитьна вопрос, почему данная система развивается так, а не иначе и, возможно,предположить путь её дальнейшего развития. Социальная система становится тем,что она есть именно в результате взаимодействия и взаимовлияния с внешними
174Паскалова М.И.
системами которые её окружают и внутренними подструктурам которые еёсоставляют.
Общественная система является целесообразной, стремящейся к достижениюопределенной цели. Все действия компонентов системы направлены на достиженияцели, действия с применением определенных средств есть не что иное, как функциисистемы и ее компонентов. Причем эти действия могут быть и добровольными, ипринудительными, сознательными либо неосознанными. Так или иначе, «работая»на главную цель, компоненты выполняют свои специфические функции, действуядля достижения своей специфической (не системной, а частной, частичной) цели.Эта же последняя есть не что иное, как средство достижения общей цели [1].
Гомеостатичность - еще одна из характеристик развивающейся системы.Гомеостаз В. Буданов определяет как поддержание программы функционированиясистемы, её внутренних характеристик в определенных рамках, которые даютвозможность двигаться к своей цели. От этой цели система получаеткорректирующие сигналы, которые дают ей возможность не сбиться с курса [4, с.48]. Основная задача гомеостаза - поддержание жизнеспособности системы и, хотябы частичная, реализация заложенных в ней возможностей.
Всю эту сложную сеть взаимодействий В.С. Степин называет наборомнелинейных сред [10, с. 7]. Нелинейность – это особая динамика системы,характеризующаяся неоднозначностью, неопределенностью, зависимостью отвыбора в точке бифуркации. Благодаря нелинейности самоорганизующиеся системынепредсказуемы в своих действиях. Примером нелинейности может служить жизньчеловека в непредсказуемом мире. Какую бы цель человек себе не наметил, онникогда не сможет предусмотреть, как в точности будет реализован его план.
К важным понятиям, тесно связанным с нелинейностью системы, относятсяпонятия неравновесности и неустойчивости. Следствием неравновесности есть то,что малые воздействия могут приводить к очень большим последствиям, а большие– к совершенно незначительным. Эта непропорциональность зависимостисостояния системы от состояния среды делает такие системы, с одной стороны,исключительно устойчивыми по отношению к крупномасштабнымнеблагоприятным воздействиям, а с другой стороны – необычайночувствительными к очень незначительным колебаниям состояния средыопределенного сорта [3, с. 66].
Так же необходимо отметить тот факт, что каждая система (в данном случаеобщественная) не является неизменной, раз и навсегда данной. Она не абсолютна,не вечна, главным образом, потому, что ей присущи внутренние противоречия. Онане только функционирует, но и движется, развивается. Каждая система имеет своеначало и свой конец, она переживает время своего зарождения и становления,развития и расцвета, упадка и гибели. А это значит, что время являетсянепременной характеристикой системы, таким образом, каждая система исторична.Учет исторического развития является необходимым условием при изучениисоциальных систем, так как сегодня социальная система есть результат выборасделанного ею в прошлом.
И, наконец, согласно синергетической теории, всем открытым,сложноорганизованным, динамическим системам, коей является и общество,присуще такое важное свойство, как самоорганизация. Самоорганизация – этопроцесс, в результате которого на основе свойств структур и функций даннойсистемы самостоятельно, без внешних управляющих воздействий создается,воспроизводится или совершенствуется организация данной системы.
175Система «индивид – общество» в свете новой парадигмы
Кратко процесс самоорганизации можно описать следующим образом.Самоорганизация присуща только открытым системам. Открытая система должнабыть достаточно далека от точки термодинамического равновесия. В точкеравновесия сколь угодно сложная система не способна к какой-либосамоорганизации. Фундаментальным принципом самоорганизации служитвозникновение нового порядка и усложнение систем через флуктуации (случайныеотклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие флуктуации обычноподавляются во всех динамически стабильных и адаптивных системах за счётотрицательных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры иблизкого к равновесию состояния системы. Но в более сложных открытыхсистемах, благодаря притоку энергии извне и усилению неравновесности,отклонения со временем возрастают, накапливаются, и, в конце концов, приводят к«расшатыванию» прежнего порядка и через относительно кратковременноехаотическое состояние системы приводят либо к разрушению прежней структуры,либо к возникновению нового порядка. Самоорганизация, имеющая своим исходомобразование через этап хаоса нового порядка или новых структур, может произойтилишь в системах достаточного уровня сложности, обладающих определённымколичеством взаимодействующих между собой элементов, имеющих некоторыекритические параметры связи и относительно высокие значения вероятностей своихфлуктуаций [9].
Применительно к социальной системе «индивид-общество» процесссамоорганизации представляется следующим образом. Данная система обладаетвсеми характеристиками необходимыми для того, чтобы в ней происходилипроцессы самоорганизации: это и открытость, позволяющая обмениватьсявеществом и энергией с окружающими системами; это и неравновесность,удаляющая систему от равновесия, которое делает процесс самоорганизацииневозможным; это и возникновение нового порядка через флуктуации состоянийсистем их элементов и подсистем. Еще одной причиной, по которой становитсявозможной самоорганизация является взаимодействие частей и целого, т.е.индивида и социума. Как отмечает Степин В.С., категории части и целогоприменительно к сложным саморегулирующим системам обретают новыехарактеристики. Часть внутри целого и вне его обладает разными свойствами.Целое уже не исчерпывается свойствами частей, возникает системное качествоцелого [10, с. 6]. Такое системное качество сегодня называется эмержентностью.Включаясь в общественную деятельность, индивид испытывает на себе влияниесоциума, система как бы накладывает на каждый элемент «отпечаток». Целое,объединив элементы, придает им новое свойство. Элементы начинаютвзаимодействовать друг с другом, работать на единую цель, при этом выполняякаждый свою функцию. Однако и система, наделяющая элементы новымисвойствами, не остаётся неизменной. Испытывая на себе влияние обновленныхэлементов, система изменяется сама. Такие обратные связи способствуют развитиюсистемы.
Итак, синергетика предлагает нам модель, которая указывает направленияпоиска проблем при изучении интересующих нас объектов. Как отмечали Е.П.Князева и С.П.Курдюмов, проблемы, решение которых пытается найти синергетика,заключаются в целом в том, как управлять, не управляя, как малым резонанснымвоздействием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных длясубъекта путей развития, как обеспечить самоуправляемое и самоподдерживаемоеразвитие.
176Паскалова М.И.
Вывод. Синергетика позволяет нам по-новому взглянуть на социальныесистемы. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что система «индивид-общество» уникальна, сверхсложна, является динамической и по этой причине непредставляется возможным выявить все параметры, влияющие на её изменение иразвитие. Однако есть возможность определять ведущие параметры системы, чтопозволит направлять и корректировать некоторые процессы, происходящие всоциуме.
Список литературы
1. Афанасьев В. Г. Системность и общество / В.Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1980. – 368 с.2. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности
социальных интерпретаций / Л.Д. Бевзенко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.3. Бранский В.П. Философия физики ХХ в. Итоги и перспективы / В.П. Бранский – СПб.:
Политехника, 2002. – 253 с.4. Буданов В. Синергетичні стратегії в освіті / Буданов Володимир // Вища освіта України. –
2003. – № 2. – С. 46-51.5. Дмитриева М.С. Синергетика в науке и наука языком синергетики: Сборник статей / М.С.
Дмитриева. – Одесса : Астропринт, 2005. – 184 с.6. Князева Е.Н. Антропный принцип в синергетике / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // Вопросы
философии. – 2003. – № 3. – С. 62-79.7. Кун Т. Структура научных революций / Кун Томас; [пер. с англ. И.З. Налетов]. – М.:
Прогресс, 1975. – 340 c.8. Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в свете кибернетики / Л.А. Петрушенко. – М.:
«Наука», 1971. – 289 с.9. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И.
Стенгерс; [пер. с англ. и общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонович и Ю. В. Сачкова]. – М.:Прогресс, 1986. – 432 с.
10. Степин В.С. Саморазвивающиеся системостнеклассическая рациональность / В.С. Степин //Вопросы философии. – 2005. – № 3. – С. 5-13.
Паскалова М.І. Система «індивід-суспільство» в світлі нової парадигми // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 172-176.
Автор робить спробу апробувати ряд принципів та понять синергетики відносно соціальноїсистеми «індивід-суспільство».
Ключові слова: складність, самоорганізація, відкрита система, нелінейність, система «індивід-суспільство»
Paskalova M. The system «individual- society» in the light of the new paradigm // Scientific Notes ofTaurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 172-176.
The author undertakes the attempt to approve a number of principles and concepts of synergetics in theapplication to the social system «individual- society».
Keywords: complexity, self-organizing, the open system, nonlinearity, system «individual- society».
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 177-182.
УДК 177.74
СОСТРАДАНИЕ КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Старцева Т.Н.
Статья посвящена исследованию феномена сострадания. Рассмотрение проблемного поляспециальных научных исследований, направленных на гуманизацию общественной жизни, позволяетвыявить определенную корреляцию сострадательности личности и гуманности общества.
Ключевые слова: сострадание, гуманность, общество, солидарность.
Если спросить, что объединяет таких выдающихся людей как Агнес ГоджияБояджиу, более известную как мать Тереза, Альберта Швейцера и Его СвятейшествоXIV Далай-ламу Тибета, то кто-то ответит словами Альберта Швейцера, что это«благоговение перед жизнью», кто-то скажет вслед за Его Святейшеством, что это«путь великого сострадания», а кто-то примет позицию матери Терезы,утверждающей, что это – понимание того, что «даже самые обездоленные людидолжны чувствовать себя нужными и любимыми». Все их позиции условно можноотнести к реализации принципа сострадательного отношения к людям. Объединяетих также и то, что все они в свое время стали лауреатами Нобелевской премии Мира.Такая высокая оценка мировой общественностью их вклада в дело мира говорит отом, что сострадательное начало прочно укоренено в аксиологическом базисекультуры, а его исследования актуальны и востребованы сегодня.
Актуальность феномена «сострадание» обусловлена также тем, что обществосегодня находится на пороге коренных перемен. Идет активный поиск новых основсоциальной интеграции. Транзитивное общество – это не безусловноепервоначальное социальное единство, когда каждый член социума органическисвязан со всей социальной системой и вне этой системы немыслим. Социальныйкризис, поставивший под вопрос существование сложившегося порядка, обнажилусловность этого порядка. В критических условиях выживает не общество и егоструктуры, а конкретные люди. Поэтому вся современная система образованияподчинена приоритету индивидуального подхода: общество, не имеющеевозможности обеспечить востребованность в будущем подрастающему поколению,вынуждено было переориентироваться на раскрытие индивидуально-личностногопотенциала, чтобы человек в стремительно меняющихся условиях мог сам успешнораскрывать свои способности. Эта переориентация происходила на фонедискредитации идей коллективизма, подпитывавших социальное единство советскихграждан. Новое индивидуализирующееся общество востребовало новый форматмежличностных отношений в диапазоне от непринужденного поверхностногокасания к личности Другого до его полного присвоения.
В последнее время наметилась тенденция к активизации специальных научныхисследований, посвященных проблемам гуманизации общественной жизни.
178Старцева Т.Н.
Наиболее показательным здесь является появление специальных исследований,посвященных феномену сострадания. Исследователь социальной психологии детстваАбраменкова В.В., отмечая растущую дегуманизацию детства, указывает насострадание как на тот духовно-нравственный ориентир, обращение к которомупризвано стать основанием новой гуманистически ориентированной социальнойинтеграции [1, c. 5].
Старостин В.П. рассматривает сострадание как имеющий непреходящуюценность социально-философский феномен. Исследователь обращается ксостраданию как к общечеловеческому принципу построения общественныхотношений и указывает на его богатейший нравственный потенциал, который можетбыть востребован для утверждения гражданского общества [2, c. 14].
Джеймс Джиллиген видит в сострадательном, гуманном отношении к людямзалог успешности всех программ профилактики насилия в его самых жестокихформах. Изменение отношения с карательного на гуманное представляет собойобращение к жизни, а не к смерти, и учит людей не просто жить вместе, а хотетьжить вместе [3, c. 155].
Приведенные позиции демонстрируют определенную корреляциюсострадательности личности и гуманности общества. Рассмотрение проблемногополя специальных научных исследований, направленных на гуманизациюобщественной жизни, позволяет обозначить объект и предмет исследования.
Объектом исследования является гуманность как фактор, скрепляющийобщество и обеспечивающий его перспективу.
Предметом исследования является сострадание, позволяющее определить меругуманности общества.
Сострадание в отношении к гуманности может рассматриваться как своего родалакмусовая бумажка, как индикатор, позволяющий идентифицировать гуманность.Гуманность, понимаемая как обусловленная нравственными нормами и ценностямисистема установок личности на социальные объекты (человека, группу, живыесущества), представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования иреализуется в общении и деятельности, в актах содействия, соучастия и помощи.
Целью данной статьи является раскрытие гуманистического потенциаласострадания. Для достижения поставленной цели формулируются задачи:
• вычленить обязательные компоненты сострадательности как личностногонравственного принципа;
• рассмотреть онтогенетический и филогенетический аспекты возникновениясострадательности;
• обозначить социальную значимость феномена сострадания.Прежде всего следует отметить, что сострадательность включает в себя
несколько обязательных компонентов: 1) способность почувствовать, воспринятьболь Другого, 2) личностный эмоциональный отклик на боль Другого, 3) стремлениепомочь Другому, облегчить его боль. Первый компонент непосредственносоотносится со способностью к эмпатии как эмоциональной отзывчивости человекана переживания другого человека. Эмпатия представляет собой внерациональнуюформу познания внутреннего мира другого. Как эмоциональный отклик онаосуществляется в элементарных (рефлекторных) и в высших личностных формах
179Сострадание как фактор гуманизации общественных отношений
(сочувствия, сопереживания, сорадования) [4, c. 899]. А это уже является переходныммостом ко второму компоненту указанной триады. Способность к эмпатии в ееэлементарных формах является необходимой предпосылкой развития более высокойформы эмоциональной отзывчивости, соотносимой с жалостью и состраданием.Третий компонент, представленный бескорыстным стремлением помочь другому,примыкает к гуманности и является основой формирования милосердия как базовогоэтического принципа отношения ко всему живому.
Характер и природу сострадательности помогает понять обращение контогенетическому и филогенетическому аспектам возникновениясострадательности.
Сострадание как общечеловеческий феномен зарождается на ранних стадияхсоциального развития, согласно Н.В. Калягину, на основе: «альтруистичногообщения в часы досуга, общения, не позволившего раннему обществу распасться» [5,c. 25]. Подобное мнение разделяет также и П.А. Кропоткин, когда пишет о«внутривидовой взаимопомощи, обеспечившей выживание человека в условияхсуровой межвидовой борьбы» [6, c. 29].
П. Кропоткин строит свою этическую концепцию, основываясь на «инстинктеобщечеловеческой солидарности, взаимной помощи и общительности» [6, c. 8]. Этотбазис нравственных чувств «вырабатывается в длительные периоды спокойной иразмеренной жизни, которые, безусловно, преобладали в истории над периодамивойн, разрушений, смут и прочих социальных и природных катаклизмов. Эти чувствавырабатываются для того, чтобы потом в случае действительной необходимости,сработать безусловно и точно, когда уже и сам человек не может понять, что за силаподняла его и заставила поступить так, а не иначе» [6, c. 209].
Зарождение способности к состраданию в индивидуальном развитии человекапроисходит в раннем детском возрасте. Эмпатийные способности, к которымотносится и способность к состраданию, могут формироваться только в процессеживого общения, и если в свое время этого не произошло, то в дальнейшем развитиикомпенсировать это будет уже невозможно. Человек, не способный к эмпатии, будетзнать по своему личному опыту, что такое боль, сможет понять, что другому тожеможет быть больно, но он никогда не сможет ощутить боль другого человека каксвою собственную.
Способность к состраданию является одной из базовых социальноориентированных способностей. Но ее неразвитость еще не говорит о полнойморальной несостоятельности личности, если в качестве морального регулятивавыступает чувство долга, удерживающее поступки в рамках социально приемлемых,а, возможно, и социально одобряемых форм. Особенность сострадания состоит в том,что оно способно непосредственно оказывать влияние на сферу мотивации.Поступки, совершаемые из сострадания, отличаются своей естественностью инепринужденностью.
Человек по своей природе устроен так, что нормальная реакция при видефизической боли, причиняемой живому существу, проявляется и на психическом, ина соматическом уровне. (См. Харуки Мураками «Хроники заводной птицы»).Сострадание – чувство очень сильное. Действие, оказываемое им на человека,врывается в привычный ход событий, внося свои коррективы. Именно эту силу,
180Старцева Т.Н.
способную полностью подчинить себе человека, критиковал Ф. Ницще. Состраданиедля него – это одна из слабостей [7].
Стремление создать сверхчеловека, лишенного подобных слабостей исклонностей, свободного от такого рода зависимости, привело к тому, что несколькопоколений подряд люди упорно формировали «недолюдей». Теперь человечествуесть, чем «гордиться»: одиннадцатилетний ребенок может спокойно стоять и сниматьна камеру мобильного телефона, как его одноклассники избивают беззащитнуюдевочку.
К сожалению, случаи полного отсутствия способности к эмпатии (в том числе наэлементарном рефлекторном уровне) уже не единичны. Опасность формированияобщества «холодных и расчетливых» лежит не только в том, что у такого человека небудет достаточно сильного мотива оказания помощи другому, но и в том, что такойчеловек, не задумываясь, сможет причинить другому боль. В педагогике принятытакие понятия как педагогическая и социальная запущенность. В современныхусловиях следовало бы ввести также понятие этической запущенности дляхарактеристики отсутствия элементарных нравственных качеств, к которым в первуюочередь относится способность к состраданию.
На современном этапе социальная значимость сострадания проявляется двояко:1) как и ранее, сострадание как естественная, базовая, родовая потребностьинтегрирует людей, сплоченных общей болью (первичное дорефлексивноесоциальное единство), и 2) сострадание, относясь к внерациональным формампознания субъективного мира другого, открывает путь общения между людьми виндивидуализировавшемся обществе, создавая предпосылки для формированиявторичного социального единства.
В.С. Пазенок, осмысливая концепцию «нового экзистенциалиста» Д. Хелбрука,пишет: «Не добровольное бегство от общества, не погружение личности в еесобственные переживании и размышления о «покинутости», «незавершенности», анаоборот, осознание своего места в обществе, целенаправленное участие «в событияхс другими» делают жизнь человека аутентичной» [8, c. 54]. Поиски устойчивойосновы социальности все чаще возвращаются к идеям сострадания и солидарности.
Эту же мысль поддерживает Р. Рорти: «Когда история переживает переворот, атрадиционные институты и образцы поведения рушатся, нам хочется чего-то такого,что находится за границами истории, за границами институтов. Что это может быть,как не людская солидарность, как не наше признание друг у другаобщечеловеческого» [9, c. 240].
Потребность в сострадании также имеет двоякий характер: с одной стороны, этопотребность страдающего в понимании и заботе, с другой – потребность того, ктосострадает, чувствовать себя нужным и востребованным. Отношения состраданиявозможны в диапазоне от самозабвенной заботы о другом как единственной целижизни до пути личного морального совершенства как блага для себя.
Значимость сострадания для жизни общества прослеживается сквозь тесоциально значимые функции, которые оно выполняет. К их числу можно отнести:
интегративную функцию – поддержание и укрепление первичного социальногоединства, установление вторичного социального единства в атомистическоминдивидуализировавшемся обществе;
181Сострадание как фактор гуманизации общественных отношений
коммуникативную функцию – установление связи между социальнымиэлементами, активизация живого, ценностно ориентированного межличностногообщения;
гносеологическую функцию – внерациональное познание внутреннего мирадругого человека, эмпирическое познание основных этических принципов;
практическую функцию – реальное оказание помощи нуждающемуся;гуманизирующую функцию – внимание к конкретному страдающему человеку,
выход человека из эгоистической изоляции.Обращение к состраданию как к фактору, способствующему гуманизации
общества, позволяет сделать ряд теоретических выводов и сформулироватьнесколько практических рекомендаций.
1. Отношения сострадания являются подлинно гуманными отношениями. Во-первых, они снимают возможность отношения к Другому как к Чужому, открываяпуть к диалогу и взаимопониманию. Во-вторых, выводя человека из эгоистическойизоляции, сострадание выступает в качестве мощнейшего мотива обращения кпотребностям Другого. В-третьих, отношения сострадания не растворяют личность всоциуме, а оставляют место для духовной индивидуализации.
2. Так как способность к эмпатии в общем и к состраданию в частности в раннемдетском возрасте может быть целенаправленно сформирована, в программыдошкольных учебных заведений рекомендуется вводить регулярные тематическиезанятия, формирующие альтруистические мотивы поведения. Просмотрмультфильмов рекомендуется сопровождать объяснительным комментариемпедагога или родителей, что позволит сформировать у ребенка адекватное отношениек увиденному на экране. Бережное отношение ребенка к живому следует поощрять иподдерживать. Наряду с индивидуальными, рекомендуется активное внедрениеколлективных форм творчества, что позволит ребенку ощутить потребность вДругом.
Разрыв поколений, особо остро ощущаемый в транзитивном обществе, можетбыть смягчен за счет открытия университетов третьего возраста. Люди старшегопоколения воспитаны на гуманистических общественных идеалах. Пожилой человекв обществе является основным хранителем социальности. Чтобы жить, а невыживать, людям пожилого возраста нужны знания и навыки для налаживаниясоциальных коммуникаций, для того, чтобы реализовать те силы жизни, которые онив себе чувствуют.
Средствам массовой информации рекомендуется акцентировать внимание нетолько и не столько на фактах вопиющей жестокости, сколько на повседневнойбудничной практике милосердия.
Список литературы
1. Абраменкова В. В. Сострадание и сорадование в детской картине мира / Абраменкова В.В. –М.: Эко, 1999. – 224 с.
2. Старостин В.П. Сострадание как социально-философский феномен: дисс. на соиск. уч. ст. канд.филос. наук: 09.00.11 / Старостин Владимир Петрович. – Якутск, 2008. – 180 с.
3. Джилліген Джеймс. Запобігання насильству / Джеймс Джилліген ; [пер. з англ. В. Мокляк] – К.:ФРОСТ, 2003. – 194 с.
182Старцева Т.Н.
4. Психолого-педагогический словарь / сост. Рапацевич Е.С. – Минск: Современное слово, 2006. – 928 с.5. Калягин Н.В. Истоки внутреннего мира человека / Н.В. Калягин // Вопросы образования
сегодня. – 2006. – № 1. – С. 23–28.6. Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции / П.А. Кропоткин. – М., 1918. – 215 с.7. Ницше Фридрих. Человеческое слишком человеческое / Фридрих Ницше; [пер. с нем. Г.
Абашидзе] – М.: Мысль, 1990. – 146 с.8. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / [Пазенок В. С., Соболь О. М., Лях В.В. та ін.].
– К.: Укр. центр духовної кльтури, 2001. – 380 с.9. Рорти Р. Философия и будуще / Ричард Рорти // Вопросы философии. - 1994. – № 6. – С. 224–242.
Старцева Т.М. Cпівчуття як фактор гуманізації суспільних відносин // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 177-182.
Стаття присвячена дослідженню феномена співчуття. Розгляд проблемного поля спеціальнихнаукових досліджень, спрямованих на гуманізацію громадського життя, дозволяє виявити певнукореляцію співчутливості особистості й гуманності суспільства.
Ключові слова: співчутливість, гуманність, суспільство, солідарність.
Startseva T.N. Compassion as Humanization Factor of social Relationship // Scientific Notes ofTaurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 177-182.
The article devoted to the phenomenon of compassion. Revise of problem field of special scientificinvestigations, which are conducted to the humanization of societal life, shows direct correlation betweencompassion of person and humanity of society.
Keywords: compassion, humanity, society, solidarity.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 183–187.
УДК 168
ФУТУРОПРОГНОСТИКА БЫТИЯ ЛЮДЕЙ:ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чудомех В.Н.
Проанализировано влияние футуропрогностики на исторические события, произошедшие в ХХвеке – на создание СССР и ЕС, и на процесс «глобализации» бытия современных людей. Обозначены:перспективные задачи будущей «научной футуропрогностики» и её место в последующем БытииЛюдей.
Ключевые слова: футуропрогностика, глобализация, будущеел людей.
Цель настоящей публикации – дать оценку первых опытов научнойфутуропрогностики с исторической точки зрения, проанализировать возможности ипоследствия проектирования людьми своего будущего.
Задача настоящей публикации – выявить исторические перспективы развитиянаучной футуропрогностики.
У современной футуропрогностики бытия людей многовековая, совокупнаяпровидческая, религиозная и эзотерическая история, и очень краткая – историянаучная. В последующем времени научное предвосхищение будущего развивалосьволнообразно. Всплески его активизации приходились на годы резких и глобальныхизменений в жизни человества, а также на годы глобальных – политических,экономических и экологических кризисов, периодически потрясавших человество вХХ веке, а спады – на промежутки между ними, на годы относительногоспокойного течения жизни. Примерно до 70-х годов ХХ века, научнаяфутуропрогностика ограничивалась предвосхищением будущего по событиям итенденциям в настоящем, а в 70-80-х годах ХХ века в её рамках сформировалосьещё одно направление научного футуропроектировани». Его быстромустановлению способствовала интенсивная работа «Римского клуба», а также,множественных в ту пору западноевропейских и американских футурологическихнаучно-общественных организаций, и его воплощение мы видим: в действующемЕС, в динамично идущей глобализации бытия людей, в постановлениях ООН позащите окружающей среды и в совместных действованиях государств для ихвыполнения.
Таким образом, менее чем за полвека (от «первопредвосхищений далёкогоБудущего» К.Э. Циолковским, Н.Ф. Фёдоровым, В.И. Вернадским и П. Тейяром деШарденом), научная футуропрогностика бытия людей прошла в своём развитии отидейных представлений далёкого будущего – до внедрения и реализациитеоретически разработанных проектов будущего бытия людей. Такоевмешательство в будущее людей, хотя и обоснованное научно, остается всё-такисубъективным, осуществляется самими людьми на глобальном уровне впервые, и
184Чудомех В.Н.
отношение к нему в разных частях земного шара не однозначное. Особо яркопроявляется эта неоднозначность в оценках нынешней глобализации мира людей:начатой в 70-х годах ХХ века, и проводимой Западом по сценарию, разработанному«Римским клубом».
Что привнесла в бытие людей научная футуропрогностика? ХХ век былчреват великими событиями изначально и многие из них – с первопробами внаучной прогностике будущего. За предвосхищением (К. Марксом и Ф. Энгельсом)возможности построения в будущем государства трудящихся, за проработкой имиего общих основ и условий появления, последовали: рост революционной борьбытрудящихся, каскады революций, и создание СССР – государства нового типа.СССР, таким образом, стал, по сути, первой практической пробой перестроитьтрадиционно текущее бытие людей под научно предвосхищённое бытие.Общеизвестны последствия: 75-ти летняя борьба миров – «Старого с Новым», двеМировые Войны (Вторая и «Холодная»), крушение в 70-х годах ХХ века мировойколониальной системы, и в 90-х годах ХХ века – самого СССР. Что привело к такимпоследствиям первой пробы людей в практическом футуропроектировании? Ипочему первый блин оказался комом?
У рассматриваемой нами первопробы ускоренно построить будущее, былонесколько принципиальных предпосылок к такому её развитию и финалу. Во-первых, у её инициаторов был лишь идейный проект государства трудящихся,поэтому поиск практических оснований осуществлялся ощупью, методом проб иошибок, почему и занял несколько десятилетий. Во-вторых, эта первопробаосуществлялась волюнтаристски: без учёта мнений тех, кого она невольнозатрагивала, и тех, для кого предназначалась. И, в-третьих, локальная успешностьэтой первопробы мотивировала её инициаторов к проявлению историческихамбиций разжечь мировую революцию, возглавить её и, разрушив всё старое,открыть новую страницу в истории.
На фоне такого революционного начала в начале ХХ века сформировался ужестойкий интерес к предвосхищению будущего и его исторически значимымпроявлением стали труды В.И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена, посвященныеноосферной проблематике. Работы в данном направлении имеля ряд важныхпоследствий:
1. Существенно расширили представление о потенциально возможныхобразах человеческой жизни.
2. Способствовали трансформации одновекторной рефлексии в рефлексиюдвухвекторную, поскольку знание будущего делало возможным егосопоставление с настоящим.
3. Открыли путь к научному рогнозированию отдалённого будущего.Начало следующей волны интереса к научной футуропрогностике можно
датировать 60-ми годами ХХ века. Временем «Карибского кризиса», расширенияклуба ядерных держав, резкого роста количества ядерных испытаний и социальнойнапряжённости в Западном мире. Все это в еще большей мере обострило проблемутого, к какому будущему движется челочество. Как следствие, в США и Европеформируется сеть футурологических обществ, по инициативе А. Печчеи
185Футуропрогностика бытия людей: возможности и перспективы
учреждается «Римский клуб» (1968), а в 1974 году создаётся Всемирная федерацияпо исследованиям Будущего. Поэтому в 70-80-х годах ХХ века научнаяфутуропрогностика развивалась очень динамично и во многом благодаря работам«Римского клуба». Приведем наиболее известны из них: «Исследование перспективЧеловества» Д. Медоуза - работа, вышедшая под названием «Пределы роста» иставшая «визитной карточкой» Римского Клуба (1972); трактаты М. Месаровича, Э.Пестеля «Человечество у поворотного пункта» (1974) и Э. Ласло «Цели дляЧеловества» (1977); исследование Б. Гаврилишина «Маршруты, ведущие вБудущее» (1980). В конце ХХ века прежде жгучий интерес к футуропрогностикерезко спал, и она опять перешла в стадию самосовершенствования.
В истоках второй волны интереса к научной футуропрогностике есть одна егосущественная составляющая, которую следует рассматривать особо. В 1957 г.прошли предварительные переговоры о создании ЕЭС («Общего рынка странЕвропы») и в 1958 г. он оформился (по «Римскому договору») уже юридически.Первые десять лет ЕЭС прошли в разрешении проблем взаимоувязыванияэкономик, юридических баз, интересов и потребностей, учредивших его государств,а вторые десять – в поисках пути повышения эффективности ЕЭС и в оценке егоотдалённых перспектив. Для этого, собственно, и предназначался «Римский клуб»(эти две задачи при его учреждении определялись как первостепенные). Но уже всамом начале своих научных работ его представители вынуждены были расширитьрамки изначально намеченного локального бытия и сосредоточиться наглобальном. Потому что сразу же столкнулись с принципиальной проблемой – как,не зная будущего в целом, спрогнозировать будущее в его отдельной части ?
С данной проблемой представители «Римского клуба» справились путём: а)ретроспективного исследования текущего из гипотетически предвосхищённогоотдалённого будущего; б) выбора для прогнозов лишь тех сфер жизни, будущеекоторых определяется математически, точными расчётами и компьютерныммоделированием. Математически выверенное будущее стало весомым аргументом впользу изменения настоящего и объективным подтверждением необходимостиперехода от риторики к конкретным действиям.
Существенен вклад «Римского клуба» в развитие процессов глобализации. Идеятрансформации ЕЭС в ЕС (в Союз европейских государств), выдвинутая «Римскимклубом», помогла исключить борьбу за государственные суверенитеты в ходесоздания ЕС, она же лежит и в основание идущей глобализации. Эта идея проста ипрагматична: а) ядро ЕС создают государства, осознавшие его полезность испособные реально обеспечить его деятельную эффективность; б) длительностьсуществования ЕС и темп расширения числа его участников предопределитуровень жизни и степень свободы входящих в ЕС граждан. Именно такпредвосхищённое в идее воплотилось в практике. Сначала в ЕС вошли страны,которые хотели объединиться, а затем – увидевшие преимущества объединениягосударств, впоследствие – страны, вынужденные присоединиться.
По такой же синергетической модели проходит и глобализация современногомира. Начав её как внутреннюю, западная цивилизация значительно ускорила своёэкономическое развитие и теперь, подобно водовороту, втягивает в процесс
186Чудомех В.Н.
(посредством финансовых, экономических, производственно-технологических иторговых связей) остальные государства. При нынешнем расширении «прежде-локального» во «всеобъемлющее» постепенно проявляются попутные эффекты,которые, вероятно, и не могли быть спрогнозированы во времена активнойдеятельности «Римского клуба». Так, например:
• Углубляющаяся «глобализация» всех сфер бытия современных людейсформировала, по мнению французского философа Э. Морена, у многих –зачатки «планетарного сознания» [4, п. 2.6].
• Несмотря на культурно-цивилизационные различия большинство изинициируемых Западом глобальных проектов ныне активноподдерживается Востоком.
• Запад стал более открытым, демократичным, толерантным. Преодоленныетрудности самоглобализации подвигнули Западный мир скорректироватьсвоё былое видение настоящего и будущего.
• Примерно с конца ХХ века, степень цивилизационного противостояниярезко снизилась, заметно расширились и углубились взаимопроникновенияцивилизаций.
• Многие межгосударственные противоречия разрешаются за столомпереговоров или с помощью международных посредников, что становитсяобщепризнанным международным правилом.
Вышерассмотренные пробы футуропроектирования будущего позволяютконстатировать:
1. Человество в ХХ веке очень быстро перешло от пассивного созерцаниятечения истории к освоению прогностики хода истории, и к пробам егокоррекции.
2. Два фактора - активное вмешательствро в ход истории и развитиенаучной футуропрогностики - свидетельствуют о начале осмыслениячеловечством реальных перспектив своего бытия на земле.
3. Успех глобализации был предопределен прогностической подготовкой ивниманием к опытам революционного ускорения, что привело к моделиненавязанной глобализации.
4. В ходе глобализации со временем могут осуществиться многие подчаснеожиданные прогнозы, уходящие своими корнями в религиозно-мифологические представления.
Научная футуропрогностика пока в зачаточном состоянии и потенциальныхпроблем на пути её статусного оформления будет предостаточно. Тем не менеедаже и при контурном обозначении своих возможностей наличная научнаяфутуропрогностика продемонстрировала собственную необходимость, посколькучеловеку свойственно осознанно продвигаться в будущее.
Выводы. Наблюдаемые процессы глобализации демонстрируют реальнуювозможность научного футуропроектирования, что неизбежно ставит проблемуограничителей свободы футуропроектирования и предохранителей от возможныхошибок. Подобная задача в науке ещё не ставилась, но имплицитно она присутвуетво многих дискуссиях и обозначается в связи с двумя аргументами: а) не всё, что
187Футуропрогностика бытия людей: возможности и перспективы
угодно, допустимо конструировать в будущем, а только то, что согласуется снастоящим; б) прогнозируя будущее, нужно «ударять по клавишам возможного»,поскольку «игра не по клавишам» может привести к хаотизации мира людей.
Список литературы
1. Введение в философию. Учебник для вузов: в 2 т. / И.Т. Фролов, Э.А. Араб-оглы и др. – Т.2 –М.: Политиздат, 1990. – 639 с.
2. Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров(председатель) и др. – М.: «Советская Энциклопедия», 1981. – 1600 с.
3. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи; [Пер. с англ. О.В.Захаровой; Под ред.Д.М.Гвишиани]. Изд. 2-е. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.
4. Ласло Э. Пути, ведущие в грядущее тысячелетие, проблемы и перспективы [Электронныйресурс] / Э. Ласло; [Пер. с англ. Ю.А. Данилова]. – Режим доступа: http: / Nonline.ru/node/107
5. Князева Е.Н. Конструирование Будущего [Электронный ресурс] / Е.Н. Князева // Материалымеждународной конференции «Путь в Будущее – наука, глобальные проблемы, мечты и надежды». –М.: Инс-т прикладной математики им. М.В. Келдыша, РАН, 2007. – Режим доступа: http: /nonline.ru/node/107
Чудомєх В.М. Футуропрогностика буття людей: можливості та перспективи // Вчені запискиТаврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 183-187.
Проаналізовано вплив футуропрогностики на історичні події ХХ віку – на створення СРСР та ЄС,і на процес «глобалізації» буття сучасних людин. Відзначені: перспективні задачі майбутьнєй«наукової футуропрогностики» і місце ії в наступному Бутті Людей.
Ключові слова: футуропрогностика, глобалізація, майбутнє людей.
Chudomeh V. Forecasting of рeople вeing: opportunities and prospects // Scientific Notes of TauridaNational V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –Vol.23 (62). – №1. – P. 183-187.
Influence of forecasting on the historical events in XX centure – on the USSR and EU, and on theprocess of «globalization» of modern People Being – is analised. There are designated: the prospective tasksof «scientific forecasting» (in future) and its place in subseguense People Being.
Keywords: forecasting, globalization, being, future of people.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 188-193.
УДК 316.4.051.62
ЧЕЛОВЕК ЗАБЫЛ СЕБЯ
Шелковая Н.В.
В статье раскрываются деградационные процессы в современном западном техногенномобществе, в частности, роботизация людей; обосновывается мысль о необходимости перехода отабсолютизации ratio к кордоцентризму для восстановления утраченной гармонии человека с миром,природой и самим собой.
Ключевые слова: роботизация, абсолютизация ratio, кордоцентризм.
Цель данного исследования заключается в раскрытии процессов деградациисовременного западного техногенного общества и в обосновании необходимостивосстановления утраченной гармонии человека с миром, природой и самим собойпосредством перехода от абсолютизации ratio к кордоцентризму.
В качестве иллюстрации опишем здесь два эпизода.В книге «Анастасия» В. Мегрэ описывает природно-космическое воспитание
Анастасии. Маленькая Настенька живет одна в лесу среди животных, птиц ирастений, которые ее учат, любят и оберегают. Только раз в неделю к ней приходитее дедушка (родители ее погибли). Будучи, как все дети в ее возрасте,«почемучкой», она не раз спрашивала дедушку: «Почему …?», но он неизменно ейотвечал: «Милая Настенька, ты всё знаешь сама». «Откуда же я знаю? –спрашивала Настенька, – ведь я еще совсем маленькая девочка». «Ты можешь всепонять сама», – говорил, целуя ребенка, дедушка и уходил. Через неделю онприходил, и Настенька вновь обращалась к нему с тем же вопросом, говоря, что несмогла понять сама. Он ее уверял, что она обязательно все поймет, нужно тольковремя. И когда он приходил через неделю вновь, она его встречала с радостнымвозгласом: «Дедушка, я всё поняла сама!». «Вот видишь, я же говорил тебе», –отвечал дедушка. Так повторялось множество раз. При этом понимание маленькойНастеньки было таким глубоким, что дедушка (да и не только он!) никогда бы доэтого не «додумался». Откуда же у маленького ребенка появлялись в ее головке«несмышленыша» гениальные, глубокие и мудрые мысли-ответы на вопросы омире? Может, ее детский мозг настраивался, как приемник, на волны-информации,излучаемые ноосферой, а, может, ее сознание, как лазерный луч, прорывалось запределы ноосферы в Космос и черпало знания там?
Другой эпизод произошел со мной в фотоателье. Я попросила девушку сделать10 фотографий, она взяла калькулятор и стала умножать 0,55 (грн.) на 10. Она ужене могла или не хотела осуществить в голове элементарную математическуюоперацию. Не могла или не хотела? Немощь мозга или лень мозга?..
Что же происходит в современном мире: интеллектуализация или дебилизациянаселения? Еще Гераклит говорил: «Многознание уму не научает». Сегодня я бы
189Человек забыл себя …
сказала, что многознание информационного общества создает (или штампуетпартиями?) «информированных дебилов». Печальный парадокс: чем больше знаютлюди, тем меньше понимают то, что знают, то, что происходит в мире и с нимисамими (не «запутанность» ли в себе является одной из причин массовых неврозов ибума психотерапии?..).
Позволю себе в связи с этим привести мысль из моего «Дневника мыслей» (имысли эти не из книг, из «ниоткуда» (ниоткуда? а, может, из ноосферы илиКосмоса?): «Если очень быстро «шевелить лапками», то в воде не утонешь, в пескене увязнешь, проскользнешь по поверхности стремительно, Да, не увязнешь, но и непознаешь глубины…». Современные люди мчатся стремительно «по поверхности»знаний, чувств, жизни. Одной из особенностей современной цивилизации являетсястремительный темп жизни, лавинообразный рост информации, даже темп речистал стремительным до непроизносимости, не говоря уж о невозможности усвоениятакого количества информации, низвергаемой, как водопад, на человека, к тому жев таком неестественном для живого человеческого организма темпе. Человеческийорганизм просто не выдерживает этого насилия над ним и реагирует срывами,неврозами.
Люди бегут, торопятся, спешат. «Время – деньги» – лейтмотив жизни многихсовременных людей. Но куда же они спешат? К тому финишу, к которому мы всепридем – к смерти? Зачем же так спешить к ней придти? Может, стоитостановиться, посмотреть по сторонам, остановить мгновение и увидеть Вечностьи высшую Красоту и Гармонию мироздания, разлитую щедро во всем, в том числе,в человеке. И почему люди спешат взять, причем взять что-то из серииматериальных удовольствий, превращаясь, по сути, в тех, о которых Демокритговорил: «Те же, которые… купаются в потоках удовольствий и пожираютничтожные и безумные предметы роскоши, суть люди свиноподобные» [1, с. 27].
Люди забыли, что всё материальное тленно, что рождается и появляется, тоумирает и исчезает. И лишь духовное вечно. Люди гонятся за иллюзией, майей,строят Вавилонскую башню. А в результате?.. А в результате то, о чем мудропредупреждает Библия, – люди перестали понимать друг друга, и забыли, что в тотмир (по-ту-стороннний, за-гробный), в который они так спешат, ничегоматериального взять нельзя (этому учили все мудрецы Востока и Будда, вчастности).
Современное западное, так называемое «цивилизованное общество»превращается (или уже превратилось?) в «цивилизованное варварство» (Н.Бердяев). «Цивилизованные люди» всё более и внешне, и внутренне напоминаютпапуасов, жителей племени Умбу-Юмбу: достаточно лишь взглянуть на стиль иходежды, обильный татуаж и пирсинг, украшения, манеры, формы общения,послушать их разговоры и «музыку» (бум-бум-бум…). Крушение «культурывечности и вертикали» и беснующееся торжество «одноразовой культуры попсы» –еще одно печальное подтверждение этого деградационного процесса в Западномобществе (в который с удовольствием втягивается и Украина). По существу,происходит о-животнивание людей.
190Шелковая Н.В.
Вспоминается мысль, неоднократно изрекавшаяся философами всех времен: «Вчеловеке соединяются Божество и ничтожество, «верх» и «низ». И по своей воле,данной ему Богом, он может подняться до небес и пасть до состояния животного».Добавлю, хуже животного, ибо о-животненный человеческий ум изощряется дотаких противо-естественных действий, до каких ни одно другое живое существо недоходит. Достаточно упомянуть о целенаправленном и осознанном (!?..)самоуничтожении людьми себя как индивидов и как вида.
Почему же это происходит? Почему ни одно живое существо на Земле, кромечеловека, не ведет образа жизни, который уничтожает его на уровне особи и вида?Может, потому, что современный «западный человек» уже не живой, не природноесущество?
В сознании современного человека природа предстает как нечто пассивное, какаморфный фон существования социума. Из храма, какой ее видели в древности, онапревратилась в мастерскую для удовлетворения неутолимой жажды удовольствий(материальных благ). Для древнего человека природа была частью его, а он –частью природы, т.е. имело место отношение «человекприрода» (одно слово!).Более того, природа рассматривалась им не как нечто низшее, а как насквозь«сакрализованное пространство». Всё человеческое бытие и вся окружающая средаимели для древнего человека сакральные смыслы.
Современный человек отделил себя от природы, он возле, около, над, но не вней. Так рождается мироотношение «человек и природа» (три слова!). Уход отприроды, от земли, панурбанизация нарушили связь человека с землей. Нельзя несогласиться с мнением М. Хайдеггера, что все ценное в человеке укоренено вглубинах родной земли, современный же способ человеческого существованияприводит к нарушению этой укорененности, «земледелие и сельское хозяйствопревратились в механизированную пищевую промышленность, и здесь, как и вдругих отраслях, происходит глубочайшее (выделено мной – Н.Ш.) изменение вотношении человека к природе и к миру перед ним» [3, с. 110].
Однако, широко распространенное в последние десятилетия изложениеинформации по экологии в апокалипсическом стиле, ведет лишь к невротизацииобщественного сознания и появлению состояния «экоистерии» (Н. Киселев) [4, с.141], но отнюдь не к сближению человека с природой, не к осмыслениюорганической связи человека с природой, союз «и» (человек и природа) остается.
Similis simili gaudet (Подобное тяготеет к подобному – лат.). К чему же тяготеетсовременный «западный человек»? (Замечу в скобках, что «восточный человек»иной, но это предмет особого разговора и тема для дискурса: «Почему сегодняВосток постепенно завоевывает (или «внедряется в») Запад?»). К компьютерам,мобильным телефонам, плейерам (вплоть до комп-, моб- и плейер-зависимости).Еще в начале ХХ века осмысление этого процесса приводит Н. Бердяева кследующим мыслям: «Жизнь делается все более технической. Машина налагаетпечать своего образа на дух человека… В цивилизации само мышление делаетсятехническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и болеетехнический характер… Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни,
191Человек забыл себя …
орудиями жизни… Машина получает магическую власть над человеком» [5, с. 260–262].
Современное информационно-компьютерное общество порождает«компьютерных людей», проблема компьютерной зависимости стала одной изглавных для психологов. Рождается новый человек – техногенный, на местобиогенезу приходит техногенез. Если в биогенезе носителем процесса являетсябиос, живое вещество или биовещество, то в техногенезе носителем становитсятехнос или техновещество. Устанавливается тоталитарное господство техногенногочеловека, наиболее приспособленного к техносфере [6]. На «человека духовного» винформационно-техногенном обществе смотрят часто как на существо не от мирасего (но он, действительно, не от мира сего!).
Таким образом, выражение «человек умер» – не метафора постмодернизма, аконстатация реального процесса. Человек умер, живой человек умер, «живет»биоробот, который только думает, что он живой.
Техногенный человек, как робот опутан (в прямом и переносном смысле)проводами и приборами, ему гораздо уютнее в компьютерном («интернетском»)виртуальном мире, чем в живом. Невольно вспоминаются слова из песни 70-х годовХХ века: «Я боюсь, что в 2001 году нам заменят сердца на транзисторы… Робот, тыже был человеком, мы бродили по лужам, в лужах плавало небо… Я прошу: нупопробуй, стань опять человеком!» Как прозорливо описаны процессы XXI века!Транзисторы вместо сердца…
Сердце… Будучи преподавателем университета, я обратила внимание на то, чтомолодежь смотрит, но не видит, слушает, но не слышит и… не чувствует…Почему? Ведь особенностью любого живого существа является его способностьчувствовать. Цветы чувствуют, деревья чувствуют, животные чувствуют,насекомые чувствуют, а человек бес-чувствен… Что происходит с человеком? Онзнает, но не чувствует. Но можно ли что-то реальное знать, не чувствуя? Безчувств возможны лишь «мысли о…», «чистое мышление» (а что, реальный мир,живое «пачкает» мышление?), абстракции, но не реальный, живой мир.
Абсолютизация ratio, низведение сердца до уровня биологического органапривели к виртуализации человека, его роботизации. Как не вспомнить прекрасныйи глубокий роман А. Беляева «Голова профессора Доуэля», предвосхищающего то,что творится в современном мире. «Платон поместил душу человека в голове;Христос поместил ее в сердце», – отмечал св. Иероним. «Душа в голове».Парадоксально звучит, но, действительно, у большинства современных людей душав голове. Люди думают, думают, думают… Думают, что любят, думают, что живые,будучи биороботами. Человек разучился любить. Человек разучился чувствовать(эмоции ≠ чувства). Но о любви не думают и не говорят, не узнают и не познают, еепросто чувствуют в сердце. И сердце сжимается болью, если боль испытываетлюбимое существо, будь-то человек, животное или растение. Испытывает ли больсердце людей по-садистски относящихся не только к природе и людям, но и к самимсебе? Ибо злоба, обращенная вовне, возвращается («Что посеешь, то и пожнешь», –гласит народная мудрость).
192Шелковая Н.В.
Сможет ли человек, чувствующий боль мира, причинить миру боль ибезответственно относиться к своим поступкам? Мучит ли нас стыд не только засовершенное зло, но и за то, что не предпринята хотя бы попытка (на любомуровне) уничтожить, предотвратить или хотя бы уменьшить зло? Святой кается неза совершенные им грехи, а за то, что не предотвратил чужие. Здесь имеет местообостренное чувство совести. Не поиск виновного, наказание и осуждение за вину –это внешнее, в голове, а чувство стыда, собственного стыда – это внутри, в душе, всердце.
Выводы. Современное общество называется информационным. Сегодня знанияиз средства постижения высшей Истины превратились в самоцель. Человек«растекся» по поверхности знаний, стал умным, утратив способность вхождения вглубину, свойственную мудрости, способности, используя терминологию М.Хайдеггера, вслушиваться (Horchen) и вникать (Ver-nehmen). Абсолютизация умаявляется, по существу, абсолютизацией виртуального мира, «при-думанного(головой!) мира». Кордоцентризм, уходящий своими корнями в глубокую и мудруюдревность (не умную, а мудрую, ибо мудрость ≠ ум, мудрость = сердце + ум)Древнего Египта, всегда знал (здесь «знание» как «ведение», т.е. глубинноепогружение в то, что постигаешь, «впитывание» его в себя), что центр человека –его сердце, что сердце – седалище мысли (а не голова!). Истинные знаниярождаются в сердце (иногда долго «вынашиваются» в нем и рождаются в муках), аголова уже их «выращивает» и «выводит в свет».
Человек забыл себя, забыл свою Бого-подобность, свою вертикаль. Вертикальопрокинулась в горизонталь… Культ ratio трансформировался в современный культвиртуального мира. На кордоцентризм Востока, кордоценризм русской религиознойфилософии Запад долгое время (с «легкой руки» Сократа, Платона и особенноАристотеля) смотрел с пренебрежением. И к чему же пришел ум? К безумию…Невольно вспомнился фильм Стэнли Крамера «Этот безумный, безумный,безумный мир». Иногда мне (и, вероятно, увы, не только мне) современноеобщество напоминает большой сумасшедший дом, и приходит мысль З.Фрейда отом, что современное общество больно неврозом (заметьте: не «отдельные люди», а«общество» больно неврозом).
Человечество несется в бездну небытия, без-умно несется, управляемое… умом.Можно ли спасти людей, человечество? И да, и нет.
Да, если люди сами захотят спастись (т.е. спасти себя), ибо свобода, даннаяБогом человеку, предполагает само-стоятельный выбор своих действий. И еслилюди захотят спастись, вспомнят себя, возвратятся к себе (не физической твари,варвару, а духовному Бого-подобному существу), «проклюнутся» из скорлупысвоего «Эго», откроют свое сердце навстречу миру, природе и друг другу; есличужое «Оно» станет род-ным «Ты», то они вновь станут живыми, чувствующими,любящими. Ибо, отойдя от Бога, который есть Любовь, «убив» Бога живого(«мертвые» учения и культ не в счет) человек, по существу, «убил» в себеспособность любить, не «думать о любви к…», а любить. Вернувшись к себе,вспомнив свою богоподобную, любящую сущность, люди просто не смогут
193Человек забыл себя …
уничтожать мир, природу и себя, как это происходит в современном мире. Развеистинно любящий может покушаться (даже в мыслях) на любимого?
Если же люди не захотят сами спасти себя, то никто им не поможет, ибосвобода выше даже Бога, как мудро об этом говорил Н. Бердяев.
Список литературы1. Демокрит в его фрагментах и свидетельствах. – М., 1935. – 157 с.2. Элиаде М. Миф о вечном возвращении / Элиаде М.– М.: Айрис-Пресс, 2000. – 231 с.3. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге / М.Хайдеггер – М.: Наука, 1991. – 250 с.4. Кисельов М. Екологічна свідомість як феномен освітянського процесу / Кисельов М. //
Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 76-89.5. Бердяев Н. Смысл истории / Бердяев Н. – Берлин, 1923. – 410 с.6. Баландин Р.К. Ноосфера или техносфера / Баландин Р.К. //Вопросы философии. – 2005.– №6.
– С. 42-51.
Шелковая Н.В. Людина забула себе… // Вчені записки Таврійського національного університетуім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). -№1.– С. 188-193.
У статті розкриваються деградаційні процеси у сучасному західному техногенному суспільстві,зокрема, роботизація людей; обґрунтовується думка про необхідність переходу від абсолютизації ratioдо кордоцентризму для поновлення втраченої гармонії людини зі світом, природою і самою собою.
Ключові слова: роботизація, абсолютизація ratio, кордоценризм.
Shelkovaya N.V. A Man Forgot Himself… // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 188–193.
The degradation processes in the modern western teсhnogenical society, in particular robotization ofpeople, are revealed in the article. The author grounds the idea about the necessity of transition from theabsolutization of mind towards the cordocentrism to renew the man’s lost harmony with the world, nature andhimself.
Keywords: robotization, absolutization of mind, cordocentrism.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 194-207.
УДК 316.77
ВЛИЯНИЕ СУБСТАНЦИАЛЬНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ НАФОРМИРОВАНИЕ АУТОПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ
КОМПАНИИ BOUNTY SCA UKRAINE)
Багаева Т.Л.
Причиной высокой эффективности маркетинговых проектов, реализуемых в формате программ сусиленными социальной направленностью и мотивирующим воздействием, является ориентация ихуправленческих стратегий на проявление субстанциальной рациональности субъектоввзаимодействия. Появление в процессе современной социокультурной динамики и успешноефункционирование коммуникационных систем такого рода детерминировано их социальнойвостребованностью и характеризуется способностью системы к самоорганизации, саморефлексии иосуществлению самотворения через функцию аутопойесиса.Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, Bounty SCA Ukraine, программы с усиленнымисоциальной направленностью и мотивирующим воздействием, субстанциальная рациональность,аутопойесис.
Постановка проблемы. Начало XXI века отмечено углублением процессаглобализации и сопутствующим ему беспрецедентным ужесточением конкуренциина мировых рынках. Эти процессы происходят на фоне существенных социальныхсдвигов, во многом изменивших миропонимание потребителей и, как следствие, ихнужды, а также потребительские ожидания, предпочтения и поведение.Взаимопонимание, доверие, консенсус, эмпатия, диалог становятся все болеевостребованными в современных отношениях между людьми, что предопределеновсем ходом социокультурного развития в новых цивилизационных условиях.
Постиндустриальное состояние социума характеризуется растущейгетерогенностью, мозаичностью, существенной модификацией центральныхценностей и смыслов, изменяющих суть общества, основой которого становятсязнания, информация, управленческие и информационные технологии, чторадикально меняет идеологию маркетинговых коммуникаций, и эти изменениятребуют выявления и изучения.
Актуальность настоящей статьи предопределена тем, что в исследованияхпроблем рыночной экономики недостаточно внимания уделяется социокультурнымаспектам менеджмента, маркетинга и рекламы, особенно их современнымметаморфозам. Сегодня главной гуманистической целью социокультурноймодернизации становится формирование духовных и нравственных предпосылокактивизации и утверждения новых форм деятельности. Во многих сферах, вчастности в коммуникационной деятельности, утверждают себя новые формыуправления, в которых ценностные, мотивационные и идейные факторы становятсяосновой различных традиций проявления активности организаций и отдельных
195Влияние субстанциальной рациональности …
индивидов. Поэтому видится необходимым проанализировать механизмыуправленческого воздействия получающих все большее распространение врыночной среде рекламно-коммуникационных программ, отличительнымисвойствами которых являются усиление социальной направленности имотивирующее воздействие на целевые аудитории. Все больший интереспредставляют социальные механизмы и возможности оптимизации процессовуправления, повышающие эффективность маркетинговых коммуникаций,направленных на отдельных индивидов, их группы, а также коллективы,вовлеченные в процесс продвижения на рынок товаров и услуг.
Объект исследования – современная рекламно-коммуникационнаядеятельность, претерпевающая трансформации в связи с изменениями,происходящими в обществе.
Предмет исследования – социально-управленческие инновации в рекламно-коммуникационной сфере, направленные на усиление социальной направленности имотивирующего воздействия маркетинговых коммуникаций.
Эмпирическая база исследования – деятельность компании Bounty SCAUkraine, специализирующейся на социально направленных рекламно-коммуникационных программах.
В процессе исследования были использованы:– рабочие материалы проектов «Картка Немовляти» («Карточка младенца»),
«Клуб Баунти» (Bounty Club), «Открытая школа материнства» и др., реализованныхкомпанией при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства по деламсемьи, молодежи и спорта Украины и финансируемых компаниями,заинтересованными в продвижении своих брендов, предназначенных для молодыхматерей;
– массивы данных, полученные в результате реализации данных проектов1.Особенность программ, потенциал охвата которых составляет до 95 %
представителей целевых аудиторий (беременных женщин и молодых матерей) –
1 – Добровольная ежедневно пополняемая база данных о молодых матерях наиболеекрупных городов Украины (Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Донецк). Полябазы включают информацию о роддоме, имя новорожденного, сведения об его росте и весепри рождении, его цифровую фотографию в первые дни жизни. Информация служит дляпривлечения молодых матерей к участию в клубных программах.
– Добровольная системно пополняемая база данных беременных женщин г. Киева,ставших на учет в женских консультациях. Поля базы содержат информацию о женскойконсультации, в которой наблюдается женщина, ее лечащем враче, некоторые данные,представляющие интерес для компаний-рекламодателей, контактную информацию.
Для сбора информации использовался собственный программный продукт компании –Collector. Анализ данных проводился на основе системы SPSS Base 7.5.
К 2004 г. был достигнут стопроцентный охват родильных домов в городах с населением1 млн. +, в 2008 г. – женских консультаций г. Киева. База данных ежегодно пополняется 60000 новых контактов. За этот период тренингами были охвачены более 400 врачей,проведены 11 тренингов для акушеров-гинекологов, более 400 – для беременных женщин(присутствие на каждом – от 50 до 100 чел.).
196Багаева Т.Л.
персонифицированный подход к каждому индивиду. Это стало возможнымблагодаря развитию информационных технологий, в частности,компьютеризованных систем управления долгосрочными взаимоотношениями спотребителями (CRM).
Основным показателем эффективности коммуникационных программ являетсядостижение запланированных результатов в преобразовании объектов социальноговоздействия. Ее оценка ведется по формуле: «цель – средства – результат».Показатели «отклика» в коммуникационных проектах с усиленной социальнойнаправленностью и мотивирующим воздействием значительно превосходятпоказатели, достигаемые при использовании традиционных стратегиймаркетинговых коммуникаций. Например, в проекте, продвигающем платежныекарточки одного из украинских банков, при охвате 95 % целевой аудитории уровеньотклика составил 73 %, в то время как в проектах директ-маркетинга среднийрезультат – около 4 %.
Рекламно-коммуникационные программы, отличающиеся усиленными целевойнаправленностью и мотивирующим воздействием, стали осуществляться натерритории Украины после приобретения украинской стороной у британскойкомпании Bounty лицензии на право реализации проекта Babyboom. Ее опыт нетолько в Великобритании, но и во многих других странах показал возможностьдостижения исключительно высокой результативности процесса маркетинговыхкоммуникаций путем целенаправленной работы со специфическими аудиториями,которые формируют индивиды, находящиеся в особом состоянии, в котором ониоказались на том или ином этапе своего жизненного пути. При реализациипредложенных британцами программ предусматривались издание комплексаинформационных материалов для женщин в период материнства, коммуникации смолодыми матерями в роддомах, распространение бесплатных образцов товаров длямолодых матерей, создание Интернет-портала, посвященного вопросамматеринства.
Социальной основой процесса управления программами, предложенногокомпанией Вounty в качестве ее ноу-хау, как у большинства западных компаний,образовавшихся в 50-е годы прошлого века, является формальная, «буржуазная»рациональность, описанная в работах М. Вебера [1, c. 602-643], которую возможноохарактеризовать следующими параметрами: эффективность, калькуляция,предсказуемость, контроль. Управленческие усилия в данном случае сосредоточенына оптимизации путей достижения прагматических целей. Большинство процессовуправления запротоколировано, существенная роль отводится инструкциям,описанию процедур, системе показателей контроля за ходом процессов, наказаниями поощрениям персонала.
Таким образом, в управленческом механизме данного типа заложенопротиворечие – доминирование формальной рациональности, которая, по существу,трактуется как буржуазная рациональность, в то время как в жизненных мирахсоциальных акторов преобладает субстанциальная рациональность, основанная наследовании конкретным ценностям и этическим нормам. А это значит, что вуправленческой деятельности украинской коммуникационной компании,
197Влияние субстанциальной рациональности …
осуществляемой в принципиально новом постсоветском пространстве, нашлаотражение идея коммуникативной рациональности, сформулированная немецкимсоциологом Ю. Хабермасом, активно предпринимавшим попытки создатьэффективно работающий теоретико-методологический инструментарийклассических и современных парадигм. Социолог писал: «Формальнаярациональность лишена гуманистического содержания и препятствует достижениюконсенсуса и понимания между людьми; структуры современной социальнойсистемы представляют ту силу, которая колонизирует жизненный мир индивидов,что создает барьеры на пути к естественной, аутентичной коммуникации.
Взаимодействие людей настолько атомизируется, что уже неясно, где в этихформально рациональных отношениях подлинно человеческий смысл, «...подугрозой оказываются функции символического воспроизводства жизненного мира,он оказывает упорное сопротивление и успешно удерживает дистанцию фронтамежду собой и системой» [2, c. 11].
Украинская коммуникационная компания, реализующая проект,позаимствовала у проекта Babyboom идею создания пластиковой карточки сцифровым фото младенца, сделанным в роддоме. Однако, если в Великобританиитакая карточка, содержащая информацию о росте, весе новорожденного и роддоме,в котором он появился, пересылается наложенным платежом его семье и стоит 33фунта, то в Украине такая карточка стала использоваться не для полученияприбыли, а как возможность войти в контакт с молодой матерью в особый,позитивно для нее окрашенный момент, осуществить коммуникационный дискурс,эмансипированный от внешнего принуждения. «Карточка младенца» стала нетолько памятным сувениром, но и пропуском – приглашением на информационныепрограммы, организуемые коммуникационной компанией.
Важно отметить, что во взаимодействии с социальными акторами,вовлеченными в коммуникационные программы с усиленными мотивацией исоциальной направленностью Bounty стремится обеспечить поддержку своейдеятельности, исходя из саморефлексии, социальной активности контрагентов,участвующих в коммуникационном дискурсе (рис. 1) и сформировать«неинституциональное» мнение в том числе и у представителей референтных группи властных структур, обеспечивающих административную поддержку.
Рекламодатель Целевая аудитория
Референтная группа Государственныеструктуры
BOUNTY SCA
Рис 1. Социальные акторы, участвующие в маркетинговых программах сусиленными социальной направленностью и мотивирующим воздействием.
Из схемы, представленной на рис. 1, видно, что коммуникационная компаниявзаимодействует с целевыми аудиториями (молодыми матерями, беременными
198Багаева Т.Л.
женщинами), референтными группами (врачами) и властными структурами(профильными министерствами и муниципальными органами). При этом онафункционирует на рынке, на котором, в основном, работают отделения ипредставители транснациональных корпораций (фармацевтических, производителейтоваров массового спроса). Эти компании выстроили систему бонусов дляреферентных лиц различных уровней (врачей, чиновников соответствующихведомств в центре страны и ее регионах), причем данные лица одновременнопопадают в поле деятельности десятков компаний и стремятся получатьразнообразные вознаграждения одновременно из многих источников, частоконкурирующих между собой.
Врачи, общаясь с их представителями, заинтересованными в продаже своейпродукции, естественно, привносят в свою деятельность элементы прагматическиекалькулирующей рациональности. Конкуренция между фармацевтическимипродуктами в данном случае, по сути, превращается в конкуренцию междусистемами маркетинговых коммуникаций различных компаний, основанную наформальной рациональности, формула которой: «рекомендации врача получает тотфармацевтический бренд, чей бонус весомее». Подобные действия оператороврынка приводят к дегуманизации медицинского обслуживания, макдонализациивзаимоотношений врача и пациента.
Украинские программы были построены с учетом субстанциальнойрациональности, основанной на следовании конкретным ценностям и этическимнормам, рациональности коммуникативного действия, эмансипированного отвнешнего принуждения и насилия. В основу управления коммуникативнымпроцессом легло достижение понимания, гармонизации планов индивидов сдругими участниками взаимодействия. Это выразилось в том, что послесоответствующей исследовательской работы и определения ценностной ориентациии нереализованных потребностей представителей каждой референтной группы дляних была составлена исключающая систему финансовых бонусов мотивационнаяпрограмма, способствующая получению новых знаний, навыков, открывающаяновые ракурсы самоактуализации индивидов.
Например, врачи женских консультаций стремятся оптимизироватькоммуникацию с беременной и сократить время приема, уходя от обсуждения воврачебном кабинете прямо не относящихся к их компетенции вопросов, например,касающихся психологии беременности или «общения» матери с будущим ребенком.В то же врачам задают эти вопросы, и они чувствуют, что им не хватаетсоответствующих знаний.
Данные факторы были учтены в работе с врачами женских консультаций,которых стимулировали привлекать беременных женщин к участию в программах,предлагаемых коммуникационной компанией. Ею был разработан цикл тренингов, вчастности, дающих знания в областях психологии материнства, правовогообеспечения деятельности врача.
Врачи, получая актуальные для них знания, становятся лояльными к компаниии настоятельно рекомендуют своим пациенткам участвовать в финансируемыхрекламодателями ее клубных мероприятиях, являющихся инструментом
199Влияние субстанциальной рациональности …
маркетинговых коммуникаций, каналом взаимодействия с аудиторией, механизмомуправления ее потребительским поведением.
Эффективность такого управления измеряется степенью изменений посравнению с начальной ситуацией именно знаний, мнений и представлений, а такжесоциального и потребительского поведения представителей целевых групп. Такимобразом, в данном случае эффективность является качественным показателем,который выражает рост или падение их доверия и симпатий к коммуникационнойкомпании и продвигаемым ею брендам. Одновременно происходитсоциокультурная интеграция: участники программ входят в непосредственныеличные эмоциональные, дружеские отношения, что предопределяет комфортную ирасполагающую к доверию обстановку и дальнейшее направленноераспространение маркетинговой информации, ее модификации и интерпретации вразличных контекстах.
Из схемы на рис. 2 видно, что в алгоритме управленческих действийпопеременно присутствуют опции, когда субъектом, инициирующимраспространение маркетинговой информации, выступают не сотрудники компании,а властные структуры, врачи и сами будущие матери. Исходя из собственныхценностей и мотивационных посылов, они в интересах коммуникационнойкомпании добровольно распространяют информацию о продвигаемых в их средубрендах, контролируют реакцию на нее представителей целевой аудитории.Коммуникативное воздействие информации усиливается, т. к. представителицелевой аудитории получают ее от референтных для них индивидов – врачей,членов собственной группы («an equal person, like me»), взаимодействуя с ними набазе общих интересов. Дальнейшее распространение рекламной информацииобъясняется общностью социальных проблем, с которыми индивиды сталкиваютсяв определенной ситуации на определенном этапе своего жизненного пути.
В данном процессе управления коммуникацией отсутствует манипуляция.Определяющим фактором выступают ценности, имеющие социальную значимостьдля участников коммуникационных программ, базирующиеся на групповомсознании и являющиеся их социальными ориентирами. Приоритетными становятсяосознанные людьми ценности их собственной жизни и жизни их будущих детей,общечеловеческие ценности, которые предопределены необходимостью общества,как целостной системы, в ее стремлении к самосохранению.
Конечные результаты данного социального действия – новая социальнаяреальность, принципиально отличная от старой, «исходной» реальности, посколькудействующими субъектами было привнесено нечто такое, что отсутствовало вмомент начала деятельности, в частности, информированность молодых матерей обособенностях ухода за новорожденными, их коммуникация внутри клубныхсообществ.
200Багаева Т.Л.
Рис. 2. Схема трансляции информации в процессе реализации маркетинговыхпрограмм с усиленными социальной направленностью и мотивирующимвоздействием.
Практика показала, что в рекламно-коммуникационных программах,отличающихся усиленными социальной направленностью и мотивирующимвоздействием, необходимо учитывать новое состояние потребителя, которое онприобрел в результате развития и цивилизации рынка, а также собственнойсоциализации.
В связи с тем, что клубные группы объединяют индивидов с разнымисоциально-демографическими и психологическими характеристиками, длямировоззренческой интеграции, достижения консенсуса в восприятии и оценкетранслируемой в их среду информации о новых материальных и духовныхценностях, становится необходимым некий вызывающий доверие и оказывающийвлияние на других посредник. Он может быть среди приглашенных авторитетов,компетентных лиц, информация, идущая от которых считается надежной, илиспонтанно оказаться среди членов группы.
Бренд, способный предложить потребителю реальное решение возникших всвязи с его актуальными нуждами социальных проблем и заменить манипулятивныеметоды воздействия на целевые аудитории системой взаимозаинтересованноговзаимодействия, будет воспринят как обладающий социальной миссией. Он будет
Потреби те ль скоеповедение
Госструктуры
Bounty SCAUkra ine
В рачи
Bounty SCAUkraine
Буд ущ иематери
Bounty SCAUkraine
С оциал ьнаясред а
Буд ущ иематери
201Влияние субстанциальной рациональности …
выделен из ряда конкурентов и на фоне переизбытка информации в различныхмедийных средах получит кредит доверия.
Рассмотрим традиционную модель, присутствующую во всехкоммуникативных актах, в которых источник и получатель являются социальнымисубъектами со своими статусами, социальными позициями, ролями и ролевымиисполнениями. Как известно, применяя математико-технический взгляд насоциальную реальность, инженер-математик К. Шеннон и инженер-электротехникУ. Уивер анализировали коммуникацию между людьми как последовательность,состоящую из пяти элементов: источник – передатчик – сигнал – получатель –назначение [3, c. 379-423; 623-656].
У. Шрамм уточнил: благодаря тому, что отправитель и получатель сообщенияимеют некоторый «общий опыт», сообщение кодируется одной стороной идекорируется другой, что помогает передать его смысл [4]. Ф. Уэстли и К. Маклиндополнительно ввели различие между отдельными ролями в коммуникационномпроцессе и подчеркнули значение обратной связи и обмена информации с внешнейсредой [5].
Данная модель представлена на рис. 3 как традиционная модель коммуникациии расширена моделью коммуникации, применяемой компанией Bounty SCA Ukraine,демонстрирующем процесс объединения не конкурирующих между собой брендов,информация о которых направлена на одну и ту же целевую аудиторию.
.
Реклам но-ком м ун икац и онн ая м одель с обратно й связью
Традиционная м одель ком м уникац ии
Б ренд Управляю щ ий субъект Управляем ый объект(коммункационная компания) (целевая аудитория)
Б ренд Управляю щ ий субъект Управляем ый объект
М одель ком м уникац ии, продвигаю щ ая бренды в синдикати вн ом форм ате
Б ренд 1
Б ренд 2
Б ренд 3
Б ренд 4
Б ренд ..
Ком м уникаци онн аяком пания
Ц елевая аудитория 1Ц елевая аудитория 2Ц елевая аудитория 3Ц елевая аудитория 4Ц елевая аудитория...
О брат ная связь
Рис. 3. Традиционная коммуникационная модель
Схема, представленная на рис. 4, показывает, как в модель субъект-объектноговзаимодействия властного типа внедряется спонтанная самоорганизация,рождающаяся на диалоговой коммуникативной основе, выступающей как субъект-субъектная система. Данный тип социальной регуляции можно определить каккомбинированный. Он занимает промежуточное положение между субъект-объектным властно-административным способом регуляции и субъект-субъектным
202Багаева Т.Л.
механизмом спонтанной самоорганизации через решение людьми своих жизненныхситуации [6, с. 11]. Будучи включенным в поле социального взаимодействия,коммуникационная компания подвергается управленческому воздействию состороны властных структур, референтных групп и целевой аудитории.
Бренд 1
Бренд 2
Бренд 3
Бренд ...
Коммуникационнаякомпания Целевая
аудитория
Референтнаягруппа
Поле социального управления
• Лечебные учреждения•Органы государственного управления• Офис коммуникационной компании• Площадки клубных программ
•Канал трансляции маркетинговой информации
•Взаимовлияние коммуникационной компании,референтной группы и целевой аудитории в полесоциального управления•Потребительское поведение
Рис. 4. Модель коммуникации, отображающая формирование самореферентнойсистемы.
Как же соотносится данная комбинированная модель управления ссуществующими в социологии представлениями о субъекте, объекте и ихотношениях? Ясно, что один из субъектов, в данном случае коммуникационнаякомпания, выполняющая функции управления, рассматривается как орган,доминирующий, планирующий и организующий совместную деятельность,действия и взаимодействия с другим субъектом, который выступает в схеме и какобъект воздействия. Этот «другой субъект» обладает возможностью саморегуляциии самоорганизации. Если он реализует этот потенциал и выступит в качестверавноправного партнера доминирующего субъекта, субъект-объектная схемаотношений превращается в субъект-субъектную. Однако в нашем случае «другойсубъект» не является моносубъектным образованием, а представляет собойподсистему, состоящую из представителей целевой аудитории (молодые матери) иреферентной группы (врачи).
203Влияние субстанциальной рациональности …
Отношения охватывают устойчивую систему социальных действий ивзаимодействий (субъект-объектную и субъект-субъектную). Рассмотрим, на какихоснованиях создаются отношения управления с каждым из элементов даннойподсистемы:
– на основании объективной зависимости (врачи – молодые матери);– на основании субъективной зависимости, когда все участники строят
отношения, сознательно и добровольно принимая на себя формально илинеформально те или иные обязательства (коммуникационная компания – врачи).
В данной системе социальных действий важно определить связующее звено(общий предмет, ценность, интерес) как «платформу» этих отношений и некоторуюрегулятивную систему норм и правил (прав и обязанностей), которых участникивзаимодействия должны не только придерживаться, но и которые должнывыработать до того, как приступят к реализации согласованных действий.Связующим звеном между коммуникационной компанией и врачами являетсяудовлетворение потребностей последних в формате мотивационных тренингов иуверенность в «коммуникационном продукте», который предлагается компанией.
Связь между врачом и будущей либо молодой матерью в даннойуправленческой модели является информационно наполненной зависимостью, таккак скреплена общим интересом и регулятивными механизмами и являетсяустойчивой социальной связью, целостным образованием, способным кустойчивому функционированию и развитию. Она существует вне зависимости откоммуникационной компании, но используются ею для достижения своих целей.
По мнению автора, результат подобного встраивания в устойчивуюсоциальную связь определяется отношениями управляющего субъекта и социальнойсреды – они ее разрушают или воспроизводят, создают нечто новое, полезное,передовое или воссоздают старое, малополезное, отживающее.
В то же время, если инициатор процесса – являющаяся субъектом управлениякомпания предлагает социально востребованные идеи, направленные на решениеконкретной социальной проблемы, предполагающие четкий и измеримыйсоциальный результат – общественную полезность (изменение качества жизни), этакомпания может получить от своих усилий синергетический эффект.
Поскольку управляющее воздействие на аудиторию осуществляется черезпреднамеренно организованное влияние на ее сегментированную часть, ноопосредованно под влияние попадает и та часть аудитории, на которую этовоздействие не было рассчитано, последняя также стремится участвовать вкоммуникационном процессе, что является дополнительным ресурсом повышенияэффективности управленческой деятельности. Например, в процессе реализациипроекта «Карточка младенца» менеджмент коммуникационной компании,реализующей его в крупных городах Украины, регулярно получал предложения отзаинтересованных структур из других населенных пунктов о расширении проекта ивключении в его географию их муниципальных образований, обязуясь взять на себяряд организационных функций и использовать административный ресурс дляподдержки проекта.
204Багаева Т.Л.
Еще один пример: главные врачи роддомов с энтузиазмом и без бонусовсоглашаются на то, чтобы программа функционировала в их медицинскихучреждениях, что предполагает работу мужчин – полевых сотрудников компании –в палатах, где содержатся молодые матери и новорожденные, и некоторуюдополнительную организационную нагрузку на персонал. Рядовые врачи, средний имладший медицинский персонал также всячески поддерживают проект, продвигаютего. Благожелательное к коммуникационной компании информационное поле,созданное внутри роддома (весьма закрытого медицинского учреждения),сформировалось именно благодаря встраиванию самоорганизующегосякоммуникационного посыла в существующую систему социального управления,присущую данному учреждению. Молодые матери, зная о проекте, «готовят»новорожденного к фотографированию, которое становится для них важным актомпервого «представления» своего ребенка социуму.
Итак, оптимальная модель управления маркетинговыми коммуникациямипредставляется автору как целостность субъект-субъектных и субъект-объектныхотношений – социальное тело, в котором систематизирующим фактором выступаетсоциально значимая, «овеществляемая» проблема, а доминирующим субъектомявляется тот, кто реально способен интериоризировать эту проблему – создатькультурный образец, проект его решения и осуществить объективацию проектапутем налаживания диалоговой коммуникации со всеми участниками совместнойдеятельности.
Основная особенность социальной модели управления коммуникационнымипрограммами, отличающимися усиленными социальной направленностью имотивационным воздействием, – сочетание формальных иерархий и сетевыхструктур. Коммуникационная компания, реализуя свои программы, используетданную модель: в ментальном отношении – за счет приращения знаний целевойаудиторией; в социальном отношении – за счет привлечения к участию в проектахчленов общества, представителей этой аудитории. Стержнем данной моделисоциального управления являются особые ценности, которые мотивируют кдействию индивидов как внутри организационной структуры компании – ееколлективе, так и самоорганизующихся индивидов во внешней среде.
Теперь рассмотрим проблему соотношения организации и самоорганизации,зачастую создающую драматическую напряженность в деятельности существенногоколичества персонажей, вовлеченных в процесс строительства и изменениясоциальной реальности. Извечная трудность состоит в конструировании симбиоза –естественно-искусственного социального тела – практического субъекта,преодолевающего препятствия на пути решения своих задач, моделирующегоситуации на основе имеющихся знаний и управленческих навыков и, в нашемслучае, имеющего отношение одновременно и к коллективу, который реализуетпрограммы, и к их участникам.
При реализации рекламно-коммуникационных программ, о которых идет речь,объектами целевого коммуникационного воздействия являются социальные группы,реализующие свои потребности, связанные с особыми обстоятельствами, в которыхони оказались. Данным группам в процессе коммуникации транслируются некие
205Влияние субстанциальной рациональности …
привлекательные для них смыслы, при этом и реципиент, и коммуникантзаинтересованы во взаимодействии с целью обмена этими смыслами.
Согласно утверждению Ю. Хабермаса, общественность, состоящая изразрозненных индивидов, взаимодействующих по схеме «каждый с каждым», неможет служить базисом для общественной сферы. Ей на смену приходит публика,состоящая из организованных индивидов [7]. Принимая во внимание, чтокоммуникация является типом взаимодействия между людьми, предполагающиминформационный обмен, но отличается от диалога, Хабермас отметил, чтокоммуникативно-структурированные жизненные сферы подчиняются императивамставших самостоятельными, формально организованных систем действия [8, c. 416].
Действия вовлеченных агентов координируются не эгоцентрическимипросчитываниями успеха, а посредством акта достижения понимания. Участникикоммуникационного действия не ставят свои успехи на первое место, онипреследуют индивидуальные цели, при условии, что смогут гармонизировать своипланы действия на основе общих ситуационных определений.
Очевидно, что в рассматриваемой нами модели социального управлениякоммуникационная компания как субъект управления выступает только одним изсубъектов самоорганизующегося процесса совместной деятельности. При этомуправленческие процессы и процедуры не задается «навечно» управляющиморганом, как это происходит в технических устройствах. В рассмотренной вышесоциальной системе искусственная управленческая надстройка взаимодействует смеханизмами личностной спонтанной самоорганизации, а в некоторых случаях дажевстраивается в него, что приводит к синергетическому эффекту. Роль элементовсистемы выполняют самореферентные операции, образующиесамовоспроизводящуюся сеть.
Применение принципов синергетики в социальных системах позволяетисследовать качественные изменения в обществе как на основе учетавзаимоотношений между внутренними и внешними факторами воздействия, так исоотношения рациональных и иррациональных действий индивидов. Данныефакторы закладывают в управленческий процесс определенный потенциалнепредсказуемости, иррациональности, непреднамеренности.
Это новое состояние, детерминированное особенностями современнойсоциокультурной динамики, связано с организацией самого себя, с возникновениемтаких систем, которые посредством самонаблюдения и саморефлексииосуществляют самотворение через функцию аутопойесиса и, что особенно важно,как отмечает классик современной социологии Н. Луман, делают это через «поискинвариантов бытия», используя «возникающие внутренние игровые пространствасвободы».
«Аутопойесис означает, что в его правильном понимании есть порождениевнутрисистемной неопределенности, которая может быть редуцирована лишьсобственными структурными образованиями системы» [9, c. 69]. Способностьсовременного социума к саморефлексии и самотворению порождает практикикоммуникации ризомного характера с внутрисистемной неопределенностью.
206Багаева Т.Л.
Это принципиально новые практики коммуникации, характерные длястановящегося, самоорганизующегося, нелинейно развивающегося социума. Ныненикто не может детерминировать коммуникационный посыл, ибо индивид, будучисамоорганизованным актором, придает ему свой особый смысл. Современнаякоммуникация невозможна без плюрализации смыслов, придания им нелинейногохарактера и без учета личных знаний социальных акторов, их индивидуальногогабитуса, уровня самоорганизации, наконец, от сделанного выбора тех или иныхидентичностей. Тем самым утверждается инвариантный принцип развитиясоциальной реальности.
«Коммуникация, предполагающая аутопойетическую операцию коммуникации,порождает общество, однако из этого не вытекает, какое именно это будетобщество... аутопойесис представляет собой некоторый инвариантный принцип дляопределенной системы», – отмечает Н. Луман [9, c. 70].
Иллюстрируя данный тезис примерами из нашего практического опыта, мыутверждаем, что на данном этапе развития маркетинговых коммуникацийуспешность управленческой модели может быть определена следующимифакторами: ориентация на ценности; реализация «социально нужных» идей,направленных на решение конкретной проблемы; встраивание процессовмаркетинговой коммуникации в устойчивые и наполненные информационныезависимости; наращивание социального тела.
Вывод. Ключевым фактором высокого уровня отклика на коммуникационныепроекты и, соответственно, их высокой эффективности становится построениеуправленческой парадигмы на основе субстанциальной рациональности,предполагающей достижение в процессе коммуникативного действия понимания игармонизации планов индивида с другими участниками взаимодействия. Такаямодель, примененная в процессах маркетинговых коммуникаций, обладаетпотенциалом запуска синергетического механизма и замены управленческойсистемы типа «линейный субъект – центрированный процесс» на систему ссамореферентной самоорганизацией.
Маркетинговая коммуникация, являющаяся источником полезной информации,предлагающей пути решения актуальных для целевой аудитории и референтныхгрупп проблем и формирующей у них новые потребности, реализуемая в форматепрограмм с усиленными социальной направленностью и мотивирующимвоздействием, получив социальную санкцию, может трансформироваться вдолгосрочные благожелательные отношения коммуникационной компании спотенциальными потребителями, что способно привести к значимым длясоциальной среды результатам.
Однако необходимо отметить, что безотказную и высокоэффективную схемууправления маркетинговыми коммуникациями невозможно до конца простроитьментально: аутопойетическая система обладает возможностью инвариантногоразвития новой социальной реальности.
207Влияние субстанциальной рациональности …
Список литературы
1. Вебер М. Основные социологические понятия; Избранные произведения / М. Вебер; [Пер. с нем.под ред. Ю.Н. Давыдова, П.П. Гайденко]. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
2. Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма /Ю. Хабермас // Теоретическая социология: Антология; В 2 ч. / Под ред. С.П. Баньковской. – М.:Книжный дом «Университет», 2002. – Ч 2. – 424 с.
3. Shannon C.E., Weaver W. The Mathematical Theories of Mass Communication / C.E. Shannon,W. Weaver. – Urbana : University of Illinois Press, 1949. – Pp. 379-423, 623-656.
4. Schramm W. Nature of communication between humans / W. Schramm, D.F. Roberts (eds.) // Theprocess and effects of mass communication. – Chicago: University of Illinois Press, 1974. – Рp. 53-92.
5. Westley B., MacLean M. A Conceptual Model for Communications Research / B. Westley, М. MacLean// Journalism Quarterly, 1957. – 34. – Рp. 31-38.
6. Тихонов А.В. Социология управления / А.В. Тихонов; Издание 2-е доп. и перераб. – М.: Канон +РООИ Реабилитация, 2007. – 472 с.
7. Habermas J. The structural transformation of the public sphere / J. Habermas. – Cambridge: Polity Press,1989. – Р. 239.
8. Современный философский словарь / Под ред. В.Е. Кемерова. – М.: Панпринт, 1998. – 1064 с.9. Луман Н. Общество общества; Часть I : Общество как социальная система. – М. : Логос, 2004. –
СПб.: Наука, 2007. – 648 c.
Багаева Т.Л. Вплив субстанційної раціональності на формування аутопоетичної системи упроцесі маркетингових комунікацій (з досвіду соціального управління комунікаційнимипрограмами компанії Bounty SCA Ukraine) // Вчені записки Таврійського національногоуніверситету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. –Т.23 (62). - №1. – С. 194-207.
Причиною високої ефективності маркетингових проектів, що реалізуються у форматі програм зпосиленими соціальним спрямуванням і мотивуючою дією, є орієнтація їх управлінських стратегій напроявлення субстанціальної раціональності суб’єктів взаємодії. Поява в процесі сучасноїсоціокультурної динаміки та успішне функціонування комунікаційних систем такого родудетерміноване їх соціальною запитуваністю і характеризується здатністю системи до самоорганізації,саморефлексії та здійснення самотворення через функцію аутопойесису.
Ключові слова: маркетингові комунікації, Bounty SCA Ukraine, програми з посиленимисоціальним спрямуванням і мотивуючою дією, субстанціальна раціональність, аутопойесис.
Bahaeva T.L. The Effect of Substantive Rationality on the Formation of Autopoetic Systems inMarketing Communications (from the Experience of Communications Programs Management byBounty SCA Ukraine) // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy.Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 194-207.
High effectiveness of socially oriented projects implemented in the framework of motivational marketingis accounted for by the concept of socially oriented projects implemented in the framework of motivationalmarketing utilized in their managerial strategies. Communication systems, thus emerged in the contemporarysociocultural dynamics, are successful due to high social demand, as well as their properties of self-organization and self-reflection, which render them autopoetic.
Keywords: Marketing communications, Bounty SCA Ukraine, socially oriented projects implemented inthe framework of motivational marketing, substantive rationality, autopoiesis.
Поступило в редакцию 24.10.2009
РАЗДЕЛ IV«ПОЛИТОЛОГИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 208-212.
УДК 130. 2:303. 687
УНІВЕРСАЛЬНА ТА ЛОКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ:ПРОБЛЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В УМОВАХ БРАКУ
КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ
Паращич В.Я.
У статті автор аналізує механіку співвідношень універсального та локального у процесіконструювання соціальної реальності. Відштовхуючись від конкретних сюжетів він доходить висновкупро спорідненість таких проектів із творами мистецтва і трактує такий зв’язок як принциповіможливість їх реалізації у сфері конкретного.
Ключові слова: Універсальне, локальне, тотальність, проект, естетичне сприйняття.
Предметом дослідження статті є соціальний вимір співвідношенняуніверсального та локального. Мета дослідження – виявити зв’язок універсального ізлокальним у процесі конструювання соціальної реальності.
Cпроба відповісти на питання про те, яким чином вбувається взаємовплив міжідеальною конструкцією та конструктивною практикою, (у сфері конкретного)вимагає від нас звернутися до дуже чітко окреслених сюжетів. Показовим прикладомє різка зміна державотворчої парадигми в Україні на початку 90–х років ХХ століття,що потягнула за собою потребу пошуку та освоєння нових смислів у логіці існуваннядержавних інститутів, адже практично ні один з них не був створений з чистогоаркушу. Така ситуація дає унікальну емпіричну базу для аналізу логіки тавнутрішньої структури процесів оприявлення масштабних конструктивних проектів(Проектів конструювання культури) у сфері конкретного. Саме тому в цій статтіакцентована увага на проблемі стратегічного проектування в умовах становленнядержави.
Такий момент надає цьому питанню особливі ваги і становить особливе значеннядля осмислення моделей, що з їх допомогою відбувається впровадження ідеальнихконструкцій до живої канви людських відносин. Можна говорити тут про шляхиперерозподілу подібних конкретизованих змістів серед інституцій існування якихзумовлене переважно зовнішніми, щодо нагальних функціональних потреб,чинниками. Нам ідеться перш за все про ті феномени, які через свою повсюднупредставленість набувають ознак універсалій. Ба більше, сама номенклатура цихінститутів виглядає універсальною: конституція, парламент, уряди – все цеобов’язково з’являється в новопосталих державах, а конфігурація цих владнихінституцій як би закладені в їх проектах із необхідністю відповідаючи узагальненомузразку. Одним словом виникає враження, що будь які зміни завжди отримує тут непроявлену природу. Наша гіпотеза полягає в тому, що такі універсалії виступають якпарадоксальне обмеження сили проектування, що її може розвинути Автор. З іншого
209Універсальна та локальна пропозиція: проблема стратегічного проектування
боку, не менш парадоксальним чином, вказують шлях подолання себе черездихотомію універсальне/локальне. Якщо справедливою є вимога врахувати(залучити, чи навіть, поєднати) багато різнорідних підходів, теоретичних перспектив,а надто їх дискурсів при стратегічному проектуванні то наша проблема виглядатиметаким самим колосальним нагромадженням принципово нездатних доструктурування парадоксів. Якщо не повинна відбувається монополізація силистратегічного проектування однією із присутніх в дискусії епістем тоді силастратегічного проектування є найбільш «безсилою» силою оскільки вона незнаходить точки свого застосування, а фокус її розмито. Попередньо можемоговорити про необхідність при застосуванні цієї сили свідомого вимивання змісту іззалучених до аналізу категорій; говорити про потребу порожніх категорій. Відтак,цей шлях стає продуктивним у вигляді побудови нескінченої низки «програмзапуску» – наповнення змістом порожніх категорій саме в полі беззмістовногодіалогу, власне полі стратегічне проектування.
Видається, що матеріалом для такого дослідження найкраще здатна послугуватипроблема оптимізації діяльності конкретної державної інституції – парламенту. Не востанню чергу така конкретизована акцентуація може бути виправдана з огляду нате, що цей орган являє собою найбільш складну систему серед тих, що здатнихреалізовувати владу в демократичній державі; в системі, що претендує на складністьяк підставу свого існування; системі здатній до саморегуляції, зрештою, бутитотожною-самій-собі. Тому він є, як найбільш непростим, так і найбільш цікавимоб’єктом застосування сили стратегічного проектування. Механіка і наслідки такоїпропозиції набуває колосального значення для всього державного організму.
Функціональним полем для цієї проблеми в Україні стало протистоянняунікамерального та бікамерального формату облаштування парламенту. Ідеябікамералізму була потужно представлена в українському політичному дискурсівпродовж усіх 17 років незалежності. Нашою підставою став той факт, що вже першіпроекти Конституції містили в собі два варіанти відповідних розділів, у текстіподавалася модель бікамерального парламенту, а в додатках містився той самийрозділ тільки з унікамеральною структурою. При тому, що жодне інше питання в цихпроектах не формулювалось за допомогою альтернатив [Докладний дескриптивнийаналіз проблеми див.: 1, с. 91-120].
Важливо також те, що в нашій актуальній політичній традиції важко віднайтиприклади політичних конструкцій, побудованих на принципах співвіднесеності одназ одною двох за функцією різних, але в інституційному плані тотожних частин. Зіншого боку, якщо головною проблемою ідеї впровадження двопалатного парламентує відсутність позитивного історичного досвіду, то однопалатна форма парламенту,що її зрештою було закріплено Конституцією України 8 червня 1996 року під назвоюВерховна Рада, навпаки, демонструє свій зв’язок з попереднім досвідомпредставницьких структур радянських часів. Тобто досвіду в основі якого лежитьповністю дискредитована конструкція з її логікою ієрархічних підпорядкування радрізних рівнів, а використання формату парламенту створеного за їх зразкамивиглядає основним чинником, що відповідає за прояви неефективності системи вцілому. Для нас важливо, що відсутність історичних зразків виводить цю проблему вособливу площину, перетворюючи її на питання доцільності впровадження тої чиіншої моделі бікамералізму до політичної практики. З іншого боку, сам фактактуалізації цього питання означає відсутність у кожної з цих пропозиційнеобхідного та очевидного у наявній історичній ситуації потенціалу аби самою пособі переважити іншу. Наголос на цьому аспекті проблеми стає найбільшузагальненим виявом дискусії, що є предметом нашого розгляду.
210Паращич В.Я.
Питання доцільності унікамерального чи бікамерального форматуфункціонування парламенту переходить у площину дискусії про парламентаризм яктакий, про цінності з ним пов’язані, а також ті здобутки, що він уособлює.Оптимізація діяльності парламенту стає питанням оптимізації семантичного поля, щосформувалося навколо поняття доцільності. Так можемо констатувати, що цепитання впровадження бікамералізму змінила свою суть як тільки у процесіконструювання його структури почала проявлятися тенденція до синтезу двохрізнорідних за підставами (логікою свого функціонування) моделей верхньої палати.Змінилася структура системних виборів, що їх треба було зробити аби надатиперевагу одному з варіантів в унікамеральній/бікамеральній альтернативі. Тобтоальтернатива, що до цього мала двоскладову (рівноважну) структуру двопалатнийпарламент проти однопалатного, набула асиметричного вигляду:
• бікамералізму як складна, багаторівневої системи представництва інтересів(модель подібна до «ради старійшин»),;
• бікамералізму як простої двочленної системи представництва (проста сумавсіх інтересів в нижній палаті та проста сума інтересів територій у верхній);
• унікамералізму як цілісного представництва всіх інтересів [1, с. 101].Зрозуміло, що більш універсальним за таких умов виглядає унікамеральний
варіант побудови парламенту, і саме в цьому криється початкова його перевага передбікамеральним. Принцип універсалізації (стратегічна пропозиції Ю. Габермаса, що дооперецеоналізації практичного дискурсу [2, с. 68-69], разом із спробою розширеннямїї в політичній перспективі слугує нам тут за модель роздумів) лягає в основуінституційного дизайну, який – в поєднанні із підкреслено конструктивіськимзвучанням цього модного в українському публічному просторі терміну –промовляючи до нас із усією силою актуалізованої (локальної) дії; кожного разувступаючи в парадоксальний дисонанс із власним прагненням універсальності.
Подібне відчуття безсумнівно просякнуте питанням часу, а в нашій перспективіАвтора, що займається плануванням, воно перетворюється у відчуття темпоральногостраху (остання заява хоч і виглядає перенасиченою великою кількістю образів,однак, видається нам принципово важливою, з огляду на те, що весь аналіз свідомовідштовхується від конкретний сюжет). Придивимося пильніше до отриманоїуніверсальності. Унікамеральна пропозиція виражена як проста універсальністьгерметична за своєю природою. Відтак, свою перевагу ґрунтує на відсутностіпотреби у тих сил, які б запускали (встановлювали) саме таку форму цього інституту.Принцип універсалізації в його нормотворчій діяльності «може походити зімпліцитного змісту загальних передумов аргументації», тобто простого іобов’язкового для будь-якої спільноти знайомства із універсальною практикоюобговорення та виправдання, що тягне за собою принципове визнання «переконливоїсили аргументів» [2, с. 65-66]. Оскілки, при цьому відбувається заміна посилань набудь-які концептуальні змісти (існуючі автономно або у зв’язку з чимось)автореферентним посиланням на форму практики саму-по-собі, остільки, завдання порозбудові процедур отримує цілковиту нейтральність, що до головної мети, а саме,забезпечення чинності виведених в такий спосіб норм. Тобто ситуації коли«передбачувані наслідки та побічні дії – що з’являються при загальному дотриманнінорми – для становища інтересів і ціннісних орієнтацій кожного, можуть безжодного примусу спільно приймати всі, кого ця норма стосується» [2, с. 64]. СамомуГабермасу тут ідеться про моральні норми та можливість їх обґрунтування всучасних умовах відсутності «трансцендентального блага», що відповідає передумовінашого питання про стан не структурованої традиції, власне, браку культурногоресурсу. В цій ситуації він іде шляхом максимального спрощення аби ущільнити свій
211Універсальна та локальна пропозиція: проблема стратегічного проектування
предмет до такого рівня коли той – взятий сам-по-собі – був би здатним прорватися«за межі усіх партикулярних форм життя» [2, с. 62]; саме тут маємо до діла ізпростою універсальністю, що зводиться до точки часу.
Характеристика цього прориву, перш за все у його застосування до сфериконкретного. Позначку переходу до тотальності нам і потрібно схопити, адже цемомент, в якому приймається та реалізується будь-яке рішення. Ось двіхарактеристики з тексту Габермаса, які він дає підставам свого мислення, і які мимогли б описати в термінах моменту (а це, перш за все, значить сприйняти засобамиестетики): а) «Це доволі вузький базис, але змістова нейтральність такого спільногодля всіх набутку може означати і певний шанс перед обличчям тих труднощів, ізяким зустрічається світоглядний плюралізм» [2, с. 62]. Маємо тут уповні відчуття, щопередає складність передумов, яке, однак, отримує особливе (відмінне відскладеності) звучання тільки в стані певного підсилення; б) у відчутті витонченостіприйнятого рішення: «<…> принцип універсалізації може стати цілкомпереконливим, якщо виходити з нормативного змісту передумов аргументації,пов’язаного з поняттям обґрунтування норм (поняттям слабким, а отже,неупередженим)» [2, с. 68]. Зауважимо, що оскільки означення «слабкий» слугує уцитованому пасажі творенню досконалої конструкції думки в цілому (творитьоксюморон «слабка досконалість»), остільки, цей результат і можна вважативитонченим.
Відповідно, проста універсальність проявляється як щось складне та витончене,позначаючи спорідненість між мистецьким твором та будь-яким проектомстратегічної дії. Чого тут не вистачає – так це часу, що його ритм повинен відчутитой, для кого розгортається Проект у дійсності. Автор проекту, який іде шляхомпростої універсальності позбавлений можливості адекватно передати тривалість,схоплену ним у моменті власного Твору. Його принципова простота виявляєтьсягерметичною уже навіть не конструкцією, а, власне, точкою, яку знову і зновусхопити не може уже навіть і сам Автор. Відповідно, внутрішній час такого Проектупоходить від самих передумов і як принцип повинен представляти ту самууніверсальність. Юрґен Габермас посилається на інтуїцію, як на ту силу, що здатнавпізнати нашу універсальність у невпорядкованому масиві практичних дій, адже, «вінтуїтивний спосіб учасники дискусії знають і те, як слід брати участь варгументації» [2, с. 63]. Однак, інтуїція як метод містить власну тривалість яка неможе співпадати з тою, що міститься у моменті схопленому виконавцем чиреципієнтом проекту. Тому, власне, сприйнята таким чином універсальністьоприявлюється, запроваджуються, впізнається лише за простою логікою «згідно зобставинами»[2, с. 63]; тобто локально. Стратегічний проект пострибуєвпровадження за допомогою постійних локальних коректив, що не можнапередбачити жодним планом.
Ця обставина і є виражанням проблеми, що стала підставою наших роздумів;темпоральний страх, що зароджується при роботі з універсальністю, вимагає відАвтора стратегічного проекту, що діє в умовах браку культурного ресурсу –сподіватися на прорив до тотальності в дуже локальній точці. Це є обмеження йогосвободи дії, як Творця. З іншого боку, в такому вигляді наша проблема отримуєповне право на існування в іншому ракурсі, а саме, у вигляді дихотоміїуніверсального/локального. Більш того, спираючись на попередній аналіз, миможемо спробувати більш конкретно сформулювати наше основне питання –питання про можливу функцію дихотомії універсального та локального всамототожніх системах. Від неї ми можемо очікувати реалізацію Проекту, що був би
212Паращич В.Я.
складним, витонченим та мав би властивий тільки йому ритм часу, тривалість часу,що її автор Проекту закладає туди власним творчим актом.
Реалізація дихотомії є, за визначенням, дія, що розгортає, і то розгортає вмоменті певну складність. І тут – у повній відповідності з тим як це відбувається ізтворами мистецтва – ми можемо, кожен сам для себе застосовуючи інтуїцію, дійтивисновку про його витонченість. Тобто, порівнявши тривалість власних моментівсприйняття із ритмом часу закладеним у Проект, визначити міру його досконалості.Такий Проект не проривається до тотальності, а сказати б, розгортає в ній складнууніверсальність, позбавлену, таким чином, будь-якої герметичності, що так легко іефективно залучається до практики позначеної структурованою традицією, і такважко та мало продуктивно здобувається при висновуванні із самої себе. Так само, яктвори сучасного мистецтва мають один цей шлях для здобуття власної значимості,порівняно із творами давніх часів, що в силу вже свого положення артефакту (вмоменті нашого актуального часу) здобувають герметичність простоїуніверсальності.
Висновки. Підсумовуючими, можемо говорити про те, що коли у процесістратегічного проектування ми при розгляді доцільності застосування тої чи іншоїконструкції зауважуємо певну асиметрію універсальної та локальних пропозицій (яку нашому конкретному випадку асиметрії пропозицій унікамеральної/бікамеральнойальтернативи) маємо тут не тільки можливу модель механізму функціонуваннясамототожних систем, але і шанс реалізації власного творчого акту можливого лишеяк розгортання у тотальності.
Список литературы1. Двопалатний парламент: міжнародний досвід та українські реалії / за ред. О.А. Фісуна. – Харків:
Золоті сторінки, 2009. – 160 с.2. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Ю. Габермас. – Львів: Астролябія,
2006. – 416 с.
Паращич В.Я. Универсальное и локальное предложение: проблема стратегическогопроектирования в условиях нехватки культурных ресурсов // Ученые записки Таврическогонационального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология.Социология. –- 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 208-212.
В статье автор анализирует механику соотношений универсального и локального в процессеконструирования социальной реальности. Отталкиваясь от конкретных сюжетов, он приходит к выводупро родство таких Проектов с произведениями искусства и трактует такую связь как принципиальнуювозможность их реализации в сфере конкретного.
Ключевые слова: Универсальное, локальное, тотальность, Проект, эстетическое восприятие.
Parasashich V. The universal and local offer: a problem of strategic designing in conditions ofshortage of cultural resources // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series:Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 208-212.
In article the author analyzes mechanisms of parities correlation between universal and local duringconstructing the social reality. Making a start from concrete topics, he comes to the conclusion aboutrelationship of such Projects with works of art and treats such connection as a basic opportunity of theirrealization in sphere concrete.
Keywords: Universal, local, totality, the Project, aesthetic perception.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 213-217.
УДК 340.12:323.2
И. КАНТ: МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ
Толстов И.В.
В статье рассмотрено морально-правовое учение И. Канта, которое наиболее полноконцептуализировало морально-правовые идеалы будущей либеральной цивилизации и послужилофундаментом справедливой политики.
Ключевые слова: практическая философия, мораль, право, политика.
Целью данной статьи явялется выявление морально-правовых основанийполитики.
Проблемы взаимоотношения морали, права и политики в жизни общества внастоящее время приобретают все возрастающую актуальность. Это объясняется впервую очередь объективной социальной потребностью дальнейшего продвижениячеловечества вперед по пути демократии, свободы, совершенствования и развитияправовых государств. Особенно это относится к постсоветским республикам, в томчисле и к нашей стране, идущей в условиях нелегкого возращения к цивилизации попути интеграции в европейское сообщество.
Для решения современных проблем философии политики характерно обращениек выдающимся мыслителям прошлого, сделавшим огромный вклад в разработкуобщей проблемы «мораль – право – политика». К таким мыслителям относитсяИммануил Кант. Им был наработан богатейший материал по проблемам философииправа, морали и политики, их взаимодействия, который (материал) нельзя неиспользовать и в наше время. Только у Канта можно найти целостное морально-правовое учение, которое наиболее полно концептуализировало морально-правовыеидеалы будущей либеральной цивилизации и которое может уже и сегодняполностью изменить видение морали, права и политики, их смысл и назначение вжизни людей. Заслугой Канта является то, что он построил очень глубокую иутонченную теорию морали, которую, несмотря на многочисленные попытки ееопровержения, еще до сих пор никому не удавалось ни опровергнуть, ни превзойти.Главное открытие Канта в этике – автономия морали и три почти исчерпывающиеформулы главного закона морали – «категорического императива». Нокатегорический императив действует без любых ограничений и погрешностей тольколишь в «ноуменальном» мире. Человек же живет одновременно в двух мирах: вноуменальном и феноменальном. Однако моральный закон все же определеннымобразом реализуется и в феноменальном мире. Это происходит благодаря тому, чточеловечество сделало два чудесных изобретения, при помощи которых моральныйзакон воплощается в реальном мире. Первое изобретение – это религия, второе –право. Религия упорядочивает внутренний мир человека, а право упорядочивает
214Толстов И.В.
внешнюю жизнь людей по принципам разума. Право, как и религия, является опоройморали в феноменальном мире.
Особенностью трансцендентальной практической философии Канта являетсяутверждение о необходимой соотнесенности морали и права, их глубокойвнутренней корреляции. Мораль и право выступают как самостоятельные регуляторыв составе социальных механизмов, которые опосредуют общественные отношения икоторые взаимодополняют друг друга. Мораль утверждает себя через право иодновременно возвышает его, придает ему высокое духовное значение.
В «Критике практического разума» Кант установил разницу междуморальностью и легальностью человеческих поступков. Моральными он считает тепоступки, которые не только совпадают с объективными требованиями моральногозакона, но и субъективно управляются уважением к этому закону как единственномуоснованию человеческой воли. Легальные поступки – это такие, которые ненарушают объективно приказов морального закона, но совершены по каким-тодругим побуждениям. Эту разницу Кант и делает основной для различия сферы праваи сферы морали. Главной особенностью права является то, что оно касается невнутреннего духовного мира, а внешних, практических отношений между людьми.Кроме этого, если исполнение этических обязанностей может относиться кобязанностям добродетели по отношению к другим людям и к отношению человека ксамому себе, то правовые обязанности могут относиться лишь к сфере отношенийлюдей между собой.
В философии Канта фундаментальными являются требования категорическогоимператива как для его учения о нравственности, так и для его учения о праве.Категорический императив нравственности имеет четкую правовую ориентацию, онтребует права. Последовательная правовая организация общества и есть реальноебытие, фактическое внедрение в сферу внешних, практических отношенийкатегорического императива. Право, как и мораль, основывается на свободе и должностроится на общем и необходимом априорном принципе, категорическом императивеправа. «Итак, всеобщий правовой закон гласит: поступай так, чтобы свободноепроявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной совсеобщим законом» [1, с. 140]. Для исполнения требований правового законанеобходимы какие-то гарантии их исполнения. Поэтому право должно иметьпринудительную силу. Носителем этой силы является государство. «Государство(civitas) – это объединение множества людей, подчиненных правовым законам»[1, с. 233]. Наличие государства, которое гарантирует подчинение правовым законам,превращает природное состояние людей в гражданское общество.
Право Канта состоит из двух частей – право частное и право публичное. Частноеправо регулирует отношение между «моим» и «твоим». Это право признанооберегать частную собственность, которая является гарантом свободы ее личности ичести. Под публичным правом понимается совокупность законов которыенеобходимы для построения правового состояния. Оно делится на государственноеправо, которое определяет жизнь народа в отдельном государстве, и международноеправо, которое определяет взаимоотношение между отдельными народами,объединенными в государство. Публичное право, которое относится к
215И. Кант: морально-правовое основание политики
взаимоотношениям всего человечества как жителей всей земли, – это правогражданина мира.
Основой государства и гражданского общества у Канта выступает общественныйдоговор, как регулятивная идея для оценки институций права с точки зрения ихсоответствия требованиям категорического императива. Хотя общественный договоресть всего лишь идея разума, он имеет несомненную реальность именно в томпонимании, что он накладывает на каждого законодателя обязанность издавать своизаконы так, чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа.Общественный договор соотносится не с природным состоянием (которое по-разному объясняли Локк, Гоббс и Спиноза), а с врожденными правами людей,которые в своей основе имеют свободу, присущую каждому человеку благодаря егопринадлежности к человеческому роду.
Идеалом государственного устройства Кант считает республику. «Гражданскоеустройство в каждом государстве должно быть республиканским. Устройство,установленное, во-первых, согласно с принципами свободы членов общества (каклюдей), во-вторых, в соответствии с основоположениями о зависимости всех (какподданных) от единого общего законодательства и, в-третьих, по закону равенствавсех (как граждан государства), есть устройство республиканское – единственное,проистекающее из идеи первоначального договора, на котором должно бытьосновано всякое правовое законодательство народа» [2, с. 267]. Истинное правовозможно только в государстве, которое выступает институцией принуждения кисполнению правовых законов и имеет цель обеспечить «принцип справедливости».Справедливость устанавливается только при условии республиканскогогосударственного строя, который основывается на принципе верховенства права(власти не людей, а права), представительской системе (законодательная властьможет принадлежать только объединенной воле народа), гласности («свободапечатного слова есть единственный палладиум прав народа – свобода в рамкахглубокого уважения и любви к своему государственному устройству,поддерживаемая либеральным образом мыслей подданных…» [3, с. 95]) иразделении властей (законодательной, исполнительной и судебной). Принципамиобщественной жизни в таком государстве провозглашается свобода каждого членаобщества, правовое равенство всех подданных, самостоятельность каждогогражданина. Кант выступает против сословных привилегий, он надеется, что вбудущем дворянство будет полностью ликвидировано. «Не может быть никакогоприрожденного преимущества одного члена общества перед другими; и никто неможет преимущество положения, которое он занимает в обществе, передавать понаследству» [3, с. 82]. Равенство всех – это равенство всех перед законом. Кант заправовое равенство, а не за экономическую уравниловку людей, которые, обычно,отличаются друг от друга своим трудолюбием, талантом и удачей. В таком обществе«каждый его член имеет возможность достигнуть в нем каждой ступени того илииного состояния» [3, с. 81].
Важнейшим принципом политической организации общества приреспубликанском строе государства является разделение властей. Именно этотпринцип обеспечивает «благо государства», под которым понимается не
216Толстов И.В.
благополучие людей и их счастье, а благо государства – это наивысший уровеньсогласованности государственного устройства с правовыми принципами, стремитьсяк которым обязывает нас разум. Законодательная власть должна принадлежатьтолько объединенной воле народа. Личности, которые могут участвовать вреализации законодательной власти, являются гражданами. Гражданство включает всебя три атрибута: основанная на законе свобода каждого не подчиняться другомузакону, кроме того, с которым он сам согласился; равенство всех перед законом;гражданская самостоятельность. Последний атрибут исключает из числаполноправных граждан всех тех, материальное существование которых зависит отволи других людей.
Кант в своей практичной философии придерживается принципа примата моралии права над политикой. Он решительно осуждает аморальность существующейполитики. Последняя, по его мнению, руководствуется такими тремясофистическими положениями: 1. При благоприятных условиях захватывай чужыетерритории, после чего ищи оправдания этих захватов. 2. Отрицай свою вину впреступлении, которое ты сам совершил. 3. Разделяй и властвуй. В политикескрывают эти аморальные максимы от гражданской мысли. Кант говорит о«коварности политики, которая боится света». И существует только один способпротив этого зла – принцип «публичности». Только публичность выступаетнадежным критерием политических действий с точки зрения моральности и правовойсправедливости. «Не справедливы все относящиеся к праву других людей поступки,максимы которых не совместимы с публичностью» [2, с. 303]. И наоборот – «всемаксимы, которые нуждаются в публичности (чтобы достигнуть своей цели),согласуются и с правом и с политикой» [2, с. 308]. Политика, которая не укоренена вправе, которая не основывается на праве, – аморальна.
На действия государства, которые противоречат идеальным, «строго-правовым»принципам, моральный индивид обязан ответить, по Канту, отказом от гражданско-добродетельного поведения. Деспотическая власть обрекает себя на моральнуюизоляцию и становится добычей бунтарских и революционных действий, которые жесама и провоцирует. Главное отношение индивида к государству, которое несоответствует строго-правовому идеалу, – это внешнее подчинение при внутреннемнеучастии. Это и есть при таких обстоятельствах единственно возможный легальныйспособ действия.
Выводы. Кант яснее, чем кто-либо из мыслителей XVIII в., понимает, чтоиндивид не может противостоять абсолютистскому Левиафану на почве себялюбия,самосохранения, эгоизма, склонности и пользы, что даже элементарнаянезависимость в условиях «централизованного и концентрированного насилия»посильна лишь для субъекта долга, призвания, принципа, самопринуждения. Тольков этой форме (только благодаря ригоризму как личностному качеству) может статьпобедоносным и сам «частный интерес», в одних случаях подавляемый, в других –утилизуемый феодально-абсолютистской системой. Нарождающийсяраннебуржуазный индивидуализм способен противостоять господствующему (весьмаи весьма расчетливому, утилитарно-гедонистическому) позднефеодальному эгоизмутолько через автономию, то есть через непрерывно осуществляемое усилие
217И. Кант: морально-правовое основание политики
самозаконности и подведение своих поступков под самостоятельно выбранноевсеобщее правило. Кант (и в этом несомненное достоинство его этики)противопоставляет агенту видимого государства не просто частного индивида, ночлена невидимого правового порядка, своего рода «ноуменальной республики»,аналогичной невидимой церкви реформаторов. Трансцендентальное гражданствопротив эмпирически реального подданства, трансцендентальный конституционализмпротив наличной неограниченной власти – таковы оппозиции, заложенные где-то всамом фундаменте кантовского этического учения. Пафос права присутствует в немеще до всякого построения особой философско-правовой конструкции. Более того,этот пафос, порой чище и энергичнее представлен в формулах моральной рефлексии,чем в специальных рассуждениях Канта о собственности или лично-вещном праве.Право органично связанное с моралью выступает надежнейшим обоснованиемсправедливой политики.
Список литературы1. Кант И. Метафизика нравов в двух частях / Кант И. // Сочинения: в 6-ти т. – М., «Мысль»,
1965. – Т. 4. – Ч. 2. – 478 с.2. Кант И. К вечному миру / Кант И. // Сочинения: в 6-ти т. – М., «Мысль», 1966. – Т. 6. – 743 с.3. Кант И. О поговорке «может быть, это и верно в теории, но не годится для практики» / Кант И.
// Сочинения: в 6-ти т. – М., «Мысль», 1965. – Т. 4. – Ч. 2. – 478 с.
Толстов И.В. И. Кант: морально-правовое основание политики // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія.Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1.– С. 213-217.
В статье рассмотрено целостное морально-правовое учение И. Канта, которое наиболее полноконцептуализировало морально-правовые идеалы будущей либеральной цивилизации и служилофундаментом справедливой политики.
Ключевые слова: практическая философия, мораль, право, политика.
Tolstov Ivan. Immanuel Kant: morally-legal ground of politics // Scientific Notes of Taurida NationalV.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23(62). – №1. – P. 213-217.
In article considered Kant's complete morally-legal doctrine which has most full designated morally-legalideals of the future liberal civilization and which served as the base of a fair policy.
Keywords: practical philosophy, morals, right, law, politics.Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 218-224.
УДК 134
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИИ
Михайлов А.Н
В статье на основе рассмотрения общего понятия демократии автор определяет объектоманализа политический вид демократии. Автор считает за наиболее удачное определение политическойдемократии, данное Дж. Сартори, и уточняет четыре основных признака демократии. Экономическаяоснова демократии заключается, по мнению автора, в возможности государства сформироватьзначительный средний класс.
Ключевые слова: экономика, демократия.
Цель статьи – на основе выявления сущности политической демократиипроанализировать её зависимость от экономического фактора, от степени развитиясреднего класса в государстве.
Одним из важнейших показателей развитости политической системы обществаявляется состояние демократии. В то же время, сама демократия, еёфункционирование и устойчивость, по мнению автора, зависит от развитияэкономики, показателей уровня валового внутреннего продукта и его распределениямежду гражданами государства. Актуальность исследования экономических основдемократии вызывается недостаточной теоретической разработкой этой проблемы внаучной литературе.
Известно, что прежде чем анализировать понятия, необходимо определить их. Вэтом смысле понятие демократии весьма многогранно. Современные учёныевыделяют, по крайней мере, четыре вида демократии: политическую,экономическую, индустриальную и социальную [7, с. 267]. Сразу уточним, что встатье речь пойдёт о политическом виде демократии. Дать определениеполитической демократии, на первый взгляд, достаточно просто. Каждый грамотныйчеловек знает, что понятие «демократия» означает власть народа. Сам этот терминвозник в Древней Греции около 2400 лет тому назад. За прошедшее время этоттермин приобретал разные значения, был отвергаем, отрицаем, одобряем, взависимости от конкретно – исторических условий и господствующих духовныхценностей. Но бесспорно, что к ХХ веку термин «демократия» стал настолькопопулярен, что ни одна политическая власть в современном мире не называет себянедемократической. Более того, даже противоположные политические системыпретендовали на признание их самыми демократичными: политическая системаСША, развитых стран Европы, политическая система СССР, нацистскаяполитическая система Гитлера. В первые годы после победы революции в России В.Ленин в своей работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский», критикуя такназываемую буржуазную демократию, пытался доказать, что высшим типом
219Экономические основы демократии
демократии является диктатура пролетариата, а сутью этой демократии являетсяреволюционное классовое насилие.
Таким образом, оказывается, что дать определение демократии совсем не простоиз–за объективных и субъективных трудностей. Объективные трудности состоят втом, что демократия – сложное и многоплановое явление, в котором исследователь взависимости от мировоззрения и политических пристрастий вычленяет определённоесодержание. Например, под демократией можно понимать как определённуюполитическую систему, так и определённые демократические признаки,господствующие в определённой политической системе. Демократию можнорассматривать как идеальную (нормативную, должную), так и реальную(существующую).
Субъективная причина заключается в том, что понятие «демократия»сознательно искажается. Защитники режима любого типа заявляют, что ихполитический режим – это и есть демократия. Демократия действительномногогранна, и она не может быть связана с каким – то одним значением. Однаконельзя не признать, что в любом определении демократии всегда присутствует смысл– власть народа. Наиболее ёмко этот смысл выразил американский президентЛинкольн в своём Геттисбергском обращении в 1863 году. Демократия – это«управление народа народом и для народа» [цит по: 1, с. 268]. Однако при этомвозникает вопрос, а что включает в себя понятие «народ» в политическом аспекте?Если в демографическом аспекте народ – это все граждане государства, то вполитическом аспекте – это преобладающая часть населения государства,выраженная принципом ограниченного большинства. Принцип ограниченногобольшинства означает, что права большинства не могут быть безграничными,абсолютными. Исходя из такого подхода, демократию характеризуют как системуправил большинства, ограниченную правами меньшинства.
Из данной трактовки демократии вытекает несколько выводов.1. Недопустима фетишизация народа, создание из народа некоего формального
идола, что на деле может сочетаться с фактическим презрением к реальным людям.2. В демократическом обществе обязательно должны быть защищены права
меньшинства.3. Выражение «власть народа» подразумевает под народом не только субъект, но
и объект власти.4. Подлинный характер демократии напрямую зависит от объёма понятия
«народ» и объёма его реального суверенитета. Ограничение объёма понятия народаопределёнными классовыми или демографическими рамками даёт основаниехарактеризовать государства, подвергающие политической дискриминацииопределённые группы населения как социально ограниченные демократии и отличатьих от всеобщих демократий – государств с равными политическими правами длявсего населения, и охлократий (то есть, власти черни, толпы). Охлократия вытекаетиз трактовки народа как низших, неимущих слоёв населения, простого люда,составляющих большинство населения. Относительно истории СССР отметим, чтоохлократия была господствующей политической системой в первые годы советской
220Михайлов А.Н.
власти, и для неё было найдено определение «диктатура пролетариата», позднееохлократия плавно трансформировалась в социально ограниченную демократию.
За всё время существования человечества сложилось несколько историческихтипов демократии: рабовладельческая демократия, буржуазная демократия,подлинная демократия, народная демократия, социалистическая демократия и др.Однако, стремясь дать научное понимание демократии, следует исходить из того, чтодемократия или есть, или её нет – всё остальное является софистикой. Поэтому всеперечисленные формы демократии можно считать таковыми весьма условно, вдействительности это квазидемократии.
В современной науке о политике наиболее удачное, с точки зрения автора,функциональное определение демократии дал Дж. Сартори: «Демократия – этосистема, при которой никто не может выбрать сам себя, облечь себя властьюуправлять и, следовательно, не может присвоить себе безусловную инеограниченную власть» [цит. по: 1, с. 284]. Здесь автор толкует демократию какопределённую политическую систему. Следовательно, все другие политическиесистемы выступают в качестве антидемократических: тирания, деспотия, автократия,теократия, авторитаризм, тоталитаризм, абсолютизм, диктатура.
Из сказанного вовсе не следует делать вывод, что во всех перечисленныхантидемократических политических системах полностью отсутствовали некоторыепризнаки демократии. Отнюдь. В некоторых политических системах последних вековприсутствовали демократические признаки. Какими же признаками отличаетсядемократия как политическая система?
1. Прежде всего, это институциональное выражение суверенитета, верховнойвласти народа. Для демократии характерно, что именно народ, а не партия, армия,духовенство, выступает действительным источником власти. Именно народу должнапринадлежать конституционная и учредительная власть, он избирает и сменяеторганы власти.
2. Вторым признаком демократии является периодическая выборность всехруководящих органов государства.
3. Третьим признаком является принятие всех решений, исходя из большинства,при обязательном уважении и признании в реальной политической жизни интересовменьшинства.
4. Наконец, безусловным признаком является равенство граждан на участие вуправлении государством. В многомиллионном государстве со сложнойполитической системой он предполагает равенство избирательных прав, свободусоздания и функционирования политических партий, право на информацию, право научастие в политической борьбе за власть и руководящие должности в государстве.
Из признака равенства прав граждан вытекает важнейшая характеристикадемократии: равенство может быть формальным и фактическим, предполагающимсоздание примерно одинаковых социальных возможностей для реализации людьмисвоих политических и экономических прав. В зависимости от характера равенстваможно выделить демократию бедности и демократию состоятельности. Перваяформа демократии характерна для тоталитарных и авторитарных режимов, гдечеловек не цель, а средство, и от конкретного человека мало что зависит. Это
221Экономические основы демократии
демократия фальшивая, квазидемократия, она не затрагивает основ существованияобщества. Ей не нужен человек-цель, ей нужен человек-функция, средство,сознанием которого можно легко манипулировать, используя подвластныегосударству средства массовой информации и пропаганды, а в необходимых крайнихслучаях и средства вооружённого насилия. Такая демократия опасаетсяэкономически независимого, экономически свободного гражданина. В нём она видитсвою кончину, свой крах. Думается, что именно в этом кроется главная причинаискоренения в период коллективизации в СССР крепких, самостоятельных хозяев вдеревне и частных предпринимателей среди городского населения.
Вторая форма демократии характерна для стран с высокоразвитой экономикой,и этот уровень экономического развития является гарантией от революций исоциальных потрясений. На социальном уровне эта гарантия обеспечивается черезформирование среднего класса, то есть людей, получающих доходы, значительнопревышающие минимальный прожиточный минимум. Этот класс заинтересован не визменении существующего социального строя, а в его совершенствовании,улучшении. Этот класс, далее, будет сознательно участвовать в выборныхдемократических процессах. Это поняли ещё мыслители Древней Греции. Здесь, посуществу, стало складываться понимание роли среднего класса для демократическойформы жизни общества. Величайший мыслитель Древней Греции Аристотельотмечал, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь наилучшийгосударственный строй [7, с. 832]. Именно с количественными изменениямисреднего класса оказались прямо связаны и расцвет и угасание афинской демократии.Прямая экономическая основа афинской демократии наблюдалась и в том, чтополитическими правами обладали не просто свободные люди, а экономическисостоятельные граждане.
Таким образом, именно в формировании среднего класса в настоящее время изаключается прочность и устойчивость демократии в целом и демократическихрежимов в особенности. Формирование же среднего класса во многом зависит отуровня развития экономики, от экономической мощи государства и количествавалового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения.
В экономически развитых странах средний класс составляет 60 – 80 %населения. В Украине – пока значительно меньше, по самым оптимистическимоценкам, не более 20%. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему в Украинесредний класс составляет столь небольшой процент, необходимо проанализировать,какие субъекты и в каком соотношении создают валовый внутренний продукт вденежном исчислении. Если в развитых странах мира от 45% до 60% и болеевалового внутреннего продукта создаёт мелкий и средний бизнес, то в Украине наего долю приходится чуть более 10%. Иными словами, рост среднего класса лежит напутях развития предпринимательства, расширения экономической свободы идоступности к бизнесу для широких слоёв населения, простоты регистрациипредпринимателей и их налоговых отношений с государством, создания равныхусловий для всех субъектов экономики.
К среднему классу, кроме предпринимателей, можно отнести высший и среднийслой государственных служащих, высших и средних офицеров, высших и средних
222Михайлов А.Н.
руководителей государственных предприятий. Должны относиться к этому классу вУкраине и относятся в развитых странах педагоги, врачи, работники культуры,пенсионеры государственной службы, министерства обороны, министерствавнутренних дел и службы безопасности государства. Как видно даже из этогонеполного перечня, эта доля среднего класса формируется за счёт выплат избюджета.
Как показывает анализ экономики развитых стран Европы, их бюджетыдовольно успешно справляются с задачей социального обеспечения этих категорийнаселения. Это можно проследить, например, на примере Швеции. В этой страненалоговая система направлена на снижение разницы доходов богатых и бедных, наограничение власти крупного капитала. В итоге средняя зарплата в Швеции высокая,разрыв в зарплате у разных категорий работников невелик, пенсия составляет 75%средней зарплаты за 15 из 30 наиболее оплачиваемых лет, медицинскоеобслуживание оплачивается из бюджета (чего нет даже в США), а часть валовоговнутреннего продукта, приходящаяся из бюджета на одного шведа составляла вначале третьего тысячелетия более 25 тысяч долларов в год [см. 2, с. 131].
Что касается Государственного бюджета нашего государства, следует отметитьследующую закономерность: государственные бюджеты Украины последних лет неявлялись действенным фактором трансформации экономических отношений всоциально-ориентированные экономические отношения западноевропейского типа.Только Государственный бюджет на 2005 год, принятый в марте 2005 годаВерховной Радой Украины увеличил расходы на социальную сферу и социальнуюподдержку малоимущих слоёв населения до 80%, поэтому этот бюджет в полноймере можно считать социально ориентированным. Он позволил значительноувеличить многие бюджетные выплаты населению. Однако одновременный рост ценна потребительские товары, высокий (до 12%) уровень инфляции и снижение темповэкономического роста до 2,5% в 2005 году вместо 8% в 2004 году фактическиобесценили повышенные социальные выплаты и социальную помощьмалообеспеченным слоям населения.
Значительный шаг вперёд в решении социальных проблем особенномалообеспеченных слоёв населения был сделан в 2008 году. Так средневзвешеннаяминимальная заработная плата в 2008 году (поскольку она увеличивалась в течениегода четыре раза) составила 532, 5 гривны, а её прирост в сравнении с 2007 годомсоставил 23,8% [ 9].
На конец 2008 года минимальная пенсионная выплата составила 544 гривны, чтоболее чем на 30% превышает аналогичный показатель 2007 года [ 3]. Средний размерпенсии в конце 2008 года составил 895 грн., что на 50% больше, чем в 2007 году наэтот же период.
С целью улучшения демографической ситуации в Украине в 2008 годуГосударственным бюджетом было предусмотрено значительное повышение размеровматериальной помощи в связи с рождением ребёнка. В частности, размеры прирождении первого, второго, а также третьего и последующих детей в 2008 годусоставляли 12тыс. 240 грн., 25 тыс. грн., 50 тыс. грн. Одновременно в 2008 году былипредприняты беспрецедентные шаги по возврату гражданам их обесцененных
223Экономические основы демократии
денежных сбережений Сбербанка СССР. По итогам прошлого года кассовыевыплаты государственного бюджета на эти цели равнялись 6079,1 млн. грн., тогдакак в 2007 году соответствующие выплаты из государственного бюджета составлялилишь 506 млн. грн [3].
Однако, как уже отмечалось, рост социальных выплат в больших объёмах неотвечал росту валового внутреннего продукта, что явилось причиной инфляции иобесценило повышение денежных доходов населения. Наконец, данноенесоответствие значительно усилило остроту финансово – экономического кризиса внашем государстве в сравнении с Россией и западными странами, и Украинаоказалась в сложной ситуации с выплатой пенсий и выполнения других социальныхпрограмм, гарантированных законами Украины.
Таким образом, государственные финансы находятся сегодня в очень сложнойситуации – денег не хватает, одновременно обязательства государства, определённыеЗаконом о «Государственном бюджете Украины на 2009 год, должны бытьвыполнены.
Усложняют процесс формирования среднего класса как основы демократии иантисоциальные методы формирования бюджета. В цивилизованном мире одна изнаиболее весомых статей доходов бюджета – это налог на недвижимость. В нашейстране сложилась странная ситуация. Де-юре этот налог существует, а де – факто егонет. Прежнее руководство нашего государства отказалось вводить налог нанедвижимость под тем предлогом, что затраты на его администрирование превысятдоходы от его поступления. Мягко говоря, .это не соответствует истине. Поэтомудоходную часть Государственного бюджета Украины формируют в основном среднеи малообеспеченные слои населения (это НДС, акцизный сбор, подоходный налог), аолигархи больше уходят в тень.
Антисоциальную направленность несёт в себе и поэтапное введение с 2004 годаЗакона Украины: «О налоге на доходы физических лиц». Этим законом установленаединая ставка налога 15% независимо от суммы дохода. В развитых демократическихстранах установлена прогрессивная ставка налога – чем выше доход, тем выше иставка налога. В связи с этим можно сделать вывод, что социальную направленностьбюджета можно усилить не только благодаря росту зарплат и пенсий, но также и засчёт изменения методов наполнения бюджета, путём введения налога на богатство ивведения прогрессивной ставки подоходного налогообложения.
Выводы. Для формирования среднего класса и развития демократическогопроцесса наряду с повышением материального благосостояния населениянеобходимо выработать государственный механизм экономического обеспечениядемократии, обеспечивающий экономическую и политическую стабильность. Ондолжна включать в себя следующие элементы
1. Превращение всех граждан Украины в реальных собственников на основеразнообразных форм собственности: личной, частной, кооперативной,государственной, акционерной. При этом важно, чтобы эта собственность охраняласьзаконами, а сами законы были стабильными. Иными словами, государство должновзять на себя обязательство стать гарантом неприкосновенности этой собственностина основе диктатуры закона.
224Михайлов А.Н.
2. Защитить реальную рыночную экономику от господствующих сегодня вэкономике финансово – олигархических и государственно – бюрократическихмонополий, а собственников – от монополистических группировок. Необходимообеспечить реальный плюрализм в сфере собственности, ибо только он являетсядействительной гарантией политического плюрализма и развития демократическихпроцессов.
3. Создать дополнительно миллионы рабочих мест, чтобы действительнаябезработица не превышала 4 – 5%, а зарегистрированным безработным можно былообеспечить достойное пособие [4].
Перспективным направлением дальнейшего анализа экономических основдемократии является разработка теоретических основ государственного механизмаэкономического обеспечения демократии
Список литературы
1. Политология: учеб. пособие для вузов / сост. и ред. Н. Сазонова.- Харьков: «Фолио», 2001.- 831 с.2. Фінанси: шкіл студії / за ред. д.е.н., професора Юрія С.І. – Тернопіль: Вид–во Карт–бланш,
2002. – 360 с.3. Інформація міністерства фінансів України відносно виконання державного бюджета в 2008
році // Урядовий кур’єр. - 2009. – 27 лютого.4. Водолазов Г.Г. Гражданское общество и мир политики / Водолазов Г.Г. // Философские науки.
– 2005. – №3. – С. 7–25.5. Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2005 год» // Голос Украины. – 2004.
– 30 декабря. – № 249.6. Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2006 год» // Фінанси України. –
2006. - № 2. – С. 3 – 68.7. Закон Украины «О государственном бюджете на 2007 год» // Урядовий кур’єр. – 2006. – 23 грудня.8. Закон Украины «О государственном бюджете на 2008 год» // Урядовий кур’єр. – 2007. – 31 грудня.9. Закон Украины «О государственном бюджете на 2009 год» // Голос Украины. – 2008. – 31 грудня.
Михайлов А.Н. Економічні основи демократії // Вчені записки Таврійського національногоуніверситету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. –Т.23 (62). - №1. – С. 218-224.
У статті на основі розгляду загального поняття демократії автор визначає об'єктом аналізуполітичний вид демократії. Автор вважає за найбільш вдале визначення політичної демократії те, що давДж. Сарторі, а також уточнює чотири основні ознаки демократії. Економічна основа демократії полягає,на думку автора, у можливості держави сформувати значний середній клас.
Ключеві слова: демократія, економіка.
Mikhaylov A.N. Economic basis of democracy // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 218-224.
In the article on the basis of consideration of general concept of democracy the author determines theobject of analysis the political type of democracy. Author considers the best definition of political democracy D.Sartori’s one and specifies four basic signs of democracy. Economic basis of democracy consists, in opinion ofauthor, an the possibility of states to form a considerable middle class.
Keywords: democracy, economy.Поступило в редакцию 13.10.2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. ВернадскогоСерия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. №1. С. 225-234.
УДК 159.924.2:81
«ПАРИТЕТНОЕ» РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ ИЛИ МОДЕЛЬЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА(НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРИИ, КАНАДЫ, БЕЛЬГИИ)
Юрьева Т.В.
В данной статье изучаются довольно комплексные и сложные вопросы, связанные слингвокультурологическими проблемами в различных европейских странах и их влияние нажизнь социума и взаимодействие между различными этническими группами. Мы анализируемлингвистический плюрализм в странах с федеративным устройством, как вариантразрешения этнических, лингвистических, социальных, межнациональных проблем всовременный период глобализации.
Ключевые слова: лингвистический плюрализм, глобализация, этническая группа
Предметом анализа является модель языкового плюрализма ипаритетного развития языков. Цель статьи состоит в рассмотрениипаритетного развития языков и лингвистического плюрализма как одного извариантов решения лингво-культурных проблем.
Наша эпоха – это эпоха глобализации всех сторон общественной жизни,усиления взаимодействия и взаимного сотрудничества разных народов,государств, цивилизаций и культур. Сейчас речь идет не об интеграционныхпроцессах, а в какой – то мере об игнорировании национальных интересов,национальных границ, национального суверинитета и национальных культур.Негативные последствия глобализации нередко приводят к национализму исепаратизму. Причем это касается не только слаборазвитых стран, но иразвитых государств. Такое отношение к глобализационным процессамсвязано с тем, что многие этносы боятся потерять свою национальнуюидентичность, свой язык, свою культуру.
В современном мире практически не существует однородных вэтническом и национальном плане государств. В любом государстве наличиемножества этносов неизбежно порождает проблемы экономического,культурного, политического и духовного характера. Обьясняется это тем, чтокаждый этнос в рамках государства стремится сохранить свою идентичность,и поэтому нередко его интересы вступают в противоречие с интересамидругих этносов и в целом государства.
Проблемы межэтнических отношений актуальны и в Украине, котораяявляется многонациональным государством. Мы ищем пути решенияэтнических, лингвистических и национальных проблем. Следует отметить,что многие ученные уделяют пристальное внимание поиску путей решениякультурных, политических, межэтнических отношений. Вопросыглобализации и международных отношений разрабатываются в трудахследующих исследователей: А.И. Уткина, Б. Купера, Х. Шуманна. Проблемы
226Юрьева Т.В.
наций, национальных отношений, национализма и сепаратизма нашлиотражение в трудах Ю.В. Бромлея, Д. Крейна, Ю.И. Семенова, и т.д. Но нанаш взгляд, необходимо детальное изучение опыта государств, которые втечение многих тысячелетий пытались решить проблему сосуществованияразличных этносов и столкнулись с практически неразрешимым вопросомкультурно – лингвистических отличий. Поэтому достаточно важнымпредставляется анализ и изучение исторического опыта стран, которые сцелью ликвидации лингвистических разногласий между различнымиэтносами в рамках одного государства, изменяли свое политическоеустройство и соответственно внутреннюю и внешнюю политику. Предметоманализа являются Канада, Швейцария и Бельгия с их моделью языковогоплюрализма и паритетного развития языков. Будет изучен исторический опытэтих стран и современная ситуация в условиях глобализации современногомира.
Мы знаем, что современная Швейцария была образована 25-юнезависимыми кантонами (6 полукантонов) с принятием первой ФедеральнойКонституции 1848 г. 26-ой кантон (Юра) образовался путем отделения откантона Берн в конце 70-х годов прошлого века. С точки зрения культурногоразнообразия, Швейцария состоит из 17 немецко-говорящих Кантонов, 4франко-говорящих Кантонов, и 1 итало-говорящего Кантона. 3 Кантонаимеют два языка (немецкий – французский) и 1 Кантон имеет три языка(немецкий, рето-романский и итальянский). Швейцарский федерализмпроизошел от нескольких разных, независимых и очень непохожихсообществ, которые по своей структуре представляли сельские общины,маленькие демократические государства, аристократические илиэкономические олигархии. Эти небольшие сообщества постепенно утрачивалисвязи и, наконец, совсем отошли от больших соседних империй, королевствили государств. Таким образом, они не были вовлечены в процессформирования государств Западной Европы ХVIII и ХIХ вв. Так, они моглисформировать свою собственную правительственную систему и объединитьсяв государство, состоящее из разных независимых кантонов, т.е. из оченьнепохожих политических единиц, разных языковых сообществ и разныхрелигий. Каждое кантональное демократическое сообщество могло жить иразвиваться в согласии со своей собственной культурой, историей, языком ирелигией.
До конца ХIХ в. конфликты происходили чаще на религиозной почве, ане на почве культурного языкового различия. Положение радикальноизменилось в ХХ в. Сегодня религия уже не вызывает конфликтов. Намногоболее важен языковый вопрос. Принятые путем референдумадемократические решения свидетельствуют, что разные языковые группыимеют сильно отличающиеся мнения относительно внешней политики,процесса европейской интеграции, социального обеспечения и окружающейсреды. Если в будущем расхождение между языковыми сообществами будетувеличиваться, можно предвидеть значительные конфликты.
Принимая во внимание появившуюся напряженность в отношенияхмежду разными языковыми сообществами, новая Конституция подчеркивает,
227«Паритетное» развитие языков …
что Федерация несет ответственность за укрепление мира и понимания междуразными языковыми сообществами. Действующая Конституция объявляет всечетыре языка, а именно немецкий (63,7%), французский (19,2%), итальянский(7,6%) и рето-романский (0,6 %) государственными языками (ст. 4). Триосновных языка (немецкий, французский и итальянский) стоят на равномположении юридически, но не практически. Что касается рето-романского, токонституция гарантирует гражданам, говорящим на нем, что они могутподдерживать официальные контакты с федеральной администрацией насвоем родном языке. Что касается трех других государственных языков, ониюридически равны, это закреплено в Конституции.
Швейцария является многоязычной и многодиалектной страной.Основоположник швейцарской диалектологии Франц Йозеф Штальдер,указывая на своеобразие лингвистической ситуации в Швейцарии, еще вначале прошлого века отмечал, что в Швейцарии каждый дом, каждая семьяимеют свои особенности в языке. Своеобразная языковая ситуацияШвейцарии объясняется сосредоточением в одном социуме (т. е. в единомшвейцарском государстве), или в одном коллективе сношений четырехнациональных языков, каждый из которых обнаруживает сложную структуру«состояний» (Степанов Г.В.) вследствие диалектного многообразия и наличиянормированных национальных литературных языков. В соответствии сосновным этническим составом национальными языками в Швейцариипризнаны немецкий, французский, итальянский и ретороманский, из которыхпервые три, каждый в своих территориальных пределах, являютсяофициальными административными языками страны. При этом ни один изтрех официальных языков не выступает как общепринятый язык-посредникдля внутрифедерального, межэтнического общения или для внешнейрепрезентации Швейцарии. Для каждой этнической группы Швейцариихарактерна относительно устойчивая территория. Языковые зоны Швейцариине представляют собой неподвижных и в языковом отношении гомогенныхединиц, в местах схождения языковых границ имеются зоны двуязычия(напр., Биль, Фрибур, Берн). В многоязычной Швейцарии для большей частинаселения характерно одноязычие. Координативный же билингвизм, т.е.одинаковая степень владения двумя языками, носит не массовый, аиндивидуальный характер и проявляется преимущественно винтеллектуальной среде. Наряду с этим отдельные языковые зоны Швейцариимогут быть отнесены к зонам субординативного билингвизма. Например,франкоязычный кантон Фрибур, несмотря на то, что 1/3 его населениясоставляют германошвейцарцы, не является зоной объявленного двуязычия, ифранцузский язык занимает здесь господствующее положение в качествеофициального и делового языка. Однако в повседневной жизни наблюдаетсяситуация франко-немецкого двуязычия. Впервые правовое положениешвейцарского многоязычия было закреплено Конституцией 1848 г.Национальными языками были признаны три главных языка – немецкий,французский, итальянский. Ретороманский язык был признан четвертымнациональным языком республики лишь в 1938 году.Таким образом, главным фактором, определяющим сущность языковой
228Юрьева Т.В.
ситуации в Швейцарии, является сосуществование языков двух групп –германской и романской, при этом язык наименее многочисленнойэтнической общности – ретороманский – считается единственным исконнымместным языком. Языковая ситуация в Швейцарии определяется не толькомногоязычием, но и чрезвычайно сложной лингвистической стратификациейэтого региона и отношением каждого из его языков к сопредельнымодноязычным территориям. Например, статус немецкого языка в Швейцариив отношении к основной зоне его распространения таков, как в структурном,так и в социально-лингвистическом плане, что может быть поставлен вопрос осамостоятельности этого языка в качестве варианта немецкого языка.На всехэтапах исторического развития швейцарского государства первостепеннуюроль играла идея государственной суверенности, национальнойнезависимости. Несмотря на то, что в Швейцарии четыре равноправныхязыка, и швейцарцы, говорящие на немецком, французском, итальянском иретороманском языках, имеют также свою литературу и искусство, онисоставляют одну нацию, связанную общностью экономики, территории ипревалирующей над всеми различиями суверенности швейцарскогогосударства. То, что каждый швейцарец чувствует себя, прежде всего,швейцарцем, а не немцем, французом или итальянцем, живущим вШвейцарии, свидетельствует о специфичности национальной ситуации.Наибольшую индивидуальность в Швейцарии приобрел немецкий язык.Лингвистическая ситуация швейцарско-немецкого ареала характеризуетсяуникальной чертой в социально-функциональной модели немецкого языка, несвойственной немецкому и австрийскому национальным узусам.Определенную черту в своеобразие швейцарского варианта немецкого языкавносят достаточно многочисленные заимствования из других языков, что,прежде всего, объясняется этническим составом швейцарского народа. Вколичественном отношении на первом месте из романских заимствований вшвейцарско-немецком и его диалектах находятся заимствования изфранцузского литературного языка, французского разговорного языка ифранцузских говоров швейцарских кантонов.
Однако в повседневной жизни швейцарцы пользуются своим «родным»языком, который употребляется всем народом, без всякого социальногоразличия, представителями всех классов общества, образованными ималограмотными, и в городе, и в деревне, в интимной семейной беседе и вученом споре. Таким образом, швейцарско-намецкие диалекты занимаютособое положение в сравнении, например, с немецкими и австрийскимидиалектами и превосходят их с функциональной точки зрения.
Один из современных швейцарских лингвистов, Артур Баур, пишет, чтошвейцарско-немецкий представляет собой для его носителей такое языковоеобразование, в котором они себя хорошо чувствуют, которого бы никоимобразом не хотели бы лишиться и которое защищает их своеобразие лучше,чем Рейн.
Языковая ситуация, которая характеризуется существованием в рамкаходной и той же речевой общности двух разновидностей одной системы,рассматривается в лингвистической литературе как диглоссия, или диалектно-
229«Паритетное» развитие языков …
литературное двуязычие. Такая диглоссия длится в Швейцарии уже 200 лет, ишвейцарцы к ней привыкли. Но распределение функций между этими двумяязыковыми формами не всегда было одним и тем же. В последнее время чашавесов перевешивается в сторону диалекта, потому что люди больше говорят,чем пишут на стандартном немецком языке.
Мультикультурализм, разнообразие и комплексность частоформировались в ходе жестоких религиозных войн и идеологическихпротиворечий, ставящих под угрозу целостность страны. Швейцария, такимобразом, остается неоднородной нацией с большой вероятностью конфликтов.Однако, сегодня все, без сомнения, согласны с тем, что интересыменьшинства должны достигаться не с помощью силы, а мирнымполитическим путем.
Каковы причины, которые заставляют разные сообщества отказаться отприменения силы и в основном перейти к процессу мирного принятиярешений? Главная причина – законность единства нации. Поскольку нацияэтнически неоднородна, единственный фактор, который действительнообъединяет страну, – это твердая вера абсолютного большинства граждан водни и те же политические ценности. Швейцарцы приняли правилаполитической игры, согласно которым к демократии ведет согласие наместном и федеральном уровне.
Главный вызов Швейцарскому федерализму заключается вмультикультурализме. Швейцарский мультикультурализм сложился не врезультате иммиграции, как в США, Канаде или Австралии (все этофедерации). Он своими корнями уходит в вековую историю сообществ,которые всегда жили в Швейцарии. Отсюда главный и наиболеепровокационный вопрос: как может такое неоднородное, в отличие отГермании, общество, как Швейцарское государство, найти единство изаконность в общих политических ценностях? Как могут такие политическиеценности, как местная демократия и федерализм, которые не универсальны ине имеют объединительного характера, послужить основой объединениянеоднородной нации в пределах европейского сообщества, которое сегодняосновывает свое политическое единство на универсальных ценностях, такихкак демократия, законность и права человека?
Существует еще один вопрос: является ли «народ Швейцарии» единым икакие духовные силы должны поддерживать это единство? Вполне возможно,что традиционные политические процедуры и институты, такие, как прямаядемократия, федерализм и местные органы управления так глубокоукоренились, что превратили культурно-неоднородное сообщество вполитически-гомогенный народ. Вполне возможно, что именно федерализм,который представляет собой совместное управление разных культур исильное самоуправление (автономию) кантонов и муниципалитетов, был и досих пор является самым важным интегрирующим фактором, которыйобъединяет Швейцарское сообщество. Именно благодаря этим общимполитическим ценностям Швейцария до сих пор не раскололась на языковыеи/или религиозные общины.
230Юрьева Т.В.
Таким образом, законность Швейцарской Конфедерации основана вравной степени на народах кантонов и на «швейцарской нации», котораясостоит из множества разных культур и религий. Эта нация делится накантоны, которые представляют собой политические единицы федерации.Народы кантонов политически привержены своему кантону и Федерации, акультурно связаны с родственным народом соседнего региона. Однородностьгосударства, таким образом, основана на одинаковом понимании иодинаковом восприятии основных политических принципов. Историческаядействительность, наконец, воплотилась в федеральную структуругосударства. Если бы Конституция не приняла во внимание этудействительность, Федерация раскололась бы на разные этнические общины.
В государстве с неоднородным обществом, солидарность являетсяпроблемой не только отдельных личностей, но и разных культурныхсообществ и религий. Таким образом, солидарность как основной элемент,удерживающий потенциально противоречивое швейцарское общество вместе,должно обеспечить равные возможности не только для личностей, но и длясообществ. Равенство сообществ часто имеет приоритет по отношению кравенству личностей. Понимание равных прав имеет соответственно дваразных значения: право «быть равным» и право на «равные права». Еслилюди, принадлежащие к рето-романскому меньшинству, имеют толькоравные права, они будут всегда считаться или считать себя гражданамивторого сорта. В обществе полного равноправия они остаются крошечнымменьшинством, которое фактически ощущает дискриминацию в государстве,которое понижает гражданина до положения политической единицы,лишенной какой-либо культуры. С другой стороны, если они имеют правобыть равными, они должны быть приняты на равных именно как часть своегокультурного сообщества. Романо-говорящий гражданин должен иметьзначимость как часть своего сообщества точно так же, как люди,принадлежащие к немецко-говорящему большинству. Очевидно, чтоШвейцария ищет равновесие между равными личными правами и правомбыть равным, сохраняя принадлежность к меньшинству.
Швейцарии предстоит не только глобализация. В то время, как рынкистановятся глобальными, эмоции, кажется, становятся более локальными.Локальный национализм, который нельзя рассчитать и предвидеть, являетсяеще более серьезным вызовом для федеральной страны с неоднороднымнаселением. Перед большими и однородными национальными государствамистоит проблема глобализации. Перед мультикультурными федерациями – ещеи проблема «локализации». Таким образом, они должны решить двепроблемы. Глобализация уменьшает политическую роль государства,особенно его способность оказывать политическое влияние и вестинезависимую политику в пределах своей территории. Глобализацияспособствует централизации.
Те, кто рассматривает федерализм как лучшую форму государственногопорядка, должны иметь в виду, что исторически федерализм был одним изсамых динамичных, гибких, но в то же время хрупких структургосударственного порядка. В отличие от унитарной системы, федерализм
231«Паритетное» развитие языков …
может формироваться и развиваться в самых разных формах. Совместноеуправление и самоуправление может быть усилено, расширено, ослаблено илиограничено. Для Швейцарии основная проблема заключается в том, сможетли она преобразовать свою философию и систему мультикультурногообщества, состоящего из традиционных объединений в систему, открытую нетолько для всемирного капитала, но и для всемирного труда. Может лифедерализм стать инструментом, интегрирующим различные культуры,которые иммигрируют в нашу страну? Как большинству европейскихгосударств, Швейцарии также угрожает расизм по отношению к иностранцам.Сможет ли Швейцария ответить на этот вызов, опираясь на традицииразнообразия и федерализма?
Одним из примеров успешного решения сосуществования различныхсообществ на территории одного государства является Бельгия. Бельгия -молодая федерация, которая прошла сложный эволюционный путь. Бельгияуспешный пример образования федерации с учетом этнического фактора.Выстроена крайне сложная институциональная система, позволяющаясправляться с социальной напряженностью, учитывая при этомспецифические интересы составных частей федерации.
Вся история Бельгии отмечена вехами конфликтов между двумякультурно- лингвистическими общинами- валлонами и фламандцами,которые оказали существенное влияние на политическую жизнь страны.Федерализм в Бельгии не позволил центробежным силам развалить единоегосударство, и ориентирован на учет этнических интересов проживающих набельгийской территории народов. Следует отметить, что и сегоднясохраняется напряженность и остаются неразрешенными ряд проблем междуэтническими общинами.
Для Бельгии очень характерны конфликты между культурно-лингвистическими общинами. Как известно, в ХIII веке французский языкбыл международным языком дворянства, знати в Европе. В Бельгии этоявление распространилось не только на дворянство, но и на всю буржуазию.Другие слои населения страны, среди которых многие были и вовсебезграмотными, на юге страны говорили на диалектах латинскогопроисхождения, а на севере – на германских диалектах. При этом,единственным официальным языком в государстве признавался французский.Понятно, что нидерландоязычное население, хотя и составляло большинство,было ущемлено во многих отношениях. В первой половине Х1Х векапоявилось фламандское движение, которое первоначально носило чистокультурологический характер, а потом стало приобретать политическийоттенок.
Движущей силой Фламандского движения стали представителилитературной, академической и артистической среды, которые стремилисьдобиться официального признания во фламандских провинциях фламандскогоязыка, который считали необходимым для сохранения нации. Однакооснователи и деятели фламандского движения в силу своего скромногосоциального происхождения не представляли собой серьезную социальнуюсилу, способную оказывать политическое воздействие.
232Юрьева Т.В.
В период с ХIII века в Бельгии велась борьба между фламандцами ифранкофонами, только в ХIХ веке, были приняты первые лингвистическиезаконы и вводилось двуязычие во Фламандских провинциях. В столице –Брюсселе, оба языка имели одинаковый статус. Ситуация менялась с течениемвремени и уже в начале ХХ столетия лингвистическая ситуация в корнеизменилась вплоть до полного вытеснения французского языка. Натерритории государства возникает множество политических движений,воздействие философско-религиозного конфликта оказывает влияние нарабочий класс и охватывает лингвистические конфликты.
Основные общенациональные политические партии раскололись полингвистическому принципу и по сей день являются либонидерландоязычными либо франкоговорящими, за исключением однойгерманоязычной партии. Таким образом, лингвистические конфликтыпревратились в неотъемлемую часть жизни бельгийского общества с самогозарождения бельгийской государственности и повлияло на политическуюжизнь страны.
Бельгию можно считать примером несостоятельности унитарногогосударства, а бельгийский федерализм – это скорее не « конституционныйплагиат», а политическая изобретательность. Он не строился по заранееопределенному плану и отличается своей сложностью и своеобразием. Вслучае с Бельгией федерализм не позволил центробежным силам развалитьединое государство, и ориентирован на учет этнических интересовпроживающих на бельгийской территории народов. Бельгия – примеруспешного политического приспособления и гибкости в вопросахгосударственного строительства. Сосуществование двух общин(Нидерландофонов и Франкофонов) в рамках одного государства называют«браком по расчету». Однако, такой способ сосуществования имеет своинедостатки. В условиях хрупкости созданной коалиции и сохранениянапряженности в отношениях между этими общинами кризис в Бельгииможет в любой момент возобновиться.
Следует отметить, что и сегодня сохраняется напряженность и остаютсянеразрешенными ряд проблем между этническими общинами. Это касается иэкономической сферы и культурно – лингвистической сферы, в частностипересечения интересов франкофонов и нидерландофонов в Брюсселе и надругих двуязычных территориях.
Следующим этапом нашего исследования в сфере паритетного развитияязыков является изучение опыта Канады. Как известно, Канада являетсямногонациональным государством, имеющим федеративное устройство. НоКанада - не просто федеративное государство, а страна иммигрантов. Историяформирования канадского государства интересна и в какой-то мередраматична. На территории Канады французы появились раньше англичан,но, и, начиная с ХVIII века, стали более эффективно осваивать канадскиеземли. Однако мир между французами и англичанами длился недолго. Войназа независимость в США привела к политическим изменениям в Канаде. Встрану начался приток новых переселенцев английского происхождения, что,естественно, поменяло соотношение между англоязычным и франкоязычным
233«Паритетное» развитие языков …
населением. Только в 1949 г. страна стала федеративным государством.Формирование федерации на такой огромной территории не проходилосовсем гладко. Имело место такое явление как квебекский сепаратизм, однойиз причин которого являлось в том, что англоговорящие канадцы с самогоначала пренебрежительно относились к франкоговорящим квебекцам. И,несмотря на придание официального статуса французскому языку в 1867 году,англоязычные канадцы продолжали его игнорировать. В 20-х годах ХХстолетия на смену деятельности по защите французского языка приходитполитика, целью которой является дать возможность квебекцам жить иработать в родной франкоязычной среде и принудить к двуязычиюанглоязычное население провинции. В конституции 1982 года равенствоязыков было закреплено. Население современной Канады делится на трилингвистические группы: англофоны, франкофоны и аллофоны – это теканадцы, чьим родным языком является какой – либо другой. Несмотря на то,что конституционный паритет языков был установлен, языковые проблемы вобществе не прекратили свое существование. Когда британцы установилисвое господство, многие французы покинули Канаду, а оставшиесявынуждены были бороться за выживание, за сохранение французского языка,французских традиций и обычаев. Эти настроения франкоканадцев сильноподогревают нынешние квебекские власти. Они проводят политику,нацеленную на сохранение французского языка как единственногоофициального языка. В настоящее время в Квебек приезжают в основном изстран, население которых владеет французским (Гаити, Ливан, Франция,Алжир), а в остальные части Канады прибывают главным образом выходцыАзии и Африки. Таким образом, этнический состав Квебекской провинциисущественно отличается от этнического состава всей Канады, а это не можетне радовать сепаратистов, которые надеются, что рано или позднобольшинство квебекцев проголосует за суверенитет. Однако не факт, чтоквебекские иммигранты проголосуют за суверенитет, во-первых, они нечувствуют себя этническими франкоканадцами, во-вторых, они понимают,что английский больше распостранен, а следовательно, они и их дети будутизучать этот язык.
В условиях глобализации квебекцы боятся потерять французский язык.Страх потерять родной язык – вот главный мотив сепаратистов. Этот страхимеет определенные основания. В современном мире английский языкдоминирует и вполне возможно, что англо-канадцы, которые в настоящеевремя составляют большинство населения, могут «придавить» французскийязык. Независимость может развеять этот страх, но сумеет ли выжить Квебекв условиях глобализации как независимое государство? Маловероятно.
Выводы. Мы проанализировали лингвистическую ситуацию в трехгосударствах с федеративным устройством, которые прошли сложный путьурегулирования культурно – лингвистических отличий и, тем не менее, несмогли полностью их решить. Однако паритетное развитие языков,примененное этими государствами, является одним из самых разумныхспособов преодоления лингвистических проблем. Опыт этих стран должен
234Юрьева Т.В.
быть изучен, так как он может быть полезен для других сообществ саналогичными проблемами. А в современном мире в условиях необратимойглобализации для успешного существования общества в экономической,политической, социальной жизни необходимо решение, прежде всего,лингвистических проблем, так как они разбивают сообщество на разныелагеря и мешают ему успешно функционировать. В нашем мире, в силуразвития системы коммуникаций, информационного обмена, миграционныхпроцессов и этнического микширования, все меньше остаетсямонокультурных сообществ, и, следовательно, многоязычие является основойсистемы условий, обеспечивающих реальное развитие мультикультуральныхсообществ.
Список литературы
1. Ажаева В.С. Мозаика политической культуры Канады / Ажаева В.С. – М., 1996. – 280 с.2. Белл Р.Т. Социолингвистика / Белл Р.Т. – М., 1980. – 590 с.3. Гаджиев К.С. Введение в геополитику / Гаджиев К.С. – М.: Логос, 1998. – 430 с.4. Лебон Г. Психология народов и масс / Лебон Г. – Спб,1995. – 262 с.5. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика / Мечковская Н. Б. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 332 с.6.Щукина Т.А. Международные инициативы Канады в области культурной политики /
Щукина Т.А. // США. Канада экономика, политика,культура. – 2002. – № 2. – С. 156-184.7. Ferguson Ch. Diglossia. – Word 15. – N. Y., 1959.8.Phillipson R. Linguistic Imperialism / Phillipson – Oxford: Oxford University Press, 1992.
Юрьева Т.В. Паритетний розвиток мов обо модель європейського мовногоплюрализму (за прикладом Швейцарії, Канади, Бельгії) // Вчені записки Таврійськогонаціонального університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 225-234.
В статті вивчаються доволі комплексні питання, пов’язані з лінгвістичними проблемами врізних європейських країнах та їх вплив на життя соціуму. Розглянуто питання взаємодії міжрізними етно – лінгвістичними группами. Проаналізовано явище лінгвістичного плюралізму тапаритетного розвитку язиков, як одного з варіантів вирішення етничних, лінгвістичних,соціальних проблем в сучасний період глобалізації.
Ключові слова: лінгвістичний плюралізм, глобалізація, етнічна група.
Yuryeva T.V. Equal development of languages or the model of linguistic pluralism (on theexample of Switzerland, Canada, Belgium) // Scientific Notes of Taurida National V.І. VernadskyUniversity. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). –№1. – P. 211-220.
This article examines several questions connected with linguistic problems in different countriesand their influence on socium’s life. We analyze linguistic pluralism in European countries like a wayof decision of ethnic, linguistic, social problems during modern period of globalization.
Keywords: linguistic pluralism, globalization, ethnic group.
Поступило в редакцию 13.10.2009
Сведения об авторах
Архангельская А.С. - кандидат философских наук, доцент кафедрысоциальной философии философского факультета Таврическогонационального университета им. В.И. Вернадского.
Багаева Т.Л. - кандидат социологических наук, директор компании BountySCA Ukraine.
Беляева Т.Н. - аспирант кафедры теоретической и практической философиифилософского факультета Харьковского национального университета им.В.И. Каразина.
Бернюкевич Т.В. - кандидат философских наук, доцент, профессор кафедрысоциальной антропологии, религиоведения и философии Читинскогогосударственного университета.
Богатая Н.Н. - кандидат философских наук, доцент кафедры философииестественных факультетов Одесского национального университета им. И.И.Мечникова.
Величко С.А. - кандидат философских наук, старший преподаватель кафедрыфилософии права Национальной академии природоохранного и курортногостроительства.
Волковинская В.А. - аспирант кафедры философских и социальныхдисциплин Киевского национального торгово-экономического университета.
Горбенко Е.В. - аспирант кафедры теоретической и практической философииХарьковского национального университета им. В.И. Каразина.
Гусаченко В.В. - доктор философских наук, профессор кафедрытеоретической и практической философии Харьковского национальногоуниверситета им. В.И. Каразина.
Дольская О.А. - кандидат философских наук, доцент кафедры философииНационального технического университета «Харьковский политехническийинститут».
Дроботенко О.А. - кандидат философских наук, преподаватель кафедрыфилософии и политологии Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.
Зиннурова Л.И. - кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедройфилософии, истории и культурологии Южного филиала «Крымского аграрно-технологического университета» Национального аграрного университета.
Ковальчук Н.Д. - доктор философских наук, профессор кафедрыГуманитарных дисциплин глобалистики и социальной комуникацииуниверситета «Украина».
236
Кокорина Е.Г. - магистр культурологии, аспирант кафедры культурологииТаврического национального университета им. В.И. Вернадского.
Лаптинова Ю.И. - аспирант кафедры теоретической и практическойфилософии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Магдич Т.С. - магистр философии, Национальный университет «Киево-Могилянская академия».
Медведева А.А. - старший преподаватель кафедры экономики и управленияобразованием Крымского республиканского института последипломногопедагогического образования.
Метилка Д.В. - соискатель кафедры философии Запорожского национальногоуниверситета, специалист службы маркетинга ТОВ «ФБК».
Митина И.В. - доктор философских наук, профессор кафедры философии,культурологии и философии науки Южного федерального университета.
Михайлов В.В. - доктор философских наук, доцент кафедры философии ГОУВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет».
Павлова Т.С. - кандидат философских наук, преподаватель кафедрыфилософии Днепропетровского национального университета им. О. Гончара.
Паращич В.Я. - аспирант кафедры теории культуры и философии наукифилософского факультета Харьковского национального университета им.В.Н. Каразина.
Паскалова М.И. - аспирант кафедры философии и социологииЮжноукраинского национального университета им. К.Д. Ушинского.
Пороховская Т.И. - кандидат философских наук, доцент кафедры этикифилософского факультета Московского государственного университета им.М.В. Ломоносова.
Ратников В.С. - доктор философских наук, профессор кафедры философииВинницкого национального технического университета.
Соболевская Е.К. - кандидат филологических наук, доцент кафедрыфилософии и основ общегуманитарного знания Одесского национальногоуниверситета им. И.И. Мечникова.
Старцева Т.Н. - аспирант кафедры социальной философии философскогофакультета Таврического национального университета им В.И. Вернадского.
Суходуб Т.Д. - кандидат философских наук, доцент, профессор кафедрыфилософии науки и культурологии Центра гуманитарного образованияНациональной академии наук Украины.
237
Титаренко С.А. - доктор философских наук, профессор кафедры философиифакультета гуманитарного образования Луганского национального аграрногоуниверситета.
Тихомирова Ф.А. - старший преподаватель кафедры философииестественнонаучных факультетов философского факультета Одесскогонационального университета им. И.И. Мечникова.
Чекер Н.В. - магистр менеджмента организаций, ассистент кафедрыполитологии и социологии факультета гуманитарного образованияЛуганского национального аграрного университета.
Чудомех В.Н. - кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Крымского инженерно-педагогическогоуниверситета.
Шевцов С.П. - кандидат философских наук, доцент кафедры философииестественных факультетов философского факультета Одесскогонационального университета им. И.И. Мечникова.
Шелковая Н.В. - кандидат философских наук, доцент кафедры культурологиХарьковского национального педагогического университета им. Г.С.Сковороды.Юрьева Т.В. - преподаватель кафедры иностранных языков Донецкогонационального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.Яцык С.П. - аспирант кафедры философии Житомирского государственногоуниверситета имени Ивана Франко.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I «ФИЛОСОФИЯ»
Суходуб Т.Д. Философия и поэзия……………………………………………... 3
Магдич Т. Поняття істини та статус філософії: виклик Ричарда Рорті... 11
Павлова Т.С. Мораль як етап розвитку права у філософіїоб’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля……………………………………………… 18
Ратников В.С. Рациональность и хаос………………………………………. 22
Архангельская А.С. Парадоксы феномена недеяния……………………… 30
Беляева Т.Н. Эсхатология и прогресс: проблема конца/началаистории в контексте техногенной цивилизации…………………………. 36
Богатая Л.Н. Многомерное мышление в контекстепредставлений о многомерности…………………………………………… 41
Гусаченко В.В. Трансценденции – трансгрессии – трансценденции? ..... 46
Ковальчук Н.Д. Антропологический кризис: пути выхода из него……. 50
Тихомірова Ф.А. Інтеграція та диференціація: єдиний механізмрозвитку наукового знання………………………………………………….. 54
Чекер Н.В., Титаренко С.А. Особенности религиозно-философскойконцепции творчества Н.А. Бердяева (в период с конца 1910-х поначало 1930-х гг.)……………………………………………………………… 61
Шевцов С.П. Основания негативной оценки права у Л.Н. Толстого…. 68
Яцик С.П. Філософсько-антропологічний аналіз тілесності у техногенній цивілізації……………………………………………………… 77
Пороховская Т.И. Толерантность как добродетель……………………… 84
239
РАЗДЕЛ II «КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ»
Бернюкевич Т.В. Буддизм в творчестве русских писателей и поэтов (конец XIX – начало XX веков)……………………………………………….. 88
Величко С.А. Трансформация роли танатоса в современной европейской культуре………………………………………………………… 93
Кокорина Е.Г. Переходный период и кризис:соотношение понятий………………………………………………………….. 101
Митина И.В. Проблема формы и содержания в философии искусстварусского серебряного века……………………………………………………. 107
Соболевская Е.К. Антиномии творческого процесса как предметфилософско-эстетических рефлексий М. Цветаевой……………………… 113
РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Волковинская В.А. Конституирование социального в ситуацияхфактичности…………………………………………………………………….. 121
Дроботенко О.А. Игровая социальность: правила и ритуалывиртуальной коммуникации…………………………………………………. 127
Горбенко Е.В. Взаимодействие средств масс-медийной коммуникации имассового сознания как необходимое условие техногеннойцивилизации……………………………………………………………………. 132
Дольская О.А. Техники мышления в новой парадигмеобразования……………………………………………………………………… 138
Зиннурова Л.И. Проблема элиты в современном обществе………………. 144
Лаптинова Ю.И. Герметический апгрейд коммуникационныхспособностей технологического мира………………………………………. 153
240
Метілка Д.В. Вплив масової комп’ютеризації на структуру та динамікунасилля в інформаційному суспільстві………………………………………. 162
Медведева А.А. К вопросу о дидактогенном неврозе……………………….. 167
Паскалова М.И. Система «индивид - общество»в свете новой парадигмы……………………………………………………….. 172
Старцева Т.Н. Сострадание как фактор гуманизацииобщественных отношений…………………………………………………….. 177
Чудомех В.Н. Футуропрогностика бытия людей:возможности и перспективы…………………………………………………… 183
Шелковая Н.В. Человек забыл себя……………………………………………. 188
Багаева Т.Л. Влияние субстанциальной рациональности наформирование аутопоэтической системы в процессе маркетинговыхкоммуникаций (из опыта социального управлениякоммуникационными программами компании Bounty SCA Ukraine) …. 194
РАЗДЕЛ IV «ПОЛИТОЛОГИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Паращич В. Я. Універсальна та локальна пропозиція: проблемастратегічного проектування в умовах браку культурних ресурсів……… 208
Толстов И.В. И. Кант: морально-правовое основание политики…………. 213
Михайлов А.Н. Экономические основы демократии………………………... 218
Юрьева Т.В. «Паритетное» развитие языков или модель европейскогоязыкового плюрализма (на примере Швейцарии, Канады, Бельгии)….. 225
Сведения об авторах……………………………………………………………....... 235
Содержание………………………………………………………………………….. 238
241
CONTENT
CHAPTER I «PHILOSOPHY»
Sukhodub T.D. Philosophy and poetry…..……………………………………... 3
Magdych T. The concept of truth and the status of philosophy:Richard Rorty’s challenge……………………………………………………… 11
Pavlova T.S. Moral as the stage of development of right inG.W.F. Hegel philosophy of objective spirit ……………………………..…… 18
Ratnikov V.S. Rationality and chaos ……………………………………………. 22
Arkhangelskaya A.S. Paradoxes of the non-acting phenomenon …………..… 30
Biliaieva T. Eschatology and progress: a problem of the end/beginning ofthe history in a context of a technogenic civilization …………………...……. 36
Bogataya L. Multidimensional thinking in the context of ideas about themultidimensionality ………………………..…………………………………… 41
Gusachenko V.V. Transcendention – transgression - transcendention? ......... 46
Kovalchuk T.V. Anthropological crisis: the ways of issue ……………………. 50
Tichomirova F.A. Integration and differentiation: the single mechanism ofdevelopment of scientific knowledge………………………………………….. 54
Cheker N., Titarenko S. The specificity of Nicolay Berdyaev’s religio-philosophical creativity conception (in the period from the late 1910s tillthe early 1930s) ………...………………………………………………………… 61
Shevtsov S.P. The grounds of the negative understanding of law byL. Tolstoj ……………………………………………………………………….…. 68
Yatsic S.P. Philosophical-anthropological analysis of corporal in technicalcivilization ……………………………………………………………………...… 77
Porokhovskaya T.I. Tolerance as a virtue ……………………………..………… 84
242
CHAPTER II «CULTUROLOGY. PHILOSOPHY OF CULTURE»
Bernyukevich T.V. Buddhism at the work of Russian writeres and poets (theend of the XIX and the beginning of the XX century)………………………….. 88
Velichko S.A. The transformation of the tanatos’ role at the contemporaryEuropean culture …………………………..……………………………………… 93
Kokorina E.G. А transitional period and a crisis:the notions correlation……………….……………………………………………. 101
Мitina I.V. Philosophy of art of Russian ‘Silver Age’ on the problem ofcontent and form ………………………………………………..…………………. 107
Sobolevskaya E. Antinomies of the creative process as subject ofphilosophically-aesthetic reflections of M. Tsvetaeva ………….……………… 113
CHAPRER III «SOCIOLOGY. SOCIAL PHILOSOPHY»
Volkovynskaya V.A. Social constitution at factuality’s situation…...…….…….. 121
Drobotenko O.A. The game sociality: rules and rituals of virtualcommunication ………………………………………………………………….... 127
Gorbenko E. The interaction of mass-communication and mass consciousnessas necessary condition techno-genic civilization……………………….………. 132
Dolska O.О. The technology of the thinking in modern paradigm of theeducation …………………………………………………………………………… 138
Zinnurova L.I. The problem of elite at the contemporary society …………….. 144
Laptinova Y.I. Hermetic upgrade of the communicational abilities of thetechnological world ……………………………….………………………………. 153
243
Metilka D.V. Influence of mass computerization on a structure and dynamicsof violence in information society …………………………………..……………. 162
Medvedeva A. About the question of didaktogenom neurosis ……………..….. 167
Paskalova M. The system «individual - society» in the light of the newparadigm ………………………………………………………………………..….. 172
Startseva T.N. Compassion as humanization factor ofsocial relationship …………………………………………………………………. 177
Chudomeh V. Forecasting of рeople being:opportunities and prospects..................................................................................... 183
Shelkovaya N.V. A man forgot himself...……………………………….…………… 188
Bahaeva T.L. The effect of substantive rationality on the formation ofautopoetic systems in marketing communications (from the experience ofcommunications programs management by Bounty SCA Ukraine)…………. 194
CHAPTER IV «POLITICAL SCIENCE. POLITICAL PHILOSOPHY»
Parasashich V. The universal and local offer: a problem of strategic designingin conditions of shortage of cultural resources …………………….…………… 208
Tolstov I. Immanuel Kant: morally-legal ground of politics ……………..……. 213
Mikhaylov A.N. Economic basis of democracy ……………………………………... 218
Yuryeva T.V. Equal development of languages or the model of linguisticpluralism (on the example of Switzerland, Canada, Belgium)..……………… 225
List of authors…………....………………………………………………………....... 235
Content……………………………………………………………………………….. 238