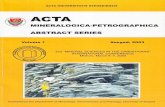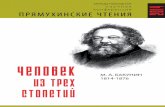Acta Archaeologica Albaruthenica. Укладальнікі М.А. Плавінскі, В.М....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Acta Archaeologica Albaruthenica. Укладальнікі М.А. Плавінскі, В.М....
УДК 902/904(476)(082)
ББК 63.4 (4Беи)я43
А 43
Укладальнікі:
М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч
Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. ІІI (Вып. 3) / уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск: І.П. Логвінаў, 2008. – 164 с.
Трэці выпуск Acta archaeologica Albaruthenica прысвечаны памяці беларускага археолага Віктара Абухоўскага, які заўчасна пайшоў з жыцця ў 2007 г. У зборніку змешчаны артыкулы беларускіх, расійскіх, літоўскіх, шведскіх і брытанскіх даследчыкаў, дзе разглядаюцца шматлікія пытанні археалогіі каменнага і бронзавага вякоў.
Зборнік разлічаны на археолагаў, музейных супрацоўнікаў, студэнтаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца археалогіяй і гісторыяй Беларусі.
У афармленні вокладкі выкарыстаны малюнак чатырохбаковай крамянёвай шліфаванай сякеры з вёскі Чарнічнае Капыльскага раёна (са збору Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі). Малюнак В.С. Абухоўскага.
УДК 902/904(476)(082)
ББК 63.4 (4Беи)я43
© Плавінскі М.А., Сідаровіч В.М., укладанне, 2008
А 43
Рэдакцыйная рада:
Плавінскі Мікалай Аляксандравічвядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі
(Мінск, Беларусь)галоўны рэдактар
Сідаровіч Віталь Міхайлавічзагадчык вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, Беларусь)намеснік галоўнага рэдактара
Караткевіч Барыс Сяргеевічк.г.н., старшы навуковы супрацоўнік Аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры
Дзяржаўнага Эрмітажа (Санкт-Пецярбург, Расія)
Лашанкоў Міхаіл Іванавічк.г.н., старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Чарняўскі Міхал Міхайлавічк.г.н., дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, Беларусь)
Чарняўскі Максім Міхайлавічк.г.н., навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Рэцэнзенты
Астраўскас Томасдоктар гуманітарных навук, навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Інстытута
гісторыі Літвы (Вільнюс, Літва)
Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевічк.г.н., старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Лакіза Вадзім Леанідавічк.г.н., загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі
НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
ЗМЕСТ
Віктар Абухоўскі – археолаг, навуковец і выкладчык (Вадзім Лакіза, Вадзім Кошман) ...................................................................... 7
Спіс навуковых прац Віктара Абухоўскага (Складальнікі: Вадзім Лакіза, Людміла Мацвеева, Зоя Харытановіч) ...........13
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч. Чатырохбаковыя крамянёвыя шліфаваныя вырабы ў зборы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі .............................17
Александр Колосов. Мезолитическая стоянка Дедня ...........................42Міхал Чарняўскі. Выявы птушак на кераміцы ў першабытнай
культуры Беларусі ..........................................................................................67Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов, Игорь
Езепенко, Геран Посснерт. Новые данные по радиоуглеродной хронологии неолита Беларуси и сопредельных территорий ...............77
Максім Чарняўскі. Каменныя шліфаваныя вырабы на стаянках Крывінскага тарфяніку ................................................................................89
Галина Поплевко. К проблеме развития методики комплексного исследования каменных индустрий ..........................................................98
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова. Особенности пространственной организации памятника Сертея 3 (Велижский район Смоленской области) ............................................................104
Гитис Пиличаускас. Кремневые шлифованные топоры с территории Беларуси из собрания Национального музея Литвы и их интерпретация в контексте новых исследований подобных находок в юговосточной Прибалтике ...................................................118
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова. Особенности изготовления ранненеолитической керамики в ЛоватскоДвинском междуречье .............................................................139
Спіс скарачэнняў .....................................................................................................161Звесткі аб аўтарах ................................................................................................162
Трэці выпуск часопіса «Acta archaeologica Albaruthenica» практычна цалкам складаецца з матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі «Матэрыяльная культура насельніцтва Беларусі і сумежных рэгіёнаў у дагістарычную эпоху і сярэднявеччы», якая праходзіла 22–25 лістапада ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі. У працы канферэнцыі прынялі ўдзел даследчыкі з розных гарадоў Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Швецыі і Вялікабрытаніі.
У чарговым часопісе «Acta archaeologica Albaruthenica» разглядаюцца праблемы археалогіі каменнага веку Беларусі і сумежных рэгіёнаў Літвы і Паўночнага Захаду Расіі. На жаль, нам давялося прысвяціць яго памяці нашага калегі і сябра, таленавітага беларускага археолага, выдатнага спецыяліста па каменным веку Віктара Абухоўскага, які заўчасна пайшоў з жыцця, усяго некалькі дзён не дачакаўшы свайго трыццаць чацвёртага дня народзінаў. Гэтая кніга – наша даніна яго памяці.
Каменны век – самы працяглы перыяд найстаражытнейшай гісторыі чалавецтва і адзін з самых складаных для вывучэння і разумення. Невялікая колькасць помнікаў, малалікасць і аднастайнасць пераважна крамянёвых артэфактаў, часта вельмі цяжкія ўмовы правядзення даследаванняў – гэта толькі некалькі прычын таго, што археолагаў«каменшчыкаў» не так шмат. Але яшчэ менш сярод іх Археолагаў з вялікай літары, даследчыкаў, якія атрымалі першакласную археалагічную адукацыю, якіх высока ацэньваюць у краінах Усходняй Еўропы, якія ведаюць крэмень як літары алфавіта, могуць не толькі прачытаць па адшчэпах, пласцінах, нуклеусах і прыладах як па пісьмовых гістарычных крыніцах і напісаць дакладны летапіс першабытнага насельніцтва, але і перадаць свае веды, сваю бязмежную любоў да археалогіі студэнтам і вучням.
Віктар Сцяпанавіч Абухоўскі быў такім Археолагам. Быў... Быў... 4 кастрычніка 2007 г. Віктар заўчасна памёр. Ён пражыў толькі 33 гады вельмі кароткага, складанага, але напоўненага сэнсам жыцця археолага, навукоўца і выкладчыка. Засталіся смутак і боль, незавершаныя планы і праекты, артыкулы і манаграфія, недакапаныя помнікі археалогіі, адданыя вучні, успаміны пра сумесныя экспедыцыі і мноства фотаздымкаў...
Віктар Абухоўскі нарадзіўся 11 кастрычніка 1973 г. у в. Сялец Смаргонскага раёна ў сям’і настаўнікаў. Але яго сапраўднымі малымі Радзімамі сталі в. Путрышкі Гродзенскага раёна, дзе жылі і працавалі бацькі пасля пераезду, а таксама в. Хамуты Гродзенскага раёна і в. Ражанка Шчучынскага раёна, куды Віктар ездзіў на канікулах. Хутчэй за ўсё, менавіта хараство гэтых мясцін з цудоўнымі краявідамі, узвышшамі, лясамі і азёрамі, балотамі і невялікімі рачулкамі сфарміравалі ў юнака любоў да гісторыі роднага краю, да найстаражытнейшай археалогіі.
Пасля заканчэння сярэдняй школы ў в. Путрышкі Віктар ужо дакладна ведаў, што хоча быць археолагам. Аднак першая сустрэча з гістарычным факультэтам БДУ і спроба стаць яго студэнтам аказалася няўдалай. Недахоп толькі аднаго бала адклаў сустрэчу з факультэтам амаль на 14 гадоў.
Затое ў Віктара з’явілася іншая магчымасць для здзяйснення сваёй мары. Пасля года ўзмоцненай падрыхтоўкі і вывучэння польскай мовы ў 1992 г. ён стаў студэнтам спачатку Вроцлаўскага, а затым у 1993 г. Варшаўскага універсітэта па спецыяльнасці «археалогія». З гэтага моманту для Віктара пачалося сапраўднае археалагічнае жыццё. Акрамя лекцый, бібліятэк, складаных экзаменаў, рэфератаў, яшчэ і шматдзённыя палявыя даследаванні ў розных раёнах Польшчы, разведкі і раскопкі рознакультурных помнікаў.
Між тым Беларускае Панямонне вабіла Віктара і прыцягвала да сябе нібы магнітам. У канцы зімы 1995 года малады, высокі, чорнавалосы і трохі сарамлівы хлопец упершыню з’явіўся ў аддзеле археалогіі каменнага і бронзавага вякоў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. А ў маі 1995 г. разам з аспірантам Вадзімам Лакізам ужо абследавалася ўзбярэжжа р. Свіслач у Свіслацкім раёне. Пасля таго ж, як Віктар паўдзельнічаў летам 1995 г. у раскопках паселішча Пархуты 1 Дзятлаўскага раёна на р. Шчара, ён пачаў прымаць удзел у большасці археалагічных экспедыцый на Панямонні: разведкі каля вв. Азёры, Лакно, Бершты, Парэчча, Гарадкі, Чарлёнка і інш. У 1997 г. – першы ўласны «Дазвол» і першыя самастойныя раскопкі на паселішчы Бершты 6 на воз. Берштаўскае Шчучынскага раёна.
ВікТАР АбУхоўСкі – археолаг, навуковец і выкладчык
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III8
У 1998 г. Віктар паспяхова скончыў Варшаўскі універсітэт, абараніў магістарскую дысертацыю «Schyłkowy paleolit i mezolit prawobrzeżnej strefy dorzecza górnego Niemna» («Фінальны палеаліт і мезаліт правабярэжнага басейна верхняга Нёмана») і атрымаў ступень магістра археалогіі. Перад таленавітым і ўлюбёным у сваю справу археолагам адкрываліся вялікія перспектывы, у тым ліку застацца на працы ў Варшаве. Аднак ён пагадзіўся адкласці канчатковае вяртанне на Беларусь толькі на некалькі год – на тэрмін навучання ў дактарантуры Інстытута археалогіі Варшаўскага універсітэта, якую скончыў у 2003 г.
Тэму сваёй навуковай працы (дысертацыі) Віктар зноў звязаў з тэрыторыяй Беларусі – «Schyłkowy paleolit i mezolit zachodnej Białorusi» («Фінальны палеаліт і мезаліт Заходняй Беларусі»). Таму шырокамаштабныя археалагічныя даследаванні на помніках каменнага веку праводзіліся ім амаль кожны год. Разведкі, шурфоўкі, раскопкі, праца з калекцыямі музеяў і ўжо не толькі на Панямонні, але па ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі. Напрыклад, у 2001 і 2002 гг. ім праводзіліся археалагічныя пошукі на Навагрудскім узвышшы, у раёне Калдычэўскага возера, на Палессі, на Бабровіцкім возеры, раскопкі каля в. Опаль, пас. Кастрычніцкі, в. Старыя Войкавічы і інш. Пры гэтым шмат якія экспедыцыі насілі статус міжнародных. Віктар дамогся магчымасці правядзення археалагічнай практыкі студэнтаў Варшаўскага універсітэта, кіраўніком якой ён з’яўляўся, на тэрыторыі Беларусі. І гэта мела вялікае значэнне для археалогіі каменнага веку. Методыка суцэльнага абследавання некаторых рэгіёнаў, якія раней лічыліся своеасаблівымі белымі плямамі на археалагічнай карце, прыносіла свае станоўчыя вынікі – колькасць стаянак і паселішчаў значна павялічвалася. Напрыклад, толькі за адзін 2002 г. у Навагрудскім і Карэліцкім раёнах былі адкрыты і абследаваны каля 40 помнікаў.
Віктар падчас раскопак познепалеалітычнай стаянкі Кавальцы 4
Віктар Абухоўскі – археолаг, навуковец і выкладчык 9Віктар не мог пакінуць паза
межамі сваіх даследаванняў і ваколіцы в. Хамуты Гродзенскага раёна. У басейне Хамутоўкі, ракі, якая злучае два найбольшыя азёры Беларускага Панямоння, ім былі выяўлены 9 стаянак каменнага і бронзавага вякоў, у тым ліку Хамуты 2 «Вёска», Хамуты 3 «Мар'янка», Хамуты 4 «ур. Смольніца», а таксама праведзены раскопкі на помніку Хамуты 5 «ур. Падбеленскі мосцік». Цяпер вёска, дзе Віктар праводзіў дзяцінства, а затым з году ў год прыязджаў у яе адпачываць, прывозіў сюды сваіх сяброў, назаўсёды застанецца ў археала гічнай літаратуры.
Аднак найважнейшымі даследаваннямі на Гродзеншчыне, можна нават сказаць сэнсам жыцця Віктара Абухоўскага, стала вывучэнне ўнікальнага археалагічнага комплекса каля в. Кавальцы на р. Нёман. Пачатак
ім быў пакладзены ў 1999 годзе. Тады ўдзельнікі міжнароднай экспедыцыі ў складзе супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Інстытута археалогіі Варшаўскага універсітэта, Дзяржаўнага археалагічнага музея ў Варшаве, гістарычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы правялі разведкі на ўзбярэжжы р. Нёман паміж вёскамі Солы, Кавальцы і Сіўкава. Найбольш перспектыўным для стацыянарных раскопак стала месца ўпадзення ў р. Нёман р. Горніца, дзе на невялікім участку сканцэнтравана каля дзесяці помнікаў, у тым ліку вядомыя палеалітычныя стаянкі Кавальцы 1 і Кавальцы 4. Прапанаваная Віктарам методыка раскопак прынесла свае станоўчыя вынікі. На стаянцы Кавальцы 1 была выяўлена найбагацейшая калекцыя крамянёвых знаходак, сярод якіх – унікальныя фінальнапалеалітычныя прылады працы, крэмнеапрацоўчая майстэрня, але, самае галоўнае, геалагічны пласт пахаванай глебы на глыбіні некалькі метраў. Адсюль і жаданне Віктара працягваць даследаванні ўжо на стаянцы Кавальцы 4, нават пасля таго, як скончыліся артэфакты, даследаваны аб’екты і па ўсіх класічных канонах пачаўся мацярык. «Капаць на глыбіню 3–4 м, да костак маманта» – спачатку надзея, а потым перакананне ў абавязковым поспеху.
Між тым да гэтай значнай навуковай падзеі ў археалогіі каменнага веку Беларусі заставалася яшчэ некалькі гадоў, магчыма, адных з самых складаных для Віктара. Яго жыццё археолага стала яшчэ і жыццём «на калёсах» па маршруту Варшава – Гродна – Мінск – раёны Беларусі – Варшава. Экспедыцыі і праца па гаспадарчых дамовах у Польшчы, выкладанне курсаў па археалогіі і кіраўніцтва практыкай у студэнтаў Варшаўскага універсітэта, цеснае супрацоўніцтва са студэнтамі гістфака Гродзенскага дзяржуніверсітэта і арганізацыя міжнародных экспедыцый на Беларусі (воз. Бабровіцкае, воз. Калдычэўскае, Кавальцы), сістэматызацыя калекцый у шматлікіх музеях Беларусі і СанктПецярбурга, удзел у канферэнцыях, навуковыя артыкулы, праца над дысертацыяй, археалагічныя справаздачы, дасканалая навуковая апрацоўка матэрыялаў і выданне манаграфіі «Zabytki krzemienne
У лагеры экспедыцыі ў Кавальцах
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III10i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki żelaza z terenów Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie» («Знаходкі крамянёвых і каменных вырабаў ад палеаліту да ранняга жалезнага веку з тэрыторыі Беларусі ў фондах Дзяржаўнага Археалагічнага Музея ў Варшаве»)... Зноў паўстала праблема выбару паміж магчымасцю навуковай працы і дзейнасці ў Польшчы і жаданнем вярнуцца на Беларусь, прычым
менавіта ў Мінск, нават без надзеі на хуткае працаўладкаванне (Віктар пэўны час ў 2003 г. быў зарэгістраваны на біржы беспрацоўных) і на вырашэнне жыллёвых праблем, у Мінск, дзе ёсць сябры і калегіархеолагі, навуковая школа па каменнаму веку, студэнты спецыялізаванай кафедры, якім можна перадаць сваю любоў да археалогіі і свае веды спецыялістакаменшчыка.
З 2004 г. Віктар Сцяпанавіч пачаў працаваць на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта, аддаючыся выкладчыцкай і навуковай працы цалкам, амаль не пакідаючы часу на сваё ўласнае жыццё. Дзякуючы яго намаганням амаль адразу ж ствараецца і дзейнічае археалагічны клуб – своеасаблівая школа маладых археолагаў. Вакол таленавітага маладога выкладчыка, харызматычнага Чалавека і Педагога, пачалі гуртавацца студэнты, якія станавіліся ўдзельнікамі палявых разведак і раскопак, імкнуліся вучыцца археалогіі, сілкаваліся энергіяй і ведамі і свайго Настаўніка. А Віктар радаваўся поспехам сваіх вучняў і спадзяваўся на хуткі прарыў будучай маладой плеяды апантаных археолагаў у навуку.
І ўжо не заставалася сумненняў у тым, дзе цяпер будзе праходзіць летняя археалагічная практыка студэнтаў гістфака БДУ пад кіраўніцтвам Віктара Абухоўскага. З 2004 г. па 2007 г. на адзін летні месяц узбярэжжы Нёмана і Горніцы давалі гасцінны прытулак для 50–60 студэнтаў і выкладчыкаў, а таксама шматлікіх гасцей, якія ведалі Віктара, хацелі яму дапамагчы на раскопках. Арганізацыя летняга палатачнага лагера з такой колькасцю студэнтаў нават бывалым археолагам
Са студэнтамі на кафедры археалогіі гістарычнага факультэта БДУ
Падчас апрацоўкі матэрыялаў раскопак
Віктар Абухоўскі – археолаг, навуковец і выкладчык 11здавалася ідэальнай. Наметы, намёты, вогнішча, кухня, спартыўная пляцоўка, сустрэчы са старастамі, раскопкі, камеральная апрацоўка, песні пад гітару. Аднак усё гэта прыносіла Віктару моцнае ўнутранае напружанне – ён адказваў за кожнага студэнта і валанцёра, за харчаванне на вогнішчы такой колькасці людзей, за іх здароўе і бяспеку... А студэнты адказвалі Віктару сваёй любоўю і самаадданай працай у раскопе на стаянцы Кавальцы 4, незвычайна вялікім, глыбокім і складаным для даследаванняў. Віктар верыў у поспех, і ён прыйшоў. На глыбіні 3–4 м у пласце пахаванай глебы былі выяўлены палеалітычныя крамянёвыя артэфакты і рэшткі костак прыледавіковай фауны, у тым ліку маманта і паўночнага аленя. На археалагічную карту Беларусі пастаўлена новая кропка – трэцяя ў краіне і першая на захадзе познепалеалітычная стаянка, даследаванне якой назаўсёды ўпісала імя Віктара Абухоўскага ў аналы археалагічнай навукі.
Віктар Абухоўскі не ўяўляў свайго навуковага жыцця без працы ў калектыве, без комплексных экспедыцый, сумесных разведак і сумесна, за адным сталом, апрацаваных калекцый і напісаных артыкулаў (глядзі спіс артыкулаў). З 2003 г. такія даследаванні яшчэ больш актывізаваліся. Аддзел археалогіі каменнага і бронзавага вякоў (зараз першабытнага грамадства) пачаў праводзіць экспедыцыі па абследаванні зон новабудоўляў на захадзе Беларусі, якія сталі значным крокам у гісторыі археалагічнага вывучэння помнікаў каменнага і бронзавага вякоў Панямоння. І ва ўсіх пошуках з вялікім задавальненнем прымаў удзел Віктар, а часам ён браў на сябе вырашэнне вельмі складаных арганізацыйнапобытавых праблем. Гэта і абследаванне зоны будаўніцтва Гродзенскай ГЭС на р. Нёман, і лістападаўскія раскопкі (часам зпад снегу) паселішча Жылічы 1, і разведкі, выратавальныя раскопкі пашкоджаных помнікаў у зоне рэканструкцыі Аўгустоўскага канала, затым вельмі цяжкія працы ў зоне рэканструкцыі Агінскага канала. А яшчэ дзве доўгатэрміновыя і напружаныя экспедыцыі па вывучэнні верхнепалеалітычнай стаянкі Юравічы Калінкавіцкага раёна, удзел у работах па абследаванні зон будаўніцтва КС «Мінская» і КС «Слонімская», газаправодаў, наведванне экспедыцый сваіх калег...
Віктар быў першакласным археолагам, таленавітым навукоўцам і актыўным папулярызатарам археалагічнай навукі. Нягледзячы на недахоп часу і моцную стомленасць, Віктар ніколі не адмаўляў журналістам, дзяліўся сваімі ведамі і адкрыццямі ў выступленнях на радыё, тэлебачанні, даваў інтэрв’ю ў газеты, актыўна выступаў на разнастайных канферэнцыях міжнароднага і рэспубліканскага ўзроўняў. Складаныя праблемы каменнага веку і асаблівасці жыццядзейнасці нашых далёкіх продкаў, якія палявалі на маманта і паўночнага аленя, выраблялі крамянёвыя прылады і зброю, станавіліся пасля яго выступленняў і лекцый больш простымі і зразумелымі.
Падчас археалагічнай разведкі па берагах Горніцы
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III12
Галоўным багаццем Віктара былі веды і кнігі. Менавіта кнігі ён перавозіў за сабой, зноў і зноў мяняючы месца жыхарства ў Мінску. Жартоўна ён гаварыў, што каб забраць свае рэчы і пераехаць у наёмную кватэру або пакойчык у інтэрнаце, яму дастаткова аднаго заплечніка, а для перавозу кніг неабходна звяртацца да сяброў. На жаль, ён так і не прыдбаў свайго ўласнага кутка і мусіў доўгі час папераменна жыць у сваіх сяброў, а затым з сям’ёй на наёмнай кватэры.
Віктар з’яўляўся сапраўдным Сябрам, ён высока цаніў сяброўства, і кожны з нас ведаў, што ў складанай сітуацыі мы можам разлічваць адзін на аднаго. Віктар валодаў незвычайнай здольнасцю прывабліваць да сябе людзей, ён заўсёды ўмеў знайсці патрэбныя словы і парады. Цяжка было ўявіць якуюнебудзь сяброўскую вечарыну без яго ўдзелу. Яго пачуццё гумару, смех і цікавыя гісторыі з багатага археалагічнага жыцця рабілі яго цэнтрам нашай кампаніі. Нягледзячы на тое, што наша сяброўскае кола прыкладна аднаго ўзросту, Віктар меў багаты жыццёвы досвед і ніколі і нікому ён не адмовіў як у парадзе, так і ў сваёй дапамозе. Яго энергія і апантанасць перадавалася сябрам і калегам.
Віктар быў вельмі сціплым, інтэлігентным і добразычлівым Чалавекам. У яго былі велізарныя навуковыя планы, якімі ён неаднаразова дзяліўся з сябрамі і калегамі. Знаходзячыся ўжо ў бальніцы, Віктар гаварыў аб хуткім завяршэнні сваёй працы над дысертацыяй, абараніць якую ён збіраўся да канца 2007 г. у Варшаве, аб манаграфіях і новых артыкулах, аб палявых даследаваннях і канферэнцыях, аб сваіх студэнтах...
Усмешка Віктара і чамусьці заўсёды трохі стомлены погляд стаяць перад вачыма. Знаёмства і сяброўства з Віктарам Абухоўскім з’яўлялася гонарам для нас, а яго нечаканая хуткая хвароба і смерць назаўсёды пакінула ў нашых сэрцах наймацнейшае адчуванне болю і страты...
Вадзім Лакіза, Вадзім Кошман
На Рэспубліканскай канферэнцыі, прысвечанай вынікам палявых археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі, май 2007 г.
СпіС нАВУкоВых пРАц ВікТАРА АбУхоўСкАгА
Публікацыі1999
Раскопкі стаянкі Бершты VІ // ГАЗ. № 14. С. 48–53.
Каменны і бронзавы век. Весткі з экспедыцый беларускіх археолагаў (сезон 1999 г.) // БГА. Т. 6. Сш. 1–2. С. 371. (Сааўтар Лакіза В.Л.)
2000Некоторые аспекты культурнохронологического деления мезолита Западной
Беларуси // Международный симпозиум: От неолитизации до раннего бронзового века. Культурные перемены в междуречье Одера и Днепра между VI и II тыс. до н.э. (Abstracts Book). Poznań – Minsk – Brest. С. 13–14.
Новый мезолитический памятник Старые Войковичи5 // Международный симпозиум: Палеогеография позднего плейстоцена и голоцена ЦентральноВосточной Европы (Abstracts Book). Мн. С. 103–105. (Сааўтары Яловічава Я., Скап-цова Н., Міхайлаў М., Лучына Г.)
Falsyfikaty z Mnikowa // Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich: Materiały Sympozjum Międzynarodowego. Warszawa. S. 34–37.
Першабытная гісторыя Шчучынскага раёна // Краязнаўчыя запіскі. Вып. 5. Гродна. С. 63–74. (Сааўтар Лакіза В.Л.)
2001Каменны і бронзавы вякі на тэрыторыі Шчучынскага раёна // Памяць:
Гісторыкадакументальная хроніка Шчучынскага раёна. Мн. С. 21–24. (Сааўтар Лакіза В.Л.)
Новыя першабытныя помнікі Свіслацкага раёну // Старонкі гісторыі Свіслацкага краю: Матэрыялы навуковапрактычнай краязнаўчай канферэнцыі. Гродна С. 26–34. (Сааўтар Лакіза В.Л.)
2002Матэрыялы каменнага і бронзавага вякоў з ваколіц маёнтка Антонава былога
Слонімскага павета // Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў: матэрыялы рэгіянальнай гістарычнакраязнаўчай канферэнцыі. Слонім. С. 44–48.
Zabytki z krzemienia świeciechowskiego z Białorusi w zbiorach PMA // Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni 22–24 maja 2000 r. Studia nad gospodarką i surowcami krzemiennymi w pradziejach. T. IV. Warszawa.
Tysiąclecia ukryte pod torfem. Archeologiczne skarby białoruskich torfowisk // Z otchłani wieków. Rocznik 57. Nr. 3–4. Warszawa. S. 66–70. (Cааўтар Чарняўскі М.М.)
Najnowsze badania nad epoką kamienia na Wysoczyźnie Grodzieńskiej // Badania archeologiczne w Polsce PółlnocnoWschodniej i na Zachodniej Białorusi w latach 2000–2001: Materiały z konferencji. Białystok. S. 111–116. (Сааўтары Барска К., Лакіза В., Мігаль В.)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III142003
Zabytki krzemienne i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki żelaza z terenów Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Warszawa. (Знаходкі крамянёвых і каменных вырабаў ад палеаліту да ранняга жалезнага веку з тэрыторыі Беларусі ў фондах Дзяржаўнага Археалагічнага Музея ў Варшаве. Варшава.)
Засяленне тэрыторыі Беларускага Панямоння ў X–V тыс. да н.э. // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа. Гродна. С. 182–188.
Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларускага Панямоння ў 2002 годзе // ГАЗ. № 18. С. 262–264. (Сааўтар Лакіза В.Л.)
Этапы засялення Бабровіцкага мікрарэгіёна ў фінальным палеаліце – бронзавым веку // ГАЗ. № 18. С. 14–24. (Сааўтары Калечыц А.Г., Лакіза В.Л., Ляшкевіч Э.А.)
Аб работах у басейне Ясельды // ГАЗ. № 18. С. 252–255. (Сааўтар Калечыц А.Г.)
Materiały kultury janislawickiej z obszaru prawobrzeżnej strefy dorzecza górnego Niemna // Materiały conferencji «Kultura janislawicka w Polsce północnowschodnej i na terenach sąsiednich». Ostrolęka. S. 83–100.
2004Палеаліт Беларусі – сучасны стан і перспектывы даследаванняў // Wspólnota
dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. Warszawa. С. 67–79.
Этапы заселения мотольского микрорегиона в каменном и бронзовом веках: по материалам поселения Мотоль17 // LA. T. 25. P. 45–78. (Сааўтар Калечыц А.Г.)
Археалагічныя разведкі ў басейне Нёмана // ГАЗ. № 19. С. 276–277. (Сааўтары Лакіза В.Л., Мігаль В., Барска К.)
Археалагічнае абследаванне ўзбярэжжаў Нёмана ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС // ГАЗ. № 19. С. 272–273. (Сааўтары Калечыц А.Г., Лакіза В.Л., Чарняўскі Макс.М., Чарняўскі Міх.М.)
Раскопкі паселішча Жылічы 1 // ГАЗ. № 19. С. 274. (Сааўтары Калечыц А.Г., Чарняўскі М.М., Лакіза В.Л., Крывальцэвіч М.М., Язэпенка І.М., Чарняўскі Макс.М.)
2005Археалагічныя разведкі на Беларускім Панямонні // ГАЗ. № 20. С. 225–227.
(Сааўтар Лакіза В.Л.)2006
Раскопкі 2005 г. на Аўгустоўскім канале // ГАЗ. № 21. С. 178–180. (Сааўтары Калечыц А.Г., Лакіза В.Л., Чарняўскі М.М.)
Работы на Юравіцкай верхнепалеалітычнай стаянцы // ГАЗ. № 21. С. 177–178. (Сааўтары Калечыц А.Г., Лакіза В.Л.)
Спіс навуковых прац Віктара Абухоўскага 15Археалагічныя раскопкі на помніку бронзавага веку Наваселкі I // ГАЗ. № 21.
С. 183–185. (Сааўтары Лакіза В.Л., Калечыц А.Г.)
2007Да пытання аб старажытнейшым насельніцтве Беларускага Падзвіння // Ак
туальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественногуманитарных и социорелигиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья: материалы международной научнотеоретической конференции, Витебск, 19–20 апреля 2007 г. Ч. 1. Витебск. С. 13–15.
Гренский след в финальном палеолите междуречья Немана, Припяти и Вилии // Романовские чтения 3. Сб. трудов Международной научной конференции. Могилёв, 2007. С. 157–161.
Исследования в зоне реконструкции Августовского канала // АО 2005 года. М. С. 582–584. (Сааўтар Лакіза В.Л.)
2008Чатырохбаковыя крамянёвыя шліфаваныя вырабы ў зборы Нацыянальна
га музея гісторыі і культуры Беларусі // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. III. С. 17–41. (Сааўтары Зуева А., Сідаровіч В.)
Новыя даследаванні на Юравіцкай верхнепалеалітычнай стаянцы // ГАЗ. № 23. (Сааўтар Калечыц А.Г.)
Археалагічныя даследаванні ў зоне рэканструкцыі Агінскага канала // ГАЗ. № 23. (Сааўтары Калечыц А.Г., Лакіза В.Л., Чарняўскі Міх.М.)
Справаздачы аб палявых археалагічных даследаваннях
1997Справаздача аб археалагічных даследаваннях у Гродзенскай вобласці ў 1997 г.
/ АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 1740. Мн.
1999Справаздача аб палявых даследаваннях у 1999 г. / АА ІГ НАН Беларусі. Спр.
№ 1920. Мн.
2002Справаздача аб археалагічных даследаваннях на ПаўночнаЗаходняй Беларусі
ў 2002 г. / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2029. Мн.
2003Справаздача па археалагічных даследаваннях на Панямонні ў 2003 г. / АА ІГ
НАН Беларусі. Спр. № 2099. Мн.
Справаздача па археалагічных даследаваннях у зоне будаўніцтва абваднога (разгрузачнага) канала Гродзенскай ГЭС — помнік ЖылічыІ у 2003 г. / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2089. Мн. (Сааўтары Калечыц А.Г., Чарняўскі М.М., Лакіза В.Л.)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III16Справаздача аб археалагічным абследаванні ўзбярэжжаў Нёмана ў зоне
будаўніцтва Гродзенскай ГЭС у 2003 г. / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2106. Мн. (Сааўтары Чарняўскі М.М., Калечыц А.Г., Лакіза В.Л., Чарняўскі Макс.М.)
2004Справаздача аб археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Заходняй Беларусі
ў 2004 годзе / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2205. Мн.
2005Научный отчёт «О выполнении второго этапа научных археологических ис
следований (разведка и сплошное обследование) в зоне реконструкции Огинского канала и прилегающих территорий на участке «р. Щара – оз. Выгонощанское – оз. Вульковское» / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2357. Мн. (Сааўтары Калечыц А.Г., Лакіза В.Л., Чарняўскі М.М.)
Справаздача аб археалагічных даследаваннях у зоне рэканструкцыі Аўгустоўскага канала ў лістападзе 2005 г. / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2286. Мн. (Сааўтары Лакіза В.Л., Калечыц А.Г., Чарняўскі М.М.)
Справаздача аб археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Беларускага Панямоння ў 2005 г. / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2285. Мн.
2006Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Заход
няй і Цэнтральнай Беларусі ў 2006 годзе / АА ІГ НАН Беларусі. Спр. № 2384.
Складальнікі: Вадзім Лакіза, Людміла Мацвеева, Зоя Харытановіч
У сапраўдным артыкуле гаворка пойдзе аб чатырохбаковых крамянёвых шліфаваных сякерах і далотах. На сённяшні дзень у зборы музея іх налічваецца 35 экзэмпляраў. Тыпалагічны, тэхналагічны і марфалагічны аналіз дазволіў зрабіць падзел на 6 груп, вылучыць 3 асобных прылады, якія не ўваходзяць у вышэй пазначаныя групы, а таксама ўмоўную групу вырабаў, для якіх аўтарамі не былі вызначаны ўстойлівыя тыпалагічнамарфалагічныя паказальнікі. Адразу хацелася б адзначыць, што прапанаваная сістэматызацыя мае рабочы характар і ні ў якім разе не прэтэндуе на ролю рэпера пры культурнахраналагічнай інтэрпрэтацыі дадзенага роду знаходак, якія, у большасці, пазбаўлены археалагічнага кантэксту. Тым не менш, некаторыя свае думкі ў гэтым накірунку мы дазволілі сабе выказаць. У большай ступені прапанаваны артыкул з’яўляецца спробай распрацоўкі схемы апісання падобных вырабаў, дзе адлюстраваны найбольш істотныя, на наш погляд, параметры.
група 1. Сякеры, што аднесены да групы 1 (нумары 7, 8, 12, 17, 21, 24, 26, 29, 33 у каталозе) маюць наступныя асаблівасці:
– трапецыяпадобная форма;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне ўсёй паверхні прылады;– абавязковае дадатковае паліраванне лёзавай часткі;– дугападобнае лязо (за выключэннем сякер са Слоніма і з вёскі Выемка, у якіх
лязо амаль прамое, злёгку скошанае ў адносінах да восі прылады);– максімальная таўшчыня вырабу – у абушковай, зрэдку ў цэнтральнай
частках;– максімальная шырыня вырабу роўная шырыні ляза;– даўжыня ад 83 да 113 мм, шырыня ад 41 да 54 мм, таўшчыня ад 13 да 29 мм;
група 2. Сякеры, што аднесены да 2 групы (нумары 2 і 16 у каталозе), маюць наступныя асаблівасці:
– амаль прамавугольная форма;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне ўсёй паверхні прылады;– абавязковае дадатковае паліраванне лёзавай часткі;– лязо мінімальна дугападобнае;– максімальная таўшчыня вырабу – у цэнтральнай частцы;– максімальная шырыня вырабу роўная шырыні ляза;– даўжыня ад 81 да 108 мм, шырыня ад 35 да 37 мм, таўшчыня ад 17 да 27 мм;
група 3. Сякеры, што аднесены да групы 3 (нумары 3, 9, 10, 22, 28 у каталозе), маюць наступныя асаблівасці:
– амаль прамавугольная форма са звужанымі лязом і абушком;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне ўсёй паверхні прылады;– дадатковае паліраванне ляза не з’яўляецца абавязковым элементам;
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч
чатырохбаковыя крамянёвыя шліфаваныя вырабы ў зборы нацыянальнага музея
гісторыі і культуры беларусі
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III18
– лязо дугападобнае або амаль прамое, злёгку скошанае ў адносінах да восі прылады;
– максімальная таўшчыня вырабу – у абушковай або цэнтральнай частках;– максімальная шырыня вырабу – у цэнтральнай частцы;– даўжыня ад 120 да 150 мм, шырыня ад 42 да 53 мм, таўшчыня ад 26 да
35 мм;група 4. Сякеры, што аднесены да групы 4 (нумары 19, 23 у каталозе), маюць
наступныя асаблівасці:– трапецыяпадобная форма;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне галоўным чынам лёзавай часткі;– неабавязковае дадатковае паліраванне лёзавай часткі;– лязо дугападобнае або амаль прамое;– прысутнасць значнай колькасці негатываў сколаў афармлення;– максімальная таўшчыня вырабу – у абушковай або цэнтральнай частках;– максімальная шырыня вырабу роўная шырыні ляза;– даўжыня ад 68 да 92 мм, шырыня ад 36 да 55 мм, таўшчыня ад 13 да 19 мм;
група 5. Дадзеная група прадстаўлена крамянёвымі чатырохбаковымі далотамі (нумары 11, 31 у каталозе), якія маюць наступныя асаблівасці:
– падпрамавугольная форма;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне ўсёй паверхні прылады;– абавязковае дадатковае паліраванне лёзавай часткі;– лязо амаль прамое;– максімальная таўшчыня вырабу – у абушковай або цэнтральнай частках;– максімальная шырыня вырабу – у цэнтральнай або лёзавай частках;– даўжыня ад 77 да 80 мм, шырыня ад 26 да 28 мм, таўшчыня ад 15 да 17 мм;
група 6 прадстаўлена абушковай часткай масіўнай крамянёвай чатырохбаковай сякеры (нумар 4 у каталозе) і яшчэ двума фрагментамі нарыхтовак аналагічных вырабаў (нумары 5, 6 у каталозе). Ад астатніх чатырохбаковых вырабаў яны адрозніваюцца амаль квадратным у папярочным сячэнні абрысам;
Сякеры, якія ўмоўна аднесены да групы 7 (нумары 13, 15, 27, 30, 35 у каталозе), не маюць устойлівых тыпалагічнамарфалагічных паказальнікаў. Для іх можна вызначыць толькі некаторыя асаблівасці:
– трапецыяпадобная форма (некаторыя экзэмпляры падпрамавугольныя);– сіметрычнае або злёгку асіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне часамі ўсёй паверхні, часамі асобных частак;– неабавязковае дадатковае паліраванне лёзавай часткі;– лязо дугападобнае або амаль прамое;– прысутнасць на некаторых вырабах значнай колькасці негатываў сколаў
афармлення;– максімальная таўшчыня вырабу – у абушковай частцы;– максімальная шырыня вырабу – у лёзавай і цэнтральнай частках;– даўжыня ад 67 да 105 мм, шырыня ад 33 да 48 мм, таўшчыня ад 21 да 28 мм;Тры вырабы з калекцыі НМГ І КБ не былі ўключаны намі ў вышэй згаданыя
групы. Усе яны маюць выразныя тыпалагічнамарфалагічныя паказальнікі, што дазваляе нам разглядаць гэтыя экзэмпляры асобна.
Сякера зпад вёскі Страдзечы (нумар 1 у каталозе) знешне нагадвае, на першы погляд, вырабы групы 3, але ёсць даволі шмат элементаў, якія дазваляюць разглядаць яе асобна:
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 19– трапецыяпадобная форма са злёгку звужаным лязом;– вельмі далікатная, добра апрацаваная абушковая частка;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне ўсёй паверхні прылады;– паліраванне ляза;– лязо дугападобнае;– максімальная таўшчыня вырабу – у цэнтральнай частцы;– максімальная шырыня вырабу – у лёзавай частцы;– даўжыня – 135 мм, шырыня – 52 мм, таўшчыня – 31 мм;Сякерка зпад вёскі Перацяткі (нумар 18 у каталозе) блізкая да вырабаў гру-
пы 4, але мае значныя марфалагічныя адрозненні:– падпрамавугольная форма з пукатымі бакамі і звужаным лязом;– сіметрычнае клінападобнае падоўжнае сячэнне;– шліфаванне лёзавай часткі;– дадатковае паліраванне адсутнічае;– лязо скошанае;– большая частка прылады захоўвае негатывы сколаў афармлення;– максімальная таўшчыня вырабу – у цэнтральнай частцы;– максімальная шырыня вырабу – у цэнтральнай частцы;– даўжыня – 85 мм, шырыня – 31 мм, таўшчыня – 20 мм;Нарэшце, асобна ад астатніх вырабаў трэба разглядаць сланцавае цясла з
Магілёўшчыны (нумар 14 у каталозе).
Пытанні культурнай прыналежнасці і храналогіі. Сякеры, аднесеныя намі да групы 1, маюць бліжэйшыя аналогіі ў крамянёвым інвентары культуры шарападобных амфар (Balcer, 1983, s. 207–226, ryc. 40:5–7; Borkowski, Migal, 1996, s. 141–165; Szmyt, 1999, plate 60–69). Асаблівай увагі заслугоўваюць дзве сякеры, што зроблены з так званага «паласатага» крэменю, радовішчы якога знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы каля Кшэмёнак Апатоўскіх. Адна сякера (нумар 17 у каталозе) знойдзена каля в. Зорычы Барысаўскага раёна (мал. 7:1), месца знаходкі другой (нумар 29 у каталозе; мал. 12:1), на жаль, не вядома. У Кшэмёнках Апатоўскіх працяглы час дзейнічалі крэмнездабыўныя шахты і крэмнеапрацоўчыя майстэрні культуры шарападобных амфар. Тут старажытныя майстры спецыялізаваліся на вырабе чатырохбаковых крамянёвых сякер, якія пазней распаўсюджваліся праз пэўныя механізмы культурных сувязей і абмен на адлегласць да 500 км ад месца вытворчасці, а ў асобных выпадках і далей (Balcer, 1983, ryc. 44). Другі крэмнездабыўны і крэмнеапрацоўчы цэнтр культуры шарападобных амфар існаваў каля сучаснага пасёлка Краснасельскі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці. Як і ў Кшэмёнках Апатоўскіх, тут галоўным чынам вырабляліся чатырохбаковыя сякеры ў «кшэмянкоўскім» стандарце. На жаль, крамянёвая сыравіна з Краснасельскага не мае такіх выразных, своеасаблівых прыкмет, як крэмень з Кшэмёнак. Таму і прывязаць асобныя знаходкі сякер да Краснасельскіх майстэрняў даволі складана. Большасць крамянёвых канкрэцый з Краснага Сяла пад натуральнай крэйдавай скарынкай мае прапластак крамянёвай масы амаль чорнага колеру (таўшчыня да 1 см), пасля якой колер змяняецца на белы з рознымі адценнямі і часам малавыразнымі палосамі. У дадзеным выпадку, менавіта наяўнасць слядоў амаль чорнага прапластку можа быць для нас адносна пэўным паказальнікам паходжання вырабу. Больш дакладным сведчаннем прыналежнасці сякер, знойдзеных на тэрыторыі сучаснай Беларусі, да культуры шарападобных амфар, з’яўляюцца іх тэхналагічнамарфалагічныя асаблівасці. Прыкметы краснасельскай сыравіны маюць знаходкі сякер з Велямічаў Столінскага
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III20раёна (Каталог, № 7, 8; мал. 3:1, 2) і сякера без лакалізацыі (Каталог, № 33; мал. 14:1). Тэхналагічнамарфалагічныя асаблівасці сякер са Слоніма (Каталог, № 12; мал. 5:2), з вёскі Выемка Пухавіцкага раёна (Каталог, № 21; мал. 9:1), са Смалявіцкага раёна (Каталог, № 24; мал. 9:3) і Чэрвенскага раёна (Каталог, № 26; мал. 10:2) дазваляюць звязваць іх з носьбітамі культуры шарападобных амфар. Метрычныя параметры сякер, аднесеных намі да групы 1, дакладна супадаюць з параметрамі 80 сякер культуры шарападобных амфар з тэрыторыі Польшчы і Валыні. Для дадзенай статыстычнай выбаркі Богдан Бальцэр вызначыў наступныя паказальнікі: сярэдняя даўжыня – 109 мм, сярэдняя шырыня – 48 мм, максімальная таўшчыня – 21 мм (Balcer, 1983, s. 209). З культурай шарападобных амфар трэба звязваць і знаходкі сякер з вёскі Оўзічы Іванаўскага раёна (Каталог, № 2; мал. 2:1) і з ўрочышча «Аўрамава Печ», або «Чарцяк» Бялыніцкага раёна (Каталог, № 16; мал. 6:3), аднесеных намі да групы 2. Хутчэй за ўсё, яны зроблены з краснасельскай сыравіны. Ад вырабаў гру-пы 1 гэтыя сякеры адрозніваюцца параметрамі, захоўваючы пры гэтым характэрныя тэхналагічныя асаблівасці. Неад’емнай часткай крамянёвага інвентару культуры шарападобных амфар з’яўляюцца чатырохбаковыя шліфаваныя на ўсёй паверхні далоты (група 5). Адно долата знойдзена каля вёскі Чаплін Лоеўскага раёна (Каталог, № 11; мал. 5:1), дакладнае месца знаходкі другога невядомае (Каталог, № 31; мал. 12:3). У кантэксце культуры шарападобных амфар могуць разглядацца і вырабы, знойдзеныя У.Ф. Ісаенкам падчас даследаванняў стаянкі Камень2 (Каталог, № 4–6). Гэта абушковая частка масіўнай, амаль квадратнай у папярочным сячэнні крамянёвай шліфаванай сякеры (мал. 1:2) і дзве нарыхтоўкі падобных прылад. Прадстаўнічая серыя аналагічных вырабаў захоўваецца ў фондах Музея Беларускага Палесся (Пінск). Іх «амфаровасць» праяўляецца ў дасканалай тэхналогіі апрацоўкі знешняй паверхні. Магчыма, гэтыя сякеры ўяўляюць з сябе лакальны варыянт развіцця крамянёвай індустрыі культуры шарападобных амфар. Матэрыялы, аднесеныя намі да гэтай культуры, можна датаваць другой паловай ІІІ тыс. да н.э.
Вельмі цікавая сякера (мал. 1:1), якая разглядаецца намі асобна, знойдзена каля вёскі Страдзечы Брэсцкага раёна (Каталог, № 1). Асабліва хацелася б звярнуць увагу на абушковую частку вырабу. У параўнанні з рэштай сякеры яна вельмі далікатная і тонкая. Такая форма абушка даволі часта сустракаецца ў сякер культуры лейкападобных кубкаў (Balcer, 1983, ryc. 27:1–5). Дадатковымі аргументамі на карысць яе сувязяў з крамянёвай вытворчасцю згаданай культуры з’яўляюцца формы падоўжанага профілю і лёзавай часткі.
Даволі шматлікую групу складаюць сякеры, аднесеныя намі да групы 3. Ад іншых чатырохбаковых шліфаваных вырабаў яны адрозніваюцца перш за ўсё масіўнасцю форм, звужанымі абушковымі і лёзавымі часткамі. Вызначыць іх культурную прыналежнасць даволі складана. Адзначым толькі, што падобныя вырабы вядомы ў матэрыялах трыпольскай (Черныш, 1982, табл. LXXXIV:6, XCI: 21) і сярэднедняпроўскай культур (Артеменко, 1967, рис. 29:9–12). З сярэднедняпроўскай культурай, хутчэй за ўсё, трэба звязваць і знаходку на тэрыторыі Магілёўскай вобласці сланцавага цясла (Каталог, № 14; мал. 6:1). Безумоўна, гэта імпарт з тэрыторыі сучаснай Украіны.
Крамянёвая індустрыя культуры шнуравой керамікі прадстаўлена знаходкамі сякер групы 4 з вёсак Сцяпкова (Каталог, № 23; мал. 9:2) і Чарнічнае (Каталог, № 19; мал. 7:3), а таксама зпад вёскі Перацяткі (Каталог, № 18; мал. 7:2). Час іх існавання прыпадае на другую палову ІІІ тыс. да н.э. – пачатак ІІ тыс. да н.э.
Да групы 7 аднесены вырабы, культурнахраналагічнае месца якіх вызначыць даволі складана зза адсутнасці ўстойлівых тыпалагічных, марфалагічных і тэхналагічных параметраў.
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 21
каталог знаходак
бРЭСцкАЯ ВобЛАСцЬ
брэсцкі раён1. СТРАДЗЕЧЫ, в., Гершонскі с/с. НМГ І КБ КП 40461.Знайшоў Я.Т. Казмірук за 1,5 км на ўсход ад вёскі, на «выгане», падчас аран
ня зямлі на глыбіні 15–20 см, у маі 1968 г. Перадаў жыхар вёскі Страдзечы М.Я. Казмірук у 1971 г.
Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Цэнтральная частка запаліраваная. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 1:1).
іванаўскі раён.2. ОЎЗІЧЫ, в., Гарбахскі с/с. НМГ І КБ КП 10600/9.Знойдзена вучнямі Оўзіцкай школы ў 1958 г. Перададзена ў музей у пачатку
1960х гг.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Магчыма, звязана з Краснасельскімі крэмнездабыўнымі шахтамі і майстэрнямі (мал. 2:1).
Лунінецкі раён3. СІТНІЦКІ ДВОР, в., Сінкевіцкі с/с. НМГ І КБ КП 40477, Ап 163.Знойдзена на полі каля вёскі В. Лукашэвічам. Перадаў жыхар г. Мінска
А.І. Дубавік у 1976 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне амаль усёй паверхні. На
вузкіх баках захаваліся глыбокія негатывы. Лёзавая частка запаліраваная. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 2:2).
пінскі раён4-6. КАМЕНЬ, в., Загародскі с/с. НМГ І КБ КП 40463/350, 299, 540.Раскопкі У.Ф. Ісаенкі ў 1970 г. на паселішчы «Камень2». Перадаў у музей
У.Ф. Ісаенка ў снежні 1971 г.4. Абушковая частка масіўнай, амаль квадратнай у папярочным сячэнні
крамянёвай шліфаванай сякеры, пераробленай у фінальнай стадыі на нуклеус (мал. 1:2).
5. Фрагмент нарыхтоўкі аналагічнай сякеры.6. Фрагмент нарыхтоўкі аналагічнай сякеры.
Столінскі раён7-8. ВЕЛЯМІЧЫ, в., цэнтр с/с. Знойдзены каля вёскі ў 1950я гг. Перададзены ў музей у 1966 г.
7. Чатырохбаковая крамянёвая сякера. НМГ І КБ КП 40428/26. Пал. № 2709/2. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая і цэнтральная часткі запаліраваныя. Магчыма, звязана з Краснасельскімі крэмнездабыўнымі шахтамі і майстэрнямі (мал. 3:1).
8. Чатырохбаковая крамянёвая сякера. НМГ І КБ КП 40428/23. Пал. № 2709/3. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая і цэнтральная часткі запаліраваныя. Магчыма, звязана з Краснасельскімі крэмнездабыўнымі шахтамі і майстэрнямі (мал. 3:2).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III22гоМЕЛЬСкАЯ ВобЛАСцЬ
Веткаўскі раён9. НОВАЯ БЕСЕДЗЬ, в., Барталамееўскі с/с. (Пасля аварыі на Чарнобыльскай
АЭС вёска Беседзь была адселена). НМГ І КБ КП 40428/22. Палявы № 2521/1.Знойдзена каля вёскі ў 1945 г. (?). Даследаванні К.М. Палікарповіча (?). Пера
дадзена ў музей у 1960я гг.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне амаль усёй паверхні. Лёза
вая частка запаліраваная. У цэнтральнай і абушковых частках захаваліся негатывы папярочных сколаў. Звяртае на сябе ўвагу амаль чорны колер крамянёвай сыравіны (мал. 4:1).
Лоеўскі раён10. ЛІПНЯКІ, в., Уборкаўскі с/с. НМГ І КБ КП 40480/2.Знойдзена каля вёскі падчас меліярацыйных работ. Перадаў Я.А. Рагачоў у
1975 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 4:2).11. ЧАПЛІН, в., Страдубскі с/с. НМГ І КБ КП 45101.Знойдзена ў 1958 г. за 0,3 км на поўнач ад гарадзішча жалезнага веку, на гаро
дзе. Атрымаў ад мясцовых жыхароў Л.Д. Побаль 10 жніўня 1959 г. Перадаў у музей В.І. Шадыра ў 2005 г.
Долата крамянёвае. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая частка запаліраваная. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 5:1).
гРоДЗЕнСкАЯ ВобЛАСцЬ
Слонімскі раён12. СЛОНІМ, г. НМГ І КБ КП 35903/4.Знойдзена ў горадзе, на гародзе. Перададзена ў музей у 1981–1982 гг.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. На абушку захаваліся негатывы падрыхтоўчых сколаў (мал. 5:2).
МАгіЛЁўСкАЯ ВобЛАСцЬ
13. НМГ І КБ КП 40428/9. АН БССР № 5771.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. На абушку захаваліся негатывы падрыхтоўчых сколаў (мал. 6:2).14. НМГ І КБ КП 40428/10. АН БССР № 155, БДМ № 6?95/212.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Цясла сланцавае, трапецыяпадобнае ў папярочным сячэнні. Шліфаванне на
ўсёй паверхні. На абушку захаваліся негатывы падоўжных сколаў (мал. 6:1).
1 АН БССР № – на некаторых прадметах прысутнічае нумар, які, на нашу думку, адпавядае скразной нумарацыі ўсіх археалагічных знаходак, што вялася археолагамі Акадэміі навук БССР у міжваенны час.
2 БДМ № – уліковы нумар Беларускага Дзяржаўнага музея ў міжваенны час.
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 23Асіповіцкі раён15. ВЯЛІКАЯ ГРАВА, в., Лапіцкі с/с. НМГ І КБ КП 40469/1.Знойдзена каля вёскі. Перадаў жыхар г. Мінска П.П. Усніч у 1973 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні без дадатко
вага паліравання. У абушковай частцы на адным шырокім баку захаваліся негатывы падрыхтоўчых сколаў (мал. 5:3).
бялыніцкі раён16. «АЎРАМАВА ПЕЧ», або «ЧАРЦЯК», урочышча (назва населенага пункта
адсутнічае). НМГ І КБ КП 35903/3.Знойдзена ва ўрочышчы. Перададзена ў музей у 1981–1982 гг.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Магчыма, звязана з Краснасельскімі крэмнездабыўнымі шахтамі і майстэрнямі (мал. 6:3).
МінСкАЯ ВобЛАСцЬбарысаўскі раён17. ЗОРЫЧЫ, в., Вяляціцкі с/с. НМГ І КБ КП 43700, Ап 177.Знойдзена за 1 км на захад ад вёскі, на бульбяным полі, у верасні 1988 г. Ба
сейн ракі Нача, прыток ракі Бобр. Перадаў жыхар г. Барысава Л. Собаль у 1998 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Выканана з так званага «паласатага» крэменю, радовішчы якога знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы каля Кшэмёнак Апатоўскіх (мал. 7:1).
Дзяржынскі раён18. ПЕРАЦЯТКІ, в., Путчынскі с/с. НМГ І КБ КП 43951.Знойдзена за 0,5–1 км ад вёскі, на полі каля лесу, у верасні 1999 г. В. Брылевічам.
Перадаў вучань 3 «А» класа СШ № 169 горада Мінска В. Брылевіч у снежні 1999 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне 1/3 часткі паверхні. Сля
ды дадатковага паліравання адсутнічаюць. На цэнтральнай і абушковай частках захаваліся негатывы афармляючых сколаў (мал. 7:2).
капыльскі раён19. ЧАРНІЧНАЕ, в., СлабадаКучынскі с/с. НМГ І КБ КП 41219.Знойдзена каля вёскі. Перадаў В.С. Марчанкоў у снежні 1988 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаваныя толькі шырокія бакі. Лё
завая частка афармлялася паўторна. На вузкіх баках цалкам захаваліся негатывы афармляючых сколаў (мал. 7:3).
20. МінСк г. НМГ І КБ КП 40458/4.Знойдзена Я. Шаткоўскім на вул. К. Маркса, д. 25 пры закладцы фундамента.
Перададзена ў музей у 1971 г.Лёзавая частка масіўнай чатырохбаковай крамянёвай сякеры. Шліфаванне
ўсёй паверхні. Лязо запаліраванае. Пакрытая лёгкай белай пацінай (мал. 8:1).
пухавіцкі раён21. ВЫЕМКА, в., Селецкі с/с. НМГ І КБ КП 10600/6.Знойдзена на паўночны захад ад пасёлка, за 1,5 км ад ракі Пціч. Знайшоў
жыхар в. Дубавое Пухавіцкага раёна П.С. Хурс у 1961 г. Перадаў жыхар г. Мінска І.Ф. Гурановіч у пачатку 1960х гг.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III24Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 9:1).22. ПУХАВІЧЫ, г.п. НМГ І КБ КП 40480/1.Знойдзена на полі каля пасёлка. Перададзена ў музей у 1975 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Сляды да
датковага паліравання паверхні адсутнічаюць. На цэнтральнай і абушковай частках захаваліся негатывы афармляючых сколаў. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 8:2).
Слуцкі раён23. СЦЯПКОВА, в., Грэскі с/с. НМГ І КБ КП 10600/11.Знойдзена ў вёсцы А.А. Гаўрыловічам. Перададзена ў пачатку 1960х гг.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне і паліраванне лёзавай
часткі. На цэнтральнай і абушковай частках захаваліся негатывы афармляючых сколаў (мал. 9:2).
Смалявіцкі раён24. Тэрыторыя раёна. НМГ І КБ КП 40487/1.Знойдзена падчас будаўніцтва птушкафермы, на глыбіні каля 2 м. Перадаў
жыхар г. Мінска С.П. Шмарлоўскі не пазней за 1977 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая
частка запаліраваная. На вузкіх баках захаваліся негатывы афармляючых сколаў. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 9:3).
Старадарожскі раён25. ЯЗЫЛЬ, в., цэнтр с/с. НМГ І КБ КП 40476/4.Знойдзена каля вёскі. Перадаў настаўнік гісторыі Языльскай сярэдняй школы
М.І. Шархун у 1974 г.Лёзавая частка масіўнай чатырохбаковай крамянёвай сякеры. Сляды дадат
ковага паліравання працоўнай часткі (мал. 10:1).
Чэрвеньскі раён26. Тэрыторыя раёна. НМГ І КБ КП 40487/2.Знойдзена на полі падчас збірання камення. Перадала вучаніца 5 кл. СШ
№ 111 г. Мінска Р. Базянік у 1977 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Сляды да
датковага паліравання адсутнічаюць. На вузкіх баках і абушковай частцы шырокіх бакоў захаваліся негатывы афармляючых сколаў. Пакрытая чырвонарудай балотнай пацінай (мал. 10:2).
ЗнАхоДкі бЕЗ ЛАкАЛіЗАцыі
27. НМГ І КБ КП 922.Перадаў А.П. Карканіца, калгас імя Сталіна Клецкага раёна Мінскай вобласці,
1959 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера з выразнай тэндэнцыяй да авальнасці.
Шліфаваныя 2/3 паверхні вырабу. Выканана з палескавалынскага тыпу крамянёвай сыравіны (мал. 11:1).
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 2528. НМГ І КБ КП 7512.Перадаў студэнт бібліятэчнага факультэта Мінскага педагагічнага інстытута
Р.К. Юрашэвіч у 1962 г.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая
частка запаліравана. На вузкіх баках захаваліся дробныя негатывы афармляючых сколаў. Выканана з палескавалынскага тыпу крамянёвай сыравіны (мал. 11:2).
29. НМГ І КБ КП 10600/12.Перададзена ў музей у пачатку 1960х гг.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Выканана з так званага «паласатага» крэменю, радовішчы якога знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы каля Кшэмёнак Апатоўскіх (мал. 12:1).
30. НМГ І КБ н/д 3204. АН БССР № 196, БДМ № зацёрты.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Да паловы
даўжыні запаліравана. На вузкіх баках захаваліся дробныя негатывы афармляючых сколаў і натуральныя паверхні (мал. 12:2).
31. НМГ І КБ н/д 3204. АН БССР № 234, БДМ № 58??.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Долата крамянёвае чатырохбаковае. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. На вузкіх баках захаваліся дробныя негатывы афармляючых сколаў. Пакрытая белай пацінай (мал. 12:3).
32. НМГ І КБ н/д 3345. АН БССР № 219, БДМ № 6575.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. На адным
шырокім баку сляды паліравання лёзавай часткі. На вузкіх баках захаваліся дробныя негатывы афармляючых сколаў (мал. 13:1).
33. НМГ І КБ н/д 3370. АН БССР № 107, БДМ № 6442/?.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Чатырохбаковая крамянёвая сякера. Шліфаванне ўсёй паверхні. Лёзавая част
ка запаліраваная. Магчыма, звязана з Краснасельскімі крэмнездабыўнымі шахтамі і майстэрнямі (мал. 14:1).
34. НМГ І КБ н/д 3395. АН БССР № 227, БДМ № 6558/2.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Лёзавая частка масіўнай чатырохбаковай крамянёвай шліфаванай сякеры
(мал. 13:2).
35. НМГ І КБ н/д 3404. АН БССР № 226, БДМ № 6558/?.З міжваенных збораў Беларускага Дзяржаўнага музея.Чатырохбаковая крамянёвая сякера з тэндэнцыяй да авальнасці. Шліфаванне
ўсёй паверхні. Лёзавая частка запаліраваная. Выканана з крамянёвай сыравіны сожскага тыпу (мал. 14:2).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III26Літаратура
1. Артеменко, И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. М., 1967.
2. Черныш, Е.к. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии // Энеолит СССР / Археология СССР. М., 1982. С. 165–262.
3. Balcer, B. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1983.
4. Borkowski, W., Migal, W. Ze studiów nad użytkowaniem siekier czworościennych z krzemienia pasiastego // Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego / Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach. 3. Warszawa, 1996. S. 141–165.
5. Szmyt, M. Beetween West and East People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950–2350 BC // BalticPonticStudies. Vol. 8. Poznań, 1999.
Viktar Abukhouski, Aleksandra Zuyeva, Vital SidarovitchQuadrangular Flint Banded Articles in the Collection of the National Museum of
History and Culture of Belarus
The collection of the National Museum of History and Culture of Belarus includes 35 quadrangular flint banded articles. We’ve divided them into 7 conventional groups and 3 separate tools. Proposed systematization is preliminary. It’s aim isn’t an attempt of apportionment of stable cultural determinative types, but ordering of concrete museum collection.
Axes of Group 1 (Catalogue numbers 7, 8, 12, 17, 21, 24, 26, 29, 33; fig. 3:1–2, 5:2, 7:1, 9:1, 9:3, 10:2, 12:1, 14:1) find their analogies in flint inventory of Globular Amphorae Culture. Axes of Group 2 (Catalogue numbers 2, 16; fig. 2:1, 6:3) and quadrangular chisels of Group 5 (Catalogue numbers 11, 31; fig. 5:1, 12:3) also can be connected with this culture. As a local variant of Globular Amphorae Culture flint industry development can be considered articles from the excavations of settlement Kamen2 – Group 6 (Catalogue numbers 4–6; fig. 1:2).
Axe from village Stradzechy (Catalogue number 1; fig. 1:1) is possibly connected with flint industry of Funnel Beaker Culture. Axes of Group 3 (Catalogue numbers 3, 9, 10, 22, 28; fig. 2:2, 4:1–2, 8:2) have analogies in flint inventory of Tripolje Culture and Middle Dnieper Culture. With Middle Dnieper Culture also can be connected chisel (Catalogue number 14; fig. 6:1). Flint industry of Corded Ware Culture is represented by three axes (Catalogue numbers 18, 19, 23; fig. 7:2–3, 9:2).
Group 7 (Catalogue numbers 13, 15, 27, 30, 35; fig. 6:2, 5:3, 11:1, 12:2, 14:2) includes different tools which cultural and chronological definition seems to be problematical.
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 27
Мал. 1. Крамянёвыя вырабы: 1 – Страдзечы (№ 1), 2 – Камень 2 (№ 4)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III28
Мал. 2. Крамянёвыя вырабы: 1 – Оўзічы (№ 2), 2 – Сітніцкі Двор (№ 3)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 29
Мал. 3. Крамянёвыя вырабы: 1, 2 – Велямічы (№ 7, 8)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III30
Мал. 4. Крамянёвыя вырабы: 1 – Новая Беседзь (№ 9), 2 – Ліпнякі (№ 10)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 31
Мал. 5. Крамянёвыя вырабы: 1 – Чаплін (№ 11), 2 – Слонім (№ 12), 3 – Вялікая Грава (№ 15)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III32
Мал. 6. Сланцавыя і крамянёвыя вырабы: 1, 2 – Магілёўская вобласць (№ 14, 13), 3 – урочыш-ча «Аўрамава печ», або «Чарцяк» (№ 16)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 33
Мал. 7. Крамянёвыя вырабы: 1 – Зорычы (№ 17), 2 – Перацяткі (№ 18), 3 – Чарнічнае (№ 19)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III34
Мал. 8. Крамянёвыя вырабы: 1 – Мінск (№ 20), 2 – Пухавічы (№ 22)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 35
Мал. 9. Крамянёвыя вырабы: 1 – Выемка (№ 21), 2 – Сцяпкова (№ 23), 3 – Смалявіцкі раён (№ 24)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III36
Мал. 10. Крамянёвыя вырабы: 1 – Языль (№ 25), 2 – Чэрвеньскі раён (№ 26)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 37
Мал. 11. Крамянёвыя вырабы: 1, 2 – знаходкі без лакалізацыі (№ 27, 28)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III38
Мал. 12. Крамянёвыя вырабы: 1, 2, 3 – знаходкі без лакалізацыі (№ 29–31)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 39
Мал. 13. Крамянёвыя вырабы: 1, 2 – знаходкі без лакалізацыі (№ 32, 34)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III40
Мал. 14. Крамянёвыя вырабы: 1, 2 – знаходкі без лакалізацыі (№ 33, 35)
Віктар Абухоўскі , Аляксандра Зуева, Віталь Сідаровіч 41
Мал. 15. Карта знаходак крамянёвых вырабаў, змешчаных у каталозе (нумар на карце адпа-вядае нумару у каталозе)
В 1991 г. во время археологических разведок на территории Чаусского района Могилевской области В.Ф. Копытин обнаружил стоянку эпохи мезолита в окрестностях д. Дедня (Копытин, 1995, с. 3). Предварительная шурфовка памятника позволила этому исследователю в 1992 г. провести первые небольшие стационарные работы на площади 18 кв.м (рис. 2:I). В процессе раскопок была обнаружена яма овальной формы, в пределах которой концентрировались кремневые находки (Копытин, 1995, с. 4).
В связи с этим в 1993 г. В.Ф. Копытин продолжил изучение стоянки. С южной, северной и западной сторон от ранее вскрытого участка были прирезаны новые раскопы, площадь которых составила 174 кв.м (рис. 2:I). В результате было установлено, что раскопками вскрыта южная периферия стоянки, поскольку основная часть находок локализировалась в северозападной части исследованного участка (Копытин, 1995, с. 4).
В целом за два года работ на памятнике В.Ф. Копытин изучил 192 кв.м культурного слоя. Полученные материалы (644 ед. кремневого инвентаря) стали основой для публикации, включившей стоянку в круг бутовских древностей позднего мезолита (Копытин, 1995, с. 7). Вместе с тем, немногочисленная коллекция находок не позволяла с уверенностью решить ряд вопросов, особенно касающихся хронологии памятника и его статуса. С учетом того, что в последнее время на территории Белорусского Посожья стали известны еще некоторые стоянки и местонахождения, принадлежность которых к бутовской культуре сомнений не вызывает (Колосов, 2007), в 2006–2007 гг. автором статьи раскопки Дедни были продолжены. Цель статьи – дать обобщающую характеристику материалов этого уникального для восточной Беларуси мезолитического памятника с учетом исследований последних лет.
Мезолитическая стоянка Дедня расположена на первой надпойменной террасе правого берега р. Кошанка (левый приток Прони), в 750 м югозападнее одноименной деревни, в 200 м юговосточнее устья р. Сухобычка, впадающей в Кошанку с противоположной стороны, в урочище Гута (рис. 1). Высота памятника над меженным уровнем воды в реке составляет 4 м, над уровнем моря – 157–158 м. Поверхность относительно ровной террасы слабо наклонена в сторону русла реки. С северовостока и югозапада терраса ограничена двумя оврагами. По дну северовосточного оврага, в 200 м от стоянки, протекает безымянный ручей, пересыхающий летом.
В 2006–2007 гг. к северной и западной стенкам раскопа 1993 г. В.Ф. Копытина нами было прирезано два раскопа общей площадью 216 кв.м (рис. 2:I). Раскопы были ориентированы по сторонам света и являлись продолжением участка, исследованного В.Ф. Копытиным. Нумерация сетки квадратов, со стороной равной 1 м, с юга на север получила цифровое обозначение от 25 до 39 включительно для раскопа 2006 г. и от 22 до 33 для раскопа 2007 г. С востока на запад квадраты раскопов имели буквенное обозначение: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К – для раскопа 2006 г., Л, М, Н, О, П, Р, С, Т – для раскопа 2007 г. (рис. 13; 14). Таким образом, за четыре полевых сезона общая площадь раскопок мезолитической стоянки Дедня составляет 408 кв.м (рис. 2).
Александр Колосов
мезолитическая стоянка дедня
43Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III
Следует отметить, что за 13 лет после работ В.Ф. Копытина поверхность террасы заросла молодым сосновым лесом, что создавало определенные трудности во время изучения стоянки. Подготовка будущей площади раскопа, по согласованию с Чаусским лесничеством, начиналась с удаления сосен. По мере выборки слоя постоянно приходилось подпиливать пни и корни деревьев до их полного исчезновения в пределах раскопа. Изучение культурного слоя велось по условным горизонтам, мощностью до 0,10 м, с нанесением находок на план, нивелировкой изделий со вторичной обработкой и нуклеусов. Заключительный этап работ был связан с контрольным вскапыванием материка, зачисткой стенок раскопа и съемкой стратиграфических профилей, засыпкой раскопа.
Для уточнения стратиграфии памятника на ширину 2 метров (двух квадратов) по линии И–К–25–39 и А–К–38–39 раскопа 2006 г. двумя траншеями был прокопан материк на глубину до 1 м от дневной поверхности. Таким же образом уточнялась стратиграфия южной стенки раскопа 2007 г.
Стратиграфия памятника (рис. 2:III): 1 – дерн, представляющий мелкозернистую супесь темносерого цвета, пронизанную корнями растений. Переход в нижележащий слой нечеткий (0,00–0,05 м); 2 – супесь неслоистая, мелкой зернистости, темносерого цвета с затеками в нижней части, пронизанная в отдельных местах корнями деревьев. Подзолистый горизонт. Переход в нижележащий слой ясный (0,05–0,15 м); 3 – песок разнозернистый желтого цвета, в отдельных местах нарушен корнями деревьев, подстилаемый на глубине 0,80 м суглинком бурого цвета с включениями валунов и мелких валунчиков. Иллювиальный горизонт с прослойками рыжеватого песка (ортзанды), встреченными на глубине 0,55–0,70 м.
Находки из кремня были встречены под слоем дерна и распространялись до глубины 0,50 м. Однако изучение стратиграфии памятника показало, что основная часть артефактов концентрируется в пределах 0,20–0,40 м глубины и связана с иллювиальным горизонтом почвы. Исключение составляют находки из хозяйственнобытовых объектов, в заполнении которых кремневые изделия шли до глубины 0,80–0,96 м. Количество находок на квадрат составляет от 1 до 515 ед., в среднем – 15 ед.
Культурный слой мезолитической стоянки окраски не имеет и нарушен поселениями более позднего времени, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты керамики раннего железного века и эпохи Древней Руси. Значительное число находок этого времени обнаружено в южной части исследованного памятника (раскопы 1992–1993 гг.) с заметным уменьшением их количества в северном и западном направлениях. К эпохе железа относятся обломки от груболепных толстостенных и слабопрофилированных сосудов с примесями кварцевого песка в тесте (541 ед.). Материалы древнерусского времени представлены фрагментами гончарной посуды (2030 ед.), отдельные из которых орнаментированы по плечику горизонтальными линиями.
В 2006–2007 гг. нам удалось обнаружить на памятнике присутствие лепной керамики с примесью толченого камня, поверхность которой украшена прочерченными линиями («четочный» орнамент), образующими композиции в виде зигзагов (44 ед.). Фрагменты такой посуды датируются средним этапом бронзового века и относятся к кругу культур тштинецкососницкой общности. Кроме этого, были обнаружены мелкие кальцинированные косточки, которые не учитывались при общих статистических подсчетах.
В ходе раскопок 1992–1993, 2006 гг. было выявлено 23 пятна, интерпретация которых требует дополнительных исследований памятника и детальной характеристики имеющихся источников. Большинство из них, в виде остатков столбов,
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III44хозяйственных ям, кострищ и очагов, встречено на глубине 0,25–0,40 м и связано с керамическими материалами тштинецкососницкой культуры бронзового века и селищ эпохи железа и Древней Руси.
Для характеристики структуры мезолитической стоянки особый интерес представляет несколько линз темносерого песка (рис. 3). Судя по профилю западной стенки раскопа 2006 г. по линии К–26–30, уровень их залегания соответствовал глубине 0,40–0,45 м от дневной поверхности и имел в верхней части едва заметную светлосерую окраску. Поэтому четкие контуры изученных объектов обозначились только на глубине 0,50–0,60 м. Следует отметить еще одну стратиграфическую деталь: верхняя и нижняя часть объектов в профиле стенки имела затеки, что является результатом разрушения поверхности их заполнения.
Первый объект на стоянке обнаружил В.Ф. Копытин еще в 1992 г. Это была яма округлой формы и линзовидного профиля размером 2,1×1,9 м, при глубине 0,6 м. При выборке зольного заполнения ямы было обнаружено 22 отщепа, 66 пластин, пять из которых ретушированы (Копытин, 1995, с. 4).
Вторая подовальной формы яма, исследованная нами в 2006 г., достигала размеров с востока на запад 2,78 м, с севера на юг – 1,62 м, глубиной 0,55 м. В центральной части объекта наблюдалась огромная концентрация кремневых находок, размеры которой в наиболее насыщенной части составляли 1,56×1,44 м. Среди находок (всего 526 экз.) встречены 235 отщепов, 196 пластин, 62 мелких осколка, 6 наконечников стрел, 3 резца на сломе заготовки, 2 скребка, 2 пластинывкладыша, пластина с притупленным краем и проколка, отщеп с ретушью и 14 пластин с ретушью. Особое внимание привлекли остатки столбовой ямки (0,20×0,23 м, глубина 0,42 м), уходящей под наклоном в материк и изученной в восточной части данного объекта на глубине 1,05 м от дневной поверхности.
Аналогичная ситуация прослеживалась югозападнее исследованной ямы. В южной части частично вскрытой линзы темносерого песка на глубине 0,88 м были обнаружены остатки еще одной столбовой ямы (диаметром 0,24 м, глубиной 0,38 м), которая также под углом уходила в материковую породу.
В 2007 г. на глубине 0,50 м было зачищено пятно серого цвета, размером 7×7 м (рис. 3). В пределах пятна, по цветности заполнения, установлено наличие нескольких линз темносерого цвета. Они располагались по периметру объекта, который имел нечеткую форму, отдаленно напоминавшую овал. При этом объекты раскопа 2006 г. оказались точно в него «вписаны». Таким образом, общие размеры исследованной структуры (возможно, жилой), с учетом раскопок 2006–2007 гг. составляют 78 кв.м. Учитывая разрушенность культурного слоя в результате антропогенной и естественной дистурбации почвы, не исключено, что истинные ее размеры могли быть меньшими. Контуры объекта оказались «размытыми» и нечеткими; мощность заполнения, судя по профилю, была неравномерной и составляла 0,20–0,45 м. Следовательно, установить его первоначальную форму невозможно. В качестве рабочей гипотезы можно признать, что перед нами остатки постройки, углубленной в материк, которая, скорее всего, напоминала чум или ярангу, известные по этнографическим материалам народов Крайнего Севера.
Планиграфические наблюдения показывают заметную концентрацию находок в пределах исследованного объекта (рис. 2:II). Визуально выделяется семь скоплений и микроскоплений кремневых артефактов. Одно из них (скопление А) представляет собой слабонасыщенное и рассеянное пятно из 248 находок площадью около 12 кв.м (кв. Б–Е–22–24). Часть из них связана с ямой раскопа 1992 г. В.Ф. Копытина. Общий состав находок этого скопления: пластины (135 ед.), отщепы (100 ед.), резцы на сломе заготовки (4 ед.), изделия с выемкой (2 ед.), пластинывкладыши (2 ед.), микропластинка с притупленным краем, пластины с ретушью (3 ед.) и отщеп с ретушью (1 ед.).
Александр Колосов 45Еще два скопления, более насыщенные находками и имеющие четкие границы,
наблюдались в 3 м северозападнее от первого. Одно из них находилось в пределах кв. И–К–25–26 раскопа 2006 г., второе – З–И–26–27. Ремонтаж отдельных находок установил связь между этими скоплениями. Артефакты первого скопления, или скопления Б (274 ед.) локализировались на площади до 2 кв.м. В количественном отношении оно представлено отщепами – 105 ед., пластинами – 98 ед., мелкими осколками – 54 ед., резцами на сломе заготовки – 5 ед., пластинамивкладышами – 2 ед., пластинами с ретушью – 6 ед. Единичны скребок, проколка, микропластинка с притупленным краем и отщеп с ретушью.
Второе скопление кремневых изделий (скопление В) имело размеры до 3,5 кв.м и было связано с ямой, обнаруженной нами в 2006 г. Среди находок встречены отщепы (529 ед.), пластины (351 ед.), мелкие осколки (189 ед.), резцы на сломе заготовки (9 ед.), скребки (5 ед.), проколки (2 ед.), изделие с выемкой, пластинывкладыши (9 ед.), пластинки с притупленным краем (6 ед.), наконечники стрел (11 ед.), пластины с ретушью (32 ед.) и отщепы с ретушью (3 ед.) – всего 1148 ед.
В 2 м севернее этих скоплений отмечена еще одна концентрация кремневых артефактов (скопление Г) на площади около 8 кв. м (кв. Ж–К–30–32 раскопа 2006 г.). Наиболее насыщенной находками оказалась западная часть этого скопления в пределах кв. И–К–30–31, имевшая размеры 2×2 м. Общее число артефактов в данном скоплении достигает 762 ед. и представлено: 210 отщепами, 368 пластинами, 102 мелкими осколками, 16 резцами на сломе заготовки, 6 скребками, 2 изделиями с выемкой, 5 пластинамивкладышами, 8 пластинками с притупленным краем, 3 наконечниками стрел, 30 пластинами с ретушью, 11 отщепами с ретушью и 1 проколкой. Если рассматривать типологический состав находок «западной» части скопления по отдельности, то среди них следует выделить отщепы – 165 ед., пластины – 280 ед., мелкие осколки – 84 ед., резцы на сломе заготовки – 13 ед., скребки – 4 ед., пластинки с притупленным краем – 6 ед., наконечники стрел – 2 ед., пластины и отщепы с ретушью – 14 и 8 ед. соответственно.
На пересечении квадратов Л–М–30–31 раскопа 2007 г., в 0,6 м западнее описанной выше локализации кремневых артефактов зафиксировано микроскопление Д (0,45×0,65 м), которое состояло из одного нуклеуса, 46 отщепов, 33 пластин и 9 мелких осколков, в целом 89 ед. В 3,5 м западнее микроскопления Д прослеживалось еще одно небольшое скопление артефактов – скопление Е на площади до 1,2 кв. м (кв. Р–С–30–31). Оно включало отщепы (63 ед.), пластины (64 ед.), мелкие осколки (5 ед.), резцы на сломе заготовки (3 ед.), проколки (2 ед.), пластинывкладыши (3 ед.), наконечники стрел (2 ед.), пластины с ретушью (7 ед.) и отщеп с ретушью, изделие с выемкой и пластинку с притупленным краем, а всего – 152 ед.
Концентрация кремня наблюдалась также в пределах кв. П–С–25–26 (скопление Ж). Площадь этого скопления равна около 2,1 кв. м. Общее число находок составляет 294 ед., среди них: нуклеус, отщепы – 58 ед., пластины – 168 ед., мелкие осколки – 15 ед., резцы – 6 ед., скребки – 2 ед., острия – 2 ед., пластинывкладыши – 9 ед., пластинки с притупленным краем – 3 ед., наконечники стрел – 10 ед., пластины с ретушью – 17 ед., проколка и изделие с выемкой.
Определить функциональное назначение этих скоплений до проведения технологического и трасологического анализов кремневого инвентаря не представляется возможным. С одной стороны, скопления А, Б, В, Г, Е, Ж можно связать с местом разделки охотничьей добычи, о чем ярко свидетельствует состав изделий со вторичной обработкой. Однако наличие значительного числа продуктов расщепления кремня, с другой стороны, указывает на возможные участки первичной обработки сырья в пределах этих скоплений (пример – скопление Д).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III46За годы раскопок на стоянке была собрана достаточно представитель
ная коллекция кремневого инвентаря, которая включает следующие техникоморфологические группы (рис. 4:II): 1) куски кремня – 37 ед. (0,6% всего комплекса); 2) нуклеусы и их обломки – 12 ед. (0,2%); 2) сколы с нуклеусов и их обломки, мелкие осколки – 5607 ед. (87%); 4) изделия со вторичной обработкой – 787 ед. (12,2%).
Кремневая индустрия Дедни базируется на импортном сырье, качественно отличающемся от местного сожского прежде всего пластичностью и полупрозрачностью. Это серый или темносерый кремень с тонкой мелкозернистой желвачной коркой желтого цвета. В отдельных случаях кремень характеризуется пятнистой структурой поверхности и имеет голубоватый оттенок. В незначительном количестве встречены темнорозовый кремень с фиолетовым оттенком и сожский темносерый кремень с вкраплениями мела.
Ранее изделия из сожского кремня (нуклевидный обломок, ретушер, единичные отщепы и пластины) мы связывали с находками керамики бронзового века (Колосов, 2007, с. 154). Однако в процессе раскопок 2007 г. получены новые материалы, которые требуют более осторожно относиться к этому выводу и признать тот факт, что мезолитическое население стоянки могло быть знакомо с местным сырьем. Об этом свидетельствуют находки нескольких отжимных пластинок, скола переоформления ударной площадки нуклеуса, проколки, черешкового наконечника стрелы, который удалось ремонтажировать, и рубящего орудия, изготовленных из сожского кремня. Нам пока не удалось обнаружить источник сожского кремня, который мог эксплуатироваться жителями стоянки. Вместе с тем, во время маршрутной разведки окрестностей д. Дедня в 2007 г. особое внимание привлек небольшой, поросший кустарником овраг. Он расположен в 200 м южнее изученного памятника и прорезает террасу от русла реки в северозападном направлении. Вдоль дороги возле оврага встречаются россыпи меловой крошки, что может указывать на присутствие здесь сожского сырья. Следовательно, изучение отложений оврага, поиск месторождения мела с запасами сожского кремня, который мог использоваться древним населением для производства орудий труда – перспектива будущих полевых работ.
О первоначальных размерах сырья можно судить по сколам подготовки скалывающей поверхности нуклеусов и переоформления ударных площадок и отдельным сколамзаготовкам. Нуклеусы отражают предельную стадию процесса расщепления и в данном случае фиксируют максимально допустимые условия, которые позволяли до определенного момента получать заготовки. Так, если отталкиваться от размеров нуклеусов, мы должны будем признать, что первоначальные размеры желваков должны были равняться в среднем 60–70 мм в длину и 20 мм в ширину (единственный одноплощадочный нуклеус в коллекции стоянки имеет размеры 107×28×19 мм). Однако наличие серии пластин, длина которых достигает более 155 мм, скола переоформления ударной площадки диаметром 50–60 мм и отщепа размером 96×80×17 мм, свидетельствует о больших размерах сырья. Для технологического контекста данной стоянки нуклеусы представляют собой остаточные ядрища, максимально утилизированные древним человеком.
Нуклеусов на стоянке обнаружено всего 12 ед. (0,2% всего комплекса), два из которых представлены в виде обломков (рис. 5). Среди целых сохранились 7 одноплощадочных и 3 двухплощадочных нуклеуса, имеющие в основном коническую (9 ед.) и призматическую формы. Большая часть нуклеусов характеризуется круговой системой снятия пластин с одной или двух ударных площадок. Два нуклеуса представлены монофронтальным скалыванием заготовок: один из них имеет оформленный контрфронт в виде двухстороннего ребра. Противоположная скалывающему фронту сторона другого экземпляра выровнена поперечными сколами (рис. 5:4).
Александр Колосов 47Ударные площадки нуклеусов (также как и сколы их переоформления) имеют
неоднократную поперечную подправку поверхности, карниз – следы редуцирования. Только в одном случае у призматического нуклеуса в результате переоформления ударная поверхность гладкая, с которой неудачно попытались снять несколько сколов (рис. 5:3). Угол скалывания заготовок нуклеусов составляет 70–90°.
Два нуклеуса, очевидно, после утилизации были использованы в качестве орудий (рис. 5:5, 6). Один из нуклеусов мог выполнять функции долота (рис. 5:5): он имеет клиновидный профиль и выделенное с одной стороны крупной ретушью основание. Назначение другого орудия (рис. 5:6), заготовкой для которого стал двухплощадочный нуклеус, интерпретировать сложно. Не исключено использование его в качестве посредника, учитывая характерные следы забитости на обеих площадках данного ядрища.
Техника расщепления кремня деднинской индустрии была направлена на получение пластин правильной огранки, абсолютное большинство которых шло на производство орудий, в первую очередь, вкладышей, резцов и наконечников стрел. Основной способ получения этого типа заготовок – отжим, о чем свидетельствует ряд признаков, характерных для отжимной техники скола: правильная огранка пластин, регулярный рельеф ударной волны, плоский ударный бугорок, точечная или линейная ударная площадка на проксимальном конце изделия.
Впервые для стоянок Посожья в количественном отношении пластин обнаружено больше, чем отщепов: 2218 ед. (34,5%) отщепов и 2758 ед. (42,9%) пластин. Среди отщепов 535 ед. являются целыми, остальные относятся к обломкам (60,2% среди всех отщепов). Минимальные размеры отщепов находятся в пределах 10×10×1 мм, максимальные – 96×80×17 мм. Первичных отщепов насчитывается только 24 ед. (0,64%), с участками желвачной корки – 23 ед. (1,7%), что, по мнению В.Ф. Копытина, могло объясняться первичной обработкой кремня за пределами стоянки и использованием «заготовок нуклеусов», принесенных с собой мезолитическими людьми (Копытин, 1995, с. 4).
Целых пластин – 175 ед. (6,4%), остальные фрагментированы в виде дистальных обломков – 296 ед. (10,7%), медиальных – 1496 ед. (54,2%), проксимальных – 578 ед. (21%), с обломанными дистальным – 111 ед. (4%) и проксимальным – 102 ед. (3,7%) концами. Аналогичная ситуация наблюдается и среди пластинок, где также преобладают медиальные фрагменты (70% внутри категории). Размеры пластин без ретуши варьируются в пределах 12–155 мм длины, 4–22 мм ширины и 1–7 мм толщины (рис. 9:9–10). Среди пластин по морфологии заготовки доминируют длинные, узкие и тонкие сколы (78,5%).
Изделий со вторичной обработкой – 787 ед., что составляет 12,2% всего кремневого комплекса стоянки (рис. 4:II). Если учитывать морфологически четкие формы, без пластин и отщепов с ретушью, тогда количество орудий достигает 6,8%.
Среди орудий преобладают резцы – 138 ед. (17,7% среди морфологически выраженных форм). Они изготовлены на сломе пластин (135 ед.) и двух отщепов (рис. 10; 11:1–13). Рабочий край резцов оформлен одним резцовым сколом, лезвие 14 резцов дублировано, еще у шести орудий резцовые сколы расположены на противоположных и у трех – на противолежащих концах заготовки. Резцовый скол срезает кромку заготовки в основном на половину или ⅓ ее длины. В отдельных случаях край заготовки полностью удален продольным резцовым снятием.
В одном экземпляре представлен ретушный резец на отщепе (рис. 11:13). Для двух резцов вторично использованы черешковые части сломанных наконечников: рабочий конец одного из них создан двумя микрорезцовыми сколами, сходящимися у края заготовки (рис. 6:6). Режущий край второго резца образован продольным, по отношению к оси заготовки, краевым снятием (рис. 6:5).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III48Размеры резцов: 12×10×2 мм – 81×43×7 мм, в среднем 34,3×18,7×3,7 мм. Ти
пометрический анализ показывает, что 37,5% соответствовали длинным и узким, 35% – коротким, широким и 17,5% – коротким, узким заготовкам. По индексу массивности все сколы являются тонкими.
Скребки (46 ед. или 5,9%) представлены в основном концевыми формами (рис. 12:1–11), в одном экземпляре имеется концевой скребокраклет. В качестве заготовок для скребков послужили пластины (32 ед.) и отщепы (14 ед.). Рабочий край этих орудий дугообразный и оформлен среднефасеточной скребковой ретушью. Размеры скребков соответствуют 20–50 мм длины, 30–33 мм ширины и 2–7 мм толщины. В основном использованы короткие и узкие формы (57,1%), при значительном числе коротких и очень широких (35,7%), но тонких заготовок.
Перфораторы представлены проколками и сверлами – 10 ед. (1,3% (рис. 13:4–9, 12–13)). Они изготовлены на длинных, узких и тонких пластинах, имеют рабочие части, выступающие на ⅓ длины заготовки. У одного из орудий жало и края выделены крутой противолежащей ретушью (рис. 13:8), жальца остальных проколок образованы со стороны спинки полукрутой ретушью. Сверла также изготовлены на пластинах, но по сравнению с проколками они имеют более массивный вид: рабочие части двух орудий полностью по периметру обработаны полукрутой ретушью со стороны брюшка (рис. 13:12–13); еще одно сверло имеет четко выделенное крутой ретушью со стороны спинки длинное жало, выступающее на ½ длины пластинчатой заготовки (рис. 13:9). С вентральной стороны рабочая часть этого изделия подправлена фасетками полукрутой ретуши, сходящейся на конце.
Острия (8 ед. или 1%) представлены атипичными формами (рис. 13:1–3). Для их изготовления использовано семь пластин и отщеп. Рабочая часть острий расположена на конвергентных дистальных концах заготовок, подправленных мелкофасеточной полукрутой ретушью.
Изделий с выемкой в коллекции насчитывается 26 ед. (3,3% (рис. 12:12–21)). Основная часть орудий изготовлена на пластинах (16 ед.) и отщепах. Выемки расположены на одном из краев заготовок со стороны спинки (в 12 случаях) или со стороны брюшка, реже на дистальных концах заготовки (2 ед.). Два скобеля имеют рабочий край, образованный двумя выемками.
Предметы вооружения представлены наконечниками стрел (53 ед. или 6,7%), которые являются культурноопределяющей категорией кремневого инвентаря (рис. 6). Характерной чертой для них является наличие четко выделенного черешка, оформленного разными способами и приемами. Сохранилось только 2 экз. целых наконечников (рис. 6:7–8), еще два изделия удалось ремонтажировать (рис. 6:9, 12), остальные представлены либо черешковыми фрагментами (41 ед.), либо обломками пера (8 ед.). Учитывая сломанность большей части предметов вооружения на стоянке, дать развернутую характеристику этой категории находок невозможно. Два сломанных наконечника использовалось вторично в качестве заготовок для резцов (рис. 6:5, 6).
Все наконечники стрел изготовлены из пластин и по способу оформления черешка или пера представлены следующими группами.
Первая группа наконечников характеризуется слабовыраженным острым у основания черешком, обработанным полукрутой ретушью со стороны спинки и подправленным такой же ретушью со стороны брюшка (рис. 6:23). Как вариант: черешок наконечника выделен полукрутой ретушью только с вентральной стороны (рис. 6:20). Вероятно, к этому варианту относится наконечник с частично обломанной черешковой частью (рис. 6:28).
Вторая группа наконечников имеет черешок, четко выделенный полукрутой или плоской встречной ретушью, как со стороны спинки, так и со стороны брюшка
Александр Колосов 49(рис. 6:3, 4–6, 12, 15–19, 27). Среди всех имеющихся наконечников, обнаруженных на стоянке, эта группа изделий наиболее многочисленна. Черешки наконечников имеют вытянутые по продольной оси пропорции и в отдельных случаях ограничены с двух сторон зубцами. К этой группе примыкают аналогичные изделия, которые отличаются коротким сломанным у основания насадом (рис. 6:15–19). Перо некоторых наконечников обработано со стороны брюшка плоской встречной ретушью на одну треть или половину длины изделия (рис. 6:12, 19). По морфологии предметы этой группы напоминают наконечники типа Пулли (Яанитс, 1990, с. 20; Ostrauskas, 2002, р. 93–106).
Третью группу образуют наконечники, черешок которых выделен фасетками двухсторонней полукрутой или плоской ретуши. Выделяется два варианта наконечников данной группы: 1) наконечники, имеющие короткий черешок, слабо изменяющий контуры проксимальной части заготовки (рис. 6:3, 9); 2) наконечники с четко выделенным черешком (рис. 6:7–8). По форме и способам оформления насада эти наконечники близко стоят к предметам вооружения второй группы. Отличие заключается только в обработке пера: полукрутая вентральная ретушь, сходящаяся на конце изделия (рис. 6:7–9).
К четвертой группе относится единственный наконечник, имеющий черешковую часть в виде прямого основания, обработанного полукрутой ретушью со стороны брюшка (рис. 6:25). По оформлению пера изделие можно отнести к наконечникам третьей группы. Оно подправлено полукрутой ретушью со стороны брюшка, сходящейся на дистальном конце заготовки.
Пятый тип характеризуется поперечнолезвийным наконечником, черешковая часть и края которого полностью обработаны вентральной полукрутой ретушью, не меняя первоначальную форму пластинызаготовки (рис. 6:21). Перо имеет вид слабой дуги и образовано на проксимальном конце пластины. Оно обработано плоской ретушью со стороны брюшка и частично подправлено полукрутым ретушированием со стороны спинки. Очевидно, к этой группе относится фрагмент насада наконечника стрелы, который по периметру слабо выражен мелкой полукрутой ретушью со стороны брюшка (рис. 6:22).
К шестой группе относится наконечник, имеющий острый черешок, выделенный мелкофасеточной полукрутой ретушью со стороны брюшка (рис. 6:14). Перо изделия полностью обработано полукрутым противолежащим ретушированием.
Седьмая группа представлена наконечниками, имеющими длинный слабовыраженный черешок, выделенный крутой дорсальной ретушью и частично или полностью подправленный плоской ретушью со стороны брюшка (рис. 6:24, 26).
И, наконец, к восьмой группе предметов относится наконечник, имеющий острое перо, образованное мелкой полукрутой ретушью со стороны брюшка (рис. 6:13). Видимо, таким же способом было оформлен черешок, который сохранился частично.
Несомненный интерес вызывает группа микролитов – 49 ед. (6,2%). Среди них довольно представительная серия микропластинок с притупленным краем – 43 ед. (рис. 7:1–9, 11–12, 18–42). В качестве заготовок для них были использованы длинные, узкие и тонкие отжимные пластины. Минимальные размеры сохранившихся вкладышей 10×4×1,5 мм, максимальные – 42×8×3 мм, средние – 22×6×1,9 мм. Края пластинок полностью обработаны притупливающей ретушью, нанесенной под углом 70–90° в основном со стороны брюшка (32 ед.) или со стороны спинки (5 ед.).
Оформлен преимущественно только один из краев пластинок. В пяти случаях ретушировано два края: на двух пластинках – со стороны брюшка (рис. 7:30), у трех изделий ретушь является противолежащей (рис. 7:18, 42). Еще три микролита
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III50имеют край в виде выемки (рис. 7:35), образованной полукрутой мелкофасеточной ретушью со стороны спинки. У двух микропластинок дорсальной ретушью срезан угол заготовки (рис. 7:6).
Среди микролитов выделяются пластинки со скошенным ретушью дистальным концом и притупленным краем (4 ед. (рис. 7:10, 14, 16–17)), с притупленным краем и основанием (1 ед. (рис. 7:13)). Еще одна пластинка с затупленным краем имеет конец, усеченный микрорезцовым сколом (рис. 7:15).
В коллекции имеются рубящие орудия – 3 ед. (0,4%). Целыми сохранились 2 экз., один представлен фрагментом лезвийной части. В качестве заготовки для одного топора использован отщеп крупных размеров, который по периметру обработан односторонними поперечными сколами (рис. 11:14). Второе орудие частично обработано путем двухсторонней оббивки и не окончено. Заготовкой для него послужила конкреция сожского кремня.
Среди других изделий со вторичной обработкой следует указать три пластины с притупленным концом (0,4%) и черешковое орудие (возможно, резчик).
К числу вкладышей (101 ед. или 12,8%) нами отнесены медиальные сечения пластин, имеющие полукрутую ретушь по краям, в основном со стороны спинки (42 ед. (рис. 8; 9:1–5)). В некоторых случаях концы изделий подправлялись ретушью, поперечными и продольными по отношению к оси заготовки микрорезцовыми сколами (рис. 8:10, 19; 9:1–5).
Основную часть находок составляют пластины и отщепы со следами использования, функциональное назначение которых можно выяснить, как отмечалось ранее, только с помощью специальных исследований. Часть этих изделий могла использоваться в качестве вкладышей либо ножей (рис. 4–5). Общее число данной категории находок достигает 347 ед. или 44,1% среди изделий со вторичной обработкой. При этом число отщепов ничтожно и составляет всего 32 ед.
Подводя итоги раскопкам стоянки Дедня и описанию ее кремневого инвентаря, необходимо отметить несколько моментов:
1) индустрия стоянки базируется на импортном сырье, которое по качественным характеристикам отличается от местного сожского кремня прежде всего прозрачностью и пластичностью. Главная технологическая стратегия, основанная на использовании отжима, была направлена на получение длинных, узких и тонких пластин правильной огранки как основного типа заготовки для производства орудий (вкладышей, наконечников стрел и резцов на сломе заготовки);
2) индекс пластинчатости коллекции равен 1,31. Этот показатель достаточно высок и не характерен для кремневого инвентаря стоянок Белорусского Посожья, основанного на местном сырье. Индекс пластинчатости всех изделий со вторичной обработкой равен 13,72, а для морфологически выраженных орудий он и вовсе составляет 17,4;
3) резцовоскребковый показатель3 на памятнике положительный (3), т.е. резцов в три раза больше, чем скребков. Резцы представлены в основном орудиями на сломе заготовки. Коллекцию венчают находки черешковых наконечников стрел, микропластинок с притупленным краем, пластинок со скошенным концом, микролитов с притупленным краем и основанием – культурноопределяющие элементы кремневого инвентаря памятников бутовской культуры. В Посожье пластинки с притупленным краем встречены только на стоянках Криничная (Липницкая, 1979,
1 Отношение общего числа пластин и орудий на пластинах к сумме отщепов и орудий на отщепах.
2 Отношение количества орудий из пластин к орудиям из отщепов.3 Отношение числа резцов к скребкам.
Александр Колосов 51с. 32–36), Аврамов Бугор (Калечиц, 1987, с. 20–26) и Романовичи. Если на первой они также являются составной частью кремневого комплекса стоянки, культурно связанного с бутовскими древностями, то находки микропластинок с притупленным краем на поселениях Аврамов Бугор и Романовичи относятся к кудлаевской культуре;
4) первоначально хронология памятника рассматривалась в контексте тех знаний, которые были накоплены по бутовской культуре к началу 1990х гг., а, значит, и полученные материалы стоянки Дедня датировались В.Ф. Копытиным поздним мезолитом (Копытин, 1995, с. 9). Однако в последние годы появились новые данные, позволившие значительно расширить представления о хронологии этого культурного явления (Сорокин, 1990; Кольцов, Жилин, 1999). Сходство кремневого инвентаря Дедни наблюдается в материалах бутовской культуры – Бутово I, Заборовье II, ЗаднеПилево I, Петрушино (Кольцов, Жилин, 1999, с. 7–16, 26–29, 36, 93–95, 109–112, 120–121; Сорокин, 1990, с. 29–56; Сорокин, 2004, с. 78–82). Хронологически эти памятники относятся ко второй половине пребореального времени.
Несомненные аналогии материалам стоянки Дедня обнаруживаются среди пребореальных памятников кундской культуры – тип Пулли (Яанитс, 1990, с. 13–23; Ostrauskas, 2002, р. 93–106). На территории Беларуси к кундским стоянкам, которые проявляют заметное сходство с орудийным комплексом Дедни, относится поселение Замошье I. Его материалы В.П. Ксензов отнес ко второй хронологической группе памятников культуры кунда (вторая половина пребореала – бореальный период).
Некоторая близость со стоянкой Дедня, особенно в формах наконечников стрел, обнаруживается среди стоянок Севера Восточной Европы – Веретье I и Попово I (Ошибкина, 2006, с. 13–26, 59–60, 170, 259, 320). Для стоянки Веретье I получена серия радиоуглеродных дат, определивших существование памятника в первой половине бореала (Ошибкина, 2006, с. 26–27). Стоянка Попово I датируется С.В. Ошибкиной второй половиной или концом пребореального периода (Ошибкина, 2006, с. 60).
Таким образом, все вышеизложенное позволяет нам отказаться от ранее предложенной датировки материалов стоянки Дедня поздним мезолитом. Учитывая этот момент, данное поселение следует отнести к раннему мезолиту, возможно, ко второй половине пребореального времени (9,6–9,2 тыс. лет назад). Не противоречит этому и отсутствие такой категории геометрических микролитов, как трапеции, которые в бутовской среде появляются только в начале VII тыс. до н.э. (Кравцов, Сорокин, 1991, с. 38–39, 44–52, 57–58; Сорокин, 1990, с. 118–126; Сорокин, 2004, с. 81).
По нашему мнению, статус Дедни может быть определен в пользу сезонного поселения, связанного с охотничьим промыслом и переработкой добычи на месте, о чем свидетельствует достаточно выразительный орудийный комплекс. Топография стоянки, расположенной в долине реки, наличие углубленного в материк жилища и концентрация находок в пределах его границ, разнообразие форм наконечников стрел позволяют в качестве рабочей гипотезы выдвинуть идею о существовании поселения в холодное время года (Кольцов, 1985; Сорокин, 1990, с. 166–170).
Появление стоянок бутовской культуры в Среднем Посожье может объясняться сезонными миграциями, которые совершало бутовское население в пребореальное время (Сорокин, 1990, с. 169–171). Оно шло сюда со своим сырьем, качественно отличающимся от местного сожского кремня. В посожском регионе, кроме Дедни, известен еще ряд местонахождений бутовской культуры, на которых обнаружены характерные для этой культуры изделия из приносного сырья (Колосов, 2007). Самостоятельного значения они не имеют, поскольку представлены единичными находками из поверхностных сборов.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III52Так, к числу бутовских следует отнести тонкие, длинные и узкие отжимные
пластинки, карандашевидный нуклеус от аналогичных пластинок и концевой скребок на пластине из местонахождения у д. Коробчино в бассейне р. Вихра (Мстиславльский район Могилевской области). Находки бутовской культуры содержатся в материалах 1988 г. урочища Попово у пос. Пролетарский: 12 тонких отжимных пластинок, которые могли использоваться в качестве вкладышей, и обломок черешкового наконечника стрелы. Но интерес вызывают не только находки, а имеющийся на них шифр: «Попово88, погребение». Все артефакты покрыты охристым напылением, здесь же присутствует и кусочек охры. На данный момент нам неизвестно, действительно ли мы имеем дело с погребением эпохи мезолита или находки попали случайно из культурного слоя бутовского поселения в одно из погребений могильника бронзового века, достаточно широко известного в урочище (Калечиц, 1987, с. 84).
Памятником бутовской культуры является и стоянка Криничная на правобережье Сожа (Липницкая, 1979; Колосов, 2007, с. 155). Расположенность стоянки непосредственно у выходов сожского кремня демонстрирует результат адаптации бутовского населения к использованию местных сырьевых источников, что определило специфику ее кремневого инвентаря. Кремневый комплекс поселения характеризуется низкими индексами пластинчатости коллекции (0,3) и изделий со вторичной обработкой (0,9). Среди орудий преобладающей категорией являются скребки и резцовоскребковый показатель на памятнике отрицательный (0,5). Выделяются также скробачи, скребловидные изделия, ретушные, двугранные и комбинированные резцы, пластинки с притупленным краем, черешковые наконечники стрел, рубящие орудия. Находка средневысокой трапеции, типологическое своеобразие коллекции и развитость кремневого инвентаря в целом, позволяют датировать стоянку Криничная более поздним, по сравнению с Дедней, бореальным временем.
Литература
1. калечиц, Е.г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной Белоруссии. Мн., 1987.
2. колосов, А.В. Памятники бутовской культуры на территории Белорусского Посожья // Романовские чтения3: сборник трудов Международной научной конференции. Могилев, 2007. С. 154–156.
3. кольцов, Л.В. О сезонном функционировании мезолитических стоянок (по материалам ВолгоОкского междуречья) // СА. № 3. 1985. С. 25–36.
4. кольцов, Л.В., Жилин, М.г. Мезолит ВолгоОкского междуречья. Памятники бутовской культуры. М., 1999.
5. копытин, В.Ф. Дедня – новый памятник мезолита в бассейне реки Проня // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя. Ч. 1. Магілёў, 1995. С. 3–13.
6. кравцов, А.Е., Сорокин, А.н. Актуальные вопросы ВолгоОкского мезолита. М., 1991.
7. ксензов, В.п. Культура кунда // ГАЗ. № 16. 2001. С. 20–35.8. Липницкая, о.Л. Мезолитическая стоянка Криничная // КСИА. Вып. 157.
1979. С. 32–36.
Александр Колосов 539. ошибкина, С.В. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретье. М.,
2006.10. Сорокин, А.н. Бутовская мезолитическая культура. М., 1990.11. Сорокин, А.н. Мезолит ВолгоОкского бассейна // Проблемы каменного
века Русской равнины. М., 2004. С. 59–89.12. Яанитс, к.Л. Кремневый инвентарь стоянок кундаской культуры: авто
реф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. М., 1990.13. Ostrauskas, T. Kundos kultūros tyrinėjimų problematika // LA. T. 23. 2002. P.
93–106.
Alexandr KolosovMesolithic Site Dednya
The article sums up results of investigations on Mesolithic site Dednya in Sozh Region. Imported flint raw materials of grey or dark grey color are characteristic to collection of the site. The technology of flint primary processing of the Dednya site was based on pressure flaking and regular blade as main halffinished product. Flint artifact collection of the site consists of prevailing burins on broken ends of blades, scrapers, microlithic inserts of blades with truncated ends and edge, perforators, borers, axes, numerous blades and flakes with retouch, some of which could be used as knives. Arrowheads are represented by tanged points with flat retouched tang. Some of points are similar to ones of Pulli type.
Special attention is paid to dwelling’s remains depend to 0,5 meter to nowadays surface. It is of irregular oval of 78 square meters. Several concentrations of flint artifacts connected with flint processing and hunting bag working over were investigated within this spot.
Comparative analyses of flint inventory let us to attribute the Dednya site as site of Mesolithic Butovo Culture and date to the second half of Preboreal (9600–9200 BP).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III54
Рис. 1. Топографический план окрестностей д. Дедня: ∆ – местонахождение стоянки
Александр Колосов 55
Рис. 2. Дедня: I – схема раскопов, II – общий план распространения находок в раскопах (1 – куски кремня, 2 – отщепы, 3 – пластины, 4 – нуклеусы, 5 – резцы, 6 – скребки, 7 – изде-лия с выемкой, 8 – острия, 9 – проколки и сверла, 10 – пластины-вкладыши, 11 – микроли-ты, 12 – наконечники стрел, 13 – изделия с ретушью, 14 – рубящие орудия), III – профиль западной стенки раскопа 2006 г. (а – дерн и подзолистый горизонт, б – песок с ортзанда-
ми, в – профиль линз песка темно-серого цвета, г – суглинок, д – кремневые находки)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III56
Рис. 3. Хозяйственно-бытовой комплекс стоянки Дедня: а – песок серого цвета, б – линзы песка темно-серого цвета, в – песок светло-серого цвета
Александр Колосов 57
Рис. 4. Дедня: I – диаграмма типологического состава коллекции кремневого инвентаря, II – диаграмма орудийного комплекса (1 – резцы, 2 – скребки, 3 – острия, 4 – проколки и свер-
ла, 5 – изделия с выемкой, 6 – пластины-вкладыши, 7 – микролиты, 8 – пластинки с при-тупленным концом, 9 – наконечники стрел, 10 – рубящие орудия, 11 – пластины с ретушью,
12 – отщепы с ретушью, 13 – неопределимые орудия и их обломки)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III60
Рис. 7. Дедня: 1–49 – микролиты; 1–9, 11–12, 18–42 – пластинки с притупленным краем, 10, 14, 16–17 – пластинки с притупленным краем и концом, 13 – пластинка с притупленным
краем и основанием, 15 – пластинка с притупленным краем и микрорезцовым поперечным усечением конца
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III62
Рис. 9. Дедня: 1–5 – вкладыши, 6–8 – пластины с ретушью, 9–10 – пластины
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III64
Рис. 11. Дедня: 1–12 – резцы на сломе заготовки, 13 – ретушный резец, 14 – рубящее орудие
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III66
Рис. 13. Дедня: 1–3 – острия, 4–9, 12–13 – проколки и сверла, 10–11 – пластины с притуплен-ным концом
Выявы чалавека, звяроў і птушак – найбольш адметныя ў культуры першабытнага насельніцтва Беларусі. Яны прадстаўленыя малюнкамі, гравіроўкамі і дробнай пластыкай і трапляюцца пераважна сярод археалагічных матэрыялаў з неалітычных паселішчаў (Гісторыя…, 1987, с. 21–23, 27, 28). Такія мастацкія вырабы даволі часта сустракаюцца сярод старажытнасцяў неаліту, а часткова і бронзавага веку, на прасторах ад Прыбалтыкі да Зауралля (Фосс, 1952, с. 36; Гурина, 1961, с. 147; Формозов, 1970, с. 194–200; Ошибкина, 1980, с. 46–51). І паміж імі прыкметнае месца займаюць выявы птушак на кераміцы (Гурина, 1972, с. 36–45).
На тэрыторыі Беларусі малюнкі птушак на неалітычным посудзе знойдзеныя пры раскопках стаянак Крывінскага тарфяніку на мяжы Сенненскага і Бешанковіцкага раёнаў Віцебскай вобл. (мал. 1): у іншых рэгіёнах краіны яны сустракаюцца адзінкава (Чернявский, 1969б, с. 225; Исаенко, 1971, с. 211–213; Кривальцевич, 1988, с. 18–22).
Найбольш характэрная выява трапілася летам 2006 г. на паселішчы Асавец 2 на паўночным ускрайку Крывінскага тарфяніку. Гэта быў вялікі абломак гаршка з малюнкамі дзвюх качак (мал. 3:1), які залягаў на глыбіні 1 м у падставе ніжняга культурнага пласта помніка, дзе захаваліся выключна матэрыялы усвяцкай культуры. Абломак паходзіў ад тыповай «усвяцкай» пасудзіны з гладкімі «выбіванымі» сценкамі, у якія былі дамешаныя тоўчаныя ракавіны. Мяркуючы па захаваным фрагменце, гаршчок быў аздоблены паясамі з плывучых качак, акуратна і рэалістычна выкананых шчыльнымі адбіткамі шыраказубага штампа. Тры паскі косых управа адбіткаў утваралі цела кожнай з качак, якое ўнізе падкрэслівалася паскам адбіткаў косых улева. Хвост паказаны ў выглядзе ромба з тых жа косых адбіткаў, падобныя элементы ўтваралі і ногі. Між выяў птушак нанесеныя гарызантальныя адрэзкі кароткіх лукатак, якія паказваюць хвалістую водную паверхню.
Нагар з унутранай паверхні чарапка з качкай паказаў узрост 4370±50 ВР (Ua34618), з калібрацыяй – памежжа 4–3 тыс. да н.э. (гл. артыкул Г. Зайцавай і інш. у сапраўдным зборніку).
Малюнак качкі з Асаўца 2 уключаецца ў кантэкст падобных твораў першабытнага мастацтва лясной зоны Усходняй Еўропы (мал. 2; 5:1–7), аднак вылучаецца сярод іх дасканаласцю, дэтальнасцю і тэхнікай выканання.
Першы ж фрагмент керамікі з выявай качкі на Крывінскім тарфяніку (паселішча Крывіна 1) знойдзены П. Прыбыткіным яшчэ ў 1960 г. (Чернявский, 1969а, с. 83, рис. 16). Гэта быў абломак пасудзіны таксама ўсвяцкай культуры, на якім характэрны, але лаканічны сілуэт птушкі перададзены здвоенай лініяй невялікіх ямчатых паглыбленняў (мал. 3:2). Малюнак па стылявых асаблівасцях і выкананні істотна адрозніваецца ад асавецкай знаходкі 2006 г.
«Класічныя» выявы качак на посудзе ў лясной зоне Усходняй Еўропы наносіліся пераважна шыраказубым штампам або круглымі ямкамі. Але такія аздабленчыя элементы цалкам адсутнічаюць на посудзе ўсвяцкай культуры Крывінскага тарфяніку. На ім нават няма танказубых грабеньчатых адбіткаў, характэрных для папярэдніх і наступных эпох, а таксама для неалітычных керамік суседніх тэрыторый Беларусі. Аднак малюнак качкі з Асаўца 2 зроблены менавіта адбіткамі
Міхал Чарняўскі
выявы птушак на кераміцы ў першабытнай культуры беларусі
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III68«чужога» для мясцовага насельніцтва шыраказубага арнаменціра. Гэтым, магчыма, падкрэслівалася кананічнасць візуальнага ўвасаблення міфалагічнага вобразу, запазычанага ад прышлых носьбітаў культуры грабеньчатаямкавай керамікі. І зноў жа можна дапусціць, што асавецкая выява ўзнікла ў пачатковай стадыі гэтых уплываў з Усходняй Прыбалтыкі, калі новыя каноны прымаліся цалкам, без адаптацыі мясцовымі традыцыямі. Такую адаптацыю можам назіраць на Ніжняй Прыпяці і ў вярхоўях Нёмана, дзе малюнкі выконваліся характэрнымі для мясцовых культур накольчатымі элементамі арнаменту.
Найбольш паўднёвая знаходка – выява качкі і чалавека на неалітычнай пасудзіне са стаянкі Літвін 1 (Юравічы 3) каля в. Юравічы Калінкавіцкага рна на левабярэжжы Ніжняй Прыпяці (Исаенко, 1971, с. 211–213; 1976, с. 126).
Пад краем гаршка, адразу ж ніжэй пояса глыбокіх круглых ямак быў размешчаны малюнак, утвораны лініямі «капытковых» наколаў кантам нахіленай акруглай палачкі (мал. 4:1). Правую частку кампазіцыі складае стылізаваная фігура мужчыны, выкананая адрэзкамі адной лініі наколаў. Але галава паказана аб'ёмна – падпрамакутнікам з вертыкальнай кароткай лініяй у цэнтры. Шырока разведзеныя рукі і ногі сагнутыя ў лакцях і каленях. Тулава гарызантальна перасякае яшчэ адзін адрэзак наколаў, які, магчыма, паказвае пояс. Фігура, мяркуючы па дэталях малюнка, пагорнутая ўлева, у цэнтр кампазіцыі. Каля яе правай рукі маецца кароткі і крыху выгнуты адрэзак наколаў, які паказвае нейкі прадмет – магчыма, жазло. Левую частку малюнка займае такая ж схематычная выява качкі. Для ўраўнаважання кампазіцыі фігуру птушкі, значна меншую за чалавечую, старажытны выканаўца прыпадняў і ўзмацніў большай колькасцю адрэзкаў ліній з наколаў. Тулава птушкі ўтвараюць пяць ліній, шыю – чатыры. Па тарцах выява аблямавана вертыкальнымі адрэзкамі. Частка гаршка перад галавой не захавалася, таму не ведаем, ці была пазначаная дзюба.
На пасудзіне зпад Юравіч паказана не сцэна паўсядзённага палявання на качак. Тут, мяркуючы па аднолькавай выяўленчай насычанасці фігур, па тым, што яны павернуты да сябе ва ўнутранай лагічнай сувязі, прадстаўлены хутчэй за ўсё міфалагічны сюжэт. Пры гэтым абодва персанажы сюжэту выглядаюць раўназначнымі, а можа качка была і важнейшай, як размешчаная ў пачатку кампазіцыі. Падобныя супольныя выявы птушкі і чалавека спарадычна сустракаюцца на паўночным усходзе Еўропы і ў Прыураллі (Жульников, 2006, с. 40).
Паселішча Юравічы 3 (Літвін 1) яго даследчык У. Ісаенка адносіць да познанеалітычнага этапу развіцця ўсходнепалескага варыянту днепраданецкай культуры, які датуе ад сярэдзіны 3га да канца 1й чвэрці 2га тыс. да н.э. (Исаенко, 1976, с. 85–87, 211). З улікам калібрацыі пачатак этапа можна адносіць да мяжы 4–3 тыс. да н.э.
Самая паўднёвазаходняя выява качкі знойдзена на фрагментах гаршка з наднёманскай неалітычнай стаянкі Русаковічы 9 каля в. Русаковічы Стаўбцоўскага рна (мал. 4:2). Гаршчок меў пад краем венца пояс глыбокіх ямак. Яго арнаментацыя складалася са шчыльна пастаўленых паясоў авальных паглыбленняў. На ўчастку выпуклага брушка пасудзіны нанесены ўзор са строеных ліній і выступу, зробленых дробнымі наколамі вастрыя з нерэгулярным канцом. Малюнак нагадвае вельмі стылізаваную выяву качкі, звернутую ўлева, і быў нанесены пры пачатку арнаментавання, бо авальныя паглыбленні рабіліся паверх яго.
Пасудзіна з качкай з Русаковіч 9 адносіцца да керамікі лысагорскага тыпу, якая была характэрная для першага этапа мясцовай нёманскай культуры. Калі браць навакаменную эпоху Панямоння ў цэлым, то гэта сярэдненеалітычны час.
На поўначы Беларусі выявы птушак на кераміцы распаўсюдзіліся са з'яўленнем тут у пачатку сярэдняга неаліту носьбітаў культуры грабеньчатаямкавай керамікі,
Міхал Чарняўскі 69якія паўплывалі на трансфармацыю мясцовай ранненеалітычнай нарвенскай культуры ў культуру ўсвяцкую. Больш пытанняў да падобных выяў на Ніжняй Прыпяці і вярхоўях Нёмана. На кераміцы стаянак каля Русаковіч і раёна воз. Вячэра Любанскага рна, якое за 100 км паўночназаходней Юравіч, сярод узораў сустракаюцца адбіткі перавітага шнура – вусеневыя, не характэрныя для мясцовай арнаментальнай традыцыі (Чарняўскі, 1979, рыс. 38:3; Кривальцевич, Симакова, 2004, рис. 7:3, 7). У той жа час яны вядомыя ў культурах грабеньчатаямкавай керамікі і ўсвяцкай. Магчыма, «вусені», як і выявы качак, тут з'явіліся пад уздзеяннем нейкіх груп находнікаў з Падзвіння і Павілля, якія маглі пратачыцца на поўдзень па малазаселеных водападзелах Бярэзіны Дняпроўскай і Нёмана. І нічога асаблівага ў гэтым не было б – кераміка грабеньчатаямкавага тыпу знойдзена на адным з паселішчаў ажно ў Цэнтральнай Польшчы, каля 300 км на паўднёвы захад ад мяжы яе арэалу (Józwiak, 2003, с. 188, 189).
Для ранненеалітычных культур Беларусі выявы качак на кераміцы не характэрныя. На іх адсутнасць у нарвенскім керамічным матэрыяле Прыбалтыкі ў свой час звярнула ўвагу Н. Гурына (Гурина, 1972, с. 38). Праўда, пры раскопках некаторых нарвенскіх паселішчаў Літвы і Латвіі (Лозе, 1988, рис. 43; Rimantiene, 1996, pav. 50:1; Butrimas, 2000, pav. 3:14) сустрэтыя падабенствы малюнкаў птушак. Аднак яны вельмі прыблізныя і схематычныя (мал. 5:4–6) і маглі адносіцца да пачатку ўплываў культуры грабеньчатаямкавай керамікі. Няма пакуль што птушыных выяў і ў шматлікіх керамічных калекцыях паўночнабеларускай культуры з паселішчаў Крывінскага тарфяніку.
Мамант, бізон і паўночны алень былі асноўнай крыніцай харчавання, а значыць і жыцця, для палеалітычнага чалавека Еўропы. Па гэтай прычыне іх выявы займалі важнае месца ў тагачасным выяўленчым мастацтве і, адпаведна, у сістэме рэлігійных вераванняў. У канцы ледавіковай эпохі (12000–10000 гадоў назад) знікае буйная паляўнічая фаўна і пачынае фарміравацца сучасны відавы склад жывёл, характэрны для лясной зоны. У сувязі з істотным пацяпленнем клімату ў мностве пасляледавіковых азёр, у рэках і іх затоках інтэнсіўна развівалася водная фаўна і флора. Гэта стала прычынай значнага павелічэння колькасці вадаплаўных птушак, асабліва качак, якія сталі для чалавека важнай крыніцай папаўнення мясных запасаў. Але не толькі гэта паспрыяла таму, што вадаплаўная птушка заняла важнае месца ў светапоглядзе першабытнага насельніцтва.
Чалавек і большасць жывёл нараджаюць дзіцянят падобнымі на іх саміх. Гэта было звыклым і зразумелым. У птушак назіраецца абсалютная розніца паміж вытокам і вынікам – жыццё крылатай аперанай істоце дае гладкая сфера, напоўненая вадкасцю. Спроба асэнсаваць гэту глыбока містычную, у разуменні тагачаснага чалавека, метамарфозу і прывяла да ўзнікнення касмаганічнага міфа аб стварэнні сусвету з яйка. Згодна з карэлафінскім старажытным эпасам, з верхніх частак шкарлупіны яек чароўнай качкі ўзнікла неба, з ніжніх – зямля, жаўток стаў сонцам, а бялок – месяцам (Калевала, 1956, руна 1). А таму як яйка «нарадзіла» качка, дык яна і ўяўлялася першастваральніцай свету. Можна дадаць, што яе ранневясновы прылёт знаменаваў штогадовае абуджэнне (уваскрашэнне?) прыроды пасля халоднай і галоднай зімы (Жульников, 2006, с. 36–45).
Большасць выяваў вадаплаўных птушак, знойдзеных у археалагічным матэрыяле Беларусі, павернутая галовамі ўправа. Такая арыентацыя характэрная і для большасці падобных малюнкаў лясной зоны Усходняй Еўропы, напрыклад, для наскальных малюнкаў Карэліі (Жульников, 2006, рис. 31, 32). Для першабытнага чалавека галоўнай часткай навакольнай прасторы з'яўляўся поўдзень, дзе былі святло, цяпло і сонца. А так як сонца нязменна рухалася злева направа, то і арыентацыя выяў тагачасных міфічных вобразаў была пераважна правабаковая.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III70Побач з птушынымі выявамі на посудзе змяшчаліся паясы з лукатак, хвалістых
або гарызантальных ліній. Яны павінныя былі адлюстроўваць водную прастору (Гурина, 1972, с. 42). Верагодна, што і ў выпадках адсутнасці птушыных фігурак на пасудзінах такія матывы маглі сімвалізаваць водную стыхію як складовую частку касмаганічнага міфа (мал. 3:5, 6). У беларускім традыцыйным ткацтве яшчэ і сёння матыў ракі перадаецца гарызантальнымі палосамі або лукаткамі (Кацар, 1996, с. 69).
Галоўны персанаж касмаганічнага міфа – качка лёгка «прачытваецца» сярод арнаментаў, нават калі яна і моцна стылізаваная. З вялікай ступенню верагоднасці вызначаюцца элементы і матывы, якія прадстаўлялі водную стыхію. Але ж сярод аздабленчай сімволікі павінен быў быць і знак яйка – першавытока сусвету. І тут патрэбна звярнуць увагу, што керамічныя арнаменты культур з выявамі птушак утрымліваюць вельмі характэрныя ўзоры – ромбы (мал. 2; 3:3, 4, 7; 5:8; Loze, 2006, att. 24:1, 2, 4). Часам яны змяшчаліся побач з качынымі сілуэтамі (мал. 5:3), а на знаходцы з Асаўца ромб утварае хвост птушкі. Сакральныя выявы ромба як сімвала ўрадлівасці, плоднасці, як знака зямлі, вядомыя ў чалавечай культуры яшчэ з палеаліту. Такімі яны заставаліся і ў пазнейшыя эпохі (Беларуская…, с. 431). Падобным сімвалам «першакрыніцы жыцця і пладароддзя» з'яўляўся і рэальны прадмет – яйка (Беларуская…, с. 578). Таму вельмі магчыма, што ў старажытнай традыцыі народаў Прыбалтыкі і некаторых больш усходніх тэрыторый выявы ромбаў увасаблялі качынае яйка.
Выявы качак на посудзе былі найбольш распаўсюджаныя там, дзе неалітычнае насельніцтва выкарыстоўвала гаршкі акругладоннай формы, якія дакладна нагадвалі яйка са зрэзаным верхам (мал. 2; 5:7, 8) і, напэўна, увасаблялі ягоны сакральны змест. Адзначым, што нават у зусім нядаўняй традыцыйнай культуры беларусаў гаршчок «уяўляўся крыніцай жыцця, надзяляўся творчай патэнцыяй» (Беларуская…, с. 116).
Сакральныя вобразы птушкі і яйка вядомыя многім культурам народаў свету, пачынаючы з глыбокай старажытнасці. Аднак выявы качак на гліняным посудзе былі ў асноўным распаўсюджаныя на тэрыторыях паўночнаўсходняй Еўропы і суседняга Зауралля, якія ў неаліце займалі фінавугорскія супольнасці. Такія малюнкі на кераміцы звязваў з фінавугорскімі старажытнасцямі П. Траццякоў (Третьяков, 1966, с. 59). Падобную іх інтэрпрэтацыю дапускала Н. Гурына (Гурина, 1972, с. 45) і інш. Тут трэба адзначыць, што існаванне на кераміцы малюнкаў качак і ромбаў сустракаецца амаль выключна ў зоне прыбалтыйскафінскіх плямёнаў (мал. 2).
Поўнач Беларусі займае тапанімістычны раён з рэліктавымі слядамі прыбалтыйскафінскай гідраніміі (Жучкевич, 1968, с. 212, 213). Ён цалкам перакрываецца арэалам помнікаў усвяцкай культуры (мал. 1). Важна тое, што пазнейшая (позні неаліт – бронзавы век) тут паўночнабеларуская культура на поўдні і паўднёвым захадзе выходзіць за межы паўночнага тапанімістычнага раёна. Яшчэ больш гэта датычыцца днепрадзвінскай культуры жалезнага веку, носьбіты якой, зрэшты, лічацца старажытнымі балтамі. Такім чынам, прыбалтыйскафінскія гідронімы на поўначы Беларусі больш верагодна адносіць да сярэдненеалітычнага часу і звязваць іх з існаваннем тут не толькі паселішчаў культуры грабеньчатаямкавай керамікі, але і ўсвяцкай. Носьбіты першай лічацца непасрэднымі папярэднікамі пазнейшага прыбалтыйскафінскага этнасу (Янитс, 1959, с. 339). Аднак выглядае на тое, што і жыхарства ўсвяцкіх паселішчаў адчувала моцнае культурнае і моўнае ўздзеянне сваіх прыбалтыйскіх суседзяў. Напэўна, з гэтым і звязана шырокае распаўсюджанне на поўначы Беларусі тапонімаў з фінскай асновай viera – бераг, павышэнне (Вера, Верацея, Верачата і інш.; мал. 1).
Міхал Чарняўскі 71Бронзавы век з вытвараючай гаспадаркай прынёс новую ідэалогію, звяза
ную найперш з распаўсюджаннем земляробчых вераванняў і адпаведнай сімволікі. Яйка заступае зерне, качку – зямля. На гліняным посудзе пераважаюць ужо іншыя выявы – заштрыхаваныя спалучаныя трохкутнікі як сімвал плоднасці, акружнасці і крыжападобныя фігуры як знакі агню і нябесных свяцілаў. І ўсё ж вобраз качкіпрамаці захоўваўся і надалей у чалавечай міфалогіі і вераваннях. На селішчы сярэдзіны – другой чвэрці Іга тысячагоддзя н.э. каля в. Дразды Стаўбцоўскага рна знойдзена глінянае праселка, арнаментаванае пазногцевымі насечкамі, у тым ліку крыжападобнымі. На паверхні праселка маецца і выяўленчы вельмі схематычны птушкападобны знак, павернуты ўправа (мал. 4:3). Выява была зроблена наколамі тонкім арнаменцірам з раздвоеным канцом.
У пазнейшы час калісьці сакральныя выявы птушкі, яйка і воднай стыхіі захаваліся, як традыцыйныя элементы арнаментаў на тканай вопратцы і ручніках.
Літаратура
1. Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мн., 2004.2. Гісторыя беларускага мастацтва. Т. 1. Мн., 1987.3. гурина, н.н. Древняя история северозапада Европейской части СССР /
МИА. 1961. № 87.4. гурина, н.н. Водоплавающая птица в искусстве неолитических лесных
племен // КСИА. 1972. Вып. 131. С. 36–45.5. Жульников, А.М. Петроглифы Карелии: Образ мира и миры образов. Пе
трозаводск, 2006.6. Жучкевич, В.А. Общая топонимика. Мн., 1968.7. Исаенко В.Ф. Неолитический сосуд с рисунком из Белоруссии // СА. 1971,
№2. С. 211—213.8. Исаенко, В.Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976.9. Калевала. Петрозаводск, 1956.10. кацар, М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка. Мн., 1996.11. кривальцевич, н.н. «Уточка» в верованиях неолитических племен Бело
руссии // Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс, 1988. С. 18–22.12. кривальцевич, н., Симакова, г. Микрорегион озера Вечера (Предполе
сье Беларуси): основные этапы освоения и использования (по археологическим и пыльцевым данным) // ГАЗ. № 19. 2004. С. 11–27.
13. Лозе, И.А. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит. Рига, 1988.
14. ошибкина, С.В. Об изображении птиц на керамике эпохи бронзы в Восточном Прионежье // КСИА. 1980. Вып. 161. С. 46–51.
15. Третьяков, п.н. Финноугры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.–Л., 1966.
16. Формозов, А.А. Искусство эпохи мезолита и неолита // Очерки по первобытному искусству / МИА. 1970. № 165. С. 194–205.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III72
Mikhal CharniauskiThe Images of Birds on the Pottery in the Primitive Culture of Belarus
At the Kryvina peatbog settlements excavations (the border of Sianno and Beshankovichy districts of Vitsebsk region) the images of birds on the Neolithic pottery where found (fig. 3:1, 2). Only isolated instances of them are known in the other regions of Belarus (fig. 4). These pictures illustrate cosmogonical ideas of the Neolithic population.
17. Фосс, М.Е. Древнейшая история севера европейской части СССР / МИА. 1952. № 29.
18. Чернявский, М.М. Исследование неолитических поселений Кривинского торфяника // Древности Белоруссии. Мн., 1969а. С. 71–88.
19. Чернявский, М.М. Хозяйство и духовная культура неолитического населения Понеманья и югозападного Поозерья // Древности Белоруссии. Мн., 1969б. С. 213–239.
20. Чарняўскі, М.М. Неаліт Беларускага Панямоння. Мн., 1979.21. Янитс, Л.Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье
р. Эмайыги (Эстонская ССР). Таллин, 1959.22. Butrimas, A., Iršėnas, M. Daktariškės 5osios gyvenvietės keramikos su
organinės kilmės priemaišomis ornamentika // LA. 2000. T. 19. S. 152–138.23. Józwiak, B. Społeczności subneolityczne na Nizu Polskim w międzyrzeczu
Odry i Wisły. Poznań, 2003.24. Loze, I. Neolita apmetnes Ziemeļkurzemes kāpās. Riga, 2006.25. Rimantienė R. Šventosios 4oji radimvietė // LA. 1996. T. 14. S. 5–73.
Міхал Чарняўскі 73
Мал. 1. Карта распаўсюджання малюнкаў вадаплаўных птушак на кераміцы і супра-ваджаючай этна-культурнай сітуацыі: 1 – выявы птушак на кераміцы, 2 – помнікі з
грабеньчата-ямкавай керамікай, 3 – арэал усвяцкай культуры, 4 – паўночны тапанімічны раён, 5 – кірункі ўплыву усвяцкай культуры, 6 – рэкі на ўсходзе Беларусі з фіна-вугорскімі
назвамі, 7 – тапонімы з асновай «вера»
Мал. 2. Карта этна-культурнай сітуацыі ў сярэднім і познім неаліце паўночнай часткі Усходняй Еўропы: 1 – распаўсюджанне малюнкаў вадаплаўных птушак на кераміцы,
2 – распаўсюджанне яйкападобнага посуду, 3 – распаўсюджанне рамбічнага арнаменту на кераміцы
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III74
Мал. 3. Арнаменты на кераміцы паселішчаў Крывінскага тарфяніку: 1, 5–7 – Асавец 2, 2–4 – Крывіна 1
Міхал Чарняўскі 75
Мал. 4. Выяўленчыя арнаменты на кераміцы Цэнтральнай і Паўднёвай Беларусі: 1 – Юравічы 3, 2 – Русаковічы 9, 3 – Дразды
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III76
Мал. 5. Кераміка з выяўленчымі арнаментамі: 1 – Сахтыш 1, 2 – Каламцы, 3 – Фінляндыя, 4 – Дактарышкес 5, 5 – Звідзе, 6 – Швянтоі 4, 7 – Кубеніна, 8 – Гіпкас (паводле С. Ашыбкінай, А. Бутрымаса, Н. Гурынай, І. Лозе, Р. Ры-
манцене)
Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов, Игорь Езепенко, Геран Посснерт
новые данные по радиоуглеродной хронологии неолита беларуси и сопредельных территорий1
1 Работа выполняется в рамках проекта РГНФ (№ 070190106а/Б) и программы Европейского Союза FEPRE № 2321/2002, а также проекта БРФФИ №Г07Р015.
ВведениеВ настоящее время накоплен большой фактический материал по радиоугле
родной хронологии неолита Восточной Европы. В последние годы появляются большие сводки радиоуглеродных дат для неолитических памятников России (Тимофеев, Зайцева, Долуханов, Шукуров, 2004), Украины (Котова, 2002). Представительная совокупность дат позволяет использовать их для разработки математических моделей распространения неолитических культур на территории Европы, определить источники происхождения и направления миграции (Шукуров, Дэвисон, Сарсон, Долуханов, Зайцева, 2007).
В большой совокупности радиоуглеродных дат памятников неолита Восточной Европы памятники Беларуси представлены довольно ограничено. Целью настоящего исследования является представление радиоуглеродных дат для памятников неолита Беларуси и соседних территорий, их анализ и сопоставление.
Результаты датированияВ последние десятилетия датировка памятников получила новый «им
пульс» в связи с внедрением в практику датирования метода ускорительной массспектрометрии (AMS). Он позволяет датировать малые количества образцов, составляющие доли миллиграмма. Этот метод и был использован в настоящем исследовании. Следует сразу отметить, что AMS метод – это разновидность радиоуглеродного метода, отличающегося только способом измерения концентрации радиоуглерода. Если в обычном, конвенциональном методе (жидкостносцинтилляционном или газовом) концентрация радиоуглерода измеряется путем подсчета количества распадов радиоуглерода в единицу времени, то при методе ускорительной массспектрометрии измеряется само количество атомов радиоуглерода. Обычно при датировании используются органические материалы памятника, такие как дерево, уголь, кости, почва, торф и др. Важным при этом является синхронность материала датируемому событию. Но уголь может быть собран с большой площади, а не только из очага, дерево имеет свой возраст, который может достигать сотни лет, почва и торф накапливались также не одно десятилетие. Поэтому одной из основных причин расхождений между полученной датой и предположениями археологов может являться неточная «привязка» образца к событию. Нагар же на керамике является остатком пищи, используемой древним населением, датирует время использования керамики. В данном случае он является «идеальным» материалом для датирования. Но датировать его стало возможным только после внедрения в практику AMS метода. Естественно, что нельзя противопоставлять конвенциональный и AMS методы. Они дополняют друг друга. Это и предполагается продемонстрировать в предлагаемой статье.
Из эталонных памятников неолита Беларуси Осовец2 и Заценье были отобраны остатки керамики с пищевым нагаром и датированы методом ускорительной массспектрометрии в лаборатории города Упсала (Швеция) в 2007 г. (Табл. 4).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III78Характеристика памятников Беларуси, датированных методом ускоритель-
ной масс-спектрометрии (AMS) Карта рассматриваемых памятников неолита Беларуси приведена на рис. 1.прорва-2 находится в 2,5–3 км на северовосток от пригорода Рогачё
ва – поселка Задрутье. Поселение расположено на небольшом возвышении левобережной поймы Днепра. Оно выявлено в 1994 г. Н.Н. Кривальцевичем, А.Н. Рыкуновым, И.Н. Езепенко. В 1995, 1996, 1998 гг. в его центральной части И.Н. Езепенко вскрыто 341 кв.м культурного слоя мощностью 0,55–0,65 м (Язэпенка, 2000). При раскопках обнаружены 24 гумусированных углубления, проникающих в материк, и 2 погребения среднеднепровской культуры раннего периода бронзового века.
Кремневая индустрия состоит из 2203 артефактов, из которых 405 – орудия и нуклеусы. Среди орудий доминируют скребки и режущие изделия, широко представлены треугольные наконечники стрел.
Керамика, полученная при раскопках, преимущественно поздненеолитическая – 8424 фрагмента. В стенках сосудов со следами расчесов на внутренней поверхности присутствуют небольшие примеси дресвы и волокнистой органики, или только дресвы. 67% фрагментов керамики орнаментированы. Среди орнаментов доминируют гребенчатые узоры, далее следуют различные накольчатые, лапчатые, зубчатые, ямчатые.
Поздненеолитические комплексы керамики и кремневых изделий Прорвы2 имеют аналогии на памятниках нижней Припяти и характеризуют северную периферию восточнополесского варианта днепродонецкой культуры. В то же время они носят следы влияния верхнеднепровской культуры. Нагар на керамике из Прорвы2 показал возраст от 4520±190 BP (Ki9280) до 3920±70 BP (Ki7519).
прорва-4 находится в 2,5 км на юг от окраины г. Рогачев. Поселение расположено на одном из всхолмлений левобережной поймы Днепра в 1,1 км от речного берега. Открыто в 1996 г. Н.Н. Кривальцевичем, А.Н. Рыкуновым, И.Н. Езепенко. Последним в 1999 г. вскрыто 172 кв.м культурного слоя мощностью 0,4–0,9 м (Язэпенка, 2000). В раскопе на уровне материка обнаружены гумусированные пятна, под которыми находились углубления, часть из которых относится к поздненеолитическому времени.
Всего на памятнике собрано 1449 кремневых артефактов, из которых 244 – орудия. Это преимущественно треугольные наконечники стрел, многочисленные скребки (71 экз.) и режущие изделия (около 100), скобели, проколки, микролиты, рубящие орудия. В кремневом инвентаре преобладают треугольные наконечники стрел, ножи, скребки, скобели. Среди нуклеусов много подпризматических одноплощадочных.
Найдено 3857 фр. неолитической керамики. В тесте тонкостенных сосудов наиболее часто встречается примесь дресвы. Толстостенные сосуды имеют в примесях кроме песка и дресвы волокнистую (растительную) органику. Внутренние поверхности обычно расчесаны. Оттиски гребенчатого штампа – преобладаюий тип орнамента (36,1%). Встречаются наколы (7,4%), лапчатые оттиски (7,6%), оттиски шнура и линейного штампа. Изредка присутствуют насечки, нарезные линии, неглубокие вмятины. Нагар на керамике показал даты даты 3875±100 BP (Ki9216) и 3810±100 BP (Ki9218).
Ближайшие аналогии археологическому комплексу Прорвы4 имеются на поздненеолитических памятниках Нижней Припяти.
Радиоуглеродные даты в целом подтверждают поздненеолитический характер памятников Прорва2 и Прорва4.
Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов… 79осовец-2 расположен на северном крае Кривинского торфяника, у истока
речки Кривинка, впадающей в Двину, в 1,2 км южнее деревни Осовец Бешенковичского района Витебской области. Площадь памятника около 30 000 кв.м. Поселение выявлено в 1966 г. и исследуется небольшими участками вплоть до настоящего времени (Чарняўскі, 1996). Всего вскрыто более 320 кв.м. Здесь под торфом залегает культурный пласт мощностью до 1,2 м (в центральной части памятника).
Начало поселения связывается с нарвской ранненеолитической культурой, о чем свидетельствуют единичные находки на материке фрагментов керамики с ракушечными примесями в стенках, поверхности которых имеют следы гребенчатого сглаживания и орнаменты преимущественно из гребенчатых оттисков и наколов. Более поздние материалы на памятнике относятся к усвятской культуре среднего неолита (рис. 2). Они представлены керамикой с гладкими стенками, сформированными из лент способом торцового прилепа, в которых попрежнему присутствуют ракушечные примеси, а орнаменты являются в основном накольчатонасечковыми, при отсутствии гребенчатых узоров (рис. 2:2). Среди орнаментов встречаются геометрические элементы, преимущественно ромбические, а так же стилизованные изображения змей и уточек (рис. 2:1). Часть фрагментов керамики имеет на внутренней поверхности выразительный слой нагара.
В северной части поселения усвятские материалы компактно залегают в нижней половине культурного слоя (0,50–1,00 м). Помимо керамики здесь встречаются костяные и роговые проколки (рис. 2:8), игловидные наконечники стрел с плоскими черенками рис. 2:3), кинжалы, рубящие орудия, украшения (рис. 2:9). Найдена янтарная подвеска с фронтальным отверстием (рис. 2:11), что свидетельствует о проникновении в Южное Подвинье янтаря уже в средненеолитическое время. Кремневые изделия малочисленны. Это ножи (рис. 2:5), скребки (рис. 2:7), короткие листовидные наконечники (рис. 2:4).
Для датирования был использован фрагмент сосуда с орнаментом в виде «уточки», найденный в 2006 г. (рис. 2:1). На внутренней его поверхности сохранился слой пищевого нагара, по которому была получена дата: 4370±50BP (Ua34618), что соответствует календарному возрасту 3030–2910 cal BC с вероятностью 68% и 31102880 cal BC с вероятностью 95%.
Из усвятского слоя северной части Осовца 2 ранее была получена дата 4900±140BP (IGSB779) (Тимофеев, Зайцева, Долуханов, Шукуров, 2004). Эти датировки укладываются в хронологические рамки усвятской культуры южной Псковщины – 5120–4030BP (Микляев, 1984. c. 67), что можно видеть из данных Таблицы 2 (Zaitseva, Miklyaev, Mazurkevich, 1995).
Материалы усвятской культуры в Осовце 2 перекрыты отложениями позднего неолита – эпохи бронзы, которые составляют основную часть археологической коллекции памятника. Здесь, помимо остатков деревянных конструкций из столбов, кольев и жердей, имеются многочисленные фрагменты керамики с заштрихованной поверхностью, в стенках которых кроме ракушечных примесей присутствуют зерна дресвы. Орнаментация сосудов состоит из частых поясов насечек, гребенчатых оттисков, наколов, ямчатых вдавлений, покрывающих всю поверхность. Керамика сопровождается разнообразными орудиями из кости, рога, камня, украшениями из зубов, кости, янтаря, предметами первобытного искусства, в том числе антропоморфными изображениями. Усвятская культура в Кривинском микрорегионе сменяется северобелорусской культурой позднего неолита – эпохи ранней бронзы.
Памятник Заценье находится в 1,5 км на северозапад от д. Заценье и 0,8 км на юговосток от д. Липки Логойского рна Минской обл. (рис. 1). Поселение
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III80расположено на левобережье мелиорированной р. Цна, канал которой перерезал западную часть памятника. Первоначально поселение располагалось у истока реки, вытекавшей из заторфованного озера. В средине 1960х гг. на свежих выбросах из канала житель д. Заценье С. Шубара собрал коллекцию роговых орудий. В 1966 г. местонахождение было обследовано М.М. Чернявским, который в 1967 и 1988 г. вскрыл двумя раскопами и шурфами площадь около 70 кв.м. В 1990 г. раскопки здесь проводил И.Н. Езепенко (40 кв.м).
Югозападная часть поселения перекрыта торфом, в древности она неоднократно подтоплялась. По этой причине здесь сохранилась органика и довольно выразительная стратиграфия. Сразу под торфом залегают слоистые отложения с материалами позднего неолита – эпохи бронзы. Под ними в надматериковом слое (1,5–2 м от дневной поверхности) встречены ранненеолитические материалы южного варианта нарвской культуры (Чарняўскі, 1996, с. 194–198).
Кремневые изделия из нижнего слоя Заценья имеют ранненеолитические черты, а частично и позднемезолитические: черешковые листовидные наконечники стрел, трапеции, ланцетовидные острия. Роговой и костяной инвентарь: в большинстве биконические наконечники стрел, мотыги с круглыми отверстиями, орудие из трубчатой кости с косым лезвием, муфтовые топоры и мотыги, гарпун. Костяные и роговые изделия Заценья близки ранненеолитическим (нарвским) находкам Северной Беларуси и ЮгоВосточной Прибалтики (Гурина, 1967, рис. 24, 83; Янитс, 1959, рис. 31; Лозе, 1986, табл. II, IV, XII, XIII).
Керамика ранненеолитического слоя Заценья представлена фрагментами широко открытых остродонноприкругленых горшков, сформированных из глиняных лент преимущественно способом косого прилепа. В тесте стенок заметны волокнистые растительные примеси и толченые раковины. Внутренние поверхности, а нередко и внешние, заглаживались зубчатым шпателем.
Более 50% венчиков имеют под краем пояс круглых и глубоких ямок. Около половины орнаментированных фрагментов украшены отпечатками гребня. Известны также разнообразные насечки, наколы кантом круглой палочки, прямоугольные, аморфные, ямчатые углубления, прочерченные линии.
Керамика из нижнего слоя Заценья имеет ближайшие аналогии среди ранненеолитических материалов нарвской культуры ЮгоВосточной Прибалтики (Янитс, 1959; Гурина, 1967; Загорскис, 1967) и Северной Беларуси (Чарняўскі, 1996). Палинологический анализ образцов из зачистки откоса канала показал, что слой с нарвским материалом отложился во время максимального распространения широколиственных лесов (Долуханов, Левковская, Романова, Семенцов, Чернявский, 1976). Он перекрыт сапропелем, образовавшимся в условиях влажного и теплого климата. Из этого слоя ранее были получены радиоуглеродные датировки: торфа (5450±75 BP (ЛЕ960); 5120±150 ВР (IGSB) и кости (5625±40 BP (Кі6214).
По нагару на фрагменте керамики сосуда нарвской культуры этого же памятника была получена дата: 5895±55 BP (Ua34616), 4910–4600 cal BC (95% вероятности).
По нагару на другом фрагменте керамики того же памятника получена дата: 6425±60 BP (Ua34617), что почти на тысячелетие древнее полученных ранее датировок! Его интервалы календарного калиброванного возраста соответствуют 54805360 cal BC (68% вероятности) и 54905290 cal BC (95% вероятности). Полученные определения практически синхронны датировкам руднянской культуры неолита Смоленской обл. (Табл. 3) (Зайцева, Васильев, Дергачев, Мазуркевич, Семенцов, 2003, с. 140; Гук, Зайцева, Мазуркевич, 2003, с. 155).
Были получены датировки по нагару на керамике двух неолитических памятников Приладожья Ленинградской области: УстьРыбежна и Березье.
Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов… 81Памятник Усть-Рыбежна располагается на реке Паша. Он исследовался
Н.Н. Гуриной в 1950х годах (Гурина, 1961; Тимофеев, 1994, с. 57). Среди найденных артефактов имеется керамика раннего неолита и керамика ямочногребенчатого типа с остатками пищевого нагара. Пищевой нагар от сосуда с ямочногребенчатой керамикой датирован временем 5505±140 BP (Ua34614): 47003950 cal BC (с 95% вероятностью). Дата, полученная для этого памятника в 1970х годах по углю из очага, составила 6380±220 BP (Ле405): 57504800 cal BC (95% вероятности) (Тимофеев, Зайцева, Долуханов, Шукуров, 2004. с. 98).
Памятник березье располагается также в Приладожье, на северозападе Ленинградской области на берегу реки Волхов вблизи Ладожского озера (Тимофеев, 1995, с. 178). Он был выявлен в 1973 г. при исследованиях стоянок, открытых ранее А.А. Иностранцевым. В настоящее время культурный слой залегает ниже уровня воды реки Волхов. Была вскрыта только верхняя часть культурных отложений, содержащая неолитическую керамику нарвского типа, типа сперрингс, гребенчатоямочной и ямочногребенчатой керамикой. До настоящего времени памятник не был датирован.
Нагар на керамике типа сперрингс показал возраст 5965±55 BP BP (Ua 34615): 49904710 cal BC (с 95% вероятности).
Результаты датирования пищевого нагара керамики памятников неолита Беларуси и Ленинградской области приведены в Таблице 4.
Химическая подготовка образцов пищевого нагара заключается в обработке материала кислотнощелочными растворами. При этом выделяют две фракции: растворимую в щелочи и нерастворимую. Если имеется достаточное количество материала, то датируют обе фракции. Как видно из Таблицы 4, в большинстве случаев количество нерастворимой фракции больше. Исключение составляет УстьРыбежна и Осовец. Обращает на себя внимание и содержание изотопа 13С в датируемом органическом материале. Стандартное значение 13С колеблется в пределах 26 o/oo – 27 o/oo. Для нагара керамики из УстьРыбежна и одного фрагмента из Заценья это значение заметно отличается от других: 31.8 o/oo и 29.2 o/oo. Это может быть связано как с различиями в пище, так и с температурой. Сейчас трудно интерпретировать эти различия. Требуются дополнительные исследования по определению содержания стабильных изотопов 13С и 15N, чтобы определить разницу в диете. Это проблема ближайшего будущего.
ВыводыДаты по пищевому нагару на керамике позволили уточнить хронологию эта
лонных памятников неолита Беларуси. Полученные даты по пищевому нагару сопоставлены с датами, полученными ранее конвенциональным методом (Табл. 1). В целом хронология памятников неолита Беларуси согласуется с данными для памятников неолита Псковской и Смоленской областей России. Этапы раннекерамической руднянской культуры в верховьях Западной Двины – Ловати имеют возраст порядка 6300–6000 лет до н.э. В этих пределах лежит недавно полученная датировка памятника Заценье в восточной Беларуси: 5480–5340 лет до н.э. (Ua31617). Таким образом, торфяниковое поселение Заценье пока что является древнейшим ранненеолитическим памятником СевероВосточной Беларуси.
По пищевому нагару получены даты для неолитических памятников Приладожья: УстьРыбежна и Березье. Для последнего – это первые радиоуглеродные даты.
Показано, что датирование по пищевому нагару позволяет уточнить имеющуюся хронологию.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III82
1. гук, Д.Ю., Зайцева, г.И., Мазуркевич, А.н. Радиоуглеродное датирование и перспективы дендрохронологического анализа неолитических памятников ДвинскоЛоватского междуречья // Древности Подвинья: исторический аспект. СПб., 2003. С. 155–166.
2. гурина, н.н. Из истории древних племен Западных областей СССР. М., 1967.3. Долуханов, п.М., Левковская, г.М., Романова, Е.н., Семенцов, А.А., Чер-
нявский, М.М. Палеогеография и абсолютная хронология стоянки Заценье // Доклады АН БССР. Т. ХХ. № 9. 1976. С. 817–819.
4. Загорскис, Ф.А. Ранний неолит в восточной части Латвии // Известия АН Латвийской ССР. 1973. № 4. С. 56–59.
5. Зайцева, г.И., Васильев, С.С., Дергачев, В.А., Мазуркевич, А.н., Семен-цов, А.А. Новые исследования памятников бассейна Западной Двины и Ловати: распределение радиоуглеродных дат, корреляция с изменением природных процессов, применение математической статистики // Древности Подвинья: исторический аспект. СП., 2003. С.140–155.
6. котова, н.С. Неолитизация Украины. Луганск, 2002.7. Микляев, А.М., Долуханов, п.М. УсвятыIV, Наумово – озерные памятни
ки неолитабронзового века в регионе Западной Двины // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины. М., 1984. С. 67–81.
8. Тимофеев, В.И. Южное Приладожье. Стоянки А.А. Иностранцева и стоянка Березье // Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 2. СПб., 1995. С. 178–179.
9. Тимофеев, В.И. О культурнохронологической атрибуции находок каменного века из коллекции А.А. Иностранцева // Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов международного симпозиума, посвященного 150летию со дня рождения профессора СанктПетербургского университета, членкорреспондента Российской Академии наук А.А. Иностранцева. СПб., 1994. С. 57–58.
10. Тимофеев, В.И., Зайцева, г.И., Долуханов, п.М., Шукуров, А.М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб., 2004.
11. Чарняўскі, М.М. Нарвенская культура // Археалогія Беларусі. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі. Мн., 1996. С. 190–206.
12. Чарняўскі, М. Неаліт Беларусі: праблемы перыядызацыі і храналогіі // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. Warszawa, 2004. S. 99–118.
13. Шукуров, А.М., Дэвисон, к., Сарсон, г.Р., Долуханов, п.М., Зайцева, г.И. Множественность источников Европейского неолита // Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях. Материалы конференции, посвященной 50летию радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН. 9–12 апреля 2007 г. СПб., 2007. С. 172–175.
Литература
Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов… 83
Ganna Zaitseva, Michail Chernyavski, Pavel Dolukhanov, Igor’ Yezepenko, GÖran PossnertNew Data on Radiocarbon Chronology of the Neolithic Sites of Belarus’ and
Neighbouring Territories
Several radiocarbon dates obtained for food residues on the pottery of the Neolithic sites from Belarus’ and Leningrad region of Russia with the use of AMS method have considerably clarified the Neolithic chronology in that areas.
The obtained dates show the Zatsen’ye site to be the oldest in NorthEastern Belarus’.
14. Язэпенка, і.М. Днепраданецкая культура ў басейне Верхняга Дняпра // Старажытнасці Рагачоўшчыны. Мн. – Рагачоў, 2000. С. 14–26.
15. Янитс, Л.Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги (Эстонская ССР). Таллин, 1959.
16. Zaitseva, G.I., Mikliaev, A.M., Mazurkevich, A.N. The occupation history of the region between the Dvina and Lovats rivers in Relation to the Dynamics of Environmental change // Radiocarbon. 1995. V/37. No. 2. P. 251–259.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III84
№
п./п
пам
ятни
к/Ш
ирот
а, д
олго
таД
атир
уемы
й ма
тери
ал
пол
ожен
ие
мате
риал
а в
памя
тник
еЛа
б. и
ндек
с14
С в
озра
ст,
л.т.н
. (BP
)к
алиб
рова
нны
й ка
ленд
арны
й ин
терв
ал л
. до
н.э.
Cal
BC
1Кр
асно
е сел
о 53
° 08/ 2
4° 25’
угол
ьш
ахты
2, 3
, 12,
гл
убин
а 2.6
–3.0
мЛе
636
3190
±60
1514
–140
8
2Кр
асно
е сел
о 53
° 08/ 2
4° 25’
угол
ьш
ахты
12,
глуб
ина
0.9
мЛе
680
3370
±50
1736
–153
4
3Кр
асно
е сел
о 53
° 08/ 2
4° 25’
угол
ьш
ахты
5, 2
1Ле
637
5300
±300
4450
–379
04
Крас
ное с
ело
53° 08
/ 24° 25
’уг
оль
–ГИ
Н1
6450
50±2
539
40–3
790
5Кр
асно
е сел
о 53
° 08/ 2
4° 25’
угол
ь–
ГИН
148
4310
±45
3020
–288
06
Крас
ное с
ело
53° 08
/ 24° 25
’ко
сть
–G
d92
4940
80±1
4028
70–2
460
7П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’уг
оль
–Ле
502
041
50±8
028
80–2
620
8П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
514
040
60±4
028
40–2
490
9П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
620
640
10±4
025
75–2
470
10П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
620
739
60±4
025
70–2
350
11П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
620
538
90±5
024
60–2
300
12П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
620
838
30±4
024
00–2
200
13П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
561
335
70±4
020
10–1
780
14П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
561
234
90±4
518
80–1
740
15П
рорв
а1
53° 03
/ 30° 03
’–
–Кі
659
038
70±5
524
60–2
230
16Хо
досо
вичи
53° 82
/ 30° 01
’–
–Кі
621
236
55±4
021
30–1
950
17О
сове
ц4
53° 52
/ 29° 38
’–
–Кі
621
358
60±5
048
00–4
620
18За
цень
е 54° 24
’/27° 04
’то
рфку
льту
рны
й сл
ой,
глуб
ина 1
.9 м
Ле9
6054
50±7
543
58–4
166
19За
цень
е 54° 24
’/27° 04
’Ко
сть,
пр
едма
тери
ковы
й сл
ойK
i621
456
25±4
045
004
360
20Кр
ивин
а1
54° 57
’/29° 38
’то
рфку
льту
рны
й сл
ойЛе
166
141
80±6
028
78–2
626
21Кр
ивин
а3
54° 57
’/29° 38
’то
рфку
льту
рны
й сл
ой,
глуб
ина 1
.9 м
Ле1
658
5290
±60
4224
–400
2
Табл
ица
1. Р
адио
угле
родн
ые
даты
пам
ятни
ков
неол
ита
бела
руси
, по
луче
нны
е в
1970
–199
0 гг
. (Т
имоф
еев,
Зай
цева
, Д
олух
анов
, Ш
укур
ов, 2
004)
Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов… 85
Лаб
. инд
екс
14С
воз
раст
,BP
Инт
ерва
лы
кали
бров
анно
го
кале
ндар
ного
во
зрас
та
ком
мент
арии
: мат
ериа
л дл
я да
тиро
вани
я, а
рхео
логи
ческ
ая к
ульт
ура
УСВЯ
Ты-I
V
ЛЕ6
4939
20 +
90
2558
–220
8ВС
древ
есин
а из
ост
атко
в II
эта
па с
трои
тель
ства
, усв
ятск
ая к
ульт
ура
ТА2
0341
10 +
70
2866
–250
8ВС
древ
есин
а из
ост
атко
в II
эта
па с
трои
тель
ства
, усв
ятск
ая к
ульт
ура
ТА2
0242
30 +
70
2912
–266
8 ВС
древ
есин
а из
ост
атко
в II
эта
па с
трои
тель
ства
, усв
ятск
ая к
ульт
ура
ТА2
4343
10 +
80
3078
–270
6 ВС
древ
есин
а из
ост
атко
в II
эта
па с
трои
тель
ства
, усв
ятск
ая к
ульт
ура;
пов
торн
ое д
атир
ован
ие
ЛЕ6
49ТА
244
4510
+ 7
033
40–3
098
ВСдр
евес
ина
из о
стат
ков
II э
тапа
стр
оите
льст
ва, у
свят
ская
кул
ьтур
а
ТА1
0545
70 +
70
3488
–310
6 ВС
древ
есин
а из
ост
атко
в I э
тапа
стр
оите
льст
ва, у
свят
ская
кул
ьтур
а
ТА2
4248
30 +
3036
50–3
542
ВСдр
евес
ина
из о
стат
ков
I эта
па с
трои
тель
ства
, усв
ятск
ая к
ульт
ура;
пов
торн
ое д
атир
ован
ие
ЛЕ
654
ЛЕ6
5455
30 +
90
4462
–425
8 ВC
древ
есин
а из
ост
атко
в I э
тапа
стр
оите
льст
ва, у
свят
ская
кул
ьтур
а
СЕР
ТЕЯ
-II
ТА6
3240
80+6
028
60–2
496
ВСдр
евес
ина
из сл
оя Б
, рас
коп
1973
г., п
остр
ойка
№ 4
; усв
ятск
ая к
ульт
ура
ТА6
3341
20+6
028
66–2
580
ВСдр
евес
ина
из сл
оя Б
, рас
коп
1973
г., п
остр
ойка
№ 4
; усв
ятск
ая к
ульт
ура
ТА8
1741
50+8
028
72–2
616
ВСдр
евес
ина
из сл
оя Б
, рас
коп
1973
г., п
остр
ойка
№ 4
; усв
ятск
ая к
ульт
уры
Табл
ица
2. Р
адио
угле
родн
ые
даты
пам
ятни
ков
усвя
тско
й ку
льту
ры п
сков
ской
обл
асти
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III86
Лаб. индекс
14С возраст,BP
Интервалы калиброванного
календарного возраста
комментарии: материал для датирования, археологическая
культура
Ле2566 5940 + 130 49004786 ВСдревесина из сапропеля опесчаненного с угольками, культурный слой В, кв. Д/1, руднянская культура
Ле4101 5940+ 130 49904620 ВСдревесина из сапропеля опесчаненного с угольками, культурный слой В, кв.Б/9, руднянская культура
Ле2579 6130 + 40 51964960 ВСдревесина из сапропеля опесчаненного с угольками, культурный слой В, кв.Б/4, руднянская культура
Ле2569 6180 + 40 52105064 ВСдревесина из сапропеля опесчаненного с угольками, культурный слой В, кв. Д/1, руднянская культура
Ле2568 6230+40 52305204 ВСдревесина из сапропеля опесчаненного с угольками, культурный слой В, кв. Д/1, руднянская культура
Ле3054 6240 + 60 52565078 ВСдревесина из сапропеля опесчаненного с угольками, культурный слой В, кв. Б/3, руднянская культура
Таблица 3. Радиоуглеродные даты памятника раннего неолита Рудня Сертейская Смоленской области
памятник
Вес орган. фрак-ции(мг)
нерас-тво-
римая фрак-
ция (мг)
Раство-римая фрак-
ция(мг)
Содер-жание углеро-да (%)
δ13Co/oo vs VPDB
14С воз-раст (BP)
Лаб. ин-декс
УстьРыбежна1 39.7 4.6 20.8 8 31.8 5505±140 Ua
34614
Березье 38.2 10.0 2.2 53 26.2 5965±55 Ua34615
Заценье 42.5 11.0 5.7 37 29.2 5895±55 Ua34616
Заценье 14.9 2.0 0 59 27.4 6425±60 Ua34617
Осовец2 69.2 4.8 15.4 53 26.3 4370±50 Ua34618
Таблица 4. Радиоуглеродные даты по пищевому нагару керамики
Ганна Зайцева, Михаил Чернявский, Павел Долуханов… 87
Рис. 1. Карта неолитических памятников Беларуси, имеющих радиоуглеродные даты: А – общая карта памятников, 1 – Осовец-2, 2 – Заценье, 3 – Прорва-2, 4 – Прорва-4,
Б – Археологические памятники в северной части Кривинского торфяника: Осовец-2, -7, В – план торфяникового поселения Заценье
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III88
Рис. 2. Материалы усвятской культуры из раскопок 2002–2007 гг.: 1, 2– фрагменты остро-донных сосудов, 3, 4 – наконечники стрел, 5 – нож, 6 – фрагмент плоского орнаментирован-ного изделия, 7 – скребок, 8 – проколка, 9 – пронизка, 10 – грузик, 11 – подвеска (1, 2 – керами-
ка, 3, 6, 8, 9, 10 – кость и рог, 4, 5, 7 – кремень, 11 – янтарь)
каменныя шліфаваныя вырабы на стаянках крывінскага тарфяніку1
1 Праца выконваецца ў рамках праекта БРФФД №Г07Р015.
Комплекс паселішчаў Крывінскага тарфяніку, размешчаны на мяжы Бешанковіцкага і Сенненскага раёнаў Віцебскай вобласці, даследуецца з 1934 г. (Чарняўскі, 2007, с. 5–6). На цяперашні момант тут вядома 10 паселішчаў каменнага і бронзавага вякоў, а таксама 3 невялікія месцазнаходжанні артэфактаў гэтага ж часу (Чарняўскі, 2007, с. 11–12). Каменныя шліфаваныя вырабы выяўлены на чатырох з іх – паселішчах усвяцкай і паўночнабеларускай культур Асавец 2, Крывіна 1 і паселішчах з выключна паўночнабеларускімі матэрыяламі Крывіна 3 і Асавец 7. Агульная ўскрытая плошча пералічаных помнікаў складае амаль 1100 кв.м.
На дадзены момант тут вядомыя 24 крамянёвыя і ўласна каменныя шліфаваныя вырабы (разам з абломкамі). Яны падзяляюцца на 4 групы: 1) крамянёвыя шліфаваныя або прышліфаваныя сякеры; 2) каменныя шліфаваныя сякеры, цяслы і далоты; 3) каменныя свідраваныя сякеры; 4) каменныя матыкі.
група 1. крамянёвыя шліфаваныя або прышліфаваныя сякеры. Частка прыладаў гэтай групы выраблена не з крэменю, а з блізкага да яго мінералу, які папярэдне можна ахарактарызаваць як крамяністы сланец. Усяго налічваецца 11 артэфактаў, якія былі выяўлены на стаянках Асавец 2, 7, Крывіна 1. З іх тры прадстаўлены дробнымі абломкамі і не падлягаюць далейшай класіфікацыі. У групе вылучаюцца тры тыпы.
Тып 1. Часткова шліфаваныя вырабы з лінзаватымі падоўжным і папярочным сячэннямі. Шліфоўка звычайна закранае прылёзавую палову сякеры, на сярэдзіне корпуса пакрывае толькі паасобныя невялікія ўчасткі або грані сколаў. Сярод вырабаў гэтага тыпу сустракаюцца маленькія прылады, даўжынёй да 5 см (мал. 1:7, 8).
Падтып а). Вузкаабушковыя вырабы з найбольшым пашырэннем крыху ніжэй сярэдзіны прылады і крыху звужаным лязом (мал. 1:1, 7).
Падтып б). Шырокаабушковыя сякеры падпрамакутных абрысаў (мал. 1:3, 8). Адна прылада дадзенага падтыпу пасля пашкоджання выкарыстоўвалася як адбойнікрэтушор з дзвюма працоўнымі паверхнямі – на зломе прылёзавай часткі і на абушку (мал. 1:2).
Сякеры падобных формаў найбольш характэрныя для культур шнуравой керамікі. Бліжэйшыя аналогіі сустракаюцца ў пахаваннях сярэднедняпроўскай (Артеменко, 1967, рис. 29:4, 5; Крывальцэвіч, 2007, мал. 50:1, 4) і фацьянаўскай культур (Крайнов, 1972, рис. 24:16, 21), аднак падобныя вырабы вядомыя таксама ў Беларускім Панямонні (Чарняўскі, 1979, рыс. 46:9) і Прыбалтыцы (Лозе, 1979, табл. ІІІ:1; Girininkas, 1994, pav. 257).
Тып 2. Часткова шліфаваная невялікая сякера з блізкім да лінзападобнага папярочным сячэннем і прытупленым абушком. Корпус пасярэдзіне выразна звужаны (мал. 1:6). Прылада з’яўляецца перапрацоўкай большага пашкоджанага сякучага вырабу, таму шліфоўка пакрывае значную частку корпуса і дасягае абушка. Блізкіх аналогій не выяўлена.
Тып 3. Цалкам шліфаваныя крамянёвыя сякеры падавальнага або ўсечаналінзаватага папярочнага сячэння з прыплюснутым абушком (мал. 1:4, 5). Абрысы
Максім Чарняўскі
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III90прылад падпрамакутныя, на паверхні адсутнічаюць негатывы сколаў апрацоўкі. Прасочваюцца выразныя грані пры пераходзе з плоскасцяў на бакавіны і абушок. Бліжэйшыя аналогіі сустракаюцца ў сярэднедняпроўскай (Артеменко, 1967, рис. 29:6, 9, 10), фацьянаўскай (Крайнов, 1972, рис. 24:4), шнуравой керамікі Палесся культурах (Крывальцэвіч, 1997, мал. 110:11). Падобныя формы вядомыя і на помніках культуры шарападобных амфар (Чебрешук, 2003, рис. 3:5, 7).
група 2. каменныя шліфаваныя сякеры, цяслы і далоты. Дадзеная група вылучана выключна па марфалагічных прыкметах. Для дакладнага функцыянальнага размежавання неабходны трасалагічны аналіз. Усяго вядома 9 артэфактаў, выяўленых на стаянках Асавец 2 і Крывіна 1. Вылучаюцца чатыры тыпы.
Тып 1. Вырабы трапецыяпадобных абрысаў з прыплюснутавыпуклымі абушкамі. Памеры невялікія, каля 6–7 см у даўжыню, сустракаюцца і вельмі дробныя экземпляры, да 3 см.
Падтып 1. Вузкаабушковыя вырабы з плаўнымі пераходамі ад плоскасцяў да бакавін і абушка (мал. 2:2, 3). Сячэнне ў прылёзавай частцы бліжэй да лінзападобнага, а ў абушковай – да падпрамакутнага.
Падтып 2. Шырокаабушковыя вырабы з выразнымі, часта ў выглядзе граняў, пераходамі ад плоскасцяў да бакавін (мал. 2:1, 4). Папярочнае сячэнне пераважна падавальных, радзей падпрамакутных абрысаў. Акрамя прадстаўленых на малюнку артэфактаў вядомы яшчэ дзве прылады гэтага падтыпу на стаянках Асавец 2 і Крывіна 1.
Найбольшая колькасць блізкіх аналогій прыладам гэтага тыпу паходзіць з Прыбалтыкі, асабліва са стаянак сярэдняга і позняга неаліту Лубанскай нізіны (Граудонис, 1967, табл. ІІ:1, 2, 4; Ванкина, 1970, табл. ХХVI:10; Лозе, 1979, табл. XIV, XV; Лозе, 1988, табл. ХХХІІ:2; Гирининкас, 1990, рис. 77, 79 6, 81: 3; Girininkas, 1994, pav. 135). У адзінкавых экзэмплярах падобныя прылады сустракаюцца ў матэрыялах фацьянаўскай (Крайнов, 1972, с. 77), сярэднедняпроўскай (Калечыц, 1997, мал. 109:26) і шнуравой керамікі Палесся культур (Крывальцэвіч, 1997, мал. 110:13). Вырабы гэтага тыпу часта вызначаюцца аўтарамі як далоты (Лозе, 1979, с. 65–67; Гирининкас, 1990, с. 64–65).
Тып 2. Выцягнутая сякера акруглага сячэння са злёгку завужанымі лёзавай і абушковай часткамі (мал. 3:1). Зыходзячы з таго, што яна была выяўлена ў перадмацерыковым пласце стаянкі Асавец 2, можна меркаваць пра прыналежнасць дадзенай прылады да усвяцкай культуры. Дакладных аналогій аўтару невядома, аднак блізкія па характарыстыках каменныя сякеры выкарыстоўваліся ў сярэднім і познім неаліце Беларускага Панямоння, Латвіі і Эстоніі (Янитс, 1959, рис. 22; Лозе, 1979, табл. Х:4; Чарняўскі, 1979, рыс. 8:10).
Тып 3. Цясла падавальнага сячэння з асіметрычным у падоўжным сячэнні лязом і пласкаватым абушком (мал. 3:2). Знойдзена на стаянцы Асавец 2 разам з керамікай усвяцкай і паўночнабеларускай культур. Блізкіх аналогій выяўлена не было.
Тып 4. Сплюшчанае невялікае долата з крамяністага мінералу, лёзавая частка якога зашліфавана з абодвух бакоў (мал. 1:9). Выяўлена на стаянцы Асавец 7. Прылада абламаная па корпусе, яе даўжыня і форма абушковай часткі невядомыя. Магчымымі аналогіямі могуць з’яўляцца вырабы са стаянкі Кратуонас 1С (Girininkas, 1994, pav. 247:3).
група 3. каменныя свідраваныя сякеры. На стаянках Крывінскага тарфяніку на сённяшні дзень вядомыя толькі 2 артэфакты, якія належаць да гэтай групы. На паселішчы Асавец 2 выяўлена палова абушковай часткі сякеры, якая не дазваляе з дакладнасцю казаць пра першапачатковую форму вырабу (мал. 2:5). Падобная
Максім Чарняўскі 91форма абушка мае шырокія аналогіі і сустракаецца практычна на ўсіх суседніх тэрыторыях у матэрыялах культур шнуравой керамікі. Другая сякера паходзіць са стаянкі Крывіна 3 і, згодна з апісаннем, мае рамбічныя абрысы (Зайкоўскі, 1979, с. 11).
група 4. каменныя матыкі. На стаянцы Асавец 2 выяўлена адна завершаная прылада, а на стаянцы Крывіна 1 адна нарыхтоўка. Абодва артэфакты зламаныя па свідравіне. У ацалелай частцы завершанага вырабу на плашчыні маецца лёгкая рабрыстасць (мал. 2:6). Свідраванне нарыхтоўкі незакончанае, яно праводзілася з дапамогай цвёрдага свердзела (мал. 2:7). Блізкі па форме фрагмент каменнай прылады выяўлены на паселішчы сярэдняга і позняга неаліту Звідзэ ў ПаўднёваУсходняй Латвіі, прычым свідравіна таксама была зроблена з дапамогай цэльнага цвёрдага свердзела (Лозе, 1979, табл. ХХХІІІ:12).
Ускосным сведчаннем больш шырокага выкарыстання каменных шліфаваных вырабаў на паселішчах Крывінскага тарфяніку з’яўляюцца шліфавальныя пліты, якія ў цэлым і фрагментаваным стане сустракаюцца ў матэрыяле стаянак Асавец 2, 7, Крывіна 1. На сённяшні дзень яны прадстаўлены дзвюма асноўнымі формамі. Найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца пераважна сплюснутыя, радзей больш тоўстыя пліты нерэгулярных абрысаў з дзвюма працоўнымі паверхнямі (мал. 4:2, 3). Кожная з іх можа ўтрымліваць ад 1 да 5 вышліфаваных ад вырабу каменных прылад паглыбленняў, і 1–2 вузкія канаўкі ад шліфавання тонкіх вострых прадметаў – касцяных і медных шылаў, іголак. Такія канаўкі ў таўсцейшых плітах могуць знаходзіцца і на бакавіне (мал. 4:2).
Адна шліфавальная пліта са стаянкі Асавец 2 мае падквадратнае папярочнае і падпрамакутнае падоўжнае сячэнні (мал. 4:1). На трох большых плашчынях размешчаны шырокія вышліфаваныя паглыбленні, а на чацьвёртай, з выпуклай паверхняй, размешчаны вузкі равок для шліфавання вострых і доўгіх рэчаў.
Акрамя крамянёвых сякер і пліт для іх майстравання існуе яшчэ адна катэгорыя артэфактаў, якая дазваляе казаць аб значнай распаўсюджанасці шліфавання ў канцы неаліту – раннім бронзавым веку Поўначы Беларусі. Гэта разнастайныя скрабкі, нажы, наканечнікі стрэл, свердлы, іншыя прылады і адшчэпы, якія ўтрымліваюць на сваёй паверхні ўчасткі з прышліфоўкай (мал. 1:10–14). Усяго вядома каля 30 экземпляраў падобных артэфактаў са стаянак Асавец 2, 7, Крывіна 1, 3. Яны з’яўляюцца сведчаннем другаснага выкарыстання пашкоджаных шліфаваных крамянёвых сякер. Падобнае становішча фіксуецца і на помніках Лубанскай нізіны, дзе на адну выяўленую ва ўсім рэгіёне прышліфаваную крамянёвую сякеру прыпадала адшчэпаў ад больш як 30 такіх сякер (Лозе, 1979, с. 64).
Дробныя шліфаваныя вырабы 1 і 2 групаў (мал. 1:6–8, 2:1, 2), верагодна, з’яўляюцца не прыладамі, але дзіцячымі цацкамі або амулетамі. Падобныя артэфакты фіксуюцца ў дзіцячых пахаваннях фацьянаўскай культуры (Крайнов, 1972, с. 66). Амаль ідэнтычныя дробныя каменныя шліфаваныя сякеркі выяўлены ў Літве на паселішчы Кратуонас 1В (Girininkas, 1994, pav. 136) і ў Латвіі на паселішчы Абара 1 (Лозе, 1979, табл. XV:1, 3, 14). На стаянках Крывінскага тарфяніку сустракаюцца таксама «цацачныя» прылады і іншых класаў (напрыклад, мініяцюрныя касцяныя наканечнікі гарпуноў і стрэл, якімі фізічна немагчыма здабыць дзічыну або рыбу (Чарняўскі, 2007, мал. 17:7)).
На стаянцы Асавец 2 была выяўлена драўляная пашкоджаная муфта (мал. 3:3), побач з якой знаходзілася каменная шліфаваная сякера акруглага сячэння (мал. 3:1). З вялікай доляй верагоднасці можна лічыць, што гэта складовыя часткі адной прылады усвяцкай культуры. Падобныя муфты выяўлены на тарфяніковых паселішчах Прыбалтыкі (Ванкіна, 1970, табл. ХХІІ; Лозе, 1979, табл. XXXVI:1).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III92Падсумоўваючы можна адзначыць некалькі асноўных момантаў.1. Культурная ідэнтыфікацыя выяўленых прыладаў ускладненая па прычы
не таго, што большасць з іх паходзіць са змешаных пластоў стаянак Асавец 2 і Крывіна 1, у якіх сустракаюцца матэрыялы як усвяцкай, так і паўночнабеларускай культур. Улічваючы колькасную перавагу матэрыялаў апошняй і стратыграфію знаходак, а таксама аналогіі з суседніх тэрыторый, крамянёвыя і каменныя шліфаваныя вырабы з гэтых помнікаў (за выключэннем тыпаў 2 і 3 групы 2) можна адносіць да паўночнабеларускай культуры.
2. Першыя шліфаваныя каменныя вырабы ў рэгіёне з’яўляюцца прыблізна ў сярэдзіне ІІІ тыс. да н.э. на фінальным этапе існавання усвяцкай культуры. Сваімі абрысамі яны больш нагадваюць традыцыйныя для рэгіёна касцяныя вырабы гэтага класа.
3. На паселішчах Крывінскага тарфяніку не выяўлена мясцовых вытокаў традыцыі вытворчасці шліфаваных каменных і крамянёвых прыладаў паўночнабеларускай культуры. Выцягнутатрапецыяпадобныя формы каменных сякер, цяслаў і далотаў запазычаны з Прыбалтыкі, а крамянёвыя прышліфаваныя па лёзавай частцы вырабы лінзападобнага сячэння і цалкам шліфаваныя формы – з Падняпроўя. У абодвух выпадках гэта ўплыў культур шнуравой керамікі.
4. Характэрна мінімальная колькасць каменных свідраваных сякер і іх фрагментаў, асабліва ўлічваючы тое, што ў дадзеным выпадку не адбывалася ўтылізацыі пашкоджаных вырабаў, як гэта было з крамянёвымі.
Літаратура
1. Артеменко, И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. М., 1967.
2. Ванкина, Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига, 1970.3. гирининкас, А. Крятуонас. Средний и поздний неолит: Монография // LA.
№ 7. 1990.4. граудонис, Я. Латвия в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Рига,
1967.5. Зайкоўскі, Э.М. Справаздача аб даследаванні помнікаў эпохі каменя і брон
зы ў Беларускім Падзвінні / АА ІГ НАН Беларусі. Справа № 720. Мн., 1979.6. калечыц, А.г., крывальцэвіч, М.М. Сярэднедняпроўская культура //
Археалогія Беларусі. Т.1. Каменны і бронзавы вякі. Мн., 1997. С. 291–303.7. крайнов, Д.А. Древнейшая история ВолгоОкского междуречья. Фатья
новская культура. II тысячелетие до н.э. М., 1972.8. крывальцэвіч, М.М. Культура палескай шнуравой керамікі // Археалогія
Беларусі. Т.1. Каменны і бронзавы вякі. Мн., 1997. С. 304–306.9. крывальцэвіч, М.М. Могільнік сярэдзіны ІІІ – пачатку ІІ тысячагоддяў да
н.э. на Верхнім Дняпры – Прорва 1. Мн., 2006.10. Лозе, И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига,
1979.11. Лозе, И.А. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ран
ний и средний неолит. Рига, 1988.
Максім Чарняўскі 93
Maxim CharniauskiThe Stone Polished Articles from the Settlements of Kryvina Peatbog
The stone polished articles are known on the five Neolithic and Bronze Age sites of the Kryvina region – Asavets 2, 7, Kryvina 1, 2, 3. Twenty four artifacts from the total actual excavated area in almost 1100 sq.m. were found. All stone polished articles are divided into 4 groups with the types and subtypes inside them:
1) flint polished or groundin axes (3 types),2) stone polished axes, adzes and chisels (3 types),3) stone perforated axes,4) stone mattocks with narrow edges.The bigger part of this artifacts belongs to Northenbelarusian Culture (the forth
quarter of the III Millennium BC – up to the first half of the II Millennium BC) and only two of them belong to Usviaty Culture (the first half – up to the forth quarter of the III Millennium BC – types 2, 3 of group 2). The main forms of stone polished articles of Northenbelarusian Culture were borrowed from Baltic and Dnieper regions from local Corded Ware Cultures. It is interesting that stone perforated axes are represented only by two artifacts.
Apart from finished and broken stone polished artifacts on the Kryvina peatbog sites polishing stones and small artifacts with polished parts of surface (arrowheads, scrapers, knives, etc.) made of broken flint polished axes were found.
12. Чарняўскі, М.М. Неаліт Беларускага Панямоння. Мн., 1979.13. Чарняўскі, Макс.М. Касцяныя і рагавыя вырабы на паселішчах Крывін
скага тарфяніку (неаліт – бронзавы век). Мн., 2007.14. Чебрешук, Я., Шмит, М. К исследованию среднеевропейских факторов
процесса культурных перемен в лесной зоне восточной Европы в ІІІ тыс. до н.э. // ГАЗ. № 18. 2003. С. 34–51.
15. Янитс, Л.Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги (Эстонская ССР). Таллин, 1959.
16. Girininkas, A. Baltu kulturos istakos. Vilnius, 1994.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III94
Мал. 1. Крамянёвыя шліфаваныя вырабы паселішчаў Крывінскага тарфяніку: 1–8 – сякеры (1, 7 – група 1 тып 1 падтып а, 2, 3, 8 – група 1 тып 1 падтып б, 4, 5 – група 1 тып 3,
6 – група 1 тып 2), 9 – долата (група 2 тып 4); крамянёвыя артэфакты, вырабленыя са шліфаваных крамянёвых сякер: 10 – наканечнік стралы, 11 – нож, 12 – адшчэп, 13 – скобля,
14 – свердзел.1–4 – Асавец 2; 5, 7, 8 – Крывіна 1; 6, 9, 10–14 – Асавец 7
Максім Чарняўскі 95
Мал. 2. Каменныя шліфаваныя сякеры (1–5) і матыкі (6, 7): 1, 4 – група 2 тып 1 падтып 2, 2, 3 – група 2 тып 1 падтып 1, 5 – група 3, 6, 7 – група 4.
1, 3, 4, 7 – Крывіна 1; 2, 5, 6 – Асавец 2
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III96
Мал. 3. Асавец 2: 1 – сякера (група 2 тып 2), 2 – цясла (група 2 тып 3), 3 – драўляная муфта
При исследовании материалов из памятников эпохи камня и раннего металла мы, как правило, используем только один метод – типологический, который позволяет нам дать характеристику основным типам изделий на памятнике и выйти на реконструкцию культурнохронологической ситуации. С конца 90х годов ХХ века некоторые наши исследователи стали привлекать данные технологического анализа материалов исследованных коллекций (Гиря, 1997; Нехорошев, 1999). Технологический метод, по мнению его исследователей, позволяет дополнительно к данным типологического метода проводить реконструкции последовательности расщепления и определять технику скола на изучаемом памятнике. Теперь уже анализируются не только типологически выраженные формы вещей, но и технологические отходы, содержащие некоторые характерные сколы подправки нуклеусов и регулярные снятия с нуклеусов. Анализируется характер самих сколов, позволяющий с достаточной долей вероятности определять технику скола, использовавшуюся при расщеплении того или иного сырья. Предложена эволюционная схема развития техники скола, включающая удар, отжим и усиленный отжим (Гиря, Нехорошев, 1993а; 1993б).
Экспериментальнотрасологические исследования, начатые С.А. Семеновым, позволяли определять отдельные вещи или группу артефактов одной коллекции (Семенов, 1957). Основные усилия С.А. Семенова были направлены на разработку методики трасологического анализа и изучение развития техники в каменном веке (Семенов, 1968). Его ученики и последователи, в частности Г.Ф. Коробкова, стали первыми исследовать материалы всей коллекции того или иного памятника и проводить реконструкцию хозяйственной деятельности на поселении или стоянке (Коробкова, 1987). Г.Ф. Коробкова вводит понятие «функциональная типология» и пытается приспособить или «наложить» типологию на данные трасологических исследований.
Процедура ее исследования состоит из использования данных трех методов изучения артефактов – техникоморфологического, трасологического, экспериментального (как вспомогательного для трасологического метода (Коробкова, 1987, с. 9)) и включает четыре этапа.
Первая ступень. При исследовании коллекций она рассматривает ее в трех аспектах: 1) техника расщепления; 2) вторичная обработка; 3) набор типов изделий.
Вторая ступень. Подсчет процентных соотношений типов заготовок, вторичной обработки, типов изделий.
Третья ступень. Составление сводного типолиста для группы памятников или целого региона, где для типов, групп, категорий и классов она вводит понятия с учетом количественных критериев: основные (более 20%), характерные (более 10%, но менее 20%), значимые (более 5%, но менее 10%), малозначимые (более 1%, но менее 5%) и случайные (не более 1%).
Четвертая ступень. Анализ составленных типолистов и выявление различий первого и второго порядка. Разница между первыми заключена в процентных отношениях (свыше 50%), выражающих основу техники расщепления, вторичной обработки и типов изделий, а между вторыми – в количественных показателях
Галина Поплевко
к проблеме развития методики комплексного исследования каменных индустрий
99Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III
(около 30%), характеризующих значимые, малозначимые и случайные типы. По ее мнению, комплексы разнокультурных индустрий различаются набором основных и характерных типов и их количественными соотношениями, а однокультурные – набором значимых, малозначимых и случайных видов и их числовыми показателями. Такова применяемая в работе процедура техникоморфологического анализа каменных индустрий с преимущественно пластинчатой техникой расщепления. Необходимым ее условием является учет всех компонентов, составляющих индустрию, так как именно они дают целостную характеристику того или иного инвентаря, подчеркивают культурное единство памятников и развития общекультурного и локального характера. Проводя исследование, важно не только выявить состав видов заготовок, ретуши и орудий, но и определить путем подсчета процентных отношений, какие из них относятся к основным, значимым и мало значимым или случайным типам. Такой подход к изучению индустрий позволяет решать вопросы культурной принадлежности памятников, хронологии, периодизации, генезиса, культурноисторических связей (Коробкова, 1987, с. 15–16).
Можно согласиться с тем, что такой подход поможет решать вопросы культурной принадлежности и отчасти хронологии и культурноисторических связей, т.к. в основе ее исследований лежит техникоморфологический подход и составление типолистов. Конструкция исследования получалась довольно громоздкой, включающей классы, группы и типы. Таким образом, Г.Ф. Коробкова организовывала материал исследованных коллекций, рассматривая технику расщепления, технику вторичной обработки, типы изделий и приводя функциональную классификацию орудий труда на всех памятниках. Все эти данные составляют общую характеристику всего памятника. Она никогда не рассматривала данные разных методов исследования в их взаимосвязи, равно как никогда не рассматривала одновременно одно орудие с позиции трех методов и не соотносила данные каждого из них.
Мой подход к комплексному исследованию каменных индустрий состоит, прежде всего, в использовании и одновременном соотношении данных трех методов исследования (типологического, технологического и трасологического) по каждому изделию (Поплевко, 2007). Для этого необходимо отдельно рассматривать:
1) соотношение данных типологического и трасологического методов анализа по каждой категории орудий;
2) соотношение данных технологического и трасологического методов;3) комплексное соотношение данных, полученных каждым методом анализа
по одному изделию одновременно, а затем по каждой категории орудий.Детальный трасологический анализ коллекции включает характеристику
каждой выделенной группы орудий, соответствующей устоявшимся в археологической литературе категориям. Алгоритм такого исследования состоит из описания:
1) заготовок, использованных для орудий;2) формы и расположения рабочего лезвия орудий;3) ретуши, использованной при оформлении выраженных типов орудий или
сформировавшейся в процессе работы им;4) микроследов, распределяющихся по видам обрабатываемого сырья (По
плевко, 2000, с. 3–5, 14–17; 2003а, с. 84–97; 2003б, с. 168–173).На основе этих данных проводится хозяйственная реконструкция. Для про
ведения технологического анализа предложены критерии определения техники скола и введены некоторые метрические параметры для выявления техники скола в пластинчатых индустриях (Поплевко, 2003в). При таком подходе автор материалов проводит типологический анализ коллекции. Затем вся коллекция изучается с помощью трасологического, технологического и планиграфического метода (по
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III100данным трасологии и технологического метода). Ключевую роль здесь играет трасологический метод исследования. Полученные с его помощью данные позволяют выполнить более полную палеоэкономическую реконструкцию на том или ином памятнике, а использование данных трасологического метода для планиграфических реконструкций помогает в изучении производственных мест, исследовании жилищ и производственной направленности любого памятника.
Так соотношение данных типологии и трасологии показывают, что последняя помогает выявить целый ряд дополнительных функций на памятнике в целом, а также определить другие функции на одном типологически выраженном орудии, если эта типологическая форма была универсальна и использовалась в разных хозяйственных операциях. К примеру, типологически устойчивая форма концевых скребков на пластинах (отщепах) на некоторых памятниках используется в качестве вкладышей строгальных ножей и даже сверл. А оформление концевого лезвия регулярной ретушью является технологическим приемом, необходимым для вставки этого лезвия в деревянную рукоять для его более жесткого крепления. Такое наблюдение было сделано на материалах энеолитического поселения Константиновское, неолитическом поселении Кременная III. Еще одним ярким примером может служить тип наконечников стрел, который часто используется в качестве сверл. Эти наблюдения были сделаны на материалах Константиновского поселения и неолитического свайного поселения Усвяты IV, слой А. На некоторых памятниках с пластинчатой техникой расщепления концевые скребки были установлены только с помощью трасологического метода исследования, так как рабочее лезвие у них было обнаружено на проксимальном конце на одном или двух его боковых гранях и не было никакого оформления рабочего края ретушью (неолитическое поселение Раздорское II).
Соотношение данных трасологии и технологии помогает понять, какие наиболее значимые заготовки были востребованы на памятнике и, следовательно, на что было направлено расщепление на памятнике; какие приемы использовались при расщеплении, как развивалась техника скола, и какая из них была доминирующей; какие приемы оформления ударных площадок были использованы при расщеплении. Часто развитие иной техники скола связано со сменой хозяйственной направленности на памятнике или со сменой культурной принадлежности ее обитателей, или со сменой используемых источников сырья и уклада жизни. На Таблице 1 можно проследить, насколько расходятся данные типологии и трасологии на одних и тех же заготовках у одной категории орудий. Только комплексный подход к анализу материалов коллекций и соотношение данных каждого метода исследования позволит избежать неточностей и получить новую дополнительную информацию о характере памятника и развитии технических приемов при обработке разного каменного сырья.
Литература
1. гиря, Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий. СПб., 1997.2. гиря, Е.Ю., нехорошев, п.Е. Некоторые технологические критерии архео
логической периодизации каменных индустрий // РА. № 4. 1993а. С. 5–23.3. гиря, Е.Ю., нехорошев, п.Е. Технологическая периодизация каменных ин
дустрий (постановка проблемы) // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. Ч. 2: Археология и изучение культурных процессов и явлений. СПб., 1993б. С. 23–26.
Галина Поплевко 101
Galina PoplevkoTo the Problem of the Development of Stone Industry’s Complex Study Methods
While research of Stone and Early Metal Age materials only typological method is usually used. It allows to characterize main types of articles and to reconstruct cultural and economical situation. Since late 1990s data of technological method are used which allows to reconstruct sequence and technique of flint splitting. Tanks to this method not only typologically evident tools but also technological waste products are analyzed. Experimental microwear studies of S. Semenov allowed to determine separate objects or group of artifacts of one collection. Main efforts of S. Semenov were directed to working out of microwear analyses method’s and study of Stone Age technique. One of his followers G. Korobkova was the first who studied all the materials of separate monument or group of monuments of one culture. It allows to reconstruct economical activity on one settlement or on group of settlements of one culture. She was the first who used the term of functional typology and tried to adapt typology to data of microwear research. Procedure and proposed by G. Korobkova study’s construction is quite cumbersome and includes classes, groups and types. Thus she organized material of collections she studded taking in account splitting technique, technique of secondary working, types of articles and making functional classification of tools on all monuments. All this data put together general description of the monument. She never studied neither data of different methods of research in their connection nor studied one article from position of three methods nor correlated data of each of them.
4. коробкова, г.Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческоскотоводческих обществ юга СССР. Л., 1987.
5. нехорошев, п.Е. Технологический метод изучения первичного расщепления камня среднего палеолита. СПб., 1999.
6. Семенов, С.А. Первобытная техника / МИА. № 54. 1957.7. Семенов, С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.8. поплевко, г.н. Методика комплексного исследования каменных индустрий
и реконструкция древнего хозяйства поселений (на материалах энеолитического поселения Константиновское) // Автореферат дис. … канд. ист. наук. СПб., 2000.
9. поплевко, г.н. Комплексный анализ хозяйства энеолитического поселения Константиновское на Нижнем Дону // Неолит и энеолит Юга и Севера Восточной Европы. СПб., 2003а. С. 81–108.
10. поплевко, г.н. Комплексное исследование некоторых видов каменных материалов стоянки позднего мезолита и неолита Большое Заветное 4 на Карельском перешейке (Ленинградская обл.) // Неолит и энеолит Юга и Севера Восточной Европы. СПб., 2003б. С. 163–180.
11. поплевко, г.н. Методический аспект комплексного исследования пластинчатых индустрий (на материалах поселения Кременная III) // Археологические записки. Вып. 3. Каменный век. РостовнаДону, 2003в. С. 143–162.
12. поплевко, г.н. Методика комплексного исследования каменных индустрий. СПб., 2007.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III102
My approach to complex study of stone industries consists first of all of use and simultaneous correlation of three methods of research for each article which are typological, technological and microwear (Table 1). On the base these three methods data reconstruction of economy is made. The main role plays microwear method. It’s data allows to carry out more complex paleoconomic reconstruction on any monument. Use of microwear for planigraphical reconstructions helps in study of manufacturing places, dwellings and manufacturing directivity of any monument. Only complex approach to analyses of collection’s materials and correlation of data of each method allows to avoid errors and to get new additional information about type of monument and about development of technological methods of different stone raw working.
Галина Поплевко 103
Табл
ица
1. С
оотн
ошен
ие д
анны
х те
хнол
огич
еско
й, т
ипол
огич
еско
й и
трас
олог
ичес
кой
хара
ктер
исти
ки с
креб
ков
из н
еоли
тиче
ской
ст
оянк
и к
реме
нная
III
трас
олог
ичес
ки
выде
ленн
ые
кате
го
рии
оруд
ий:
концевой скребок
концевойбоковой скребок
боковой скребок
округлый скребок
овальный скребок
угловой скребок
скобель
станковое сверло
пилка
строгальный нож
полифункциональные орудия
без следов
Всего:
выде
лены
: ти
поло
гиче
ски
или
трас
олог
ичес
ки
типологически
трасологически
типологически
трасологически
типологически
трасологически
типологически
трасологически
типологически
трасологически
типологически
трасологически
трасологически
трасологически
трасологически
трасологически
трасологически
трасологически
типологически
трасологически
техн
олог
ичес
кие
заго
товк
и:
круп
ные
отщ
епы
14
12
31
66
плас
тинч
аты
е кр
упны
е от
щеп
ы1
11
12
2
сред
ние
отщ
епы
46
157
25
11
11
12
2323
плас
тинч
аты
е ср
едни
е от
щеп
ы2
11
11
11
25
5
скол
ып
одпр
авки
11
11
13
44
фра
гмен
ты
сред
него
отщ
епа
32
14
55
мелк
ие о
тщеп
ы6
514
42
103
33
628
28пл
асти
нчат
ые
мелк
ие о
тщеп
ы2
11
11
33
фра
гмен
ты
мелк
ого
отщ
епа
21
12
2ф
рагм
енты
пл
асти
ны22
91
22
17
2222
Всег
о:43
2433
1610
215
45
24
1
12
13
2510
010
0
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова
особенности пространственной организации памятника сертея 3
(велижский район смоленской области)1
1 Работа выполнена при поддержке грантов FP6NEST028192; РГНФ07019016 а/Б; ECO NET № 16333YJ.
Многолетние раскопки ранненеолитического памятника Сертея 3 позволили получить важные данные об особенностях палеогеографического расположения стоянок раннего неолита на территории ДвинскоЛоватского междуречья.
Ранненеолитический памятник Сертея 3 расположен в долине реки Сертейки, которая является левым притоком Западной Двины (Смоленская обл., Велижский рн). Проводившиеся на протяжении нескольких десятков лет комплексные изучения Сертейского микрорегиона с широким использованием естественнонаучных методов исследования, таких, как метод геохимической индикации позднеплейстоценовых и раннеголоценовых отложений, споровопыльцевой, диатомовый и др., позволили реконструировать ландшафт, существовавший в долине р. Сертейки в эпоху раннего и среднего голоцена (Мазуркевич, Кулькова, Полковникова, Савельева, 2003).
Сертейская долина состоит из двух озерных котловин: Большой Сертейской и Малой Нивниковской, которые являются формами озерноледниковой аккумуляции и абразии приледниковых озер. К котловинам озерноприледниковых водоемов и к наследующим их палеоводоемам приурочены все неолитические стоянки Сертейского микрорегиона. Борта палеоозер были сложены грубообломочным материалом с линзами мореных супесей и суглинков, которые использовались в изготовлении керамической посуды (Санько, 1987). Часть памятников раннего неолита Сертейского микрорегиона располагается на участках мелко и крупнохолмистых комплексов камовых образований, формирующих борта озерных котловин, которые являются остатками флювиогляциального рельефа, на котором в послеледниковое время были сформированы дюнные поля (эоловые образования) (Санько, 1987).
Памятник Сертея 3 находится на самом высоком уровне камового останца Нивниковской котловины. На его площади было выявлено три местонахождения керамического и кремневого материала, которые были обозначены соответственно – Сертея 31, Сертея 32, Сертея 33 (рис. 1). Памятник Сертея 3 был открыт А.М. Микляевым при проведении разведочных работ в северной части долины р. Сертейки в 1972 г. Раскопки памятника начались в 2003 г. и продолжаются по настоящее время. Местонахождение Сертея 31 расположено на борту небольшого озеровидного расширения, которое находится к северу от Нивниковской озерной котловины. Это расширение располагается в устьевой части многочисленных небольших речек и ручьев, которые стекали и стекают с водораздела к сертейской системе палеоозер.
Центральная, наиболее насыщенная материалом часть местонахождения оказалась разрушенной дорогой, соединяющей в настоящее время деревни Рудня и Сертея. В ходе исследования местонахождения Сертея 31 было вскрыто 40 кв.м культурного слоя. Непотревоженный культурный слой памятника располагался
105Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III
в северозападной части вскрытой площади. Культурные находки залегали под пахотным слоем, в слое плотного темножелтого песка. Археологический материал представлен 125 фрагментами керамики как минимум от пяти сосудов раннего неолита и трех сосудов позднего неолита с ромбоямочной орнаментацией (рис. 5). Фрагменты четырех ранненеолитических сосудов относятся к фазе «b», а фрагменты еще от одного сосуда к фазе «b1». Кремневый инвентарь – более сотни отщепов и сколов различного размера (Мазуркевич, Полковникова, Кулькова, Савельева, 2003).
Местонахождение Сертея 32 расположено в 180 м к юговостоку от местонахождения Сертея 31. Оно расположено на самой высокой части камового останца и приурочено к озеровидному расширению, которое связано небольшой протокой с основной озерной цепочкой по которой протекает ныне р. Сертейка. Памятник исследован на площади 100 кв.м. Находки располагались как в слое пахоты, так и в слое плотного темножелтого песка. Их основное количество было в северовосточной части памятника. Кремневые изделия были сконцентрированы главным образом на небольшом участке площадью около 6 кв.м. Здесь обнаружено большое количество отщепов, сколов, пластин и их фрагментов, чешуек, а также различного рода технологических сколов подправки и обработки нуклеусов (всего более 700 экз.). Все это позволяет интерпретировать данный участок как место, где осуществлялась первичная обработка кремня (рис. 2). В качестве кремневого сырья использовалась валунная галька моренного происхождения светложелтого и коричневого цветов. За пределами скопления находки кремня были немногочисленны.
Коллекция кремневого инвентаря стоянки Сертея 32 включает один призматический нуклеус, 10 пластин, 264 отщепа и скола, три ретушированные пластины. В ходе раскопок было обнаружено 43 фрагмента керамики ранненеолитического облика, которые предположительно происходят как минимум от трех сосудов. Соответственно они могут быть сопоставлены с посудой фаз «с–1», «b–1» и елшаноидной керамикой. Кроме этого найдены фрагменты от двух сосудов поздненеолитического времени (рис. 5).
Местонахождение Сертея 33, расположено в 150 м к югозападу от местонахождения Сертея 32, на верхней террасе/борту протоки, соединяющей Нивниковскую озерную котловину с небольшими северными озеровидными расширениями Сертейской долины. Это место находится на небольшой площадке у края террасы и окружено небольшими камовыми останцами. Моделирование древней дневной поверхности памятника и анализ его расположения при помощи ГИСтехнологий показали, что площадка обитания была приурочена к участку рельефа, который был хорошо закрыт от ветров, особенно северных, и максимально освещался на протяжении всего светового дня в течение всего года.
В результате интенсивного сельскохозяйственного использования верхняя часть культурного слоя памятника была частично разрушена. Об этом могут свидетельствовать сборы керамического и кремневого материала, сделанные на поверхности местонахождения.
В настоящее время памятник изучен на площади 304 кв.м. На стоянке была зафиксирована следующая стратиграфия литологических отложений: под пахотным слоем, мощность которого увеличивалась к краю террасы, располагался слой плотного темножелтого песка, в котором залегали находки; под ним простирался светложелтый пылеватый песок (материк).
На стоянке Сертея 33 удалось выявить остатки четырех небольших очагов/кострищ и трехкамерной жилой конструкции, а также проследить древнее русло
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III106небольшого ручья. Очаги/кострища находились в северозападной части памятника под пахотным слоем в нижней части плотного темно желтого песка. Они располагались вдоль террасы и по краю ручья. Древнее русло ручья имело вытянутую овальную форму, конусообразный профиль и наклонные стенки. Оно было ориентировано по линии северовосток – югозапад, длина его составляла более 7 м. В заполнении была прослежена сложная картина перекрывающих друг друга слоев супеси и гумусированных линзпрослоек. В заполнении русла была обнаружена средне и поздненеолитическая керамика, которая маркирует время образования и существования ручья.
Очаги/кострища имели в плане подовальную и округлую форму. Их очажные ямы имели корытообразный профиль и глубину от 10 до 12 см. В заполнении очагов/кострищ была прослежена плотная прокаленная супесь. В пользу интерпретации их как очагов/кострищ свидетельствуют результаты геохимического анализа. Уровень, на котором были зафиксированы очажные пятна, позволяет выделить верхний «культурный» горизонт. С данным культурным горизонтом могут быть соотнесены находки, сделанные в нижней части пахотного слоя и в верхней части плотного темножелтого песка. Это фрагменты сосуда, форма, элементы орнамента и орнаментальная композиция которого находят аналогии в материалах позднешнуровых культур. Фрагменты этого сосуда были сосредоточены возле очажного пятна в северозападной части раскопа. С данным сосудом может быть связан обнаруженный здесь треугольный наконечник с вогнутым основанием, оформленным полукрутой ретушью и обработанный плоской ретушью со стороны спинки и брюшка. Данный тип наконечника характерен для позднешнуровой культуры.
Находки ранненеолитического облика залегали ниже «культурного» горизонта с материалами среднего и позднего неолита и были приурочены ко второму (нижнему) отделу плотного темножелтого песка. Все эти находки могут быть связаны с обнаруженными здесь остатками трехкамерной жилой конструкции (рис. 3), выявленной при расчистке западины. По всей видимости, в древности, после того, как западина была заброшена, она подверглась размыву. Об этом свидетельствуют большое количество мелких окатанных камней в рыхлой темножелтой супеси, которая заполняла западину. Вполне возможно, что западина «спровоцировала» образование здесь ручья, который основательно разрушил (размыл) северную часть постройки.
Выявленные в полу западины ямы, которые можно интерпретировать как остатки углубленных очагов и столбовых ям, и система их расположения позволяют рассматривать данный объект как остатки жилой конструкции. Центральная основная часть жилой конструкции состоит из углубленной примерно на 10 см в материк площадки, с размерами 3,2×2,5 м, со столбовой ямой в центре. По ее периметру располагались сильно размытые, округлой и подовальной формы столбовые ямы. К юговостоку от центральной площадки находилась еще одна небольшая камера подокруглой формы (1,6×1,4 м), которая также имела по своему периметру остатки столбовых ям. Обе камерыплощадки соединялись между собой «переходом» – углубленным коридором. Еще один коридор выходил из центральной камерыплощадки в северном направлении, к двум хозяйственным ямам округлой формы с наклонными стенками и диаметром около 2 м. С северовосточной стороны прослежен еще один «коридор», который, вероятно, соединяет центральную камеруплощадку с еще одной камерой. Однако судить о ее размерах, конструкции и назначении сложно, т.к. раскопом была вскрыта лишь небольшая ее часть.
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова 107Сама конструкция имела ориентацию по линии востокзапад, «вход» был
расположен в ее западной части, где были обнаружены остатки углубленного в пол очага. Он имел округлую форму (0,7×0,6 м), с сильно размытыми границами края. В ходе исследований жилой конструкции было установлено, что стены постройки имели внутри и снаружи подсыпки из песка. Характер расположения, диаметр и профиль столбовых ям дают возможность предположить, что постройка имела плоскую крышу, которая опиралась на центральный столб.
Кремневый и керамический материалы были обнаружены, в основном, в слое речных отложений и сконцентрированы вокруг жилой постройки. Основной керамический комплекс был представлен фрагментами сосудов сертейской ранненеолитической культуры (Мазуркевич, Полковникова, Кулькова, Савельева, 2003). Фрагменты сосудов данных типов залегали, в основном, в нижней части плотного темножелтого песка и на пылеватом светложелтом песке, являющимся материком. Всего можно выделить как минимум 17 сосудов рассматриваемого периода. Найдено два сосуда фазы «a», к фазе «b» относятся три сосуда, с фазой «b–1» можно связать остатки шести сосудов, к фазе «c» относится фрагмент от одного сосуда, к фазе «c–1» можно отнести остатки от четырех сосудов и один сосуд можно отнести к посуде елшанского типа (Мазуркевич, Короткевич, Полковникова, 2005). С жилой конструкцией можно связать находки сосудов фазы «а», «b» и «с», которые и определяют на сегодняшний день датировку этого сооружения. Посуда елшанского типа локализуется в югозападной части памятника. Кроме этого, найдено несколько небольших неорнаментированных фрагментов сосудов, которые можно предположительно отнести к сосудам елшанского типа (рис. 4).
В качестве основного сырья для изготовления изделий служил местный желвачный кремень валунного происхождения. В коллекции имеется также небольшое количество изделий из мелового кремня темносерого и черного цвета очень хорошего качества. Желвачный кремень, повидимому, приносился на поселение, и здесь осуществлялось его первичное расщепление и изготовление каменных орудий. Об этом свидетельствуют находки различных продуктов расщепления: желваков со следами расщепления, нуклеусов, технологических сколов их подправки и обработки, большого количества разнообразных отщепов, сколов, чешуек. Коллекция кремневого инвентаря стоянки Сертея 33 насчитывает четыре нуклеуса, более 1300 отщепов и сколов, 84 пластины и их фрагментов. Среди нуклеусов имеются один призматический двухплощадочный (высота – 4,8 см) со следами встречных снятий, два торцевых с негативами снятия пластин и микропластин, а также один пренуклеус. Среди пластин преобладают изделия правильной формы с двухгранной и трехгранной спинками. Они имеют длину от 3 до 9 см, ширину – от 0,8 до 2,5 см. В качестве заготовок для орудий использовали правильные пластины и пластинчатые отщепы, значительно реже – массивные сколы с нуклеусов. Орудия в коллекции поселения Сертея 33 немногочисленны – всего 16 экз. Это – скребки (3 экз.), наконечники (3 экз.), острия (2 экз.), ретушированные отщепы (2 экз.), резец (1 экз.), ретушированные пластины (3 экз.), ножевидное орудие (1 экз.), клювовидная проколка (1 экз.).
Скребки изготавливали на пластинах и пластинчатых отщепах. В коллекции имеется два концевых скребка, изготовленных на пластинах длиной 2,5 и 4,2 см, один округлый скребок на коротком пластинчатом отщепе.
Наконечники представлены наконечником треугольной формы с вогнутым основанием, обработанным полукрутой ретушью и двумя фрагментами (основаниями) черешковых наконечников. Один из черешковых наконечников изготовлен из ножевидной пластины правильной формы, черешковая часть оформлена
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III108полукрутой (?), наносившейся со стороны брюшка ретушью на проксимальном конце пластины. Другой выполнен также на правильной трехгранной пластине; его черешок имеет треугольную форму и обработан со стороны брюшка встречной плоской струйчатой ретушью.
Острия. Данная категория орудий представлена двумя остриями с бифациальной обработкой. Одно выполнено на массивном сколе с желвачного кремня, его длина 7,6 см. Острие имеет листовидную форму и округлое основание. Основание и края острия сформированы грубой полукрутой крупнофасеточной ретушью. Второе острие изготовлено из пластинчатого отщепа, его длина 4,6 см. Оно имеет подтреугольную форму. Его края сформированы двусторонней полукрутой ретушью.
Отщепы ретушированные. В коллекции имеются два пластинчатых отщепа (длиной 2,6 и 3,4 см), края которых несут на себе следы обработки полукрутой ретушью, которая наносилась со стороны брюшка.
Двойной боковой резец на пластине. Его длина составляет 6 см. Резцовые снятия осуществлены вдоль левого края пластины, который был обработан мелкой ретушью.
Ретушированные пластины представлены тремя экземплярами. В большинстве случаев один или оба края пластины обработаны регулярной полукрутой ретушью, которая занимает не менее 1/3 длины пластины. Лишь в одном случае край пластины был обработан притупливающей ретушью, которая наносилась по краю пластины, сформированному резцовым снятием.
Клювовидная проколка выполнена на дистальном конце узкой пластины длиной 7,6 см. Острие проколки было оформлено крутой ретушью, наносившейся со стороны спинки.
Ножевидное орудие выполнено на пластинчатом отщепе, его длина 2,6 см. Левый край орудия сформирован регулярной полукрутой ретушью, а правый уплощающими сколами различной величины (рис. 6, 7).
Орудия ранненеолитического комплекса Сертея 33 изготавливались из галечного кремня камового происхождения, цветовая гамма которого варьируется от светложелтого до коричневого цвета. Основной заготовкой здесь являлись пластины и пластинчатые отщепы. Особо следует выделить черешковые части наконечников, форма и техника изготовления которых идентична форме и технике изготовления наконечников, представленных в ранненеолитическом комплексе многослойного поселения Сертея XIV.
Кремневый инвентарь культурного слоя позднего неолита памятника Сертея 33 демонстрирует иные формы орудий (треугольный наконечник и концевой скребок на коротком пластинчатом отщепе) и характеризуется использованием другого типа сырья – мелового кремня хорошего качества черного и темносерого цвета. Многочисленные отщепы и сколы данного вида кремня концентрировались, главным образом, в северозападной части вскрытой площади, на участке рядом с очагами.
Появление и распространение памятников типа Сертея 31, Сертея 32, Сертея 33, которые располагались на возвышенных участках холмов, формирующих борта озерных котловин, происходило в разное время и, вероятно, не было жестко связано с трансгрессиями и регрессиями палеоводоемов сертейской котловины. Собранный археологический материал на памятнике и выявленные объекты на стоянке Сертея 33 позволяют выделить следующие культурнохронологические группы, синхронные различным этапам заселения. Наиболее ранний период связан с группами населения, оставившими керамику елшанского типа – Сертея 32 и 33. Следующий хронологический период связан с населением, которое изготавливало
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова 109посуду фазы «а» (сертейская культура) и «с» (посуда ракушечноярского типа). Далее происходит расселение групп населения, для которых характерны керамика фаз «b» и «b–1» сертейской культуры, на заключительном этапе появляется население с керамикой фазы «с–1». Эпизодически в среднем и позднем неолите здесь появлялись группы населения с ромбоямочной и шнуровой керамикой. Это население и оставило очажные пятна на поселении Сертея 33.
Для ранненеолитического времени можно предложить следующую модель заселения данного участка долины. Памятник Сертея 33 можно рассматривать как базовую стоянку. В пользу этого свидетельствуют остатки жилой конструкции, особенности жилой площадки – закрытость от северных ветров, максимальная зимняя освещенность. Небольшие стоянки Сертея 31 и 32 являлись местами расщепления кремня, а также могли быть небольшими стоянками, которые находились на месте сезонных миграционных троп лося и кабана, которые существуют на этом месте и в настоящее время. Особенностью этих памятников является их удаленность от водных источников и ресурсов. Даже при максимальном подъеме воды в палеозерах, эти стоянки располагаются от зеркала озера на 6–7 м. На момент существования здесь поселений и стоянок они возвышались над зеркалом палеоводоемов на 15–17 м. Удаленность от водных ресурсов может быть объяснена спецификой памятника и временем обитания на данных участках – сезонная охота (Сертея 32 и 31) и проживание в зимний период времени (Сертея 33). В пользу последнего предположения свидетельствует наличие долговременного трехкамерного жилища, а также мощность заполнения очажных ям верхнего «культурного» горизонта со средненеолитическим и поздненеолитическим материалами.
Литература
1. Санько, А.Ф. Неоплейстоцен СевероВосточной Белоруссии и смежных районов РСФСР. Мн., 1987.
2. Микляев, А.М. Каменныйжелезный век в междуречье Западной Двины и Ловати // ПАВ. № 9. 1994. С. 7–39.
3. Мазуркевич, А.н., кулькова, М.А., полковникова, М.Э., Савельева, Л.А. Ранненеолитические памятники ЛоватскоДвинского междуречья // Неолит – энеолит юга и неолит севера Восточной Европы (новые материалы, исследования, проблемы неолитизации регионов). СПб., 2003. С. 260–259.
4. Мазуркевич, А.н., короткевич, б.С., полковникова, М.Э., кулько-ва, М.А., Михайлов, А.В. Исследования СевероЗападной археологической экспедиции в 2003 г. // Археологические экспедиции за 2004 год. Сборник докладов. СПб., 2004. С. 3–15.
5. Мазуркевич, А.н., короткевич, б.С., полковникова, М.Э. Работы СевероЗападной археологической экспедиции в 2004 г. // Археологические экспедиции за 2005 год. Сборник докладов. СПб., 2005. С. 3–13.
6. Мазуркевич, А.н., короткевич, б.С., полковникова, М.Э. Работы СевероЗападной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в Смоленской и Псковской областях в 2005 г. в печати.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III110Andrey Mazurkevich, Mariya Polkovnikova
Specific of Spatial Organization of Monument Serteya-3
In the article area presented results of complex studies lasting many years on multilayer monument of Early – Middle Neolithic period Serteya3. It unites three locations which are Serteya 31, Serteya 32 and Serteya 33. Appearance and distribution of monuments of such type took place in different time. It is fixed that in valley of river Serteyka (Velizh region of Smolensk district) settlements with early Neolithic complexes were attached to elevated parts of hills which were forming sides of their lake basins. Analysis of ceramic and flint complexes which characterize by different lytologic conditions of beading let to emit some cultural chronological groups synchronized with different stages of settlement’s colonization.
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова 111
Рис. 1. Ситуационный план памятника Сертея 3. Местонахождения Сертея 3-1, Сертея 3-2, Сертея 3-3
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III112
Рис.
2. П
лан-
схем
а ра
спро
стра
нени
я ке
рами
ки и
кре
мня
на п
амят
нике
Сер
тея
3-2
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова 113
Рис. 3. План-схема с очажными ямами и жилой конструкцией на памятнике Сертея 3-3
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III114
Рис. 4. Памятник Сертея 3-3: 1–10 – фрагменты стенок сосудов
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова 115
Рис. 5. Памятник Сертея 3-2: 1–6, 8 – фрагменты стенок сосудов; памятник Сертея 3-1: 7, 9 – фрагменты стенок сосудов
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III116
Рис. 6. Памятник Сертея 3-3: 1–3 – скребки, 4 – клювовидная проколка, 5, 6 – ретуширован-ные отщепы, 7, 9 – острия, 8 – ножевидное орудие
Андрей Мазуркевич, Мария Полковникова 117
Рис. 7. Памятник Сертея 3-3: 1–4 – ретушированные пластины, 5, 6 – черешковые наконеч-ники, 7 – резец, 8 – нуклеус
1. ВведениеВ 2004–2007 гг. в Институте истории Литвы автором статьи велась работа над
докторской диссертацией по теме «Кремневая индустрия юговосточной Прибалтики в 2900–1700 гг. до н.э.». Основными археологическими источниками для нее были кремневые шлифованные топоры, их заготовки, производственные отходы и фрагменты. Данные собирались в литовских, латышских и белорусских1 музеях. Работая в музеях за рубежом, я столкнулся с некоторыми трудностями, знакомыми многим археологам. Фонды главных музеев многих стран настолько велики, что пересмотреть интересующий материал не всегда хватает времени. Кроме того, часто бывает тяжело прочитать рукописные записи инвентарных книг на неродном языке. Выше упомянутые сложности стали причиной, заставившей написать статью о кремневых шлифованных топорах, найденных на территории современной Беларуси и хранящихся в Национальном музее Литвы в Вильнюсе. Надеюсь, что такая статья будет полезной для белорусских археологов, исследующих поздний неолит и ранний бронзовый век. Кроме того, в этой статье я попытаюсь представить некоторые новые мысли, зародившиеся в процессе подготовки диссертации, а также начать дискуссию по вопросам неолитической кремневой индустрии в верховьях Немана. Очень жаль, что в этой дискуссии уже не сможет участвовать Виктор Обуховский, которому эти вопросы также были весьма интересны.
2. Старые собрания национального музея Литвы. находки и местонахожденияВсе кремневые топоры, когдато найденные на современной территории Ре
спублики Беларусь и хранящиеся в Национальном музее Литвы в Вильнюсе, являются частью коллекций, собранных до II Мировой войны. Из 118 таких орудий более 80 в начале ХХ в. находились в коллекции Вандалина Шукевича (Приложение 1). После его смерти они принадлежали Обществу любителей науки в Вильнюсе, а после II мировой войны попали в Академию наук и в Литовский музей истории и этнографии (TalkoHryncewicz, 1932).
Совершенно не удивительно, что большая часть кремневых топоров и их фрагментов из коллекции В. Шукевича происходят с окрестностей деревни Нача Вороновского района Гродненской области (рис. 1; 2:2, 3, 6; 3:6), где исследователь жил и проводил много времени, собирая и покупая находки каменного века. Только четыре из всех кремневых топоров были найдены целыми, не поломанными и не переработанными. Это бифациальные, грубо обработанные и не полностью шлифованные топоры. Другие находки – это фрагменты и отщепы бифациальных и четырехстенных топоров. Все находки В. Шукевича из окрестностей Начи
1 Сердечно благодарю В. Лакизу, В. Сидоровича, Н. Кривальцевича и других белорусских археологов и сотрудников музеев за теплый прием и всяческую помощь во время стажировки в Минске в 2005 г.
Гитис Пиличаускас
кремневые шлифованные топоры с территории беларуси из собрания национального музея
литвы и их интерпретация в контексте новых исследований подобных находок
в юго-восточной прибалтике
119Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III
являются характерными для поселений «песчаного» типа каменного и бронзового веков в верховьях Немана. С большой уверенностью можно предполагать, что «начские» находки были собраны на распаханных полях и выветренных песках, то есть в разрушенном культурном слое доисторических поселений.
Практически все кремневые топоры из Начи, как бифациальные, так и четырехстенные, были изготовлены из светлосерого непрозрачного кремня. Небольшие зоны черного прозрачного кремня указывают на специфическую структуру валуна. Внутри него было ядро из светлого матового кремня, которое с внешней стороны покрывала зона черного прозрачного кремня толщиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Такая внутренняя структура сырья весьма характерна для кремня из меловых блоков в северозападной части Беларуси, например, из Красносельских месторождений. На стоянках каменного века юговосточной Литвы преобладает серый прозрачный пятнистый моренный кремень.
Многие отщепы не являются характерными рабочими сколами лезвия. Они были отбиты от испорченных шлифованных топоров намеренно (рис. 1; 2:4–6). Есть немало доказательств тому, что такие отщепы использовались в качестве сырья для изготовления меньших по размерам орудий, к примеру, ножей и наконечников стрел (поселения в Литве: Каравишкес 6, Грибаша 4, Яра 1). Такое явление вторичного использования кремневых топоров в роли ядрищ заметил и сам В. Шукевич. Он предположил, что они перерабатывались изза нехватки сырья (Szukiewicz, 1901, s. 9). Но нельзя не отметить, что кремневые топоры часто перерабатывались в отщепы именно в тех регионах, где много выходов доступного кремня. Конечно, можно предполагать, что зимой, израсходовав все заготовки, легче расщепить поломанный или изношенный кремневый топор, нежели искать новый материал во дворе. Но можно также отметить и вероятную символическую роль отщепов со старых орудий.
Только 5 топоров из Начи являются четырехстенными. Еще одна нижняя часть четырехстенного топора без шлифовки (рис. 4:2) не имеет метрики, но происходит из той же самой коллекции В. Шукевича. Потому можно предполагать, что она также была найдена гдето в окрестностях Начи. Все эти изделия фрагментированы, изготовлены из светлого кремня, кроме нешлифованных заготовок из серого пятнистого кремня (рис. 4:1, 2). Такой моренный кремень широко использовался для изготовления бифациальных топоров в Варенском районе Литвы.
В Национальном музее Литвы находится 5 кремневых шлифованных топоров и их фрагментов из урочища Ланкишки около Начи (рис. 2:1, 4, 5). Четыре из них фрагментированы, а целый только один. Еще 3 бифациальных топора были найдены в урочище Петкушки около Начи. Все они изготовлены из мелового кремня двухслойной структуры (рис. 3:3). Несколько фрагментов таких орудий происходят из окрестностей деревни Смильгини, хутора Тальмонты и населенного пункта Szafrance (Шавры?) Вороновского района. Все эти находки своим внешним видом, сырьем и, может быть, происхождением очень похожи на «начские» топоры. Из общего контекста этого микрорегиона выделяются только два четырехстенных топора из окрестностей деревень Белюнцы (Начский сельсовет) и Каркутяны (рис. 4:6, 7). В отличие от многих других находок, они целые и вполне пригодные для дальнейшей работы. Оба топора имеют коричневую патину, т.е. лежали гдето во влажном месте. Другие топоры из верховьев Немана тоже похожи на «начские». Они изготовлены из местного мелового кремня светлосерой окраски, бифациальные (рис. 3:5) или четырехстенные (рис. 4:4).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III120Самой интересной из «белорусских» находок является четырехстенный то
пор, найденный около местности под названием Zawierze в бывшем Езеросском (позднее Новоалександровском) повете (рис. 4:8). Возможно, это деревня Заверье Браславского района Витебской области. Это изделие ни по форме, ни стилем, ни сырьем совершенно не похоже на орудия из восточной Прибалтики. Длина топора из Заверья – 198 см. Он сделан из мелкозернистого серого малопрозрачного кремня, а его боковые поверхности оставлены без шлифовки. Более всего эта находка напоминает скандинавские четырехстенные топоры с тонким обушком (англ. «thinbutted axes»), а точнее – их позднейший седьмой тип по типологии П.О. Нилсена, датируемый временем около 3000 ВС2 (Nielsen, 1977)3.
В Национальный музей Литвы попали 2 кремневых топора из верховьев Припяти. Оба они бифациальные, найдены в окрестностях деревни Здитово Березовского района. Один по форме трапециевидный и интенсивно шлифованный (рис. 3:4), другой в плане овальный и имеет слегка пришлифованное лезвие (рис. 3:7).
Судя по некоторым косвенным данным, 8 кремневых топоров из местности под названием Эдита происходят с поврежденного (раскопанного?) культурного слоя поселения лесного неолита. Найти эту местность на картах ХХ в. не удалось. Топоры были подарены неким Романовым, возможно, археологом Евдокимом Романовым, потому можно предполагать, что они были найдены гдето в восточной Беларуси. Все топоры бифациальные, неправильных форм, с неполной пришлифовкой только по лезвию и краям (рис. 3:8). Они изготовлены из моренного кремня, в том числе и из двухцветного полосатого. Такой кремень (рис. 3:8; 4:4) часто встречается в верховьях Припяти, реже в Белорусском Понеманье и его почти нет в южной Литве.
Восточную Беларусь представляют четыре четырехстенных топора (рис. 4:3–5) и один бифациальный топор (рис. 3:2). В отличие от западной Беларуси все они целые (либо были такими во время их нахождения). Эта особенность является характерной чертой регионов, бедных кремнем. Топоры из восточной Беларуси разнообразные по всем характеристикам. Сырье, из которого они изготовлены, очень разное. Иногда оно напоминает двухцветный неманский меловой кремень (рис. 3:2; 4:4) или бывает необычно коричневым (рис. 4:5), а также мелкозернистым светлосерым (рис. 4:3). Формы тоже значительно варьируют. Лезвие одного топора заострено повторной оббивкой (рис. 4:3).
После короткого обзора и перечня белорусских топоров хочется подчеркнуть, что, несмотря на тот факт, что многие находки В. Шукевича фрагментарны и, несомненно, происходят из доисторических поселений, все артефакты можно отнести к категории случайных находок, поскольку нет никаких данных, что какиелибо из них были найдены во время археологических раскопок. Общей чертой таких артефактов являются отсутствие контекстной информации. В лучшем случае ключом научного познания случайных находок может стать комбинация исследования коротких записей в инвентарных книгах и многоаспектного анализа физических
2 Здесь и далее используются только калиброванные даты.3 Гипотеза о скандинавском происхождении этого артефакта нашла подтверждение
и у шведских археологов. Профессор Лундского университета Д. Олауссон (D. Olausson) по фотографии решила, что это скандинавский тонкообушковый топор. Но нужно быть осторожным и иметь в виду, что он мог быть привезен не в каменном веке, а в ХIХ столетии. Уже тогда антиквары и первые археологи активно поддерживали личные связи и знакомства, менялись своими археологическими находками. Так, в середине ХIХ в. граф Е. Тышкевич привез в Вильнюс несколько десятков кремневых топоров и кинжалов из Швеции (Kulikauskas, Zabiela, 1999, р. 85), а в 1880 г. О. Монтелиус покупал археологические находки в Каунасе, которые теперь находятся в Государственном историческом музее в Стокгольме (Lamm, 1997).
Гитис Пиличаускас 121свойств самого артефакта. Для таких исследований важно большое количество объектов и значительная территория. Проведенные в 2004–2007 гг. регистрация и анализ кремневых шлифованных топоров с территории Польши, Беларуси, Литвы, Латвии и Калининградской области дают возможность культурной интерпретации выше упомянутых находок в контексте материалов юговосточной Прибалтики.
3. Типология и хронология кремневых шлифованных топоровВ 2007 г. была разработана трехступенчатая типологическоклассифика
ционная система, которая обобщает результаты анализа сырья и данные морфологических, технологических и картографических исследований (рис. 5). Сперва все рубящие орудия со шлифованными лезвиями, исходя из формы нешлифованной заготовки и методов оббивки, были поделены на три технологические группы: четырехстенные топоры (группа K), бифациальные топоры (группа D) и стамески (группа L). Далее проводилось группирование по форме фронтальной проекции на шесть формальных типов: K1, K2, K3, D5, D6, D7. На третьем этапе внутри формальных типов выделялись «действующие» типы. «Действующими» типами в этой работе будут именоваться группы орудий, похожие не только формой, но и сырьем, величиной и обстоятельствами нахождения. Эти типы вмещают в себя находки с одинаковой комбинацией количественных, качественных и контекстных характеристик и отражают существовавшую в определенном месте в определенное время модель изготовления и желаемый идеальный образ изготовляемого предмета. Для «действующих» типов можно выделить ареалы их распространения и периоды их использования (рис. 6).
Использование такой типологическоклассификационной системы дает возможность связать случайные находки с территории Беларуси с определенными группами археологических памятников, с археологическими культурами и их фазами.
Среди четырехстенных топоров в юговосточной Прибалтике преобладают толстые орудия с расширенным лезвием (тип K1a). Такие топоры составили большинство и среди белорусских находок в Национальном музее Литвы (рис. 4:5–7). Представляется, что этот тип довольно универсален, а такие орудия изготавливались долгое время из многих разновидностей кремня и встречаются на памятниках многих аграрных неолитических культур – воронковидных кубков (КВК), шаровидных амфор (КША), шнуровой керамики (КШК). Иногда боковые плоскости топоров типа K1a бывают слабо зашлифованы. Топоры типа K1b всегда отлично отшлифованные, тонкие по сравнению с орудиями типа K1a, а их боковые плоскости невыгнутые, прямые. Чаще всего такие предметы встречаются в погребальных комплексах КША и как случайные находки. Малые формы, изготовленные из массивных отщепов, иногда можно найти и на поселениях КШК. Типы K1c, K1d, K1e скандинавского происхождения. Только один такой топор был найден в Беларуси (рис. 4:8). Топоры типа K2 имеют лезвия в форме веера и являются очень редкими. Долота типа K3 являются характерными орудиями КША, но в этой работе среди описанных топоров таких находок не было.
Среди бифациальных топоров, найденных на территории Беларуси в Национальном музее Литвы, преобладают орудия овальной формы и неправильных очертаний (тип D5). Эти топоры чаще всего бывают слабо зашлифованы – только по лезвию и боковым ребрам, потому их поперечное сечение толстое линзовидное (рис. 4:7–8). Орудия типа D5 являются характерными находками на поселениях неолитической неманской культуры. Топоры типа D6а бывают изготовлены из светлого или двухцветного мелового кремня, средних размеров, с полностью
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III122и интенсивно отшлифованной поверхностью, с овальным поперечным сечением (рис. 3:5, 6). Можно предполагать, что главным центром производства топоров типа D6а были Красносельские кремнедобывающие шахты на реке Рось (Волковысский район). Типы D6b и D6c объединяют только несколько специфических предметов из югозападной и центральной Литвы. Топоры типа D7 имеют расширенное лезвие и бывают гораздо тоньше по сравнению с орудиями типа D6. В Беларуси часто встречаются изделия типов D7a и D7d. Первые изготавливались из мелового неманского кремня и являются характерными находками для поселений с постшнуровыми традициями (рис. 3:1, 3, 4). Тем временем вторые были меньших размеров, изготавливались из серого сожского кремня с белыми пятнышками и встречаются в погребальных комплексах среднеднепровской культуры (Крывальцэвiч, 2004; 2006). Топоры типа D7с изготавливались из серого пятнистого (моренного?) кремня. По сравнению с изделиями типов D7a и D7d они крупнее, тщательнее обработаны. Эти изделия распространены в югозападной Литве и северовосточной Польше. Орудия типа D7с могут быть связаны с позднейшей фазой КША в маргинальном северовосточном ареале ее существования. Тип D7b репрезентирует только несколько специфических предметов, изготовленных из моренного кремня и найденных в северной Литве.
Стамески изготавливались из небольших бифасов и отщепов. Они очень характерны для бедных кремнем территорий, но иногда встречаются и в поселениях Верхнего Понеманья с постшнуровой керамикой. В старых собраниях Национального музея Литвы таких орудий выявить не удалось.
Далее я попытаюсь связать разнообразие кремневых шлифованных орудий с социальноэкономическими и демографическими процессами, когдато имевшими место в Верхнем Понеманье и в соседних регионах.
4. Юго-Восточная прибалтика в III тыс. до н.э.В IV тыс. до н.э. в кремневой индустрии центральной и северной Европы про
изошел технологический перелом эпохи энеолита – в КВК и трипольской культуре стали изготавливаться кремневые шлифованные топоры, являвшиеся, возможно, копиями первых медных орудий (Balcer, 1988, s. 80). В Восточной Прибалтике технология шлифовки кремня распространилась позднее, в III тыс. до н.э., вместе с носителями первых аграрных культур – шаровидных амфор и шнуровой керамики
Самые ранние даты КША происходят из польских Куяв – 3300 ВС (Szmyt, 2001, fig. 41). Около 3000 г. до н.э. «шаровидники» уже встречаются в южной Польше, недалеко от выходов полосатого кремня в Кшеменках. Там они разработали методы шахтовой добычи кремня и массового производства четырехстенных шлифованных кремневых топоров и долот. Группы КША в бассейне Вислы создали систему обмена. Большая часть полосатых топоров шла на Куявы и в другие регионы, заселенные носителями КША (рис. 7). Поскольку для шахтовой добычи и производства четырехстенных шлифованных топоров требуются знания, практические навыки, много времени и усилий, можно предполагать, что этим делом были заняты хотя бы частично специализированные общины. Это значит, что какуюто часть жизненно необходимых продуктов эти общины получали путем обмена с потребителями их продукции. Имея в виду, что основным занятием КША было скотоводство, можно думать, что продукты именно этой отрасли менялись на кремневые топоры. Несмотря на определенный экономический характер обмена, кремневые топоры не имели денежной функции, и не было обычая их накапливать. Очень редко целые орудия встречаются в контекстах поселений, нет их больших скоплений ни в могилах, ни в виде кладов.
Гитис Пиличаускас 123В период 2800–2500 ВС группы КША поселились в Верхнем Понеманье и
шахтовым методом начали эксплуатировать выходы мелового кремня на реке Рось (Charniausky, 1995, p. 269). Судя по глубине и расположению шахт, а также с учетом нескольких топоров впечатляющих размеров, изготовленных из мелового кремня и найденных в верховьях Немана, первые мастера Красносельских шахт применили знания и навыки, накопленные в кшеменковском центре. Такая возможность кажется вероятной в контексте очень широкого распространения полосатых топоров (рис. 8) и не менее большого расстояния между некоторыми памятниками КША и основным ареалом этой культуры (Szmyt, 2001, ryc. 13). Все это свидетельствует о высокой мобильности некоторых групп КША, которые преодолевали расстояния до 500 км.
Четырехстенные шлифованные кремневые топоры, изготовленные из неманского мелового кремня, широко распространены в некоторых регионах Литвы. Около 20 таких орудий было найдено в Латвии. Значительное скопление их было зафиксировано в югозападной Литве, в Вилкавишском и Мариампольском районах (рис. 7). Возможно, что между 2800 и 2500 ВС в плодородных районах Занеманья и в долинах притоков среднего Немана поселились скотоводы КША, которые получали кремневые топоры из верховьев Немана путем обмена. Такая ситуация очень напоминает систему обмена в бассейне Вислы, только расстояния на Немане поменьше. В обоих случаях главные районы использования кремневых топоров находятся вниз по течению рек: Каменна – Висла и Рось – Неман. В югозападной Литве неолитические поселения пока еще не исследованы археологами и нет прямых доказательств присутствия здесь КША, но высказанное выше предположение набирает очки, так как число единичных находок, характерных для КША, в Литве все время растет. Это шаровидные амфоры (Грибаша 4, Якшишкис, Яра 1, Митраука, Швентойи 6, Запсе 5) и кремневые топоры из полосатого кремня (Каравишкес 6, Иглишкеляй, Шяйминишкеляй).
Связующим звеном между производителями и потребителями кремневых топоров в Неманском бассейне могли стать носители культуры шнуровой керамики. Очень похожая керамика на удаленных территориях, кратковременные стоянки и немногочисленность отходов обработки кремня указывают на мобильный образ жизни скотоводов КШК в Восточной Прибалтике. Прибытие носителей культуры шнуровой керамики в Красносельский микрорегион подтверждается погребением в шахте (Гурина, 1976, с. 128). Керамика КШК в небольшом количестве встречается на многих песчаных поселениях, близких к выходам моренного кремня. Грубые заготовки четырехстенных топоров, изготовленные из моренного кремня среднего или низкого качества, могут относиться к индустрии домашнего характера КШК (Brazaitis, Piličiauskas, 2005, pav. 22:1–2, 5). Они подтверждают мысль о более низком уровне кремнеобработчиков КШК по сравнению с мастерами КША, которые из качественного мелового кремня делали более крупные и тонкие топоры. Судя по случайным находкам коротких, толстых и широких орудий (рис. 4:6) а также небольшим и сильно изношенным топорам из погребальных комплексов (Плинкайгалис, Гивакарай, Айзупе, Арду), носители КШК долго и интенсивно использовали кремневые топоры, а в погребения их клали не как специальный предмет для жертвоприношения, а как личную вещь умершего. Часть кремневого инвентаря носители КШК могли получать и от мастеров КША. Такие контакты подтверждаются отщепом с кремневого топора, сделанного из полосатого кремня, найденного в слое поселения культуры шнуровой керамики Каравишкес 6, Варенский район, Литва (Piličiauskas, 2002, pav. 8). В Норунайском кладе (Пренайский район, Литва) вместе с двумя боевыми топорами КШК и двумя кремневыми пластинами лежа
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III124ли шесть кремневых топоров, изготовленных из разных сортов кремня (Brazaitis, Piličiauskas, 2005, pav. 29). Некоторые из них похожи на изделия мастеров КША. Возможно, что мобильные группы скотоводов КШК не только вели производство кремневых орудий домашнего характера недалеко от выходов кремня, но и не упускали возможности поменяться разными вещами и сырьем с местными жителями в разных регионах. Так они накапливали экзотические предметы и приобретали большее влияние в мире охотников и рыболовов лесного неолита.
Кремневые топоры неолитической неманской культуры сильно отличаются от рубящих орудий КШК и КША. Они изготавливались из бифациальных заготовок и шлифовались только по лезвиям и боковым ребрам (рис. 3:7–8), то есть только там, где это было необходимо для функционирования такого примитивного орудия. Технология производства таких орудий была унаследована от мезолитической индустрии, и только шлифовка является признаком неолита. Такие бифациальные топоры делались быстро, чаще из мореного кремня не самого лучшего качества, использовались недолго, особо не ценились и часто выбрасывались целыми на поселениях. Кремневые топоры для охотников были исключительно рабочими орудиями, которые старались изготавливать с самыми минимальными затратами времени и сил, а их внешний вид не был важен. Это были универсальные орудия, которые использовались для многих деревообрабатывающих работ: изготовления долбленок, строительство построек и рыбацких заколов, производства охотничьего и рыбачьего инвентаря и так далее... Исключительно утилитарная функция в обществе охотников и рыболовов сильно контрастирует с гораздо более разнообразным использованием кремневых топоров в мире аграрного неолита, где они могли быть полезны для приготовления веточного корма, а также играли некую роль в ритуалах. Бифациальные топоры лесного неолита не распространились за границы неманской культуры. Такие орудия не встречаются в памятниках КШК, КША, нарвской и жуцевской культур. Можно предполагать, что обмен в мире лесного неолита носил, в первую очередь, социальный, а не экономический характер. Люди менялись подарками, создавая и обновляя социальные отношения между индивидами и общинами.
5. постшнуровой период, 2200-1700 BCВ 2200–1700 ВС в результате контактов КША, КШК и общин лесного неолита
появляются группы со смешанными культурными традициями, идентифицируемые по керамике гибридного характера (поселения в Литве – Барздис 1, Дубичай 1, Истоки Котры 1 и другие). Изза большого разнообразия в керамическом материале, а также возможных отличий в хозяйственной структуре, выделение новой археологической культуры на основе этих памятников представляется нецелесообразным. Однако их можно называть группой постшнуровых традиций и воспринимать как явление, характерное для Восточной Прибалтики и имевшее место между горизонтом КША/КШК и тшцинецким горизонтом около 2200–1700 ВС. Специфическая особенность кремневой индустрии этой группы – развитая бифациальная техника. Из самих бифасов делались топоры и кинжалы, а полученные с них отщепы становились заготовками ножей, наконечников стрел и скребков (Piličiauskas, 2004). В некоторых комплексах попадаются и стамески с пришлифованными лезвиями.
Некоторые группы постшнуровых традиций занимались массовым производством кремневых бифациальных топоров типа D6a в Красносельских шахтах и мастерских. Мастера кремнеобработки выбрали бифациальный метод изготовления топоров, который был ближе к традициям индустрии лесного неолита и обеспечивал большее количество нешлифованных заготовок топоров по сравнению с
Гитис Пиличаускас 125методом производства четырехстенных топоров. Топоры типа D6a (рис. 1; 3:5–6) с верховьев Немана распространились в центральной Литве (рис. 7). Анализ формы таких находок показал, что среди них преобладают орудия средних размеров со значительной степенью стандартизации. Это аргументы в пользу модели специализированных групп, занятых добычей кремня и изготовлением топоров для обмена, но удивляет то, что совсем неизвестны большие скопления таких артефактов, то есть клады. Среди бифациальных топоров постшнурового периода преобладают целые случайные находки, а в могилах их пока еще не удалось найти4. На поселениях встречаются только фрагменты и отщепы таких топоров. Вероятнее всего, кремневые топоры постшнурового периода в центральной Литве являются продуктами индустрии домашнего характера, способом прямого обмена оказавшиеся далеко от мест их производства в верховьях Немана. Важной артерией таких контактов был Неман – половина всех топоров типа D6a в Литве была найдена недалеко от реки, то есть в Алитусском, Пренайском, Кайшядорском и Каунасском районах. Бифациальные топоры «белорусского» производства распространены не так широко, как четырехстенные. Это свидетельствует о более умеренной степени мобильности постшнуровых скотоводов по сравнению с предшествующим периодом экспансии КШК.
6. Феномен одиночных депозитовБолее чем скромные результаты археологических разведок в местах нахождения
целых кремневых топоров в Литве заставили поновому оценить явление случайных находок. Разведки практически не дали никакой информации о новых доисторических поселениях и тем подтвердили мысль, что во многих случаях археологический контекст находок не был зафиксирован не по вине людей, обнаруживших их, а потому, что случайные находки были оставлены за пределами поселений и не в могилах и являются одиночными депозитами. Одиночные депозиты представляют собой явление, характерное для всей территории распространения культур круга шнуровой керамики и боевых топоров. Нет сомнений, что часть случайных находок происходит из разрушенных могил и кладов, но не все. Явление одиночных депозитов также было подтверждено для первых металлических изделий в Дании (Vandkilde, 1996, p. 13, 36). В Литве такая традиция характерна для КШК (и КША?) и постшнуровых групп. Она не исчезает и в бронзовом веке – все бронзовые топоры с закраинами были найдены случайно в болотах, руслах рек, на холмах недалеко от водоемов.
Признавая существование одиночных депозитов, необходимо ответить на вопрос: почему люди оставляли такие ценные предметы? Рациональные объяснения здесь не очень подходят. Вряд ли кремневые топоры прятались с целью скрыть их от когото и позднее опять вернуть к действию. Некоторые орудия были потоплены в болотах и в водоемах, и вернуть их в таких условиях обратно было бы довольно сложно. Они не были редкостью, как и не были такими уж тяжелыми и неудобными, чтобы их держать все время при себе. Вероятнее всего, кремневые топоры, также как и каменные, иногда играли важную роль в какихто древних ритуалах, во время которых топились, закапывались и оставлялись сознательно и без намерения дальнейшего использования – как жертвоприношения богам или предкам (Piličiauskas, 2007).
7. Вместо заключенияВсе кремневые шлифованные топоры, когдато найденные на территории Бе
ларуси, а теперь хранящиеся в Национальном музее Литвы, происходят из старых коллекций археологов, научных обществ, музея древностей. В Вильнюс они попали еще перед II мировой войной. Эти находки отражают общие тенденции развития
4 За исключением топоров типа D7d в среднеднепровских могильниках.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III126кремневой индустрии в ЮгоВосточной Прибалтике в конце неолита и в начале бронзового века, т.е. в 3000–1700 ВС. Большая часть кремневых шлифованных топоров является свидетельством деятельности КША, КШК, неолитической неманской культуры и постшнуровых групп в богатом кремневым сырьем регионе верховьев Немана. Тем самым подтверждаются большие различия в сферах добычи кремня, организации производства, распространения и использования топоров у охотников и рыболовов лесного неолита, с одной стороны, и скотоводов аграрных культур, с другой. В результате анализа кремневых шлифованных топоров стало очевидно, что потенциал информации случайных находок может быть использован наилучшим образом в случае проведения исследования больших территорий, не ограниченных одним государством. Особенно широкий пространственный контекст необходим для кремневых артефактов, поскольку распространение кремневых выходов в Европе неравномерное. Не принимая это во внимание, невозможно понять стратегию обеспечения сырьем, организацию производства и характер обмена в определенных регионах. Однако, энтузиазм отдельных ученых, регистрирующих и исследующих случайные каменные, кремневые или бронзовые находки на больших пространствах Центральной Европы, может легко утонуть в постоянно углубляющемся океане археологического материала и публикаций. Лучше всего с таким делом могла бы справиться международная группа археологов, работающих над общим проектом. Надеюсь, что в ближайшем будущем так и произойдет.
Литература
1. гурина, н.н. Древние кремнедобывающие шахты на територии СССР. М., 1976.
2. крывальцэвiч, М.М. Гаспадарчая дзейнасць насельнiцтва сярэднедняпроўскай культуры (мiкрарэгiянальны аспект) // Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu). Poznań, 2004. С. 145–163.
3. крывальцэвiч, М.М. Могiльнiк сярэдзiны III – пачатку II тысячагоддзяў да н.э. на Верхнiм Дняпры – Прорва 1. Мн., 2006.
4. Balcer, B. The Neolithic flint industries in the Vistula and Odra basins // PA. T. 35. 1988. P. 49–100.
5. Brazaitis, D., Piličiauskas, G. Gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje // LA. T. 29. 2005. P. 71–118.
6. Charniauski, M.M. Ancient flint mines in Belarus // AP. Vol. 33. 1995. P. 262–270.
7. Kulikauskas, P., Zabiela, G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999.
8. Lamm, J.P. Carl von Schmith and his «Necrolithuanica» // AB. Vol. 2. 1997. P. 11–21.
9. Nielsen, P.O. Die Flintbeile der frühen Trichterbecherkultur in Dänemark // AA. Vol. 48. 1977. P. 61–128.
10. Piličiauskas, G. Karaviškių 6oji gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. P. 107–136.
Гитис Пиличаускас 127
Gytis PiličiauskasPolished Flint Axes from the Territory of Belarus in the National Museum of
Lithuania and their Interpretation on the Evidence of the Studies of such Artifacts in South-East Baltic
The aim of this study is dual, i.e. to present and publish a particular archaeological material and to discuss some new ideas which arose during the preparation process of doctoral thesis on the theme of «The flint industry in Southeastern Baltic, 2900–1700 BC, on the evidence of the studies of polished flint axes» in the years 2004–2007. 118 polished flint axes and their fragments were found sometime in the territory of presentday Belarus and preserved in the National Museum of Lithuania. 80 of them belonged to W. Szukiewicz collection in the beguinning of the 20th century. All discussed artefacts must be acknowledged as stray finds, however, it is very likely whole square axes to come from single deposits and disturbed prehistoric graves while fragments to be characteristic for cultural layers of Late Neolithic and Early Bronze Age ancient settlements. The axes illustrate common tendencies of development of Neolithic flint industry in SouthEastern Baltic. They belonged to the Globular Amphora, the Corded Ware and the Neman Cultures and to postcorded groups in rich in flint upper basin of the Neman River. Considerable differences between forest Neolithic huntersfishermen and stockbreeders of agrarian cultures are observable in the fields of flint extraction, organization of production, distribution and usage. An especially important role of Krasnaselsky flint mining complex and axe production centre was stressed in this study. An analysis of flint axes clearly demonstrated that a potential of stray finds could be used on a right way only in a case of international researches on large territories.
11. Piličiauskas, G. Akmens ir bronzos amžių stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6oji gyvenvietė, plotai II ir IV) // LA. T. 25. 2004. P. 157–186.
12. Piličiauskas, G. Stone Age stray finds: diversity of interpretation // Interarchaeologia 2. Papers from the second Baltic archaeological seminar (BASE) held at Padvariai (district of Kretinga), Lithuania, October 20–22, 2005. Vilnius (в печати).
13. Szmyt, M. Spoleczności kultury amfor kulistych w Europie Wschodniej // Od neolityzacji do początków epoki brązu. Poznań, 2001. S. 167–193.
14. Szukiewicz, W. Poszukiwania archeologiczne w powiecie Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) // Światowit. T. III. 1901. S. 3–29.
15. Talko-Hryncewicz, J. Wspomnienia z lat ostatnich (1908–1932). Warszawa, 1932.
16. Vandkilde, H. From stone to bronze: the metalwork of the Late Neolithic and earliest Bronze Age in Denmark. Aarhus, 1996.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III128№
Мес
тона
хож
дени
еРа
йон
Инв
. №С
осто
яние
Техн
. гру
ппа
Тип
Разм
еры
Кол
лекц
ия
1Бо
бров
ники
?EM
-10
16:2
целы
йби
фаци
альн
ый
347
2112
?
22-
е Бо
рисо
вско
е ле
снич
еств
оБо
рисо
вски
йEM
-166
целы
йче
тыре
хсте
нны
й1
7548
15М
узей
дре
внос
тей
3Бе
люнц
ыВ
орон
овск
ийEM
-138
целы
йче
тыре
хсте
нны
й1a
8144
25В
. Шук
евич
4Д
ерев
ная
Сло
нимс
кий
EM-1
64фр
агме
нтче
тыре
хсте
нны
й1
–42
19В
. Шук
евич
5Ка
дино
Сен
ненс
кий
EM-1
68це
лый
четы
рехс
тенн
ый
1a96
4528
Унив
ерси
тет
Стеф
ана
Бато
рия
6Ка
ркут
яны
Вор
онов
ский
EM-1
46це
лый
четы
рехс
тенн
ый
1a11
149
27Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
7Н
ача,
уро
чищ
е Л
анки
шки
Вор
онов
ский
EM-2
9:41
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й6a
––
–В
. Шук
евич
8Н
ача,
уро
чищ
е Л
анки
шки
Вор
онов
ский
MA
849
целы
йби
фаци
альн
ый
565
3317
В. Ш
укев
ич
9Н
ача,
уро
чищ
е Л
анки
шки
Вор
онов
ский
EM-
35:7
13фр
агме
нтче
тыре
хсте
нны
й1
5629
14В
. Шук
евич
10Н
ача,
уро
чищ
е Л
анки
шки
Вор
онов
ский
EM-1
00:1
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й6a
–45
17В
. Шук
евич
11Н
ача,
уро
чищ
е Л
анки
шки
Вор
онов
ский
EM-
35:7
08фр
агме
нтби
фаци
альн
ый
5–
––
В. Ш
укев
ич
12М
алин
овка
Мог
илев
ский
(?
)EM
-170
фраг
мент
четы
рехс
тенн
ый
177
5025
В. Ш
укев
ич
13Н
ача
Вор
онов
ский
EM-1
54це
лый
бифа
циал
ьны
й6a
6823
16В
. Шук
евич
14Н
ача
Вор
онов
ский
EM-2
27це
лый
бифа
циал
ьны
й6a
121
4928
В. Ш
укев
ич
15Н
ача
Вор
онов
ский
MA
872
целы
йби
фаци
альн
ый
672
4223
В. Ш
укев
ич
16Н
ача
Вор
онов
ский
EM-1
26:3
целы
йби
фаци
альн
ый
–82
4624
В. Ш
укев
ич
Гитис Пиличаускас 129
№М
есто
нахо
жде
ние
Райо
нИ
нв. №
Сос
тоян
иеТе
хн. г
рупп
аТи
пРа
змер
ыК
олле
кция
17–5
0Н
ача
Вор
онов
ский
EM-3
5:фр
агме
нты
бифа
циал
ьны
й–
––
–В
. Шук
евич
51–5
5Н
ача
Вор
онов
ский
EM-3
5:фр
агме
нты
четы
рехс
тенн
ый
––
––
В. Ш
укев
ич
56–7
7Н
ача
Вор
онов
ский
EM-3
5:фр
агме
нты
?–
––
–В
. Шук
евич
78О
хоти
чи?
(Охо
вичи
)К
иров
ский
EM-1
60це
лый
бифа
циал
ьны
й7a
8847
17?
79Н
ача,
уро
чищ
е П
етку
шки
Вор
онов
ский
EM-3
9:3
целы
йби
фаци
альн
ый
553
4420
В. Ш
укев
ич
80Н
ача,
уро
чищ
е П
етку
шки
Вор
онов
ский
EM-3
9:2
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
––
–В
. Шук
евич
81Н
ача,
уро
чищ
е П
етку
шки
Вор
онов
ский
EM-1
53це
лый
бифа
циал
ьны
й5
7040
16В
. Шук
евич
82Н
ача,
уро
чищ
е П
етку
шки
Вор
онов
ский
EM-1
57це
лый
бифа
циал
ьны
й7a
8753
17В
. Шук
евич
83М
ицка
нцы
(П
апиш
ки)
Вор
онов
ский
EM-1
74це
лый
бифа
циал
ьны
й7a
7540
17В
. Шук
евич
84Ру
да Я
ворс
кая
Дят
ловс
кий
EM-1
67:2
целы
йче
тыре
хсте
нны
й1
113
4119
Унив
ерси
тет
Стеф
ана
Бато
рия
85Ру
да Я
ворс
кая
Дят
ловс
кий
EM-1
67:1
целы
йби
фаци
альн
ый
6a87
3628
Унив
ерси
тет
Стеф
ана
Бато
рия
86С
миль
гини
Вор
онов
ский
EM-8
9:4
целы
йби
фаци
альн
ый
564
3611
В. Ш
укев
ич
87Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-13
0:13
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
––
–Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
88Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-13
0:17
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й5
–25
18Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
89Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-130
:8це
лый
бифа
циал
ьны
й5
8042
25Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
90Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-13
0:12
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й5
–43
17Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III130№
Мес
тона
хож
дени
еРа
йон
Инв
. №С
осто
яние
Техн
. гру
ппа
Тип
Разм
еры
Кол
лекц
ия
91Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-13
0:15
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й5
–44
30Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
92Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-13
0:14
целы
йби
фаци
альн
ый
–95
4825
Лит
овск
ое н
аучн
ое
общ
еств
о
93Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-130
:7це
лый
бифа
циал
ьны
й5
9034
20Л
итов
ское
нау
чное
об
щес
тво
94Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-13
0:16
целы
йби
фаци
альн
ый
560
3820
Лит
овск
ое н
аучн
ое
общ
еств
о
95Эд
ита
(Ста
ро...
?)во
сточ
ная
Бела
русь
?EM
-130
:6це
лый
бифа
циал
ьны
й5
104
5132
Лит
овск
ое н
аучн
ое
общ
еств
о
96Ш
авры
? (S
zafr
ance
)В
орон
овск
ийEM
-165
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
––
–В
. Шук
евич
97То
лочи
нТо
лочи
нски
йEM
-191
8це
лый
четы
рехс
тенн
ый
111
640
23?
98Та
льмо
нты
Вор
онов
ский
EM-1
17:2
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
––
25В
. Шук
евич
99Та
льмо
нты
Вор
онов
ский
EM-1
17:1
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
––
17В
. Шук
евич
100
Заве
рье?
(Zaw
ierz
e)Бр
асла
вски
й?EM
-192
0це
лый
четы
рехс
тенн
ый
1d19
854
35?
101
Заво
сье?
(Zau
sse)
Бара
нови
чски
й?EM
-175
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
4548
25Ун
ивер
сите
т Ст
ефан
а Ба
тори
я
102
Здит
ово
Бере
зовс
кий
EM-1
80це
лый
бифа
циал
ьны
й7
8340
16М
узей
дре
внос
тей
103
Здит
ово
Бере
зовс
кий
EM-1
82це
лый
бифа
циал
ьны
й5
7545
26М
узей
дре
внос
тей
104
??
EM-1
94це
лый
бифа
циал
ьны
й5
121
4522
Муз
ей д
ревн
осте
й
105
??
EM-1
98це
лый
бифа
циал
ьны
й6a
7035
22М
узей
дре
внос
тей
106
??
EM-1
95це
лый
бифа
циал
ьны
й5
7138
25М
узей
дре
внос
тей
Гитис Пиличаускас 131
№М
есто
нахо
жде
ние
Райо
нИ
нв. №
Сос
тоян
иеТе
хн. г
рупп
аТи
пРа
змер
ыК
олле
кция
107
??
EM-1
86це
лый
четы
рехс
тенн
ый
110
136
24М
узей
дре
внос
тей
108
??
EM-1
97це
лый
четы
рехс
тенн
ый
110
345
27М
узей
дре
внос
тей
109
??
EM-1
81фр
агме
нтби
фаци
альн
ый
669
4125
Муз
ей д
ревн
осте
й
110
??
EM-1
927
фраг
мент
бифа
циал
ьны
й–
6647
23?
111
??
EM-1
926
целы
йче
тыре
хсте
нны
й1a
8043
24?
112
??
EM-1
79:5
фраг
мент
четы
рехс
тенн
ый
173
5025
Муз
ей д
ревн
осте
й
113
??
EM-1
79:4
фраг
мент
четы
рехс
тенн
ый
1a95
4829
Муз
ей д
ревн
осте
й
114
??
EM-1
79:6
целы
йче
тыре
хсте
нны
й1
8050
21М
узей
дре
внос
тей
115
??
EM-2
21:1
целы
йби
фаци
альн
ый
773
4515
Муз
ей д
ревн
осте
й
116
??
EM-1
79це
лый
бифа
циал
ьны
й6
7742
20М
узей
дре
внос
тей
117
??
EM-1
99фр
агме
нтби
фаци
альн
ый
553
4022
Муз
ей д
ревн
осте
й
118
??
EM-1
79:1
целы
йче
тыре
хсте
нны
й1a
125
6138
Муз
ей д
ревн
осте
й
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III132
Рис. 1. Отщепы с кремневых бифациальных топоров, Нача (Вороновский район; EM-35)
Гитис Пиличаускас 133
Рис. 2. Кремневые бифациальные топоры: 1, 4, 5 – Ланкишки (Вороновский район; MA 849, EM-100:1, EM-29:41), 2, 3, 6 – Нача (Вороновский район; EM-154, MA 872, EM-227)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III134
Рис. 3. Кремневые бифациальные топоры: 1 – Папишки (Вороновский район; EM-174), 2 – Оховичи (Охотичи?, Кировский район; EM-160), 3 – Петкушки (Вороновский район;
EM-157), 4 – Здитово (Березовский район; EM-180), 5 – Руда Яворская (Дятловский район; EM-167:1), 6 – Нача (Вороновский район; EM-35:714), 7 – Здитово (Берёзовский район;
EM-182), 8 – Эдита (восточная Беларусь?; EM-130:8)
Гитис Пиличаускас 135
Рис. 4. Кремневые четырехстенные топоры и их заготовки: 1 – Нача (Вороновский район; EM-26:53), 2 – Нача? (Вороновский район; EM-177), 3 – Толочин (Толочинский район;
EM-1918), 4 – 2-е Борисовское лесничество (Борисовский район; EM-166), 5 – Кадино (Сен-ненский район; EM-168), 6 – Белюнцы (Вороновский район; EM-138), 7 – Каркутяны (Воро-
новский район; EM-146), 8 – Заверье? (Zawierze (Браславский район?; EM-1920))
Гитис Пиличаускас 137
Рис. 6. Хронология кремневых шлифованных топоров
Рис. 7. Распространение кремневых четырехстенных топоров в юго-восточной Прибалтике
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III138
Рис. 8. Распространение бифациальных кремневых топоров типа D6а
особенности изготовления ранненеолитической керамики в ловатско-двинском междуречье1
1 Работа выполнена при поддержке грантов FP6NEST028192; ECO NET №16333YJ; РГНФ07019016а/Б.
Вопросы производства керамических изделий в последнее время приобретают особый интерес в археологии. Высокоточные аналитические методы исследования дают возможность количественно установить минеральный и химический составы формовочных масс, выявить технологические приемы ее изготовления, идентифицировать источники сырья (Feliu, Edreira, Martın, 2004; Papadopouloua, Zachariadisa, Anthemidisa, Tsirliganisb, Stratis, 2004; Bastie, Hamelin, Fiori, Giuliani, Giunta, Rustichelli, Gysens, 2006). Эти данные расширяют знания о древнем керамическом производстве и дают представление о технологических традициях в изготовлении керамики, что позволяет поновому взглянуть на археологические комплексы, выявленные на основе типологических и морфологических характеристик керамики.
Нами были проведены исследования керамического материала из региона ДвинскоЛоватского междуречья, расположенного на границе Псковской и Смоленской областей. Установлено, что это один из первых регионов в лесной зоне, в котором глиняная посуда появляется во второй половине VII тыс. до н.э.
Появление керамических изделий – это инновация, отразившая изменение в мыслительнообразном сознании древнего человека. Изготовление керамики – это сложный многоступенчатый процесс, требующий определенного технического навыка и умения мастера. Создание керамических изделий предполагает выбор подходящих сырьевых ресурсов, от характеристик которых выбирается рецептура формовочной массы и обжиг. Технические приемы изготовления керамики отражают определенные культурные традиции, которые являются наиболее консервативными (Волкова, 1996, с. 26; Бобринский, 1978, с. 243–244). Поэтому использование исторического подхода в комплексе с естественнонаучными методами в изучении древних керамических изделий позволяет проследить распространение культурных традиций, реконструировать хозяйственные, социальные условия жизни древнего населения.
В данном исследовании поставлены задачи:– установить минералогогеохимические характеристики исходного сырья,
использовавшегося для изготовления керамического теста;– определить рецептуру формовочных масс;– реконструировать технику конструирования сосудов;– установить возможные источники сырья;– сопоставить данные естественнонаучных исследований с результатами ти
пологического анализа технологии изготовления сосудов сертейской культуры.
географическое расположение памятников сертейской культурыФрагменты ранненеолитической посуды происходят из коллекций памят
ников, расположенных в сертейском, усвятском и сенницком археологических микрорегионах. Основной комплекс ранненеолитических памятников сертейской культуры сосредоточен в районе палеоозер, расположенных около деревни Рудня
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III140Велижского района. Цепочка озер начала формироваться в конце плейстоцена – начале голоцена после отступления валдайского ледника на участках холмистоморенного и камового рельефа, представляющих собой краевые образования максимального продвижения ледника и последующих отступаний и наступаний бологовской и едровской стадий (Рельеф…, с. 82–90). В настоящее время озерные котловины заболочены и унаследованы узким руслом реки Сертейки, которая впадает в Западную Двину. Среди древних цепочек палеоозер выделяются Сертейская – большая озерная котловина и малая Нивникская озерная котловина (рис. 1). Сертейская озерная ванна сложена рыжеватокрасными моренными суглинками. Нивникская озерная ванна сложена флювиогляциальными камовыми отложениями, представленными среднезернистыми слоистыми песками желтого и желторозового цвета. Граница конечноморенных отложений и камовых отложений проходит в северной части Сертейской котловины. Голоценовые озерные отложения представлены двумя литологическими типами: глубоководные отложения сложены восьмиметровой толщей сапропелевых осадков, мелководные отложения, мощность которых достигает одного метра, сложены слоистыми песками и суглинками серого, сероватожелтого цвета с включениями органических остатков.
Культурные слои, содержащие анализируемый материал, расположены по бортам древних котловин, на камовых останцах и террасах, сформированных палеоводоемами на протяжении раннего и среднего голоцена, в основании толщи озерноболотных отложений голоценового времени.
Методы исследованияДля исследования были выбраны сосуды, отнесенные к сертейской ранненео
литической культуре. Было исследовано 110 фрагментов от такого же количества сосудов из 16ти памятников. Кроме этого были учтены результаты исследования 10 скважин и шурфов, заложенных в сертейском археологическом микрорегионе и дающих характеристику отложений.
Петрографический анализ. Изучение керамических фрагментов (100 образцов) проводилось под бинокуляром в пришлифованных образцах и под поляризационным микроскопом ПОЛАМ С111 в шлифах в проходящем и поляризационном свете при увеличении в 15 раз. Петрографические исследования позволили выявить минеральный состав формовочной массы, идентифицировать естественные и искусственные добавки и определить их количество, изучить текстурные особенности керамики. Особенности минерального состава позволили предположить возможные условия и температуру обжига.
Рентгено-спектральный флуоресцентный анализ. С помощью рентгеноспектрального флуоресцентного анализа определялся количественный состав главных породообразующих элементов керамики и отложений, развитых вблизи археологических памятников. С помощью этого метода была решена такая задача, как определение источников сырья для изготовления керамики. Для этого данные по химическому составу керамических образцов (110 шт.) и глинистых отложений (50 обр.) были обработаны методами математической статистики – кластерным и факторным анализами (рис. 2, 3). Было выделено 6 групп керамических фрагментов, каждая из которых имеет определенный геохимический состав. На рис. 2, 3 приведены средние значения содержания породообразующих окислов и некоторых микроэлементов для каждой группы и соответствующие им данные по составу тех отложений, из которых были изготовлены керамические фрагменты каждой группы.
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 141Результаты естественнонаучных исследований сосудов сертейской культуры
Минералогогеохимические характеристики, полученные на основании данных петрографического и рентгеноспектрального флуоресцентного анализов позволили выделить несколько групп керамики, которые отличаются по составу формовочной массы и распространены на различных памятниках.
Технологический прием А (алевритовый состав, без отощителя).Однослойная керамика, без покрытия жидкой сметанообразной глиняной
массой или покрытая тем же материалом, плотная, тонкостенная (5–8 мм). Тощие алевритовые глины, кластического материала до 50–90%.
Состав кластической составляющей: кварц, полевой шпат, биотит, углистые частицы, амфибол, оливин, циркон. Размер зерен 0,03–1 мм. Отощитель не используется (рис. 4).
Технологические приемы В-В1, (основной отощитель – алеврит).В – (рис. 5), трехслойная керамика, тонкостенная, плотная. Покрытие стенок
сосудов предварительно промытым основным материалом. Тощие глины гидрослюдистого состава с высоким содержанием кластического материала (25–30%). Отощитель – озерный алеврит (30–40%), размер зерен 0,5–1,15 мм. Состав: кварц, плагиоклаз, роговая обманка, мусковит. Общее количество отощающего материала 30+40=70%.
В1 – (рис. 6), трехслойная керамика, толщина стенок 7–9 мм, пористая (5%). Покрытие стенок сосудов предварительно промытым основным материалом. Жирные глины монтмориллонитгидрослюдистого состава, кластического материала 2–10%. Отощитель – алеврит (30–40%), шамот1 1%, в отдельных образцах до 5%, размер зерен 0,5–1,15 мм. Состав: кварц, пелитизированный микроклин, плагиоклаз, биотит, апатит, циркон, включения углистых частиц.
Общее количество отощающего материала 10+40+(1–5)=50–55%.Технологические приемы С–С1–С2-D (основной отощитель – шамот).С – (рис. 7), тонкостенная, плотная керамика. Покрытие внешней и внутрен
ней поверхности сосудов тонким слоем предварительно отмученного основного материала. Глины гидрослюдистого состава с высоким содержанием кластического материала (около 25%). Отощитель – озерный алеврит (15%), размер зерен 0,05–1,5 мм + шамот (5–10%), размер зерен 0,15–0,35 мм. Общее количество отощающего материала 25+15+10=50%.
С1 – (рис. 8), двухслойная керамика, тонкостенная, толщина стенок 7–8 мм, пористая (10%). Глины монтмориллонитового/гидрослюдистого состава с большим количеством кластического материала до 50%. Отощитель – шамот (5%), крупные зерна до 1,5 см. Общее количество отощающего материала 50+5=55%.
С2 – (рис. 9), трехслойная керамика, пористая (5%), имеет покрытие в виде «поливы». Жирные глины монтмориллонит/гидрослюдистые, обогащенные гидроокислами железа, содержащие органические остатки с небольшим количеством кластического материала (5%). Отощитель – озерный алеврит (10–20%), размер зерен 0,07–0,55 мм + шамот (10%), размер зерен 1–3 мм. Состав: кварц, пелитизированный микроклин, плагиоклаз, биотит, апатит, циркон, включения углистых частиц. Общее количество отощающего материала 5+20+10=35%.
D – (рис. 10), трехслойная керамика, пористая (10%). Покрытие стенок сосудов предварительно промытым основным материалом. Тощие каолинитовые глины с высоким содержанием кластического материала (60%). Отощитель: алеврит (10–20%) + шамот (10%), размер зерен 1–3 мм. Состав: кварц, плагиоклаз, биотит, циркон, гранат, углистые частицы. Общее количество отощающего материала 60+20+10=90%.
1 Шамот в данных типах керамики представлен высушенной и растертой глиной.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III142Технологический прием Е (основная добавка – органика).Е – (рис. 11), керамика пористая (25–30%). Жирные монтмориллонитовые
глины с небольшим количеством кластического материала (2%). Отощитель: алеврит (2%), размер зерен до 0,4 мм, шамот (10%), размер зерен до 2–3 мм. Состав: кварц, плагиоклаз, биотит, циркон, гранат, углистые частицы. Общее содержание отощителя – 14%. В глиняное тесто была добавлена измельченная растительность (30%).
Шамот в типах B1, C, C1, C2, D, E представлен высушенной и растертой глиной, и его содержание повышается в зависимости от жирности и пластичности используемых суглинков, наибольшие концентрации фиксируются в пластичных монтмориллонитовых суглинках.
определение источников керамического сырьяАнализ геохимического состава керамических фрагментов и отложений из
микрорегиона показал, что источниками сырья являлись локальные отложения, развитые в пределах озерных котловин. Выделяются две группы образцов, которые отличаются по содержанию окисла марганца: группа с повышенным содержанием MnO (0,2–0,5%) и низким содержанием (0,2–0,02%). Повышенные содержания MnO характерны для отложений ледникового генезиса – флювиогляциальных камовых отложений и моренных отложений (от 0,13 до 0,5%). Озерные отложения голоценового возраста характеризуются низкими значениями – (0,02–0,1%). Одним из породообразующих компонентов отложений ледникового генезиса являются глины монтмориллонитового состава. Формирование монтмориллонита, как правило, происходит в прохладных, сухих условиях (Masud Alam, Xie, Saha, Chowdhury, 2007), в щелочной среде. Для накопления MnO также характерны такие условия, концентрация марганца увеличивается в аридных областях в результате испарения и увеличения щелочности среды (Краускопф, 1965). Поэтому значения содержания MnO могут быть использованы для характеристик источников сырья: образцы керамических фрагментов с повышенными содержаниями MnO были изготовлены с использованием отложений ледникового генезиса, т.е. флювиогляциальных камовых и моренных отложений, развитых на бортах озерных котловин и террасах. Для изготовления керамики, которая характеризуется низкими значениями MnO, использовались голоценовые озерные отложения, расположенные в прибрежных частях котловин. Монтмориллонит/гидрослюдистые глины могли отбираться из Сертейской котловины из прибрежных отложений, на невысоких суходолах, сложенных монтмориллонитовыми глинистыми отложениями, где происходит перемыв моренных и озерных отложений.
Две выборки образцов, разделенных по этому принципу, а также данные по составу отложений, были обработаны методами математической статистики – кластерным анализом, на основе которого было выделено 6 групп, отличающихся по составу химических компонентов (рис. 2, 3) и отражающих местонахождение источников сырья, которые использовались при изготовлении керамики:
группа I – керамика, изготовленная из прибрежных отложений Сертейской озерной котловины, которые представлены глинистыми опесчаненными отложениями, содержащими глины каолинит/гидрослюдистого состава, характеризуются повышенными содержаниями SiO2 (средние содержания – 73%), пониженными концентрациями Al2O3 (средние содержания – 11,6%), Fe2O3 (средние содержания – 3,4%), органического вещества (средние содержания – 5,3%).
группа II – керамика, изготовленная из прибрежных отложений Нивниковской озерной котловины, которые представлены глинистыми опесчаненными
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 143отложениями, содержащими глины каолинит/гидрослюдистого состава, характеризуются повышенными содержаниями SiO2 (средние содержания – 68,2%), средними значениями Al2O3 (средние содержания – 12,9%), низкими значениями Fe2O3 (средние содержания – 5,1%) и органического вещества (средние содержания – 6,6%).
группа III – керамика, изготовленная из отложений суходолов Сертейской озерной котловины, которые представлены перемытыми глинистыми отложениями, содержащими глины каолинит/гидрослюдистого и монтмориллонитового составов и характеризуются низкими содержаниями SiO2 (средние содержания – 60%), повышенными значениями Al2O3 (средние содержания – 14%), повышенными значениями Fe2O3 (средние содержания – 8,3%) и органического вещества (средние содержания – 9,1%).
группа IV – керамика, изготовленная из террасовых отложений Нивниковской озерной котловины, которые представлены перемытыми глинистыми алевритами, содержащими глины каолинит/гидрослюдистого и монтмориллонитового составов и характеризуются низкими содержаниями SiO2 (средние содержания – 63%), повышенными значениями Al2O3 (средние содержания – 15%), средними значениями Fe2O3 (средние содержания – 6,4%) и органического вещества (средние содержания – 7,6%).
группа V – керамика, изготовленная из флювиогляциальных отложений, расположенных на бортах Нивниковской озерной котловины, которые представлены алевритовыми отложениями, характеризующиеся повышенными содержаниями SiO2 (средние содержания – 70%), средними концентрациями Al2O3 (средние содержания – 12,4%), низкими значениями Fe2O3 (средние содержания – 4,7%), органического вещества (средние содержания – 5,9%).
группа VI – керамика, изготовленная из моренных суглинков, которые развиты на бортах Сертейской озерной котловины и представлены глинистыми отложениями монтмориллонитового состава, характеризуются низкими содержаниями SiO2 (средние содержания – 51,2%), высокими значениями Al2O3 (средние содержания – 18,4%), высокими значениями Fe2O3 (средние содержания – 10,2%) и органического вещества (средние содержания – 11,4%).
Анализ технологии изготовления сосудов сертейской культурыВсего было рассмотрено 909 фрагментов глиняной посуды сертейской куль
туры Верхнего Подвинья, составляющих 252 сосуда. При анализе технологии изготовления сосудов учитываются основные признаки, среди которых состав теста, обработка внешней поверхности, способ конструирования, толщина стенок.
Способ лепки сосуда и характер обработки законченного изделия – это один из самых показательных признаков, который представляет информацию об особенностях конструирования сосуда. В свою очередь толщина стенок сосуда зависит от предназначения сосуда, а также от того, какой был выбран режим температурной обработки.
Технологические приемы А–Е были соотнесены с группами обработки поверхности и способов конструирования сосудов, которые легли в основу выделения технологических типов, уточняющих разработанные ранее фазы развития керамики сертейской культуры «a», «b», «b1», «c», «c1» (Микляев, 1995, с. 15–17; Мазуркевич, Микляев, 1998, с. 27–29; Мазуркевич, Кулькова, Полковникова, Савельева, 2003, с. 260–262).
Анализ фрагментов керамики позволил выделить четыре основные группы конструирования сосудов с несколькими вариантами:
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III1441. Ленточный способ лепки, когда сосуд набирается из лент высотой от 9 до 20
мм. При этом техника «лопатки и наковальни» практически не фиксируется. Толщина стенок сосудов варьируется достаточно сильно – от 4–6 мм, 7–8 мм до 10–11 мм – группа I, варианты – I.1, I.2, I.3 (рис. 12).
2. Ленточный способ лепки с добавлением дополнительных тонких лоскутов. Толщина стенок сосудов – 7–8 мм – группа II (рис. 12).
3. Ленточный способ лепки, при котором сосуд набирается из маленьких, четких лент высотой порядка 7 мм, а также небольших лоскутов, при этом толщина стенок сосудов варьирует от 4 до 6 мм – группа III (рис. 13).
4. Ленточный способ лепки с использованием длинных лент высотой 17–35 мм с очень острым углом горизонтального и вертикального среза, где уже более распространена техника «лопатки и наковальни», призванная улучшить качество скрепления лент и лоскутов. Толщина стенок сосудов – от 6–8 мм до 7–9 мм – группа IV, варианты – IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 (рис. 13).
Обработка поверхностей – это следующий важный этап лепки любого сосуда. Выделено четыре группы сосудов с различным способом обработки внутренней и внешней поверхностей (рис. 14). Так, для сосудов группы 1 характерно покрытие сосудов тонким слоем жидкой глиняной массы и последующее заглаживание/лощение, изза чего следы «расчесов» зафиксировать не удается. У сосудов группы 2 зафиксированы следы «расчесов» на внешней и внутренней поверхности, проступающих через тонкий слой покрытия стенок, которые подвергались заглаживанию /лощению. На фрагментах керамики группы 3 фиксируются следы «расчесов» на обеих сторонах, но здесь заглаживанию/лощению подвергалась только внешняя сторона сосуда, тогда как на внутренней были оставлены следы глубоких «расчесов». Глиняная посуда группы 4 характеризуется наличием следов «расчесов» на обеих поверхностях, оставленных при обработке поверхностей сосуда после нанесения жидкого слоя глиняной сметанообразной массы.
При выделении технологических типов (рис. 15) нами учитывались показатели всех трех групп: технологических приемов А–Е, групп видов обработки поверхности и групп конструирования сосудов, которые, по всей видимости, маркируют происшедшие изменения на разных уровнях традиции изготовления сосудов (Бобринский, 1978, с. 243–244). Способ конструирования сосудов является ведущим признаком, который дополняют способы обработки поверхности, тогда как выбор сырья может одинаково быть как маркером культурных изменений, так и зависеть от доступности данного источника в определенный момент времени. Это в основном касается интерпретации технологических подтипов I.1 и I.2, которые сходны между собой по остальным характеристикам (рис. 15).
описание технологических типовСосуды типа I изготовлены кольцевым ленточным способом лепки, при ко
тором сосуд набирался из небольших лент с тупым углом горизонтального и вертикального среза высотой от 9 до 20 мм, толщина стенок сосудов от 7–8 мм до 10–11 мм, есть отдельные фрагменты толщиной 4–6 мм. Для сосудов характерны следы «расчесов» на внешней и внутренней поверхности, проступающие через тонкий слой покрытия стенок, которые подвергались заглаживанию/лощению. Здесь можно выделить два подтипа на основании сырья. Сосуды, выполненные из алевритовых отложений без примесей, либо с примесью «песка и шамота» – подтип I.1 (технологический прием А, несколько сосудов по технологии С, В1). Часть сосудов (подтип I.2) выполнена из алевритовых отложений без примесей (технологический прием А), но в основном для их изготовления использовали два вида формовочной
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 145массы – это тощие алевритовые или гидрослюдистые отложения с добавлением небольшого процента песка и шамота (технологический прием С), а также глиняные жирные отложения с добавлением шамота и большого количества песка – технологический прием В1.
Сосуды II типа – набирались из очень маленьких лент и небольших лоскутов. Для этих сосудов характерно покрытие тонким слоем жидкой глиняной массы и последующее заглаживание/лощение, изза чего следы «расчесов» зафиксировать не удается. Керамика изготовлена из алевритовых отложений без какихлибо примесей с высоким содержанием кластического материала – технологический прием А. Несколько сосудов изготовлены из «тощих» глин, в качестве отощителя использовался песок и шамот – технологический прием С. Сосуды этого типа близки посуде елшанской культуры (Васильева, 1999, с. 96).
Тип III – для сосудов характерен кольцевой ленточный способ лепки. Применение техники «лопатки и наковальни» в целом не характерно, следы ее использования зафиксированы лишь на 2 сосудах. Фиксируются следы «расчесов» на обеих поверхностях, оставленных при обработке сосуда после нанесения жидкого слоя поливы. Также есть сосуды с «расчесами» на внешней и внутренней поверхности, проступающими через тонкий слой покрытия стенок, которые подвергались заглаживанию/лощению. Керамика изготовлена из тощих гидрослюдистых и каолинитовых глинистых отложений с примесью песка и большого процента шамота (технологический прием D), может быть соотнесена с фазой «c». Посуда этого типа сопоставима с сосудами ранних этапов ракушечноярской культуры.
Глиняная посуда типов IV, V, VI слеплена ленточным способом с использованием длинных лент высотой 17–35 мм с очень острым углом горизонтального и вертикального среза, зачастую с добавлением лоскутов. Однако для сосудов IV типа, в отличие от сосудов V типа, характерны «расчесы» на обеих сторонах сосуда и последующее лощение. Техника «лопатки и наковальни» в свою очередь наиболее распространена среди сосудов V и VI типов. Для сосудов VI типа характерны следы «расчесов» на обеих поверхностях, оставленных при обработке сосуда после нанесения жидкого слоя поливы. Отдельные сосуды типа IV изготовлены из алевритовых отложений с высоким содержанием кластического материала без какихлибо добавок (технология А). Для изготовления сосудов типов IV и V использовали тощие гидрослюдистые, каолинитовые, монтмориллонитовые глинистые отложения с добавлением большого количества песка (технологический прием В), а также жирные гидрослюдистые, каолинитовые, монтмориллонитовые глинистые отложения со смешанной рецептурой: песок + немного шамота (технологический прием В1). Для изготовления сосудов VI типа были использованы «жирные» монтмориллонитовые глины, основной добавкой в которых являлась измельченная растительность (технологический прием Е). Несколько сосудов типов IV, V, VI сделаны по технологии С2.
Тип VII – кольцевой ленточный способ лепки, однако у лент появляется острый угол горизонтального среза, зачастую они начинают походить на лоскуты. Здесь зафиксированы две традиции обработки поверхности – «расчесы» на обеих сторонах сосуда и последующее лощение, а также отсутствие следов «расчесов». При изготовлении сосудов использовали тощие гидрослюдистые, каолинитовые, монтмориллонитовые глинистые отложения с добавлением большого количества песка (технологический прием В), а также жирные глиняные отложения с добавкой большого количества песка и очень небольшого количества шамота (технологический прием В1).
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III146обсуждение результатов
Для изготовления керамических изделий были использованы источники местного локального глинистого и алевритового сырья, как правило, расположенные в непосредственной близости к поселениям. Использование этих источников сырья тесно связано с доступностью выходов отложений. В период существования поселений в этом регионе фиксируются колебания уровня воды в озерах (Мазуркевич, Кулькова, Полковникова, Савельева 2003, с. 260–262). Можно предположить, что в некоторые моменты это создает трудности в использовании привычного сырья из прибрежных зон, и используется сырье террас, суходолов и бортов котловин, которое адаптируется с помощью добавления отощителей. С другой стороны, выбор сырьевых ресурсов диктуется традициями изготовления и может отражать появление новых традиций.
Наиболее простой технологией изготовления является технологический прием А: в качестве сырья используются алевритовые суглинки с высоким содержанием кластического материала (сильно опесчаненные суглинки), отощитель не добавляется. Считается, что использование илов, характерное для посуды раннего неолита Восточной Евразии, маркирует первый этап развития технологии изготовления посуды, тогда как использование примесей соответствует уже следующим этапам. Именно поэтому сосуды, для изготовления которых использовали алевритовые отложения без какихлибо примесей, можно рассматривать как одни из самых ранних сосудов на данной территории: в основном посуда подтипа I.1 (рис. 16; 17) и типа II (рис. 16 ), отдельные сосуды подтипа I.2 и типа IV (рис. 16; 17). Причем для данного вида сырья характерно большое содержание кластического материала. Эта тенденция будет сохраняться, по всей видимости, долгое время, когда для изготовления сосудов будут использовать уже разнообразные глиняные отложения не только с высоким содержанием кластического материала, но в которые при создании формовочной массы будут добавлять дополнительно еще и отощитель (сосуды подтипа I.2 и типов VII, IV, V).
Технологические приемы В–В1, С–С1, D применяются, повидимому, для того, чтобы адаптировать местные суглинки к привычному алевритовому сырью (технологический прием А), в котором доля кластического материала от 50% и выше. Технологический прием D – это вторая традиция, которую представляют сосуды типа III (рис. 16). Для технологического приема D характерно использование глинистых озерных отложений каолинитового состава с высокой долей кластического материала (до 60%) из Сертейской котловины. Возможно, это новая технология, а возможно, более совершенная адаптация. Для изготовления сосудов всех этих типов мастера выбирали именно тощие глины с высоким содержанием кластического материала. Отдельно стоит отметить сосуд, относимый к подтипу I.1 по всей совокупности признаков, но изготовленный из жирной глины, содержащей органику, с добавлением песка и шамота.
Также к раннему пласту материалов относятся и сосуды подтипа I.2 и типов VII, IV, орнаментированные треугольными наколами и каплевидными вдавлениями, которые могут быть соотнесены с фазой «b». Появление сосудов этих типов совпадает с изменением в выборе сырья и рецептуры – начинают использовать жирные гидрослюдистые, каолинитовые, монтмориллонитовые отложения со смешанной рецептурой: песок + шамот (подтип I.2, типы VII, IV, V). Причем можно выделить две основные тенденции при изготовлении сосудов подтипа I.2 – это как использование алевритовых или тощих гидрослюдистых отложений, зачастую с добавлением небольшого процента песка и шамота, так и использование глиняных жирных отложений с добавлением большого процента песка и шамота. На выборе
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 147сырья мог сказаться и уровень воды, который заставил изменить места выбора сырья. Архаичность сосудов этих типов подтверждается не только логикой развития типологической схемы, но и радиоуглеродными датировками. Так, керамика подтипа I.1 происходит из горизонта А2 памятника Сертея X, датируемого временем 7300+/180 (Ле5260), 7300+/400 (Ле5261) BP. Также к периоду 7300–7000 можно относить и существование других типов сосудов, которые залегают в этих культурных слоях, среди которых несколько сосудов типа IV и подтипа I.2, только два сосуда типа VII, а также несколько фрагментов сосудов типа III.
Третья традиция – технологический прием Е – представлен сосудами VI типа (рис. 16; 17). Это совершенно новый прием, который отражает другую технологическую традицию. Используются пластичные глины, монтмориллонитового состава, которые распространены по бортам озерных котловин в этом регионе. В качестве отощителя применяется тонко измельченная растительность, что придает керамике высокую пористость.
Появление сосудов типа VI (или фазы «с1») было объяснено эволюционным развития сосудов фазы «с» (Мазуркевич, Микляев 1998), однако единственное их сходство с последними – это покрытие всей поверхности сосуда «расчесами». Таким образом, мы фиксируем наличие еще одной культурной традиции, относимой к фазе «с1», которая занимает более позднюю хронологическую позицию, на что указывает топография памятников, а также сходство с сосудами фазы «d» руднянской культуры, которая по калиброванным радиоуглеродным данным относится к последней четверти VI тыс. до н.э.
Таким образом, выделенные в исследовании типы сосудов – это маркеры различных процессов, происходивших на данной территории. Самые ранние сосуды представлены подтипом I.1, соответствующим фазе «а», сосудами типа II, близкими посуде елшанской культуре, и типа III – фаза «c», похожими на сосуды ранних этапов ракушечноярской культуры. Нам сложно оценить хронологическую позицию сосудов типа II и фазы «a», а делать выводы только на основе такого фактора, как выбор типа сырья и формовочной массы, не рискуем. Керамическая посуда фазы «а» и «с» сосуществует и в результате смешения этих традиций формируются многочисленные гибридные типы фазы «b».
Также необходимо выделить часть материалов, относящихся к типу IV, с характерной гребенчатой орнаментацией – по всей видимости, результат влияния югозападных культур – днепродонецкой и бугоднестровской культур. Орнаментация сосудов V типа оттиском зубчатого штампа, имеющего треугольные очертания, а также мелкой гребенкой характерна как для этого круга культур, так и для деснинской культуры, которая также испытывает влияние со стороны югозападных соседей. Появление посуды типа V можно связывать с культурным импульсом из бассейна Подесенья и Поднепровья. Тип IV, демонстрирующий смешение традиций, может соответствовать фазе «b1».
Проведенный анализ позволяет поновому интерпретировать фазы развития керамики сертейской кульутры. Линейная схема развития, разработанная еще в конце 1980х гг. А.М. Микляевым и А.Н. Мазуркевичем (Мазуркевич, Микляев 1998, с. 29; Микляев, 1995, с. 16–20), претерпела ряд изменений и уточнений за прошедшее время (Мазуркевич, Кулькова, Полковникова, Савельева, 2003). Типологическое многообразие ранненеолитической керамики было объяснено эволюционным развитием. Это не соответствует выявленным особенностям в технологии изготовления сосудов сертейской культуры, с которой мы имеем дело сегодня. Но выделенные на основе целого комплекса признаков – технологических, морфологических и орнаментальных – фазы развития керамики сохраняют свою
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III148актуальность и до сегодняшнего дня. Однако сменяются акценты – эволюционным развитием невозможно объяснить все многообразие керамического материала ранненеолитического времени. Но при этом система аналогий, предложенная впервые именно в конце 1980х гг., сохраняется. Тогда были озвучены основные концепции становления и развития сертейской культуры, а также общие вопросы неолитизации Восточной Европы – появление традиций изготовления глиняной посуды из азовоприкаспийского региона путем «миграции идей», при которой осуществлялся перенос традиций практически в неизменном виде (Мазуркевич, 1995, с. 82). Высказанная же исследователями идея о керамических импульсах находит свое подтверждение и в материалах югозападных территорий, а точнее бугоднестровской и днепродонецкой культур, которые оказали определенное влияние на территории от Поднестровья до Верхнего Подвинья.
Теперь только применительно к фазе «а» (соответственно подтипу I.1) и «b» (соответственно подтипу I.2, часть материалов типов IV, VII) можно говорить об эволюционном развитии различных типов глиняной посуды или же о сосуществовании разных видов глиняной посуды у родственного населения. Период бытования этих типов и есть время существования сертейской культуры. Сосуды типов II и IV c характерной гребенчатой орнаментацией, типов V, VI (фаза «c1») маркируют появление на данной территории нового населения, традиции изготовления и орнаментации глиняной посуды которого не получают дальнейшего массового развития среди местных мастеров.
Литература
1. бобринский, А.А. Гончарство Восточной Европы. М., 1978.2. Васильева, И.н. Гончарство населения Северного Прикаспия в эпоху нео
лита // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 1. Самара, 1999. С. 72–96.3. Волкова, Е.В. Гончарство фатьяновских племен. М., 1996. C. 122.4. краускопф, к.б. Разделение марганца и железа в осадочном процессе: Гео
химия литогенеза. М., 1963. С. 294–339.5. Мазуркевич, А.н., кулькова, М.А., полковникова, М.Э., Савельева, Л.А.
Ранненеолитические памятники ЛоватскоДвинского междуречья // Неолитэнеолит юга и неолит севера Восточной Европы. СПб., 2003. С. 260–267.
6. Мазуркевич, А.н., Микляев, А.М. О раннем неолите междуречья Западной Двины и Ловати // АСГЭ. № 33. 1998. С.7–32.
7. Микляев, А.М. Каменный – железный век междуречья Западной Двины и Ловати // ПАВ. 1995. № 9. С. 7–39.
8. Рельеф и стратиграфия четвертичных отложений СевероЗапада Русской равнины. М., 1961.
8. Bastie, P., Hamelin, B., Fiori, F., Giuliani, A., Giunta, G., Rustichelli, F., Gysens, J. A new method based on hard xray diffraction for the investigation of archaeological artifacts // Meas. Sci. Technol. 2006. 17. L1–L3.
9. Feliu, M.J., Edreira, M.C., Martin, J. Application of physicalchemical analytical techniques in the study of ancient ceramics // Analytica Chimica Acta. 2004. 502. P. 241–250.
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 149
Andrey Mazurkevich, Marianna Kulkova, Ekaterina DolbunovaThe Characteristics of Early Neolithic Pottery Manufacture in Dvina-Lovat’ Region
The investigations of Early Neolithic ceramics from settlements located in DvinaLovat’ basin at NorthWestern Russia were done. The Neolithic settlements are concerned to Serteya culture, their age about 6200–5700 years BC. The complex research methods such as typology, morphology, petrography and XRF allow us to divide this culture complex on the some groups.
These groups of ceramics are characterized by different composition of sand blend and fabrication method. The geochemical analysis of sherds and deposits gave data about raw material resources.
10. Masud Alam, A.K.M., Xie, Sh., Saha, D.K., Chowdhury, S.Q. Clay mineralogy of archaeological soil: an approach to paleoclimatic and environmental reconstruction of the archaeological sites of the Paharpur area, Badalgacchi upazila, Naogaon district, Bangladesh. Environmental Geology, 09430105. 2007.
11. Papadopouloua, D.N., Zachariadisa, G.A., Anthemidisa, A.N., Tsirliganisb, N.C., Stratis, J.A. Comparison of a portable microXray fluorescence spectrometry with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry for the ancient ceramics analysis // Spectrochimica Acta. 2004. 59. Part B. P. 1877–1884.
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III150
Рис. 1. Схема расположения озерны
х котловин в долине реки Серт
ейки: 1 – Сертея X, 2 – Серт
ея XII, 3 – Сертея XIII, 4 – Рудня Серт
ейская, 5 – Заболонье I, 6 – Серт
ея 10, 7 – Сертея XIV, 8 – Серт
ея XX, 9 – Сертея XIX, 10 – Серт
ея XVII, 11 – Серт
ея XXII–XXIV, 12 – Сертея 3-3, 13 – Серт
ея 3-2, 14 – Сертея 3-1
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 151
Рис. 2. Данные по химическому составу фрагментов керамики, изготовленных из отложе-ний бортов и террас озерных котловин
Рис. 3. Данные по химическому составу фрагментов керамики, изготовленных из отложений суходолов и прибрежных зон озерных котловин
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III152
Рис. 4. Образец 5-3 – технологический прием А, технологический тип II (Сертея 3-3)
Рис. 5. Образец 53-3 – технологический прием В, тип VII (Сертея 3-1)
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 153
Рис. 6. Образец 65-3 – технологический прием В1, тип III (Сертея XIV)
Рис. 7. Образец 10 – технологический прием С, тип I.1 (Сертея 3-3)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III154
Рис. 8. Образец 58-3 – технологический прием С1, тип VII, п. Сертея 3-5
Рис. 9. Обр. 24 – технологический прием С2, тип IV (Сертея X)
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 155
Рис. 10. Образец 36 – технологический прием D, тип III (Сертея XIV)
Рис. 11. Образец 34 – технологический прием E, тип VI (Сертея XII)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III156
Рис. 12. Группировка сертейской керамики по способам конструирования сосудов – группы I, II
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 157
Рис. 13. Группировка сертейской керамики по способам конструирования сосудов – группы III, IV
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III158
Рис. 14. Группировка сертейской керамики по видам обработки поверхности
Рис. 15. Технологические типы
Андрей Мазуркевич, Марианна Кулькова, Екатерина Долбунова 159
Рис. 16. Образцы керамики сертейской культуры: 1 – подтип I.2, технология С-2 (Сертея XXVII), 2 – подтип I.2, технология А (Сертея XIV), 3 – подтип I.2, технология В-1 (Сер-
тея XIV), 4 – подтип I.2, технология А (Сертея 3-6), 5, 6 – тип II, технология С (Сертея 3-5), 7 – тип II, технология А (Сертея 3-3), 8 – тип IV, технология C (Сертея XXI), 9 – подтип I.2 (Рудня Сертейская), 10 – подтип I.1, технология A (Сертея 3-3), 11 – тип IV, технология В-1
(Сертея 3-3), 12 – подтип I.2, технология В-1 (Сертея 3-5), 13 – тип IV (ст. Узмень), 14 – тип IV, технология C-1 (Сертея XX), 15 – тип III, технология D (Сертея XIV), 16 – тип III, технология D (Сертея XIV), 17 – тип VI, технология E (Сертея XIV)
Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. III160
Рис. 17. Реконструкции форм сосудов сертейской культуры: 1 – тип IV (ст. Узмень), 2 – под-тип I.2 (ст. Узмень), 3 – тип VI, технология Е (Сертея XII), 4 – подтип I.1 (Рудня Сертей-
ская), 5 – тип IV, технология С-2 (Сертея XXVII), 6 – тип IV (Сертея XXII)
161СПіС СКАрАЧэнняў
АА ІГ НАН Беларусі – Археалагічны архіў Інстытута гісторыі НАН БеларусіАО – Археологические открытия. М.АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.БГА – Беларускі гістарычны альманах. Мн.БДМ – Беларускі Дзяржаўны музейБРФФД – Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняўБРФФИ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных
исследованийГАЗ – Гістарычнаархеалагічны зборнік. Мн.ГЭС – гідраэлектрастанцыяИИМК РАН – Институт истории материальной культуры РАН. СПб.КС – калектарная станцыяКСИА – Краткие сообщения института археологии. М.МИА – Материалы и исследования по археологии СССРНМГ І КБ – Нацыянальны музей гісторыі і культуры БеларусіРГНФ – Российский гуманитарный научный фондПАВ – Петербургский археологический вестник. СПб.РА – Российская археология. М.СА – Советская археология. М.AA – Acta archaeologica. Copenhagen.AP – Archaeologia Polona. Warszawa.AB – Archaeologia Baltica. Vilnius.BASE – Baltic archaeological seminarLA – Lietuvos archeologija. Vilnius.PA – Przegląd archeologiczny. Kraków.
162ЗВЕСтКі Аб АўтАрАХ
Далбунова кацярына Уладзіміраўна – лабарант Аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа. 190000, СанктПецярбург, Дварцовая наб., 34. Email: [email protected]
Далуханаў павел Маркавіч – прафесар Універсітэта горада Ньюкасл. Newcastle upon Tyne, NE1 7RU. Email: [email protected]
Зайцава ганна іванаўна – кандыдат хімічных навук, загадчык радыёвугляроднай групы Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. 191186, СанктПецярбург, Дварцовая наб., 18. Email: [email protected]
Зуева Аляксандра Уладзіміраўна – аспірант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 220030, Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6.
коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. 212022, Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1. Еmail: [email protected]
кошман Вадзім іванавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Email: [email protected]
кулькова Марыянна Аляксееўна – кандыдат геолагамінералагічных навук, навуковы супрацоўнік радыёвугляроднай групы Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры РАН. 191186, СанктПецярбург, Дварцовая наб., 18. Email: [email protected]
Лакіза Вадзім Леанідавіч – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Email: [email protected]
Мазуркевіч Андрэй Мікалаевіч – старшы навуковы супрацоўнік Аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа. 190000, СанктПецярбург, Дварцовая наб., 34. Email: [email protected]
Мацвеева Людміла Яўгеньеўна – лабарант вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 220030, Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Email: [email protected]
палкоўнікава Марыя Эдуардаўна – малодшы навуковы супрацоўнік Аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа. 190000, СанктПецярбург, Дварцовая наб., 34. Email: [email protected]
паплеўка галіна Мікалаеўна – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік эксперыментальнатрасалагічнай лабараторыі Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. 191186, СанктПецярбург, Дварцовая наб., 18. Email: [email protected]
163Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. IIIпілічаўскас гіціс – доктар гуманітарных навук, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Інстытута гісторыі Літвы. Kražių g. 5, LT2000, Vilnius, Lietuva. Email: [email protected]
поснэрт геран – прафесар, загадчык лабараторыі паскаральнай масспектраметрыі Універсітэта Упсалы. Lagerhyddsvagen 1, S751 21, Uppsala Sweden. Email: [email protected]
Сідаровіч Віталь Міхайлавіч – загадчык вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 220030, Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Email: [email protected]
харытановіч Зоя Анатольеўна – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Email: [email protected]
Чарняўскі Максім Міхайлавіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Email: [email protected], [email protected]
Чарняўскі Міхал Міхайлавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 220030, Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Email: [email protected]
Язэпенка ігар Мікалаевіч – кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Email: [email protected]
Навуковае выданне
Acta archaeologica Albaruthenica
Vol. Iіі (Вып. 3)
на беларускай і рускай мовах
Карэктар: В. Трэнас
Камп’ютарная вёрстка: В.І. Ходан
Укладальнікі:
М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч
Падпісана да друку 02.10.2007 г. Фармат 70×100 1/16Папера афсетная. Друк афсетны. Гарнітура Minion.Ум. друк. арк. 13,284. Ул. выд. арк. 13,3. Наклад 200 асобнікаў. Замова 1257.
Выдавец і.п. ЛогвінаўЛИ № 02330/013307 ад 30.04.2004 г.220050, г. Мінск, прт. Незалежнасці, 19–[email protected]
Друк ТДА «новапрынт»ЛП 02330/0056647 ад 27.03.2004 г.220047, г. Мінск, вул. Купрэвіча, 2