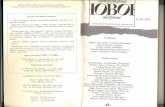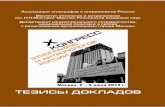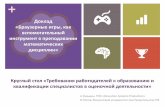Совладающее поведение в юношеском возрасте как...
Transcript of Совладающее поведение в юношеском возрасте как...
Л.В. Сенкевич, И.Н. Базаркина, С.О. Аракелян
Совладающее поведение в юношеском возрасте как условие
продуктивного переживания экзистенциального кризиса
(социокультурный аспект)
Возрастающая интенсивность современной жизни и
нестабильность во многих сферах социальной
действительности ставят перед людьми задачу постоянной
и гибкой адаптации к переменам, определяющей в конечном
итоге успешность жизнедеятельности человека. В
современном мире каждый из нас сталкивается с
ситуациями, субъективно переживаемыми как критические,
нарушающие привычный ход жизни. Люди вынуждены
осуществлять постоянный выбор источников информации,
социальных ролей, моделей и способов поведения,
собственных целей, образа жизни и т.п. Все это
предлагается обществом в виде широкого спектра
возможностей. В то же время полимодальность выбора
служит одним из основных источников стресса,
фрустрации, кризисных и конфликтных ситуаций. Умение
успешно справляться с этими состояниями и сведение их
негативного влияния к минимуму являются важными
задачами для каждого человека.
Известный отечественный психолог Ф.Е. Василюк
(1982) считает, что тип критической ситуации
определяется характером состояния «невозможности», в
котором оказалась жизнедеятельность субъекта.
«Невозможность» обусловливается тем, какая жизненная
необходимость оказывается парализованной в результате
неспособности имеющихся у субъекта типов активности,
способных справиться с внешними и внутренними условиями
жизнедеятельности. Внешние и внутренние условия, тип
активности и специфическая необходимость являются теми
главными пунктами, по которым можно характеризовать
основные типы критических ситуаций и отличия их друг от
друга.
Обозначенные Ф.Е. Василюком феномены - стресс,
фрустрация, конфликт и кризис – являются ключевыми для
описания в современной психологии понятия критических
ситуаций, которые исследователи-психологи определяют
как ситуации, в которых субъекту становится невозможным
реализовать свои внутренние мотивы, стремления,
ценности [1]. Рассмотрим определения основных
составляющих комплексного понятия критических ситуаций.
Вслед за Р. Лазарусом мы рассматриваем стресс в его
психологическом аспекте – как реакцию, опосредованную
оценкой угрозы и защитными процессами. Суть
психологического понимания стресса в том, что не любое
требование среды рассматривается как порождающее
стресс, а лишь то, которое оценивается как угрожающее,
которое нарушает адаптацию, контроль, препятствует
самоактуализации [1,2].
Фрустрация, согласно большинству определений,
рассматривается как состояние, возникающее в ситуации
реальной или предполагаемой невозможности
удовлетворения человеком своих потребностей.
Терминологическое поле понятия фрустрации задается
категорией деятельности. Сочетание сильной
мотивированности к достижению определенной цели и
препятствий на пути к ней, несомненно, является
необходимым условием фрустрации, однако для различения
фрустрации и состояния затрудненности (не являющегося
фрустрацией) необходимо учитывать смещение цели
действия с первоначального мотива в ситуации фрустрации
[1].
Задача определения понятия «конфликт» в современной
психологии решается по-разному в зависимости от
методологической ориентации исследователя. В целом,
конфликт можно определить как одновременную
актуализацию противоположно направленных побуждений
личности. Отметим, однако, что фрустрация предполагает
наличие внешних по отношению к субъекту барьеров, тогда
как конфликт связан с внутренними условиями
(побуждениями, мотивами) личности [1,2].
Кризисы в настоящее время выделяют и рассматривают
как в глобальных общественных системах, так и в малых
социальных общностях; существуют научные кризисы,
описаны кризисные явления в производственных группах;
кризисы межличностные и внутриличностные.
Особую категорию критических ситуаций, на наш
взгляд, составляют экзистенциальные кризисы, имеющие
как возрастное, так и социокультурное своеобразие.
Однако, системообразующей категорией концепции кризиса
является, с нашей точки зрения, категория
индивидуальной жизни. Такое понимание кризиса в
психологии относится в большей степени к
экзистенциальному и герменевтическому направлениям
исследований. Кризис в этом аспекте рассматривается
как поворотный пункт жизненного пути человека, в то
время как в культурно-исторической парадигме
представление о развитии как диалектическом процессе
имплицитно включает представление о скачках,
революционных сдвигах, кризисах. Последствия кризиса с
этой точки зрения, безусловно, могут быть не только
патологическими, но и открывать новые возможности роста
и развития личности [1,2,4].
Исследованию психологических аспектов процесса
адаптации личности, направленной на преодоление
негативных воздействий критических ситуаций, т.е.
собственно механизмов и ресурсов совладания (копинга),
посвящены работы как зарубежных авторов (B.N.
Carpenter, 1992; S. Hobfoll, 1999; R. Moos, 1986; V.
Lannone, 1999 и др.), так и отечественных психологов
(В.А. Бодров, 2006; Н.В. Гришина, 2001; Т.Л. Крюкова,
2004; М.В. Сапоровская, 2004; И.П. Шкуратова, 2007 и
др.). Необходимость поиска личностных ресурсов и
адекватных стратегий совладания с критическими
ситуациями создают предпосылки для актуальности
современных исследований в этой области, поскольку
становление здоровой, самоактуализирующейся и творчески
развивающейся личности невозможно без умения эффективно
справляться с трудными жизненными ситуациями и
кризисами.
Совладающее поведение реализуется посредством
применения различных копинг-стратегий (стратегий
совладания), либо направленных на устранение угрозы или
помехи, на успешную адаптацию человека к требованиям
ситуации, либо позволяющих выдержать те
обстоятельства, изменить которые человек не может
[2,4]. Р. Лазарус, обобщив данные целого ряда
исследований, выделил пять основных задач копинга: 1)
минимизация негативных воздействий обстоятельств и
восстановление активности; 2) терпение, приспособление
или регулирование жизненных ситуаций; 3) поддержание
позитивного, положительного образа Я и уверенности в
своих силах; 4) поддержание эмоционального равновесия;
5) поддержание, сохранение взаимосвязей с другими
людьми [2,3].
Вслед за С. Фолкманом и Р. Лазарусом, исследователи
выделяют восемь дискретных стратегий совладающего
поведения: конфронтативный копинг, дистанцирование,
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие
ответственности, избегание, планирование, положительная
переоценка [2,4]. Все восемь типов стратегий
совладания с жизненными трудностями взаимосвязаны с
разными ориентациями личности. Чтобы справиться с
ситуацией, человек или атакует окружающих, или
пытается получить от них помощь; бежит от этой
ситуации, либо отделяет себя от данной проблемы;
придает ситуации позитивное значение или фокусирует
внимание на своем эмоциональном состоянии и
поведении (стремление сдерживать свои чувства и в
дальнейшем не совершать подобных ошибок); либо,
наконец, сосредоточивается на решении проблемы.
Эти стратегии могут исключать или дополнять друг друга.
Проводимые исследования показывают, что многие люди,
оказываясь в трудной ситуации, используют одновременно
несколько стратегий совладания.
Эффективность копинга зависит как от личностных
ресурсов, в качестве которых рассматриваются и
когнитивные способности, и уровни оптимизма и
активности, и компоненты жизнестойкости (Ф.Б. Березин,
1988; В.А. Бодров 1999; Д.А. Леонтьев, 2011; R.S.
Lazarus, 1976; R.S. Lazarus, S. Folkman, 1984 и др.),
так и от ресурсов социальной среды (социальные группы,
к которым принадлежит личность и отношения в них) (Т.В.
Гущина 2004; Н.В. Гришина, 2000; Т.Л. Крюкова, 2004;
С.К. Нартова-Бочавер, 1997; А.А. Реан, 1998 и др.)
[2,3].
Большинство исследователей феноменов критических
ситуаций, стрессоустойчивости и адаптации
(дезадаптации) в качестве ключевого ресурса преодоления
рассматривают жизнестойкость [2,3]. Понятие
жизнестойкости (hardiness) было введено С. Кобейсом и
С. Мадди и разрабатывалось на пересечении
экзистенциальной психологии и психологии стресса.
Исходя из междисциплинарного подхода к явлению
жизнестойкости человека, отечественные исследователи
Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова (2006) отмечают, что
жизнестойкость представляет собой систему убеждений,
способность и готовность субъекта заинтересованно
участвовать в ситуациях повышенной сложности,
контролировать их, управлять ими, воспринимать
негативные события в качестве опыта и успешно
справляться с ними. Именно жизнестойкость оказывается
значимой личностной переменной, опосредующей влияние
стрессогенных факторов (в том числе хронических) на
соматическое и душевное здоровье, а также на успешность
деятельности, позволяя человеку выносить неустранимую
тревогу. Жизнестойкость представляет собой
структурированное психологическое образование,
определяемое как развивающаяся система убеждений,
способствующих развитию готовности управлять ситуацией
повышенной сложности, и включает в себя три
сравнительно автономных компонента: вовлеченность,
контроль, принятие риска. Выраженность всех трех
компонентов способствует сохранению здоровья и
оптимальной выраженности работоспособности индивида и
его активности в критических ситуациях. Причем, эти
компоненты находятся в синергетическом взаимодействии,
когда суммарный эффект превышает сумму эффектов каждого
компонента в отдельности [3].
Таким образом, совладающее поведение определяется
несколькими группами факторов: особенностями личности
субъекта, реально изменяющейся ситуацией, характером
социального взаимодействия и взаимоотношений субъекта.
Последний компонент включает культурный контекст,
гендерные особенности, установки субъекта.
Очевидно, что специфические для конкретной страны
или региона культурно-историческая, политическая,
социально-экономическая ситуации актуализируют разные
психологические ресурсы совладания с жизненными
трудностями в критических ситуациях.
Современные исследователи – психологи, социологи,
философы, культурологи, политологи – обращают внимание
на значительное повышение интереса к этнической
идентичности, языку, культуре, традициям и образу
жизни. В настоящее время в процессе глобализации и
неизменной трансформации культуры, а также в условиях
социально-исторической амбивалентности положения многих
современных народов представляется интересным
обратиться к изучению социально-психологических
особенностей этносов, совмещенных в одном
геоисторическом пространстве [5].
Современный постоянно изменяющийся мир требует от
человека формирования у него активной жизненной
позиции, умения быстро принимать решения и брать на
себя ответственность за свои поступки и действия. Одним
из этапов становления зрелой личности является
юношеский возраст. В этот период завершается процесс
взросления человека, происходит его профессиональное
самоопределение, усвоение норм отношений между людьми;
часто на этом этапе образуются прочные дружеские связи,
создаются семьи. Юношеский возраст является
сосредоточением многих потенциальных возможностей
человека, реализация которых во многом зависит от
поступков и экзистенциальных выборов, сделанных в
юношестве. В то же время, именно в этом возрасте, как
отмечают исследователи, юноши и девушки переживают
наиболее острые и трудные в преодолении кризисы
(самоопределения, смысла жизни, выбор между близостью и
одиночеством (изоляцией)), которые, безусловно, можно
рассматривать как экзистенциальные. Вхождение в
самостоятельную жизнь в обществе, начало собственной
трудовой деятельности (куда также можно отнести и учебу
в вузе), возможности и трудности на пути реализации
жизненных планов и целей, как правило, не проходят
гладко и бесконфликтно.
Проблема формирования конструктивных стратегий
совладания с критическими ситуациями в юношеском
возрасте представляется особенно актуальной в контексте
сохранения и поддержания психологического здоровья
любой нации. С одной стороны, неумение молодого
человека эффективно использовать свои внутренние
ресурсы, недостаточная развитость навыков эффективного
разрешения проблем и самопомощи, обусловливает наряду с
другими факторами возникновение в современном обществе
проблем юношеской наркомании, алкоголизации,
криминальной активности и суицидального поведения. С
другой стороны, опыт преодоления трудностей в юношеском
возрасте является основой для формирования
конструктивных стратегий совладания со стрессами и
кризисными ситуациями в зрелости, а, значит,
способствует успешной адаптации и развитию личности.
В данной статье представлены результаты
исследования взаимосвязи способов преодоления
критических ситуаций (копинг-стратегий) с
жизнестойкостью как с одним из ключевых личностных
ресурсов у юношей и девушек из регионов и стран с
разными культурно-историческими традициями.
Одной из основных задач данного исследования было
выявление влияния различных культур и традиций,
приписывающих субъекту специфические атрибуции,
определяющие самовосприятие личности, ее поведение,
самооценку, на выбор молодыми людьми способов
совладания с критическими ситуациями.
В исследовании приняли участие студенты ряда вузов
РФ (г. Москва, РФ, г. Грозный, ЧР, РФ), Армении (г.
Ереван) и Италии (г. Рим), всего 183 человека в
возрасте от 17 до 23 лет. Базами исследования
послужили: Государственная классическая академия им.
Маймонида, Московский городской психолого-
педагогический университет (г. Москва, РФ); Чеченский
государственный университет, Чеченский государственный
педагогический институт (г. Грозный (ЧР, РФ));
Ереванский государственный университет, Армянский
государственный педагогический университет им. Х.
Абовяна (г. Ереван, Армения); Папский Грегорианский
университет, Колледж М. Массимо (г. Рим, Италия).
Обследование респондентов проводилось по следующим
методикам: Опросник способов совладания (ОСС) (авторы
R.Lasarus, S.Folkman, адаптация Т.Л. Крюковой и Е.В.
Куфтяк); Тест жизнестойкости (автор С.Мадди, адаптация
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой).
Математическая обработка полученных данных
проводилась при помощи статистического пакета SPSS
17.0; для выявления различий в изучаемых параметрах
между четырьмя выборками применялся критерий Крускала-
Уоллиса.
Исследование степени выраженности основных
стратегий совладания с критическими ситуациями
(конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск
социальной поддержки, принятие ответственности, бегство
(избегание), планирование решения, положительная
оценка), выявленных при помощи методики ОСС у
испытуемых из московской, чеченской, армянской и
итальянской выборок, показало следующее.
Оказалось, что в среднем по выборке у юношей и
девушек в возрасте от 17 до 23 лет в большей степени
выражены следующие способы совладания: самоконтроль,
принятие ответственности, планирование решения и
положительная переоценка. Однако, выраженность копинг-
стратегий по исследованным регионам отличается от
средних показателей. Так, для юношей и девушек из
московских вузов в большей степени характерны
планирование решения и социальная поддержка; у молодых
людей из Чеченской республики и Армении больше выражены
положительная переоценка и самоконтроль. У юношей и
девушек из Армении также значимо выделяется принятие
ответственности в качестве предпочитаемой стратегии
совладания. В Италии молодые люди чаще используют в
качестве копинг-стратегий принятие ответственности и
самоконтроль.
Отметим также, что у большинства респондентов из
Чеченской республики, Армении и Италии в меньшей
степени по сравнению с другими копинг-стратегиями
выражено избегание (бегство), в то время как у юношей и
девушек из московского региона наименее предпочитаемой
стратегией выступает дистанцирование.
Разница в выборе стратегий совладания у
респондентов объясняется, на наш взгляд, их различной
национальной принадлежностью и разными культурно-
историческими традициями, принятыми в том или ином
регионе.
Среди опрошенных нами в московской части выборки
абсолютное большинство респондентов считают себя
этническими русскими. Социологи и этнопсихологии,
говоря о так называемой русской идентичности, отмечают,
что установки этнического самосознания русских
предполагают открытость к другим народам, готовность к
сотрудничеству и интеграции. Интернационализм является
национальной чертой русских, выработанной в процессе
многовекового совместного проживания с другими народами
[7,8]. Можно сказать, что русские исходят из того, что
вне зависимости от того, «кто виноват?» следует решать
вопрос «что делать?», что как раз и отражает суть
стратегии планирования решения. В то же время,
стратегия поиска социальной поддержки отражает с одной
стороны желание получить эмоциональное одобрение или,
по крайней мере, внимание (как говорится в русской
поговорке, «на миру и смерть красна»), а с другой
стороны данная стратегия предполагает и достаточное
информационное обеспечение, и ожидание реальной помощи.
В.А. Тураев подчеркивает, что в русском национальном
самосознании огромную роль всегда играла идея
державности, отмечая, что понятия «Родина» и
«Государство» – наиболее значимые ключевые ценности в
русском культурном архетипе. По его мнению, являясь
носителем государственности, русский человек вольно или
невольно всегда осознавал, что за его спиной незримо
стоит могучее государство, к помощи которого можно
обратиться в трудную минуту [5].
Сходный выбор предпочитаемых стратегий преодоления
у студентов из Чечни и Армении (в большей степени юноши
и девушки в этих регионах предпочитают «положительную
переоценку» и «самоконтроль» в качестве основных
копинг-стратегий) объясняется на наш взгляд тем, что
эти этносы, несмотря на разные религии, исповедуемые
ими, являются носителями сходных культурно-исторических
традиций. Традиционно принято считать, что именно
религия является определяющим фактором в обретении
этносом национальной идентичности. Однако специфика
географического положения и взаимодействия с соседними
народами исторически обуславливала общие черты в
традициях народов Кавказа и Закавказья.
У испытуемых-чеченцев ярко выражено чувство
родового коллективизма, так как клановые и родовые
отношения по сей день составляют основу чеченского
общества. Его представители всегда ощущают себя частью
семьи, рода (тейпа). При этом чувство принадлежности к
тейпу преобладает над национальной принадлежностью.
Члены рода связаны кровным родством по отцовской линии,
пользуются одинаковыми личными правами. Свобода,
равенство и братство в нем составляют главный смысл
существования. Каждый человек должен согласовывать свои
поступки с интересами рода, так как за его ошибку
отвечают все родственники. Стереотипы поведения во всех
областях жизнедеятельности базируются у чеченцев на
строгом соблюдении национальных традиций и обычаев.
Существенной особенностью национальной психологии
чеченцев выступает осознание правомерности любых, даже
жестоких, действий в качестве возмездия за оскорбленное
достоинство, жизнь и честь родственников (обычай
кровной мести). Оскорбление одного члена тейпа
воспринимается равносильно оскорблению всех
представителей рода, а неспособность отомстить за
оскорбление родственника, таким образом,
свидетельствует о слабости рода, тем самым подвергая
его опасности нападения.
Культурно-исторические традиции армянского народа
также во многом вписываются в кавказский культурный
ареал. Географически находясь на пересечении важнейших
путей между Востоком и Западом, между могущественными
соседними державами в прошлом (Римской, затем
Византийской, а позднее Османской империями и Ираном),
Армения в течение длительного исторического развития
находилась на путях передвижения народов, на стыке
разных цивилизаций. Поэтому культурные традиции
армянского этноса носят в себе черты как восточной
созерцательности, так и активности и деловитости
Запада.
В семьях кавказских народов культивируется уважение
и подчинение старшим и, вместе с тем, особая любовь к
младшим, забота о них со стороны всех членов семьи.
Дети на Кавказе с раннего возраста ориентированы на
значимость социальной роли мужчины, отца, брата.
Занятия такими видами спорта, как борьба, бокс, а также
сложившаяся своеобразная народная педагогика с ранних
лет формируют сильную волю, постоянную готовность к
отпору, активность. На сегодняшний день в этом регионе
все еще устойчиво сохраняются такие традиции как
прочность брака, почитание старших, крепость и широта
родственных связей, обычай родственной и соседской
взаимопомощи, гостеприимство. Поэтому положительная
переоценка усилий человека по поиску позитивных
аспектов стрессовых факторов, а также стремление к
регулированию своих чувств и действий (традиции требуют
сдерживать эмоции в ситуациях конфликтов с более
старшими и авторитетными людьми) оказываются наиболее
используемыми в качестве копинг-стратегий у молодых
людей в этом регионе. В то же время, готовность принять
на себя ответственность за возникающие проблемы и
стремление контролировать ситуацию, чтобы не
чувствовать себя беспомощным отличает молодых людей из
армянской выборки, а выраженность стратегии принятия
ответственности значимо не отличается в этой части
выборки по степени преобладания от копинг-стратегии
«самоконтроль».
Выбор юношами и девушками из итальянской выборки
таких стратегий совладания, как принятие
ответственности, самоконтроль и планирование решения,
также обусловлен культурно-историческими традициями
этого народа. Жители Италии, как отмечают многие
исследователи-социологи и культурологи, несмотря на
кажущуюся открытость и «легкость» в общении, остаются
очень замкнутыми людьми, чтущими традиции – итальянцы
почитают семью, уважают мнение старших, отмечают
религиозные праздники. В то же время, одной из
характерных черт итальянцев является их стремление во
что бы то ни стало сохранить «bella figura» (дословно –
«красивая фигура»). Ближайшим по значению русским
эквивалентом этого понятия можно считать выражение
«держать фасон», хотя и оно не передает всю гамму
оттенков итальянского понятия. Это особый кодекс норм и
принципов внешнего поведения, - то есть, все должны
видеть, что перед ним хозяин своей жизни, даже если на
самом деле это и не соответствует реальности. Для
итальянца крайне важно показать окружающим свою
уверенность, решительность, отсутствие слабости и
сомнений.
Как мы уже отмечали выше, для всех опрошенных нами
респондентов характерна слабая выраженность такой
копинг-стратегии, как «избегание - (бегство)» как
способа совладания с критическими ситуациями. Это, по
нашему мнению, связано не столько с культурными
традициями, принятыми в социальном окружении молодых
людей, сколько с возрастом опрошенных юношей и девушек.
Юношеский возраст характеризуется повышенной
эмоциональной возбудимостью; молодым людям в этом
возрасте свойственны повышенные потребности в рефлексии
и самоанализе. Это проявляется в особенностях
переживаний по поводу собственных возможностей,
способностей, личностных качеств. Появляются
решительность, критичность, умение и желание
самостоятельно разбираться в сложных экзистенциальных
вопросах.
Для молодых людей из московского региона наименее
предпочтительной копинг-стратегией является
дистанцирование. Москва, являясь самым большим городом
России и одним из самых больших городов в мире,
безусловно, отличается от других регионов по темпу,
уровню жизни и активности ее жителей. Специфика жизни в
мегаполисе предполагает тесноту (во всех смыслах этого
слова) существующих взаимосвязей и отношений между
людьми. Поэтому, вероятно, дистанцироваться от
проблемных ситуаций жителям Москвы удается в меньшей
степени, чем использовать личностные ресурсы для
реализации стратегии ухода (избегания) в критической
ситуации.
Результаты исследования компонентов жизнестойкости
у опрошенных нами респондентов показали, что такой
личностный ресурс, как вовлеченность показывает
убежденность респондентов в том, что их максимальное
участие в происходящем приносит им удовлетвоерение
некоторых жизненно важных потребностей [3].
Выраженность этого компонента у юношей и девушек всех
регионов оказалась выше, чем показатели прочих
составляющих жизнестойкости. Однако у московских
студентов показатель вовлеченности значимо (при р <
0,01) отличается в большую сторону от степени
выраженности этого же показателя у юношей и девушек из
Чечни, Армении и Италии. Стоит отметить, что людям в
юношеском и молодом возрасте это свойственно в большей
степени: при выходе в самостоятельную жизнь перед
молодыми людьми открывается широкое пространство
приложения сил и способностей. Юноши и девушки
выстраивают перспективу своей самостоятельной жизни,
которая начинается с реализации личных жизненных
планов. Поэтому мы предполагаем, что у респондентов
других возрастных групп будут иные показатели по
данному параметру, однако, это поле для дополнительных
исследований.
Такой личностный ресурс, как контроль представляет
собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять
на результат происходящего, даже если это не дает
гарантии на успех [3]. Человек с сильно развитым
компонентом контроля ощущает, что сам выбирает свою
деятельность и свой путь. Следовательно, можно
предположить, что чем более традиционно зависимы
молодые люди от решений, принимаемых старшим
поколением, тем менее самостоятельными они будут в
выборе собственного пути. Что и подтверждает
проведенное нами исследование: у респондентов – жителей
Чеченской Республики и Армении, традиционно в большей
степени уважающих и зависящих от решений представителей
старшего поколения, данный ресурс выражен слабее.
Отметим также, что у московских студентов этот
компонент так же, как и «вовлеченность», выражен
значимо сильнее, чем у респондентов из Чечни и у их
сверстников из Армении и Италии.
Принятие риска – это убежденность человека в том,
что все случающееся способствует развитию за счет
знаний, извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного
или негативного. Человек, рассматривающий жизнь как
способ приобретения опыта, готов действовать в
отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и
риск. В основе принятия риска лежит идея развития через
активное усвоение знаний из опыта и последующее их
использование. Данный компонент в нашем исследовании
сильнее выражен у юношей и девушек из итальянской
выборки. Трудным ситуациям в своей жизни молодые
итальянцы придают смысл личностного становления,
рассматривают их как новые возможности, которые
позволяют им стать более сильными и жизнестойкими,
ответственными и самостоятельными, гибкими и уверенными
в себе.
Если сравнить все три аспекта жизнестойкости, то
можно увидеть, что при безусловной значимости каждого
из них для формирования общего показателя
жизнестойкости как основного ресурса для совладания со
стрессом, первые два (вовлеченность и контроль) как
будто отражают безусловную активность позиции –
предполагают интерес от деятельности и возможность в
любом случае повлиять на ситуацию, тогда как третий
компонент предполагает готовность к риску, т.е.
потенциальное принятие неудачи, невозможности добиться
цели в настоящий момент. Вероятно, именно эта
готовность отсрочить во времени получение результата в
меньшей степени выражена у опрошенных нами студентов по
причине их возраста, ведь именно молодым людям, как
отмечают исследователи в области возрастной психологии,
свойственны активность, нетерпимость, критичность. С.
Мадди подчеркивает важность выраженности всех трех
компонентов для сохранения здоровья и оптимального
уровня работоспособности и активности в условиях
стресса. Можно говорить как об индивидуальных различиях
каждого из трех компонентов в составе жизнестойкости,
так и о необходимости их согласованности между собой и
с общей (суммарной) мерой жизнестойкости [3].
В целом, суммарный показатель жизнестойкости в
большей степени среди всех опрошенных выражен у юношей
и девушек из московского региона, меньшее значение этот
комплексный показатель имеет у студентов из Чечни.
Согласно проводимым в разное время исследованиям,
результаты которых описаны Д.А. Леонтьевым и Е.И.
Рассказовой, высокий уровень жизнестойкости связан с
воображением, креативностью, склонностью к новаторству
и отрицательно коррелирует с негибким, доминирующим
способом взаимодействия [3].
Между показателями выраженности компонентов
жизнестойкости и стратегий совладания мы также
обнаружили значимые взаимосвязи, для выявления которых
в исследуемых нами подгруппах выборки был применен
коэффициент корреляции Пирсона. В зависимости от уровня
выраженности того или иного компонента в структуре
жизнестойкости у групп респондентов преобладают
различные стратегии совладания с трудными жизненными
ситуациями. Мы приводим анализ только достоверных
различий по исследуемым параметрам (р≤0,05).
Высокая выраженность жизнестойкости (как
интегрального показателя) у респондентов из Москвы
прямо коррелирует с выраженностью копинг-стратегии,
ориентированной на решение проблемы, относимой
большинством исследователей к наиболее эффективной и
обратно коррелирует с выраженностью копинг-стратегий
«дистанцирование», «бегство» и «положительная
переоценка», которые ряд исследователей относит к
неэффективным [3]. Москва обладает всеми специфическими
особенностями мегаполиса, жизнь в котором предполагает
высокий темп реагирования на происходящие события,
постоянное действие стрессовых факторов, поэтому
неудивительно, что показатель жизнестойкости живущих в
Москве в среднем оказывается выше, чем во многих других
регионах и странах. Так, у студентов из Москвы
выраженность вовлеченности как компонента структуры
жизнестойкости значимо коррелирует (р≤0,05) со
стратегиями планирования решения и поиска социальной
поддержки. Т.е., можно говорить о том, что
вовлеченность в происходящее является результатом
проблемно-фокусируемых усилий и привлечения социальной
поддержки для изменения ситуации. Московские студенты
чувствуют себя способными контролировать ситуацию,
ставить труднодостижимые цели и их реализовывать,
причем они уверены в том, что могут воплотить в жизнь
все, что задумали, что могут влиять на результаты
происходящего вокруг. В трудных ситуациях они готовы
проявлять активные действия и считают необходимым
обдумывать все происходящее с ними, прежде чем
принимать решения и действовать. Важным для юношей и
девушек - москвичей, как мы уже отмечали, является
наличие социальных связей и поддержки со стороны других
в трудных ситуациях. Такие люди способны действовать
самостоятельно на основе анализа трудной ситуации,
обдуманного решения.
В чеченской выборке мы обнаружили значимые
корреляции «контроля» и «положительной переоценки», а
также «контроля» как компонента жизнестойкости и
«самоконтроля» как стратегии совладания (р≤0,05).
Вовлеченность у чеченцев связана с принятием
ответственности, т.е. с признанием собственной роли в
происходящем (р≤0,05). Принятие риска у студентов из
Чечни и Армении, т.е. готовность рассматривать
происходящие события в качестве опыта для дальнейшего
позитивного развития, связано с самоконтролем (р≤0,05),
что подтверждает свойственные этим народам особенности
социального взаимодействия. Возможно, традиционные
взаимоотношения в социуме, принятые у народов Кавказа и
Закавказья, вступают у молодежи в противоречие со
стремлением к самодостаточности и независимости,
свойственные этим народам в целом, и это порождает
некую стресс-напряженность, отрицательно влияющее на
уровень жизнестойкости. Однако для подтверждения
данного предположения требуются дополнительные
исследования.
Юноши и девушки из Италии, как показали результаты
нашего исследования, своим трудностям склонны придавать
особый смысл – в их преодолении они видят возможности
для собственного самосовершенствования. В итальянской
выборке стратегии принятия ответственности и
самоконтроля значимо связаны с принятием риска
(р≤0,05), что свидетельствует о самостоятельности и
сдержанности итальянцев в решении возникающих проблем и
преодолении трудностей. В возникающих критических
ситуациях, в том числе и в ситуации экзистенциального
кризиса, они видят возможность приобретения жизненного
опыта, проявления активности, гибкости.
Таким образом, приведенные в настоящей статье
результаты исследования подтвердили наличие взаимосвязи
выбора молодыми людьми, проживающими в различных
странах и регионах, стратегий совладания со стрессом с
выраженностью у них основных компонентов
жизнестойкости. Это, на наш взгляд, позволяет говорить
о влиянии социокультурного фактора (культурно-
исторических традиций, присущих разным народам) на
выбор молодыми людьми в возрасте от 17 до 23 лет
стратегий совладания в критических ситуациях и на те
особенности личностных ресурсов, которые необходимы для
их преодоления. Кроме того, нам представляется весьма
перспективным исследование копинг-стратегий и
личностных ресурсов молодых людей как условия
продуктивного переживания ими экзистенциального
кризиса.
Литература
1. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ
преодоления критических ситуаций. - М.: Изд-во МГУ,
1991.- 200с.
2. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения.
– Кострома: Студия оперативной полиграфии «Аквантитул»,
2004 – 344с.
3. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест
жизнестойкости. – М.: Смысл, 2006 – 63с.