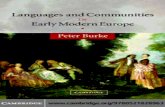From Philology to Fossils: The Biblical Encyclopedia in Early Modern Europe
“Rex Sacrorum and Politogenesis in Early Rome”, in: Early States in Europe and Asia: Problems of...
-
Upload
independentscholar -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of “Rex Sacrorum and Politogenesis in Early Rome”, in: Early States in Europe and Asia: Problems of...
РАННИЕ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА: XXIII Чтения памяти
члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто «Восточная Европа в древности и средневековье», 19 –
21 апреля 2011.
Rex Sacrorum и формирование институтов республиканского Рима
А.В.Коптев
Споры о возникновении государства в древнем Риме стали особенно актуальны с 1980-х
годов. Конференция 1988 г. в Берлине и дискусстия на страницах ВДИ в 1989-90 гг.
продемонстрировали разный уровень подхода к проблеме римского политогенеза. Однако
продвинуться на пути ее решения удалось недалеко. Причина кроется и в характере
источниковой базы, и в том, что большинство историков «заворожены» античной
концепцией становления римской республики, сформировавшейся во II-I вв.до н.э.
Руководствуясь моделью мифа основания, она приписывает создание религиозных
институтов и жреческих коллегий царям Ромулу и Нуме, а основных гражданских
институтов – Сервию Туллию. Политическая же система римской республики сложилась
после изгнания Тарквиниев и разделения их полномочий между двумя консулами и rex
sacrorum. Последующие два столетия ушли на борьбу патрициев и плебеев за уравнение в
правах.
Исследовать римский политогенез можно только отвлекшись от этой концепции,
созданной в эпоху борьбы «оптиматов» и «популяров». Замена царской власти
республиканскими магистратами была революцией не в силу восстания народа против
тирании, описание которого римские историки смоделировали по образцу Афин конца VI
в.до н.э. Революционность этого перехода состояла в отделении римской общиной себя от
космоса, управлявшегося волей богов, то есть в правращении общины первобытной в
гражданскую. Строительство храмов главных богов приписывается первым десятилетиям
республики не случайно – таким образом общение с ними было поставлено под контроль
общества. Остается однако неясным, на каком этапе от эпохи Сервия Туллия (середина VI
в.до н.э.) до уравнения плебеев с патрициями (начало III в.до н.э.) римское общество
достигло стадии государства.
Центральной фигурой догосударственного Рима был царь – rex. Этот древний латинский
титул происходит от индоевропейского корня *rēg- «проводить линию/границу,
очерчивать». Иначе говоря, rex – это тот, кто организует пространство, выделяя
подконтрольную ему общину из космоса (Бенвенист 1995: 250). Rex ассоциируется с
понятиями rectus (прямой) и regula (правило); т.е. царь прокладывает путь, отделяет
прямое/правое/правильное от кривого/неправильного, олицетворяет все, связанное с
правом и моралью. Выражение rex sacrorum с этой точки зрения является не
новообразованием начала республики, а древним понятием, означавшим, что rex имел
обязанностью regere sacra т.е. формировать и организовывать культурное (сакральное)
пространство.
Понятие rex соотносится с древнеиндийским rájas и латинским regio – «пространство».
Первоначально латинское regio было обозначением небесной линии, проводившейся
жрецом-авгуром во время гадания, затем слово стало обозначать часть пространства,
регион. Здесь заложена идея, согласно которой царь правил только в том пространстве,
которое сам определил (отделил) для себя. Как, например, rex Nemorensis был царем лишь
рощи Дианы, внутри которой он жил и в которой, следовательно, умещался весь (его) мир.
Есть основания предполагать, что и римский царь был связан с территорией своей
общины, границы которой определялись для него померием, так что то, что находилось за
ее пределами, было для него чуждым миром.
На Римском Форуме археологами исследована группа зданий вокруг Регии (букв.
резиденция царя), которая по предположению Филиппо Коарели, некогда образовывала
единый комплекс, существовавший в царскую эпоху. Этот комплекс представлял собой
дворец, в котором была резиденция царя и связанные с ней культы, в частности атриум
Весты, богов Ларов и Пенат, Марса и Ops Consiva. Первая Регия датируется примерно 625
г. до н.э. Ее постройка очевидно была связана с началом урбанизации в Риме,
превращением комплекса поселений на холмах в организованный город с центром на
Forum Romanum. Переселившись с Палатина в Регию, римский rex становится
руководителем целого сакрального центра. Судя по его республиканским функциям,
главная обязанность rex состояла в контроле за календарем и ритуалами годового цикла.
Около 500 г.до н.э. Регия подверглась перестройке, и на месте единого комплекса было
образовано несколько самостоятельных зданий - храм богини Весты, храм Ларов,
Пенатов, и новая Регия меньшего размера. В части ее помещались скринии Марса и Ops
Consiva, а в другой жил rex. Позднее она стала называться domus publicum, и в нем
поселился Великий понтифик. Возможно, эта новая перемена в положении rex была
связана с постройкой храма Юпитера Капитолийского и перемещением сакрального
центра Рима с Форума на Капитолий.
Античная историческая традиция приписывала проведение грандиозных строительных
работ правлению царской семьи Тарквиниев, происходившей из Этрурии. Изменение
города не могло пройти бесследно для организации общества и самой царской власти. К
этому периоду традиция относит создание царем Сервием новой гоплитской армии,
учреждение центуриатных комиций, и новой трибальной организации. Сам Сервий и
вслед за ним Тарквиний Гордый жили вовсе не в Регии, а на Эсквилине; причем оба они
вступили на трон без согласия народа и Сената, и таким образом выглядят как
узурпаторы. Сервий позднее узаконил свое положение, а Тарквиний наоборот правил как
тиран. Т.Дж. Корнелл считает этих правителей Рима не царями, а пожизненными
магистратами, относительно которых еще в 1945 году Санто Мадзарино предположил, что
они носили титул magister populi, имевший этрусское происхождение, и их власть
держалась на военной силе. В работах последнего времени они сравниваются со
средневековыми кондотьерами. По мнению Коарелли, рост города, усложнение общества
и политики заставили военных правителей передать все свои религиозные полномочия
специальному представителю, получившему титул rex sacrorum. Для него они выстроили
Регию, поставив таким образом пределы его полномочиям. Корнелл же полагает, что rex
sacrorum был не новым видом жреца, а тем древним римским царем, власть которого была
узурпирована его военным помощником. В Регию была фактически заперта власть
священного владыки, связанного с космическими силами, уменьшить которую было не в
человеческих силах, но можно было установить границы ее применения. Фактически rex
оказался заперт внутри померия, и его деятельность была ограничена сферой Регии и
примыкающих храмов со спорадическими выходами на Комиций. Все сношения rex с
внешним миром оказались в руках Верховного Понтифика, который таким образом
приобрел положение самого важного жреца в Риме.
Если rex был ритуальным правителем и не мог покидать пределов римской общины
(померия), то его основными помощниками были жрецы, которые осуществляли его связь
с внешним миром. Прежде всего это были авгуры, следившие за знаками воли богов,
появлявшимися из внешнего мира. Римская традиция изображает Ромула в качестве
первого авгура (Cic. Rep. II. 16; Div. I. 107; II. 80; Vat. 20. 7; Plut. Rom. 22.1); собственно,
авгурия и ауспиции были основными функциями rex. Коллегия авгуров, состоявшая из
трех или шести членов (Liv.X.6.6-7), была создана, видимо, не «при Ромуле», а «при
Тарквиниях», когда структурирование общины на три трибы вызвало потребность в
помощниках для царя. Тогда же, в VI в.до н.э., было установлено и ритуальное число
курий (30), на которое впоследствии ориентировалось и число членов Латинского Союза,
и число римских триб (согласно Фабию Пиктору), и численность сената (согласно
Дионисию Галикарнасскому).
Ритуальная свита rex из 300 целеров, знатных юношей, выглядит символическим
олицетворением так называемого Ромулова календаря, учитывавшего только 10 из 12
месяцев года (два зимних месяца, в качестве «мертвого сезона», видимо, не могли быть
сакрализованы). Лучшие из целеров выступали вместе с царем в ритуалах, которые
впоследствии стали прерогативой коллегий Луперков и Салиев. Каждая из коллегий
состояла из 12 членов, очевидно персонифицировавших 12 месяцев года. Особенно явно
это видно в мартовских процессиях Салиев, когда они несли 12 священных щитов. Как
Луперки, так и Салии были парными коллегиями – это было необходимо для ритуальных
состязаний, имевших целью поддержать смену времен года. Луперки исполняли ритуалы
контакта с иным миром за пределами померия, а Салии – внутри города. Трибун целеров –
предводитель военной свиты rex выступал в роли его заместителя, когда надо было
пересечь границу римской общины и отправиться на войну.
Понтифики сначала были помощниками rex а в делах, не касавшихся общения с
небесными богами. На это указывает их название – букв. «строители мостов» в смысле
связей с внешним миром, особенно «иным». Превращение rex а в пленника Регии
фактически поставило все его контакты с внешним миром под контроль старшего
понтифика. Особенно это заметно в его руководящем положении по отношению к
весталкам. Жрицы богини Весты поддерживали неугасимым пламя ее очага, некогда
находившегося в Регии. Этот очаг был открытым входом в иной мир, точнее в
пространство, наполненное пламенем, окружавшее культурный римский мир. Богом этого
пространства и пламени был Вулкан. Весталки, таким образом, обеспечивали магическую
связь rex а с потусторонним миром. Напротив, фециалы были ответственны за связи с
реальным чужим миром, лежавшим за границами римской территории. Внутри нее лежал
ager Romanus, где ритуалы календарного цикла вместо rex, не выходившего за померий,
проводились коллегией Арвальских братьев.
Таким образом, ранняя римская монархия имела сакральный характер, в том смысле, что
главной задачей rex было обеспечение устойчивости общины в мировом космическом
порядке. Его деятельность преимущественно была связана с ритуалами, а его
помощниками были лица исполнявшие жреческие функции. В этом контексте приемлемо
выглядят гипотезы Роберта Палмера о курионах в роли первоначальных сенаторов и
Ричарда Митчела о «отцах» в роли жрецов. Начало разрушению этого порядка было
положено развитием военного дела, что привело к гипертрофированному расширению
функций и полномочий одного их помощников царя – magister populi. В отличие от
соседних Кампании и Этрурии, Лаций был беден минеральными ресурсами, и для того
чтобы поддерживать тот стандарт жизни, который сложился у элиты Средней Италии в
VII в.до н.э., Рим должен был вступить на военный путь. В традиционном
позднепервобытном обществе роль армии выполняет инициированая молодежь до того
как вступит в брак и обзаведется хозяйством. Военная реформа середины VI в.до н.э.,
связываемая с именем Сервия Туллия, видимо, обеспечила мобилизацию в римский
легион мужчин более зрелого возраста (до 45 лет). Это обстоятельство и создало военное
преимущество римлян перед соседями, обеспечив приток ценностей для строительства
города.
Значение армии для города настолько повысилось, что ее начальник потеснил rex в
контроле за общественной жизнью Рима. Первоначально военный вождь был одним из
заместителей rex. Его титул – диктатор – достаточно распространен среди латинов, что
указывает на ординарность его должности. Чтобы понять ее происхождение, вернемся к
идее, согласно которой rex был господином определенного, ограниченного пространства.
Но пространство – это не только территория, а еще и время между прошлым и будущим.
Оно фиксировано годовым циклом, который оформлялся и структурировался с помощью
календаря. Rex сохранял ряд важнейших прерогатив, связанных с календарной
обрядностью, даже в позднереспубликанское время; это указывает на то, что он был
господином и временного пространства. В структуре римского кадендаря обращает на
себя внимание одна особенность: первые шесть месяцев назывались именами богов
(январь, февраль, март, апрель, май, июнь), а следующие шесть – порядковыми
числительными (квинтиль (5-й), секстиль (6-й), сентябрь (7-й), октябрь (8-й), ноябрь (9-й),
декабрь (10-й). Божественные имена первых месяцев указывают на их сакральность, тогда
как вторая половина года была ее лишена. На мой взгляд, это различие определялось
отделением периода растущего солнца от периода уменьшения солнечной активности. В
качестве сакральной фигуры, rex не мог иметь отношения к смерти в любой ее форме;
поэтому он не мог быть связан с периодом «умирающего» солнца с июля по декабрь.
Основанием для такого заключения является тот факт, что все календарные ритуалы, в
которых принимал участие rex sacrorum, исполнялись с января по июнь. Тогда как вторая
половина года была свободна от его участия. Это выглядит так, будто rex символически
покидал общество на вторую половину года. На этой основе, предположительно, и вырос
древний латинский обычай назначать временного заместителя для rex’а. Этот
суррогатный правитель назывался диктатором, и он не мог быть назначен на период более
чем шесть месяцев, с квинтиля (июля) по декабрь.
На мой взгляд, ритуальный переход власти от rex к диктатору осуществлялся во время
праздника Поплифугия, который в более позднем лунном календаре приходился на 5
июля. Согласно античной традиции, которую передают Ливий, Дионисий и Плутарх, этот
празник был учрежден как поминание загадочной смерти первого царя Ромула. Античные
авторы предлагают разные версии этого «события», но я обращу внимание лишь на самую
древнюю, мифологическую: «Те кто передает скорее сказочный рассказ о жизни Ромула
говорят, что когда он созвал своих людей на военный сбор на Марсово Поле, вдруг
темнота закрыла ясное небо и обрушился мощный ураган, а когда ветер утих и небо
прояснилось, Ромула нигде не было видно. И эти авторы верят, что он был взят на небо
своим отцом Марсом». Бегство народа в страхе перед разбушевавшейся стихией будто бы
и определило название праздника – Поплифугий. В этом рассказе можно обнаружить
описание ритуала. Рекс, находясь в городе, объявил сбор войска (populus), и подлежащие
призыву мужчины поспешили из города на Марсово Поле, где обычно собиралась
римская армия. Следует напомнить, что понятие «populus» первоначально обозначало
вооруженных людей, т.е. армию, а не народ в целом. Итак, когда воины прибыли на
Марсово Поле, они нигде не могли обнаружить главу своей общины – rex’а, он «исчез». А
дело было в том, что rex не мог покидать своего дворца после конца июня. Тогда некий
знатный муж, по имени Прокул (предводитель), объяснил воинам, что их rex находится
теперь на небесах (т.е. а сакральном пространстве). После этого им потребовалось узнать,
кто же будет их военным вождем вместо rex’а. История исчезновения Ромула упустила
этот момент, однако миф, на который она опиралась, очевидно называл этого вождя –
диктатор.
Ливий (I.24-26) описывает войну между Римом и Альба-Лонгой в царствование Тулла
Гостилия. Когда альбанская армия расположилась в непосредственной близости от Рима,
неожиданно умирает rex альбанцев Клуилий, и они вместо него выбирают диктатором
Меттия Фуфеттия. Этот диктатор вел войну против Рима и в конечном итоге был
приговорен к смерти Туллом Гостилием после того, как альбанцы были объединены с
римлянами. Способ его казни напоминает ритуал, он был разорван на части двумя
(четырьмя) лошадьми. Возможно, это была обычная судьба диктатора в древнейшие
времена, когда власть опять возвращалась к рексу в конце года. Диктатор должен был
сложить свои полномочия до празника Ларенталии 25 декабря, когда по древнейшему
солнечному календарю начинался новый год. Это был день зимнего солнцестояния,
который в историчекую эпоху оказался связан с празничным комплексом Сатурналий. По
некоторым данным, на несколько дней власть передавалась ритуальному rex Saturnalia,
который в конце празника приносился в жертву богам.
В отличие от rex’а, диктатор был свободен покидать город внутри померия, и потому
именно под его руководством римляне вели войны. Включение в армию взрослых
мужчин, стимулированной также долей военной добычи, создало реальную основу и
предпосылку для разделения ритуальной власти у rex и фактической в руках диктатора.
Принцип разделения нашел выражение в римской концепции империя. Власть rex’а была
ограничена померием и называлась auctoritas, производное от auguria. Империй же это
власть военного предводителя, который выборался войском за пределами померия.
Поэтому империй не распространялся на территорию внутри померия. Будучи лишь
бледной тенью рекса в городе, за его границами диктатор обладал неограниченной
властью казнить и миловать, предоставлявшейся ему империем. Как известно, в раннюю
эпоху римский диктатор имел и другой титул – magister populi. То, что это был титул
именно диктатора, следует из факта, что в историческую эпоху помощник диктатора
носил титул magister equitum. Предполагается, что термин magister этрусского
происхождения, и император Кладий даже отождествил некоего этрусского героя по
имени Макстарна (Macstrna > magister) с царем Сервием Туллием. Разделение полномочий
между латинским rex’ом и этрусским магистром может быть объяснено либо с помощью
концепции этрусского завоевания Рима, популярной в середине XX в., либо результатом
объединения Рима с этрусским городом Вейи. В любом случае очевидно этрусское
влияние на политогенез Рима, его следы обнаруживаются во всех атритутах римской
власти – курульное кресло, триумф, одежда триумфатора, названия Тициев, Рамнов,
Луцеров.
Городское строительство было одним из способов укрепления власти магистра в народе,
оно давало зримое доказательство его успехов и его избранности богами. Ведь город rex’а
имел символический характер, померий – это «всего лишь» воображаемая проекция на
землю того небесного regio, который выбрал для посещения rex. Вся важнейшая
деятельность rex’а происходила в ином мире и была недоступна зрению простого
римлянина, который мог наблюдать лишь ее отражение в ритуалах календарного цикла.
Общение rex’а с богами происходило в их небесной епархии, поэтому его город не
нуждался в храмах, как жилищах богов. Древнейшие скринии были святилищами,
расположенными в тех местах, в которые по божественному знаку была спущена
проекция настоящих небесных храмов. Город же, отстроенный этрусскими магистрами,
имел вполне реальные зримые формы – Форум, Комиций, Большой Цирк, Клоака
Максима, дворцы, атриумные дома вместо хижин, городские стены вместо линии камней,
помечавших померий. Естественно, что магистры стали претендовать на «большую
любовь» со стороны богов, по сравнению с rex’ом. Так было задумано строительство
храма Юпитера Капитолийского. Из небесного пространства глава богов был приглашен в
земное жилище, строительство которого таким образом освящало власть военного
магистра. Таинственные магические путешествия rex в иной мир стали не нужны, теперь
магистр торжественно на виду у всего народа шествовал к храму Юпитера, везя за собой
вполне реальные дары из добычи, захваченной во время военных экспедиций. Вслед за
Юпитером и другие боги были «приглашены» на землю, и им построены храмы в Риме.
Новое понятие храма как здания – aedes принципиально отличалось от прежнего –
templum, обозначавшего выделенный сакральный участок неба и его проекцию на земле.
Переход к республике был связан не с отрицанием и разрушением этого порядка,
сложившегося на позднем этапе царской эпохи, а его дальнейшим развитием и
совершенствованием в меняющихся условиях существования римской общины.
Важнейшим из этих условий было существование Латинского Союза, членом которого
был Рим. Превратившись в самый крупный латинский город и имея сильную армию, Рим,
руководимый этрусскими магистрами, стал претендовать на первенство в Латинском
Союзе. В скором времени институты Союза и его политика оказались под контролем
римских владык. Культ Юпитера на римском Капитолии фактически был развитием
культа Юпитера Латиарис на Альбанской горе, одном из центров Латинского Союза. На
другом римском холме – Авентине был учрежден культ и построен храм Дианы, целью
которого было потеснить влияние другого союзного центра – Ариции. Имея сильнейшую
армию в сравнении с другими латинскими городами, Риму естественно претендовал на
руководство союзными вооруженными силами, которое перешло к римскому magister
populi. Именно тогда, адаптируясь к порядкам латинских общин, римляне вернулись к
старому названию магистра – диктатор.
Определенной части римской элиты уже недоставало рамок одного города, и во главе
Латинского Союза она претендовала на контроль за всем Лацием. Это было тем проще
сделать, что значительная часть нитей управления латинскими городами сходилась на
римские Капитолий и Авентин. В условиях, когда римский магистр стал диктатором
Латинского Союза, встал вопрос о формальном руководстве собственно римской армией.
Римская историки II-I вв. до н.э. предполагали, что в некий исторический период римская
армия руководилась коллегией военных трибунов. Согласно изысканиям Варрона, каждый
трибун некогда возглавлял тысячу воинов, которую выставляла одна римская триба.
Таким образом, число трибунов в коллегии определялось количеством римских триб. В
царскую эпоху все войска, а следовательно и трибуны, были объединены под властью
магистра. Переход магистра на новую, более высокую, ступень руководства союзными
войсками, оставлял римскую армию на попечении военных трибунов.
Такое положение существовало до 367 г.до н.э., с которым римская традиция связывает
восстановление консулата, которое по мнению ряда ученых на самом деле было его
учреждением. Военные силы римской общины в V-первой половине IV вв.до н.э.
управлялись сначала тремя, с 426 г. четырьмя, а с 406 г. шестью трибунами. В составе
Латинского Союза они подчинялись общему руководству диктатора, резиденция которого
по всей вероятности находилась также в Риме. В мирное время трибуны представляли
трибы во внутригородских делах, где ведущая роль принадлежала куриям и их
представителям, сенаторам. И курии и сенат были тесно связаны с рексом, роль которого
во внутригородских делах не только не уменьшилась, но возможно увеличилась после
того, как магистр превратился в диктатора Латинского Союза. Куриатные комиции,
решения которых затем ратифицировались одобрением сената, были главным
инструментом внутренней политики. Собрания по трибам первоначально имели лись
совещательный характер и были скорее сходками (contio). Трибуны приглашались в сенат
лишь с совещательным голосом и были вынуждены слушать обсуждения, стоя за дверями
Курии. Центуриатные комиции, проводившиеся за пределами города, имели отношение
лишь к выборам военных предводителей и внешней политике, которая в данный период
была прерогативой руководства Латинского Союза.
Особую роль в руководстве играла магистратура, предшествовавшая консулату,
представители которой именовались преторами. Они появились, вероятно, с учреждением
культа Юпитера на Капитолии. Создававшие его этрусские магистры в качестве образца
приняли организацию власти rex sacrorum. По аналогии с трибуном целеров,
сопровождавшим царя, была учреждена должность magister equitum, который руководил
обычными, не священными, всадниками. Но священный отряд царя состоял из трех
центурий, каждая из которых имела своего предводителя. По аналогии с ними, видимо,
магистр учредил и себе двух помощников – преторов. Как рекса сопровождали две отряда
по 12 Салиев, так и рядом с магистром появились два отряда по 12 ликторов, каждый их
которых возглавлялся претором. Важнейшей функцией преторов и ликторов было участие
в культе Юпитера, поэтому во время военных действий они выступали в роли
представителей божества. Первоначально их прерогативой в войске было не руководство
боевыми действиями, а обеспечение божественной поддержки, проведение ауспиций. Они
же выступали главными помощниками магистра и в городской жизни: привычка
представлять Юпитера привела к концентрации в их руках судебных полномочий.
Некоторые авторы считают их первоначальными функциями консулов/преторов. Связь с
божеством делала их полномочия гораздо более авторитетными, чем совещательные
функции трибунов, распоряжавшихся обыденной жизнью своих триб.
Неустойчивость этой системы власти определялась положением Рима в составе
Латинского Союза. С одной стороны, главенство Рима заставило его элиту
культивировать двойную систему управления – одну для союза во влаве с диктатором, а
другую для самого города, в котором исполнительно-распорялительная власть делилась
между преторами/консулами и трибунами. С другой стороны, привилегированное
положение Рима делало его гражданство и его должности привлекательными для
латинских союзников, которые чем более возвышался Рима, тем настойчивее
претендовали на уравнение в правах. В новых условиях это требование равенства прав для
всех союзников трансформировалось в требование латинов предоставить им половину
мест в управлении уже не Союзом, а Римом. В первой половине IV в.до н.э. латины
оценивали обстановку, исходя из реального главенства Рима и доминирования его органов
управления над союзными. Основу для этих требований создавала обстановка в Лации,
где латинов теснили вольски, развивавшие морскую торговлю с греками через Анций,
этруски Церэ, претендовавшие на соляные копи в устье Тибра, и особенно галлы,
нападения которых инспирировались южно-италийскими и сицилийскими греками. Эта
их политика была вызвана римским завоеванием этрусских Вей, что превратило Рим в
крупнейший и сильнейший центр Лация и вызывало законные опасения. Некоторые
латинские города, подобно Тибуру, недовольные господством Рима, а также
преференциями полученными этруссками - жителями вейентских территорий, часто
выступали на стороне врагов Латинского Союза.
В этих условиях римлянами была проведена первая модернизация своего общественного
строя, положившая начало серии его изменений, превративших в конечном счете Рим в
структуру, подобную греческим гражданским общинам. По-видимому, модернизация
началась с реформирования культа Юпитера Капитолийского. Прежняя триада богов –
Юпитер, Марс, Квирин – символизировавшая как древние представления о связи
общества с космосом, так и три трибы образовывавшие римскую общину, была заменена
новой. Юпитер, Юнона, Минерва символизировали нерасчлененность общины на трибы и
единство в ней города и двух частей его агер, латинской и этрусской (на прежней
вейентской территории). Обслуживавшие новый культ курульные эдилы получили статус
государственных магистратов. Но главной проблемой было урегулирование полномочий
преторов/консулов и трибунов. После завоевания Вей римскую армию возглавляли шесть
трибунов, по числу триб располагавших войсками. Тогда как на гражданском уровне
римская община была представлена десятью трибунами, поскольку на вейенской земле
было образовано четыре новых трибы. Две части римской общины, латинскую и
этрусскую за Тибром, следовало сплотить, дабы их соперничество не ослабило ведушей
позиции Рима в Латинской Лиге. Поэтому вопрос о подчиненном статусе вейентов даже
не ставился; наоборот, Ливий рассказывает о спорах охвативших общество после
(фиктивного) Галльского пожара, где сделать центр общины, в Риме или в Вейях. Дабы
привязать вейентов, ресурсы которых были нужны чтобы держать в подчинении
Латинский Союз, римляне были вынуждены поделиться с ними властью. В добавок к двум
прежним преторам был учрежден еще один, должность которого предназначалась только
для вейентов (плебеев, в силу того, что они не принадлежали к прежним куриям). Так в
Риме стало три претора. Неясно, получил ли плебейский претор право на ауспиции в силу
реформы Капитолийского культа, или же только после 300 г. до н.э., когда плебеи были
допущены к жреческим должностям. В последнем случае плебейский претор долгое время
был полу-самостоятельной фигурой. Вейенты видимо претендовали на равное
представительство в военном руководстве. Поэтому реформа закрепила положение,
постепенно вызревшее на практике – преторы стали высшими военными руклводителями,
а военные трибуны были определены к ним в подчинение на правах офицеров. Действия
вейентского претора в паре с обладателем ауспиций привели к распространению на них
термина «консулы». Тогда как третий, патрицианский претор, чаще остававшийся в
городе и занимавшийся судопроизводством, удержал за собой свое прежнее название. При
том, что полномочия консулов и претора долгое время ничем не различались.
Объединение с Вейями, видимо, послужило причиной постановки вопроса о статусе
«старых римлян» и «новых граждан». В результате старая знать стала отождествлять себя
с «отцами», образовывашими сенат, и их потомками – патрициями. С начала III в.до н.э.
создание их сословия стало возводиться к Ромулу, основателю города. Часть вейентской
знати видимо получила допуск в патриции, а большинство было уравнено с римлянами, не
состоявшими в родстве с отцами, в качестве плебеев. Их рупором на политическом уровне
стала коллегия десяти трибунов. Их число соответствовало числу триб на первую
половину IV в.до н.э. Неясно сразу стали они представлять не отдельные трибы, а всю
общину в целом, или такая практика была выработана с течением времени. Дело в том,
что выборы трибунов проводились на собраниях по трибам, и одно дело когда каждая
триба выбирала своего представителя, а другое – когда все они выбарались на общих
трибутных комициях. Согласно традиции, трибутные комиции были узаконены в качестве
собраний всех граждан на Комиции только в начале III в.до н.э. К этому же времени вроде
бы должно относиться и преврашение трибунов в представителей всего народа. Однако
уже в течение IV в. до н.э. число триб выходит за пределы десяти, и потому уже тогда
трибуны не могли быть представителями отдельных триб. Таким образом, реформы,
которые римская традиция относит ко времени легендарных Лициния и Секстия (367 г.до
н.э.), предотвратили дальнейшее разрастание числа трибунов и ликвидировали возникшее
противоречие между военной и гражданской организацией. Римскую армию стали
образовывать два легиона, руководимые представителями «старых» и «новых» граждан.
Проведенные реформы существенно повысили и без того значительный вес Рима в
Латинском Союзе. Новые римские легионы превосходили любое подразделение союзной
армии и даже войска нескольких общин в совокупности, предотвращая таким образом
возможность к их объединению против Рима. В этих условиях оперативные действия в
Лации велись в основном римскими войсками, а войска союза собирались только в
экстренных случаях, когда размер опасности превышал обычный. В результате этого
стало меняться соотношение между римскими консулами и диктатором Латинского
Союза, который привлекался к решению насущных проблем все реже и реже. А поскольку
в силу центрального положения Рима в союзе диктаторами назначались в основном
римляне, то большую часть времени нужда в них отсутствовала. Консулы
сконцентрировали все полномочия в своих руках, а к диктатуре стали прибегать либо
когда требовалось собрать все войска Латинского Союза, либо когда требовалось
получить важную санкцию латинского Юпитера.
Предоставление гражданства затибрским этрускам и допуск их к управлению Римом
вызвал законное недовольство латинских старейшин, в свою очередь потребовавших
допуска их к римскому консулату и половину мест в римском сенате (Liv. VIII.3-5).
Допуск латинов к римскому гражданству является центральным и в то же время самым
неясным моментом ранней римской истории. Оно выразилось в образовании новых 20
римских триб, заселенных совместно римлянами и латинами. Процесс их образования не
обошелся без конфликта, который описывается римской традицией как Латинская война
340-338 гг.до н.э. Однако дата и, вероятно, история этой войны смоделированы по образцу
войны Филиппа Македонского с греческими союзниками. Возможно, римляне
предоставили гражданство сначала части латинских общин, и при этом число триб
достигло двадцати. Это и спровоцировало конфликт с оставшимися. В результате было
образовано 30 триб. Именно в этот период, с 366 по 300 гг.до н.э., разворачивается борьба
патрициев и плебеев. Старая система курий уже не могла функционировать в качестве
руководящего органа, и куриатные собрания на комиции были заменены новыми
трибутными. Сенат был переформирован и стал пополняться не представителями курий, а
за заслуги бывшими высшими магистратами. В нем стала быстро расти группа,
представлявшая новых граждан, потеснившая прежних отцов. Auctoritas patrum утратила
прежнее значение, и нужда в утверждении отцами постановления народных собраний
отпала.
Эти перемены существенно ослабили значение rex sacrorum во внутренней жизни города.
Курии и patres утратили прежние позиции, а именно их поддержкой по традиции
пользовался rex. Его право на роль морального авторитета римской общины было
совершенно чуждо новым гражданам, которые требовали допуска не только к
магистратурам, но и в жреческие коллегии. Во второй половине IV в.до н.э. римляне
отменяют целый ряд архаических норм и институтов, устаревших в новых условиях –
принцип комплектования сената, институт nexum, auctoritas patrum, божественность
решения высшего магистрата (ius provocationis), запись праздничных дней (прерогатива
rex), начало ведения эпонимных записей (с 344 г.), реформа календаря, возможно тогда же
публикуются и XII таблиц. Все это окончательно подорвало значение rex в общественной
жизни. Последним ударом был допуск плебеев в коллегии понтификов и авгуров. Таким
образом, полный отрыв rex от реальной городской жизни произошел только после 300 г.до
н.э. Когда начали писать первые исторические сочинения о раннем Риме, его фигура была
уже вполне анемичной, и это получило отражение в античной литературе, отнесшей
создание этой должности к началу республики в том ее виде, в каком сами римские
авторы могли наблюдать ее в жизни.
.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
Штаерман Е.М. К проблеме возникновения государства в Риме // ВДИ. 1989. № 2. С. 76-
94.
Eder W. (hrsg.) Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten eines
Symposiums 12.-15. Juli 1988 Freie Universität Berlin. Stuttgart, 1990.
Raaflaub K.A. (ed.) Social Struggles in Archaic Rome: new perspectives on the Conflict of the
Orders. Berkeley, 1986 (repr. 2005).
Valditara G. Il magister populi tra monarchia e repubblica // Firpo G., Zecchini G. (a cura)
«Magister» : aspetti culturali e istituzionali. Atti del Convegno (Chieti, 13-14 novembre 1997).
Alessandria, 1999.