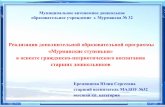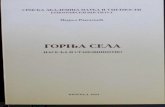Неология и неография: - Институт лингвистических ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Неология и неография: - Институт лингвистических ...
Неология и неография:
современное состояние и перспективы
К 50-летию научного направления
Нестор-ИсторияСанкт-Петербург
2016
РоССИйСкая академИя НаукИнститут лингвистических исследований
УДК 811.161.1ББК 81.2Рус Н 52
Издание подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда: грант № 15-04-14079
Рецензентык.ф.н. А. Ю. Кожевников, к.ф.н. О. Н. Крылова
Н 52 Неология и неография: современное состояние и перспективы. (к 50-летию научного направления): Сборник научных ста-тей / Отв. ред. Т. Н. Буцева. Ин-т лингв. исслед. РАН. — СПб. : Нестор-История, 2016. — 236 с.ISBN 978-5-4469-1025-0
Сборник содержит статьи по материалам Международной конференции, по-священной 50-летнему юбилею неографического направления лексикографии и 90-летию со дня рождения его основателя Н. З. Котеловой. В нем освеща-ются итоги научной деятельности подразделения ИЛИ РАН, занимающегося составлением словарей новых слов, проблемы неологии и неографии, рассма-триваются задачи и перспективы изучения и лексикографического описания новых лексических единиц, зарубежный опыт фиксации и представления неологизмов в словарях разного типа. Материалы сборника представляют интерес для специалистов-русистов, занимающихся проблемами словообра-зования, семантической деривации, фразеологии, лексикографии, истории русского языка, преподаванием русского языка в вузах, а также для социоло-гов и культурологов.
УДК 81ББК 81.2
© Коллектив авторов, 2016© Институт лингвистических исследований РАН, 2016© Издательство «Нестор-История», 2016
978-5-4469-1025-0
3
СОДЕРЖАНИЕ
Аксарина Н. А. Гипосемантизация как фактор формирования лексического
суррогата (к вопросу об активных семантических процессах)……………………
5
Баранова Л. А. Аббревиатуры иноязычного происхождения в современном
русском языке: принципы и практика лексикографического описания…………..
9
Бурыкин А. А. Лексический материал словарей «Новые слова и значения» в
контексте новых лексикографических источников………………………………...
13
Буцева Т. Н. Сегодня и завтра академической неографии……………………….. 16
Ваулина Е. Ю. Новейшая физическая терминология в толковом словаре……… 22
Геккина Е. Н. Новое в словаре пассажиров общественного транспорта………... 28
Гудилова С. В. , Макарова О. Ю. О проекте онлайн-словаря интернет-мемов.. 35
Дубичинский В. В. Основания неографии………………………………………… 41
Дягилева И. Б. Неология в «Словаре русского языка XIX века» (на материале
газетной публицистики 1820-40-х гг.)…………………………………....................
48
Жданова Е. А. Новые суффиксальные существительные с отвлеченным
значением (по данным неографии)…………………………………………………..
52
Захаров В. П. Словообразовательные неологизмы в русском языке (корпусное
исследование)………………………………………………………………………….
57
Зеленин А. В. Скандинавская неология и неография: истоки и современное
состояние……………………………………………………………………………….
64
Изотов В. П. Зона комментариев в словарях авторских окказионализмов………. 71
Калиновская В. Н., Эзериня С. А. От неологического до нео-нео-нео-реализма:
культурно-историческая динамика лексических новаций с начальным
компонентом нео... .......................................................................................................
75
Козловская Н. В. К проблеме узуализации видовых обозначений предметов
детской гигиены……………………………………………………………………….
80
Козырев В. А., Черняк В. Д. Фактор новизны как стимул развития
лексикографии…………………………………………………………………………
86
Колковска С., Благоева Д. Аспекты нормативной деятельности при
лексикографическом описании новых слов…………………………………………
92
Кругликова Л. Е. Интенсивность пополнения лексического состава русского и
английского языков (по материалам словарей)……………………………………..
95
Левина С. Д. Из наблюдений над наименованиями нетрадиционных
сексуальных ориентаций в современном русском языке …………………………..
106
Литвинникова О. И. Новая социально-политическая лексика в текстах
русскоязычных СМИ Украины……………………………………………………….
114
Лукашанец Е. Г. Новый элемент словарной статьи: теги (дескрипторы, метки) 119
Маринова Е. В. Новые несклоняемые существительные в их отношении к
грамматической категории рода……………………………………………………...
125
Матвеева Е. О. Окказионализмы в текстах современной российской рекламы… 130
Мокиенко В. М. Фразеологическая неологика 1990-х гг.: новое и старое………. 134
Намитокова Р. Ю., Нефляшева И. А. Неологический дискурс ученого:
Н. И. Фельдман об окказиональных словах и лексикографии……………………...
140
Нефляшева И. А. Окказиональное слово – креатив или симулякр?
(размышления о природе окказионализма в постмодернистской парадигме)…….
146
Нечаева И. В. Иноязычная неология: проблемы письменной адаптации………... 152
Никитина О. А. Новые заимствования в немецком языке на рубеже XX-XXI вв.
и их русскоязычные эквиваленты (на материале «Немецко-русского словаря
неологизмов»)………………………………………………………………………….
157
4
Никитина О. А. О способах дискурсивной индикации неологизмов на стадии
узуализации (на материале немецкого языка)……………………………………….
163
Никульцева В. В. Поэтическое словотворчество Федора Сологуба: опыт словаря
неологизмов…………………………………………………………………………….
168
Пашкина О. Ю. Грамматическая омонимия и ее отражение в современных
словарях…………………………………………………………………………………
174
Попов Р. В. «Бытовые» советизмы как объект неографии………………………… 179
Приѐмышева М. Н. Научное наследие Н. З. Котеловой и традиции
отечественной лингвистики…………………………………………………………...
185
Рацибурская Л .В. Экспрессивно-оценочные возможности современного
медийного словотворчества…………………………………………………………...
191
Ридецкая Ю. С. Лексические инновации с опорным компонентом …мания в
русском языке конца ХХ – начала ХХI вв. ………………………………………….
196
Самыличева (Бакич) Н. А. Средства актуализации авторских новообразований
(на материале трилогии Юрия Полякова «Гипсовый трубач»)……………………..
202
Ткачѐва И. О. Языковые изменения последних лет в толковом словаре
«современная спортивная лексика»…………………………………………………..
208
Федонюк В. Е. Испанизмы в современном чешском языке……………………….. 212
Шмелѐв А. Д. Новое в русской лексике: проблемы кодификации………………... 217
Steffens Doris. Das Online-neologismenwörterbuch für den neuen wortschatz im
Deutschen………………………………………………………………………………..
Сведения об авторах………………………………………………………………….
222
233
5
Н. А. Аксарина
ГИПОСЕМАНТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО
СУРРОГАТА (К ВОПРОСУ ОБ АКТИВНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ)
Современные условия мультикоммуникации, характеризующие в языковом отношении
эпоху информационных технологий, требуют от языковой личности намного более быстрого
восприятия, интерпретации и передачи огромного количества речевой информации, чем
двадцать и более лет назад. Основными чертами мультикоммуникации являются высокая
плотность речевого информационного потока, воспринимаемого отдельной личностью,
множественность и одновременность таких потоков, формирование лексической
интерпретационной базы личности в условиях ограниченного времени и устойчивого
коммуникативного стресса [Аксарина, Трофимова 2012: 65]. Все это провоцирует дефектную
семантизацию лексики (особенно заимствованной), актуальной прежде всего в сферах
массовой коммуникации.
В настоящее время гипосемантизация – активный семантических процесс, связанный с
частичной деактуализацией семантики слова в сознании носителей языка. Влияние этого
процесса, равно как и смежных процессов гипер- и десемантизации, ощутимо в речи разных
людей независимо от возраста, образования и социального статуса. Для гипосемантизации
характерно упрощение (выхолащивание) семного состава слова, сокращение объема семемы
(иногда весьма значительное), обеднение денотата и в результате этого ненормативное
расширение семантической валентности слова. При этом утрачиваются (не воспринимаются
сознанием говорящего / пишущего) прежде всего дифференциальные признаки, и потому
расширение валентности происходит за счет интегральных компонентов в составе семемы.
По характеру интеграции можно выделить гипосемантизацию по эксплицитной
дифференциальной семе, общей для каких-либо слов, даже не входящих в одну
тематическую группу; по архисеме внутри общей ТГ, по доминанте синонимического ряда
(для периферийных членов ряда), по ядерному компоненту общего для слов в составе
нормативного и ненормативного варианта высказывания лексико-семантического поля, по
общим семантическим свойствам денотата, по грамматическому признаку, по
экспрессивному признаку и метонимическую гипосемантизацию [Аксарина, Трофимова
2012: 65 – 67].
На сегодняшний день гипосемантизация (наряду с десемантизацией) является
активным фактором пополнения фонда лексического суррогата в устной и письменной
русской речи. Обеднение денотата и расширение валентности слова вследствие
гипосемантизации приводит к приобретению лексической единицей суррогатных свойств:
слово становится словозаменителем, способным в условиях дефицита времени на
осмысление и передачу точной информации передать ее приблизительно, условно понятно.
Суррогатные свойства гипосемантизированных слов не отражаются в толковых словарях,
поскольку находятся за пределами действующей лексической нормы.
Суррогатный фонд пополняется преимущественно за счет гипосемантизации
нескольких типов.
1. Очень часты примеры гипосемантизации по эксплицитной дифференциальной семе:
снабжение предприятий полным спектром продукции (нормативно – полным
ассортиментом продуктов). В приведенном примере в слове спектр деактуализируются
все семантические признаки, кроме эксплицитного компонента „совокупность‟,
содержащегося в слове ассортиментв импликации. Суррогатный характер
гипосемантизации подчеркивает возможность замены местоимением – снабжение всей
продукцией.
2. Особенно активна и по-разному представлена в речи гипосемантизация по ядерному
компоненту лексико-семантического поля (здесь – ЛСП „разумное, закономерное‟):
бюджеты необходимо выстраивать в единой логике (нормативно – в общей / единой
6
закономерности; варианты: по общим принципам, на общих основаниях). Тот же тип
семантизации наблюдается в примере выясняли реакциинаших соотечественников
(нормативно – выясняли, каково отношение наших соотечественников к…, каковы мысли /
чувства / переживания…). Здесь слово реакция гипосемантизируется по ядру ЛСП
„Отношение к чему-л.‟
Одна из частных особенностей гипосемантизации по ядерному компоненту ЛСП
отражена, например, в высказывании Проводится областная программа по замене окон,
дверей, натяжных потолков (нормативно – осуществляется / внедряется / реализуется).
Здесь следствием деактуализации всего содержания семемы проводиться, кроме ядерного
компонента поля „осуществление чего-л.‟, и вызванного этим нарушения семантической
валентности (проводится программа) становится гиперсемантизация слова „программа‟ –
наделение его избыточным процессуальным значением.
Интересная разновидность гипосемантизации этого типа представлена в примерах,
подобных следующему: Произойдет коррекция фигуры, улучшение цвета лица, состояния
кожи и волос (нормативно – Улучшатся фигура, цвет лица… и т. д.). В данном случае
следствием гипосемантизации становится речевая избыточность – попытка носителя речи
компенсировать не воспринимаемый сознанием ядерный компонент ЛСП „результат чего-л.‟,
общий для слов коррекция и улучшение при сохранении дифференциального признака
позитивной оценки. Словоформа произойдет (будет / получится / выйдет), призванная в
высказывании передавать результативное значение («положительность» результата
выражена в лексемах коррекция и улучшение), – контрпродуктивный суррогат,
коммуникативно лишняя единица.
3. Регулярно встречается гипосемантизация по архисеме: чѐткой расшифровки, что
же такое «достаточные признаки», нет (нормативно – точного / внятного объяснения). В
слове расшифровка деактуализировались все дифференциальные признаки и
абсолютизировалась функция архисемы тематической группы „объяснение, разъяснение,
толкование‟. Здесь возможно усмотреть и гипосемантизацию по более широкой ТГ „речевое
действие‟, если нет четкой расшифровки равно ясно не сказано. Суррогатный характер
употребления слова расшифровка определяется ненормативно широкой для языка
валентностью. Похожий пример: обозначить края проблемы (нормативно – границы
проблемы).
Гипосемантизация этого типа любопытна тем, что наблюдается даже в словах,
имеющих в языке довольно узкое терминологическое значение и обладающих бедным
семантическим потенциалом, как, например, слово формат: В формате высокой чѐткости
можно смотреть любимые фильмы и мультфильмы, познавательные передачи и многое
другое (нормативно – с высокой четкостью изображения можно смотреть…). Здесь в
семантике слова формат гипосемантизируются дифференциальные семы, составляющие
основную часть первичного языкового значения („расположение данных‟, „база данных‟,
„информация‟, „расположение чего-л. где-л.‟ и пр.). Из всего эксплицитного семного
потенциала слова в приведенном высказывании реализуется только компонент „способ
представления‟ (архисема одноименной тематической группы), в нормативном варианте
содержащийся в слове „изображение‟.
4. Несколько реже фонд лексического суррогата пополняется за счет гипосемантизации
по доминанте синонимического ряда: сложная и многогранная программа выступлений
(нормативно – сложная и разнообразная). Здесь денотат периферийного члена ряда – слова
многогранный утрачивает все дифференциальные признаки, отличающие его от денотата
доминанты – слова разнообразный.
Заметим, что нередко в одном высказывании обнаруживаются признаки
гипосемантизации на разных основаниях. При этом чаще всего наблюдается и речевая
избыточность. Так, например, речевой избыточностью (причем с грамматическим
усложнением конструкции) сопровождается и гипосемантизация в примерах, подобных
этому: Вы переживаете тот период, когда высоки шансы встретить любовь или хорошего
7
друга. Здесь налицо гипосемантизация (интеграция) по архисеме „отрезок времени‟. При
этом деактуализируются дифференциальные компоненты, которыми различаются слова
период и этап: возможен нормативный экспрессивный вариант высказывания Вы
находитесь на том особом этапе жизни, когда…, где экспрессия (перифраз) оправдывает
синтаксическое усложнение. Без экспрессии и перифраза возможны нормативные варианты,
где дефектная часть конструкции замещается обстоятельством времени (словами и
сочетаниями с семантикой настоящего времени): Сейчас / в это время / в этот период
жизни у вас высоки шансы встретить…. В возможности такой замены определяется, во-
первых, суррогатный характер дефектной части высказывания, во-вторых, гипосемантизация
по доминанте синонимического ряда – наречию сейчас.
Менее регулярно встречаются высказывания, где в гипосемантизацию вовлечены
компоненты не только лексического, но также грамматического и стилистического значения.
Рассмотрим следующий пример: Вместе с тем постижение актуальных открытий – не
просто дань любопытству, это непременное условие выживания (нормативно –
понимание / осознание актуальности / ценности научных открытий. Использование
слова постижение здесь есть показатель гипосемантизации по доминанте синонимического
ряда понимание, при которой в слове постижение одновременно деактуализируются как
дифференциальный компонент „приобретение полного знания‟, так и высокая
стилистическая окраска. Кроме того, в неразличении семантических возможностей
прилагательного актуальный и нормативного в этом случае существительного актуальность
наблюдается яркая лексико-грамматическая гипосемантизация: производящему слову
приписано значение производного.
Следует сказать, что в случае такой комплексной гипосемантизации по нескольким
основаниям суррогатный характер единиц, используемых вместо нормативных, меньше
всего осознается носителями языка: опыт работы с разными категориями слушателей
(школьниками, студентами, учителями) показывает, что ошибки, связанные с комплексной
гипосемантизацией, понимаются и признаются респондентами особенно тяжело – и
наименее результативно исправляются.
В отдельных случаях наблюдаемая в высказывании гипосемантизация является
результатом ряда последовательных ненормативных преобразований («упрощений»)
семантики слова, и потому может быть корректно описана только при обращении к другим
частотным высказываниям, отражающим промежуточные этапы семантической
трансформации гипосемантизированной единицы. Так, в примере Фиксируя эту тенденцию,
мы пересмотрели пул каналов цифрового ТВ в соответствии с интересами наших
абонентов цепочка упрощений между нормативным и представленным дефектным
вариантом выглядит, вероятно, так: учитывать эту тенденцию – уделять внимание этой
тенденции – сосредоточивать внимание на этой тенденции – удерживать эту тенденцию
в сфере внимания – фиксировать внимание на этой тенденции (дефектный вариант) –
фиксировать эту тенденцию (дефектный вариант). Однако ввиду отсутствия в нашей
картотеке высказываний, содержащих примеры промежуточных трансформаций семантики
слова фиксировать, эта цепочка упрощений весьма условна. Но предполагать подобную
цепочку необходимо, поскольку опосредованность гипосемантизации учитывать –
фиксировать очевидна: у этих слов в их нормативных значениях отсутствуют общие
компоненты на всех уровнях семной иерархии.
В свете всего сказанного важно, что взгляд на лексические ошибки и недочеты,
подобные рассмотренным выше, с позиции осмысления действующих на данном этапе
развития языка семантических процессов не только способствует пониманию современных
механизмов нарушения лексической нормы, но и заставляет иначе – значительно более
толерантно – оценивать такого рода факты отступления от нормы, если они столь регулярны
и определяются самими условиями коммуникации.
8
Литература
Аксарина, Трофимова 2012 – Н. А. Аксарина, О. В. Трофимова. Гипосемантизация
языковых единиц в письменной речи старшеклассников (на материале текстов сочинений
ЕГЭ по русскому языку) // Вестник Тюменского государственного университета. № 1.
Филология. 2012. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. С. 64 – 67.
9
Л. А. Баранова
АББРЕВИАТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Одним из характерных языковых процессов новейшего времени является активное
проникновение в русский язык ставших интернационализмами иноязычных наименований
различных реалий жизни современного мирового сообщества, отражающее происходящие в
нем актуальные процессы глобализации, расширения и углубления международных связей,
межъязыкового взаимодействия, активизации действия международных организаций,
интернационализации науки, значительного расширения информационного пространства и
резкого увеличения потока информации в последние десятилетия. Другая важная
особенность развития русского языка наших дней (отражающая, впрочем, исторически
сложившуюся тенденцию к экономии языковых средств) появление в нем огромного
количества сокращений, пополнение словарного состава за счет образованных различными
способами аббревиатур (как русского происхождения, так и иноязычных) так называемый
«аббревиатурный взрыв». Сокращению, как правило, подвергаются многочленные
номинации определенных реалий, именование которых в развернутом виде затрудняет
коммуникацию. Рост числа таких образований наиболее значителен в терминологической
сфере.
Предметом предлагаемого исследования являются вопросы лексикографического
описания достаточно большой группы иноязычных по происхождению аббревиатур, в той
или иной форме заимствования функционирующих в русском языке XX в. – начала XXI в.
Вопросы аббревиации привлекают в последние годы внимание ряда исследователей, однако
обращено оно, главным образом, на изучение и описание разного типа сокращений русского
происхождения, хотя в русской официально-деловой, научной, публицистической речи
заимствованные аббревиатуры занимают весьма заметное место. Они представляют собой в
большинстве своем английские по происхождению сокращения, известные, впрочем, во
многих языках, поскольку называют реалии или явления, имеющие международное
значение, всеобщую известность. Однако лишь немногие из аббревиатурных заимствований
нашли свое отражение в словарях современного русского языка.
В соответствии с задачами культурно-просветительской программы Российской
Академии наук «Словари XXI века» нами разработан «Словарь аббревиатур иноязычного
происхождения» [Баранова 2009]. Словарь фиксирует и систематизирует аббревиатуры
иноязычного происхождения, функционирующие в современном русском языке в
значительном количестве и в весьма разнообразном виде. В некоторых из них мы не всегда
замечаем их иноязычное происхождение – это кальки, сокращения давно переведенных на
русский язык многочленных наименований (ООН, США, ВОЗ). В других мы не всегда
узнаем аббревиатуры – это иноязычные сокращения, лексикализовавшиеся в родном языке и
пришедшие в русский язык уже в виде самостоятельного слова, оформленного строчными
буквами (гестапо, лазер, радар). Есть также аббревиатуры (главным образом слоговые),
которые становятся таковыми только в русском языке, подвергшись в нем сокращению, в
языке же оригинала они функционируют лишь в виде развернутого словосочетания (Совбез
ООН, Госдеп США). Значительную группу составляют аббревиатуры, передающие исходное
иноязычное сокращение в виде его транслитерации или транскрипции (НАТО, НАСА,
диджей, пиар). Еще одну большую, стремительно развивающуюся в русском языке
последних десятилетий группу составляют иноязычные аббревиатуры, сохраняющие свое
исходное написание латиницей (CD, DVD, GPRS, SMS). Активное развитие данной группы
отражает процессы глобализации информационного пространства в современном мире.
Аббревиатуры всех указанных типов чрезвычайно активно употребляются в русском языке
наших дней, они встречаются всюду – в прессе, в рекламе, в технической документации, но
10
далеко не всегда читающий может их расшифровать, поскольку главная особенность этой
группы – ее непрозрачность, трудность понимания смысла многих, особенно новых,
графически не освоенных русским языком иноязычных сокращений.
В существующих словарях сокращений русского языка представлены в подавляющем
большинстве русские аббревиатуры разных типов, приводятся немногочисленные
аббревиатуры иноязычного происхождения (в основном кальки сокращенных наименований
определенных реалий, в отдельных случаях уже устаревших, превратившихся в историзмы).
В новейших толковых словарях иностранных слов даны некоторые наиболее частотные
новые иноязычные сокращения (как в кириллическом, так и в латинском написании), однако
они не представляют систему такого рода сокращений в целом. Таким образом, можно
констатировать, что необходимость создания словаря, отражающего систему иноязычных по
происхождению аббревиатур в русском языке, давно назрела. При этом специфика
представленного в словаре материала обусловила необходимость создания словаря нового
типа, гибридного по своей сути, сочетающего особенности как лингвистических, так и
энциклопедических словарей. В нем впервые с наибольшей полнотой отражена группа
заимствованных аббревиатур в русском языке, показаны их языковые и страноведческие
особенности, расшифровка и толкование (с включением сведений энциклопедического
характера), ударение и произношение, способ заимствования, язык-источник, варианты
написания, синонимы, сфера и примеры употребления.
В словарь не включаются отраслевые узкоспециальные термины. Приведенные в
словаре терминологические сокращения, отражающие разные области употребления
(политика, экономика, медицина, спорт, техника и др.), могут представлять общественный
интерес. Отражая современные языковые реалии, словарь включает в себя как
аббревиатурные заимствования последнего времени, так и сокращения, давно вошедшие в
русский язык, устойчиво существующие в нем в самой разнообразной форме. Помимо
собственно аббревиатур (инициальных и слоговых), в словаре даны сокращения,
лексикализовавшиеся в родном языке и пришедшие в русский язык в виде
цельнооформленных, самостоятельных слов, а также заимствованные узуальные слова,
переосмысленные в родном или в русском языке как квазиаббревиатуры, – они представлены
в словаре преимущественно в строчном написании. Включение в словарь такого рода
образований позволяет проследить их не всегда очевидное в русском языке аббревиатурное
происхождение – в первом случае (напалм, нитинол, парсек, радар), либо же их
псевдоаббревиатурную сущность – во втором случае (бич, яппи, яунс; КАСКО, SOS, SPA).
Вновь заимствованные аббревиатуры не всегда сразу обретают в русском языке
окончательную форму написания, произношения, перевода или толкования, сохраняя на
начальном этапе вариантность их употребления. Имеющиеся варианты приводятся в словаре
через косую линию в порядке частотности или предпочтительности употребления вариантов.
Новизна иноязычных сокращений (особенно графически не освоенных русским
языком) приводит иногда к их неверному толкованию и употреблению в СМИ. Примеры
ошибочной трактовки некоторых аббревиатур приведены в иллюстрациях к ним и снабжены
соответствующими комментариями.
Задуманный как популярно-справочное издание, словарь содержит не только
систематизированные лингвистические комментарии, но во многих случаях и информацию
энциклопедического характера о явлении, стоящем за конкретным сокращением, поскольку
многие сокращения, обозначающие новые или малоизвестные реалии, нуждаются в более
широком, чем простая расшифровка, толковании, расширяющем, помимо прочего, и
кругозор читателя.
Словарь не претендует на полноту сведений по заявленной теме, поскольку данная
лексическая сфера чрезвычайно активна, подвижна и изменчива. Объем словника – около
тысячи аббревиатур и их производных (без учета сложных слов с аббревиатурным
компонентом). Словарь, предназначенный как для специалистов-филологов, так и для
11
широкого круга читателей, может быть полезным помощником и для читателей современной
прессы, и для журналистов, использующих такие сокращения в своих публикациях.
Структура словаря.
Словарь состоит из двух частей. Первая часть словаря включает аббревиатуры
иноязычного происхождения, функционирующие в русской письменной речи в написании
кириллицей, вторая часть – в написании латиницей. В тех случаях, когда аббревиатура
употребляется в русском языке в написании только кириллицей или только латиницей, она
приводится и разрабатывается лишь в соответствующей части словаря. Если аббревиатура
встречается и в том, и в другом написании, она разрабатывается в обеих частях словаря и
снабжается ссылкой на соответствующую словарную статью в другой части. Порядок
расположения аббревиатур в словаре – алфавитный. Инициально-цифровые и условно-
знаковые графические сокращения приведены в четырех приложениях.
Структура словарной статьи.
1) заголовочная аббревиатура;
2) варианты ее написания (через косую линию) или употребления (наряду с
синонимом, приводимым рядом в скобках с пометой тж.);
3) помета с указанием сферы употребления (для терминов);
4) особенности произношения и ударение (в квадратных скобках);
5) способ заимствования (только в части 1) и указание на язык, из которого
заимствована аббревиатура;
6) оригинал аббревиатуры;
7) соответствующее ей развернутое словосочетание;
8) перевод и / или толкование (с включением информации энциклопедического
характера);
9) особенности употребления (комментарий);
10) ссылки на другие словарные статьи;
11) наличие производных;
12) иллюстрации (выделяемые курсивом) в виде цитат, которые позволяют
показать в контексте особенности функционирования определенной аббревиатуры или ее
производных в русском языке, расширяют ее толкование.
Позиции 1, 5, 6, 7, 8 являются обязательными, остальные – факультативными.
Примеры.
МРТ (тж. МРИ, ЯМРТ) ( мед.) [ эм-эр-тэ], калька < англ. MRI – сокр. < magnetic
resonance imaging – букв. „магнитно-резонансное изображение‟ – магнитно-резонансная
томография, МР-томография; магнитно-резонансный томограф. См. МРИ, ЯМРТ.
МРТ изобрели в 1973 г., а Нобелевской премией отметили в 2003 г. (АиФ в Укр, 2008,
№ 42).
DVD / dvd [ди-ви-ди], сокр. < англ. Digital Versatile Disc – цифровой универсальный
диск. Данное название было утверждено в 1999 г., до этого аббревиатура DVD
расшифровывалась как Digital Video Disc – „цифровой видеодиск‟, что вводило в
заблуждение, поскольку на DVD можно записывать как видео-, так и другие данные.
Производные: дивидишка, дивидишный (разг.).
Голливудские сценаристы начали забастовку с требованиями об увеличении их доли
доходов от продажи DVD с фильмами. (Перв. Крымск., 9.11.07).
Указание на произношение (включая ударение) в первой части приводится только в тех
случаях, когда оно может вызвать затруднение или колебание, во второй части – когда
иноязычная по своему графическому оформлению аббревиатура достаточно широко
употребляется в русском языке не только в письменном, но и в произносительном варианте и
произношение это достоверно известно (оно не всегда соответствует произношению в языке
оригинала). В тех случаях, когда произношение или ударение колеблется, не имеет
устоявшейся нормы, транскрипция помечается знаком (*), а ударение может не указываться.
В приводимых рекомендациях по произношению не учитываются такие фонетические
12
процессы, как, например, редукция и чередование гласных, оглушение и озвончение
согласных.
Указанием на произношение не снабжаются: а) условные графические сокращения,
которые при прочтении произносятся полностью; б) односложные сокращения (в части 1), в
которых произношение и ударение очевидны и однозначны; в) иноязычные по форме
сокращения (в части 2), произношение которых не известно автору в силу
нераспространенности их произносительного варианта в русском языке и отсутствия
сведений об их произношении в доступных источниках (в частности, это относится к
сокращениям, включающим гласные, – такие сокращения могут быть и инициально-
буквенными, и инициально-звуковыми, то есть могут быть прочитаны побуквенно либо как
целое слово).
Аббревиатуры приводятся в словаре без грамматических помет. В случае
необходимости употребления в тексте аббревиатуры в сочетании с показателями рода
(например, определением) следует опираться на грамматические характеристики ее
стержневого слова («ВАДА согласилось с этими доводами...», где ВАДА – „Всемирное
антидопинговое агентство‟) либо на ее формальные признаки, например, признак рода в
случае с лексикализовавшимися аббревиатурами: лазер, парсек, радар – мужской род;
гестапо – средний род (по окончаниям).
В перечень приводимых в словарной статье производных не включаются
сложносоставные слова с аббревиатурным первым компонентом (ВИЧ-инфекция, ЖК-
дисплей, ЛОР-заболевания; PIN-код, SIM-карта, VIP-клиент), поскольку в подавляющем
большинстве такого рода образований сочетаемость аббревиатуры представляет собой
открытый ряд, а количество подобных образований неисчислимо. Образцы таких
сложносоставных слов с вариантами их второго компонента приводятся в иллюстрациях.
Впрочем, включение подобных образований в разряд сложносоставных слов весьма условно.
Новые для русского языка, характерные скорее для языков с аналитическим строем, такие
сочетания атрибутивного характера, в структуре которых аббревиатура играет роль
несогласованного определения, представляют собой категорию слов на периферии
синтаксиса и словообразования – особого рода составных существительных, для которых до
сих пор не выработано устойчивого наименования. В рамках данного словаря автор
рассматривает подобные составные образования как сложные слова.
Таким образом, данный словарь представляет собой первую попытку
лексикографического описания группы аббревиатур иноязычного происхождения, их
фиксации и систематизации. Раскрывая структуру и значение заимствованных аббревиатур,
словарь поможет правильно употреблять их в определенном контексте. Собранный в нем
материал может также послужить основой для теоретического осмысления и системного
описания особенностей функционирования данной группы в современном русском языке.
Литература
Баранова 2009 – Л. А. Баранова. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. М.:
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.
13
А. А. Бурыкин
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ СЛОВАРЕЙ «НОВЫЕ СЛОВА И ЗНАЧЕНИЯ»
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Среди этих новых слов немало заимствований из других языков, но есть здесь также и
незаимствованные слова. Сравнительно новыми являются слова, «стаж» которых обычно не
превышает 40–50 лет: лавсан (I956) [В скобках указан год первой фиксации слова. Возможно,
что отдельные слова появились в русском языке несколько раньше, а в языке специалистов – и
намного раньше. Словарь обычно фиксирует лишь время сравнительно широкого
распространения слова – прим. Ю. О.], круиз (1957), бионика, бистро, лазер (I960), бадминтон,
джинсы (1963), акваланг, бикини, хобби (1964), болонья, прессинг, ралли, смог, цунами (1965),
венерианский, субъядерный (1966), колготки, сенаж (1967). А вот слова, появившиеся в русском
языке еще позднее: лизинг, маркетинг, интернет, пейджер, бутик, памперсы и многие другие.
Ю. В. Откупщиков, К истокам слова.
Предметом неологии (разделов лексикологии и лексикографии) являются лексические
инновации. Для нее актуален фактор времени – те слова, которые для одного синхронного
среда являются новыми, на другом синхронном срезе могут оказаться нейтрально-
актуальными, а другие слова того же периода – уже устаревшими или ушедшими из языка. С
учетом почти 50-летнего опыта русской неологической лексикографии (первый словарь
«Новые слова и значения» (далее НСЗ-60) под редакцией Н. З. Котеловой вышел в 1971 г.)
привлекает внимание проблема интеграции фактов неологических словарей в словари
современного русского языка (после первых изданий БАС и МАС). Общая проблема
лексикографии – соотношение картотечных ресурсов толковых словарей и ресурсов по
неологии и возможности их взаимного согласования и перекрестного использования. В
аспекте собственно неологии представляет интерес проблема поисков наиболее ранних
употреблений слов, попадающих в неологические словари, в сравнении с теми источниками,
из которых извлекается иллюстративный материал.
Задача настоящей работы – сверка отдельных лексем, вошедших как «новые слова» в
словарь «Новые слова и значения» 1971 г. с текстовыми материалами электронного ресурса
«Библиотека лексикографа», созданного в качестве вспомогательного рабочего инструмента
в Словарном отделе ИЛИ РАН в 2008 г. [Бурыкин 2015б]. Одним из направлений
использования этого ресурса является уточнение времени первой фиксации лексем,
попавших в поле зрения неологов, по текстам XIX в. или первой половины ХХ в.
Проаназизированный материал распадается на несколько групп:
1. Слова, для которых находятся значительно более ранние употребления, нежели те,
которыми располагали авторы НСЗ-60. Слово автокарщица как название профессии
зафиксировано в романах В. Кетлинской и Г. Николаевой начала 1950-х гг. (при том, что оно
отсутствует в многотомном нормативном справочнике названий профессий): Автокарщица
на минуту отлучилась, а Кешка Степанов кликнул приятелей: «Давай прокачу!» – и разогнал
автокар по пролету. В. Кетлинская, Дни нашей жизни, 1952; Стержни шли один за другим,
такие же, как у других работниц, и автокарщицы подъезжали к ней и забирали ее стержни.
Г. Николаева, Битва в пути, 1959; зверобойка „зверобойный промысел‟ употребляется с 1930-
х гг.: Нигде не было видно льда; его вместе со зверем унесло далеко в океан. Зверобойка
кончена. М. Зингер, Штурм Севера, 1932; коечник ‗человек, снимающий койку‟ впервые
встречается еще у Шолом-Алейхема: Большинство же постояльцев были «коечники».
Шолом-Алейхем, С ярмарки, 1916; В этой квартире, в задней комнате <...> жили только
коечники. С. Т. Семенов, Внизу, 1922; В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к
себе за плату шестерых коечников. И. Ильф и Е. Петров, Золотой теленок, 1931; машинерия
встречается с 1865 г., а в начале ХХ в. – весьма активно; метеоусловия стало употребляться с
1940 г.; реслинг „борьба без правил‟ впервые употреблено И. Ильфом и Е. Петровым в
«Одноэтажной Америке» (1936 г.); речуга „речь, монолог‟ встречается в воспоминаниях
М. Ромма о 1940-х годах. Раннее употребление слова салажонок „мальчик, морск.‟ относится
14
к 1922 г.: От самого последнего салажонка до боцмана на практике всю службу до
тонкости произошел. А. Веселый, Реки огненные, 1922; слова трамблер – к 1935 г. (Смена,
1935, № 7); существительное шишкарь „тот, кто собирает кедровые шишки‟ находим в
произведении Г. Маркова «Строговы» (1948 г.).
2. Слова, у которых не зафиксированы некоторые из значений, документируемых более
ранними текстами. Прилагательное верньерный „имеющий верньер‟ встречается в текстах с
1938 г.; бригадирство „бригадирский чин‟ – с XVIII в.: Тебе еще до бригадирства
распроломали голову. Д. Фонвизин, Бригадир, 1768. Олимпийка в значении „жительница
Олимпа‟ встречается у В. В. Розанова и М. Цветаевой (с 1980-х гг. это слово используется в
значении „инфекционная болезнь собак‟); слово шишкарь в значении „старый морж-самец‟
находим в произведениях 1940–1950-х гг. (М. Зингер, 112 дней на собаках и оленях, 1950).
3. Слова, примеры употребления которых подтверждают примерное время вхождения
слова в русский язык, но в источниках другого жанра (не публицистика) – чаще это
произведения поэтов и писателей 1960-х гг. Cлово антиэлектрон с синонимом позитрон
отмечается с 1955 г.; антиракета – с 1959 г. (Н. Шпанов, Ураган, 1961), ср.: По ракетам и
антиракетам / Анти-антиракеты неслись, / В синих бликах землянского света / На луне
пять дивизий дрались. Ю. Визбор, «А была она солнышка краше...», 1964. К этой группе
слов относятся также слова вертодром: Утром Саша чуть свет прибежал на вертодром.
День обещал быть светлым, жарким. У вертолета никого не было, груз лежал горкой.
В. Пальман, Там за рекой, 1966; вещмешок – с 1942 г. (частотно у авторов «лейтенантской
прозы» М. Алексеева, Г. Бакланова, В. Богомолова и др.), видеотелефон: Инженер не
отрываясь смотрел в одну точку – на никелированную кнопку у видеотелефона. В. Немцов,
Золотое дно, 1949; Когда-нибудь появятся и карманные телевизоры – видеотелефоны на
манер записной книжки. Г. Анфилов, Что такое полупроводник, 1957; вулканолог – с 1946 г.,
забегаловка – с 1927 г.: В забегаловке он орудует, по сто граммов наливает. М. Зуев-
Ордынец, Сказание о граде Ново-Китеже; забуртовать – в воспоминаниях Н. С. Хрущева о
1940-х годах, дикторша – с 1937 г. в «Патриотах» С. Диковского; у А. Алексина «Все
началось с велосипеда», 1957; мельтешня используется такими писателями, как Ю. Нагибин
(1962), В. Конецкий (1963); Ю. Герман (1964); Д. Гранин (1967); нейтралка „нейтральная
полоса‟ – с 1956; хохма – „смешная история‟ – впервые встречается у С. Черного; цунами – с
1940-х гг. и др.
4. Слова, для которых фиксации в НСЗ-60 реально оказывываются самыми ранними.
Слово бескондукторный отмечается в «Библиотеке лексикографа» с 1972 г., а в справочнике
профессий – только с 1991 г.; глагол запуржить фиксируется с 1973 г. (В. И. Клипель,
Улыбка Джугджура, 1975).
5. Слова, зафиксированные в НСЗ-60, дальнейшие употребления которых не
прослеживаются: баттерфляист „пловец баттерфляем‟ включено в следующие словари:
Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им.
В. В. Виноградова // В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и
др. М.: Азбуковник; 1999; Словарь синонимов ASIS. В. Н. Тришин. 2013, но в текстах
«Библиотеки лексикографа» это слово не отмечается, несмотря на наличие там заметного
числа книг по спорту.
Таким образом, ресурс «Библиотека лексикографа» позволяет не только уточнить
время появления в русском языке тех или иных слов, отмеченных словарями новых слов, но
и проследить их судьбу в языке на протяжении последних 40-50 лет, оценить их
устойчивость, востребованность, стилевые особенности, степень специализированности и
т. п. Наблюдения над функционированием новых слов по текстовым массивам в объемных
временных интервалах позволят уточнить классификацию новых слов по их устойчивости в
языке или в отдельных функциональных разновидностях языка.
Анализ материала показывает, что источником новых слов является не только газетно-
журнальная периодика. В ряде случаев газетные фиксации НСЗ-60 опережаются текстами
15
молодых популярных писателей 1960-х гг., которые, возможно, создают прецедент
словоупотребления для журналистов.
Региональная и специальная лексика, включаемая в НСЗ-60 и, возможно, в другие
словари этой серии, как показывают наши наблюдения, иногда фиксируется источниками на
несколько десятилетий ранее ее проявления в потенциальных источниках словарей новых
слов. То же, очевидно, можно сказать о заимствованиях из языков народов России,
документируемых произведениями писателей-представителей народов России в переводе на
русский язык – часто такая лексика присутствует в этнографических источниках и у
малоизвестных местных авторов [Бурыкин 2006]. Это связано с тем, что неологические
десятилетники фиксируют лексику, которая выходит из узких сфер употребления, т.е. входит
в язык общего употребления, что происходит в течение какого-то времени.
Прогресс в освоении электронных текстов и пополнение «Библиотеки лексикографа»
позволяет перманентно уточнять даты вхождения в русский язык тех слов, которые
фиксировались как новые слова первыми выпусками словарей серии «Новые слова и
значения», и отсеивать материал по временному критерию в процессе текущей работы над
очередными словарями1.
Литература
Бурыкин 2006 – А. А. Бурыкин. «Ретроспективная неология»: к изучению отражения
языковых новаций в двуязычных словарях 1920–1950-х годов // Русская академическая
неография (к 40-летию научного направления). Материалы международной конференции.
СПб.: Лемма, 2006. С. 3-6.
Бурыкин 2015а – А. А. Бурыкин. Лексический материал словарей «Новые слова и
значения» в контексте новых лексикографических источников // Неология и неография:
современное состояние и перспективы. К 50-летию научного направления. Тезисы
международной научной конференции. СПб.: Нестор-История. 2015. C. 12-13.
Бурыкин 2015б – А. А. Бурыкин. Электронный ресурс для исследований в области
русской лексикологии и лексикографии «Библиотека лексикографа»: опыт работы,
перспективы пополнения, возможности использования // Теоретическая и прикладная
лингвистика. 2015. вып. 1. № 4. С. 5-28.
НСЗ-60 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М.: Сов. энциклопедия,
1971.
1 В сравнении с тезисами доклада [Бурыкин 2015а] настоящая статья содержит ряд уточнений по датам
вхождения рассмотренных в ней слов.
16
Т. Н. Буцева
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ НЕОГРАФИИ
В 2015 г. неографы ИЛИ РАН отметили две юбилейные даты: 50-летие академической
неографии и 90-летие со дня рождения Н. З. Котеловой – основателя этого направления
отечественной лексикографии, его теоретика, многолетнего руководителя коллектива и
научного редактора неографических изданий ИЛИ РАН. 1990 г. – год ухода ее из жизни –
делит отмечаемое 50-летие пополам: 25 лет вместе с Н. З. Котеловой и 25 – без нее. Краткий
итог лексикографической работы коллектива в эти два равновременных периода может быть
представлен следующим образом.
Под руководством и при непосредственном участии Н. З. Котеловой были составлены и
опубликованы 2 словаря-справочника «Новые слова и значения» (НСЗ-60 и НСЗ-70; 9 тыс.
словарных статей) и 8 выпусков «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (НРЛ-77
– НРЛ-84; около 27 тыс. словарных статей). Итого: 36 тыс. словарных статей.
Надеждой Захаровной были начаты и другие работы, редактирование которых было
завершено уже без нее. Это «Словарь новых слов русского языка сер. 50 – сер. 80-х гг.» (10
тыс. словарных статей; опубликован в 1995 г.)1 и 3 выпуска «Новое в русской лексике.
Словарные материалы» (НРЛ-85, -86, -87 – ок. 12,2 тыс. словарных статей). Итого: 22,2
словарные статьи.
Благодаря своей яркой одаренности, страстной увлеченности темой, полной самоотдаче
в работе Н. З. Котелова высоко подняла планку отечественной неографии, которую
следующие за ней редакторы старались не опустить. Последние 25 лет, к чести коллектива,
были не менее продуктивными: созданы 2 неологических десятилетника (НСЗ-80 и НСЗ-90,
причем последний был сначала составлен по традиционной методике, а затем выверен по
ставшими доступными сетевым ресурсам и значительно досоставлен) (16,6 тыс. сл. статей); 8
выпусков «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (НРЛ-88, -89, -90, -91, -92, -93, -
94, -95 (последний остался в рукописи) (более 30,3 тыс. слов. статей). Итого: более 46,9 тыс.
слов. статей.
Общий итог 50-летней деятельности коллектива – лексикографическое описание в
изданиях трех типологических разновидностей (в более чем 105 тыс. словарных статей)
инновационных процессов в лексике русского литературного языка общего употребления
второй половины ХХ в.
До середины «нулевых годов» отечественная академическая неография развивалась в
русле концепции Н. З. Котеловой. Новый этап наступил в связи с компьютеризацией
лексикографической работы и с появлением в Интернете доступных текстовых баз данных.
Это привело к тому, что на сегодня «презумпция новизны» лексем, устанавливаемая
исключительно на основе данных словарей и лексикографических картотек, а также принцип
работы над неологическим десятилетником по коротким срезам – важные составляющие
концепции Н. З. Котеловой – утратили свою актуальность (обратим внимание на то, что
первый выход за границы 4-летнего периода сбора материала для этого типа словаря
произошел как следствие развития типологии неологических изданий: с 1980 г. стала
издаваться серия «Новое в русской лексике. Словарные материалы», выпуски которой
охватили все 1980-е гг. и которые не могли не быть учтены при работе над НСЗ-80), далее
расширение временных границ десятилетника закрепилось под натиском информационных
технологий, пришедших в неографию в середине «нулевых годов».
Обратим внимание на специфику настоящего момента, резко отличающуюся от
ситуации, которая была на заре неографии. ХХI в. принято называть информационным
1 Существенное сокращение этого словаря по требованию издательства «Русский язык» и редакционно-
издательский цикл были осуществлены Е. А. Левашовым, что, к сожалению, никак не отражено ни в выходных
данных этого словаря, ни в его предисловии.
17
веком, связанным с распространением информационных технологий. Обвальный характер
информации привел к тому, что эйфория от ее количества и доступности (в том числе для
тех, кто с ней работает) сменяется проблемой ее избыточности, возникают разговоры о
необходимости ее профессионального отбора для дозированной подачи. Процитируем
интервью С. П. Капицы журналу «Эксперт-Интернет» (07.01.08): «Избыток информации –
одна из самых глубоких проблем, стоящих перед системой современного знания. Какая
информация важна, а какая нет? Как ее отбирать? Сейчас это делается во многом
интуитивно».
Словарь-справочник «Новые слова и значения» по материалам прессы 1990-х гг.
является результатом первого опыта работы с сетевыми источниками, осмысление этого
опыта – одна из актуальнейших задач, особенно в связи с началом работы над следующим
словарем-десятилетником, посвященном неологизмам «нулевых годов».
С расширением эмпирической базы неографии резко вырос объем неологического
десятилетника (НСЗ-90 – уже не однотомник, а трехтомник, содержащий ок. 10,5 тыс.
словарных статей). При работе с электронным ресурсом современных русскоязычных СМИ
информационного агентства «Интегрум» у составителей иногда возникает своего рода
паника из-за невозможности «поставить точку» в работе вследствие обнаружения (по
целенаправленному запросу в базу русскоязычных СМИ или в извлекаемом оттуда
дополнительном цитатном материале) все новых и новых неолексем. В частности, остро
встала проблема отбора в словарь сложных слов с продуктивными заимствованными
компонентами, образующими многочисленные ряды. Благодаря наличию сетевых текстовых
баз данных они достаточно легко отслеживаются. Например, в НСЗ-90 включено 77 слов с
новым начальным компонентом интернет-..., в материалах же, собранных для словаря
«нулевых», таких слов уже около 250, а с начальным компонентом евро... – 75.
Объем издания растет не только за счет расширения словника, но и за счет
иллюстративного материала. По «законам жанра» неологического десятилетника каждая
отмеченная у слова грамматическая, семантическая или стилистическая особенность (теперь
их на большом материале выявляется все больше и больше) должна подкрепляться
иллюстрацией из текста. Например, если у слова прайм-тайм обнаружилось 3 варианта
написания: через дефис (нормативный вариант, закрепленный «Русским орфографическим
словарем» 1999 г. издания), слитно и в два слова; изменяемая и неизменяемая форма,
употребление его в формах м. и ср. рода, а также в значении прилагательного, то в основной
части словарной статьи требуется дать 7 цитат и еще «энное» их количество в справочном
отделе, подтверждающее употребительность неолексемы.
Насущной проблемой сегодняшнего дня является восстановление графика публикации
выпусков словаря-справочника «Новые слова и значения», чего нельзя достичь без
компрессии его объема. С учетом научной направленности данного типа неологического
словаря и огромный спрос на информацию о лексических новациях русского языка,
сокращение его листажа в меньшей степени должно идти за счет словника и менее глубокой
проработки материала. Академическое издание должно быть репрезентативным и
соответствовать требованиям своего времени. Первым шагом в этом направлении будет
оптимизация подачи материала, уменьшение количества полных и усеченных
иллюстративных цитат, использование речений (о цитировании в словарях новых слов,
опыте использовании речений в СНС, а также об обосновании их использования в данном,
ненормативном типе неологического издания см. [Буцева 2016]).
Другой возможный путь сокращения объема – ограничение объекта неографии,
исследующей изменения в лексическом составе литературного языка, который
Н. З. Котелова изначально обозначила максимально широко: словообразовательные
неологизмы, заимствования из других языков, семантические неологизмы, а также
неологизмы-вхождения, являющиеся результатом миграции слов в языковом пространстве и
времени (из жаргона, бытовой устной речи, просторечия, диалектов, терминологии).
18
Факты вхождения в литературный язык, актуализация лексем не всегда очевидны,
особенно в таком большом потоке материала, с каким мы сейчас имеем дело. Для
обоснования статуса «внутреннее вхождение» требуется еще больший дополнительный
материал и время на его обследование. Пока этот отбор делается интуитивно и, очевидно, не
всегда до конца последовательно и правильно. Остановимся на вхождениях по параметру
«время». Достаточно большой ряд слов, включенных в НСЗ-90, имеет в справочном отделе
ссылки на употребления описываемых неолексем значительно ниже границ данного
десятилетия, например: колоколист – „исполнитель колокольной музыки; звонарь‟
(А. Цветаева, Сказ о звонаре московском, 1927), комвождь (1968), комидеология (1984),
коммерческо-договорной (1973), культурно-коммерческий (1973), мини-пилли –
„противозачаточные препараты, содержащие минимальные дозы гормона – «минимальные
пилюли»)‟ (1979, 1988), мутировать* – „изменяться (обычно в худшую сторону)‟ (1980),
мясозаменитель (1980), наголосовать (1931, 1978, 1987), обедоужин (1967, 1983, 1986) (ср. в
этом же словаре обед-ужин), озападнить (1979, 1981) и мн. др.
Речь идет о словах, не имеющих до этого лексикографической фиксации. О части из
них можно достаточно уверенно сказать, что они актуализировалась, стали чаще
употребляться, например, мачо (1961, 1978, 1985), мачизм (1978, 1983, 1985) – модные слова
в 1990-е гг.), лайм (раньше мы об этом фрукте читали в «Большой советской энциклопедии»
(1954), теперь же он есть в наших магазинах, к тому же в русском языке в 1990-е гг.
появилось производное прилагательное лаймовый, сочетания цвет лайма, лаймовый цвет);
об актуализации слова набоковед (1980, 1987) можно говорить в связи с появлением в языке
ряда однокоренных с ним слов, включенных в данный словарь (набоковедение,
набоковедческий, набоковиана, набоковщина); нашесть (1934, 1957) – „принадлежность к
общим историческим корням, взглядам и т. д.‟ включено в словарь в связи с появлением ряда
однокоренных слов: наши*, нашизм, нашист, нашистский. Ряд других слов можно связать с
актуализацией некоторых процессов, происходящих в российской и международной
экономике, политике (налогосбор (1981), налогособиратель (1947, 1970, 1980),
недофинансировать (1977), неототалитаризм (1972), неонэпман (1960), межафганский
(1970, 1989). Статус ряда других слов менее определенен. Возможно, это словарные
пропуски: монстрообразный (1972, 1983), музобразование (1957), назначенка (1950),
насмотренность – „профессиональный и зрительский, приобретенный в результате
просмотра большого количества фильмов, произведений искусств‟ (1976, 1981, 1988),
обещальник (1959, 1967), обзвон (по телефону) (1969, 1983), общеобразовалка – „средняя
общеобразовательная школа‟ (1984, 1987) и мн. др.
Заметим, что даже сейчас, при наличии сетевых текстовых баз данных, материала
оказывается недостаточно для того, чтобы с полной уверенностью квалифицировать те или
иные лексемы как относительные неологизмы.
Остановимся и на другой группе лексики. В НСЗ-90 достаточно много старых
жаргонных слов и выражений, зафиксированных в БСЖ и других, более ранних словарях
жаргона. В словарь неологизмов 1990-х гг. они включены как лексика, проникающая из
устной сферы в письменную (в тексты периодики), т. е. ее перемещение идет как по
временной оси, так и по сфере ее употребления. При этом качественного изменения она чаще
всего не претерпевает. Если говорить о задачах сокращения объема издания, то одним из
путей, на наш взгляд, мог стать отказ от этой части жаргонной лексики. Новые жаргонизмы,
зафиксированные в текстах периодики, включаются в словарь безоговорочно.
Касаясь вопроса о настоящем и будущем академической неографии, нельзя не сказать о
судьбе выпусков «Новое в русской лексике. Словарные материалы». Это серийное издание с
упрощенной обработкой материала было нацелено на оперативное отражение потока
стихийной жизни русского языка. В нем новая лексика описывалась на основе единственного
примера употребления. Статус этих слов без этапа накопления материала был
неопределенен, и сюда попадала лексика пограничных с языковой неологией типов
(окказиональные, индивидуально-авторские и потенциальные в отношении узуализации
19
новообразования). Отметим, что Н. З. Котелова высоко ценила это издание, считая, что его
материалы позволили сделать много интересных лингвистических наблюдений. Во многом
это связано с тем, что материалы ежегодных выпусков в количественном отношении и по их
разнообразию значительно превосходят материалы словарей-справочников десятилетнего
периода (общий объем четырех опубликованных десятилетников – около 25,6 тыс.
словарных статей, ежегодников – 69,5 тыс.).
Работа с сетевыми ресурсами (прежде всего «Интегрум» и Books.Google) позволила по-
новому взглянуть на неологические ежегодники «Новое в русской лексике. Словарные
материалы». Оказалось, традиционный отсев по словарям и картотекам, не позволил
провести жесткий отсев материала по критерию «время появления в русском языке», и на
деле что эти выпуски не являются в полном смысле изданиями неологизмов конкретного
года. Помимо ни в ежегодниках в скрытом виде и в немалом количестве присутствуют не
зафиксированные неологизмы текущего и предшествующего десятилетий, а также лексика с
еще более низкой стартовой позицией, относительно которой далеко не всегда можно
сказать, что это внутренние вхождения. Отбор неологизмов одного года представляется
нерациональным, т. к. для наполнения выпуска требуется значительное увеличение числа
обследуемых источников. Особенно трудно набрать материал в начале десятилетия, когда
тянется шлейф пропущенных неологизмов предшествующего периода и еще не
сформировался новый пласт лексических новаций. Даже сейчас, в середине второго
десятилетия нового века, мы регулярно обнаруживаем пропущенные неологизмы 1990-х гг.
(они составляют около 10% от текущей выборки). Представляется, что наиболее разумно
было бы после отсева материала по словарям и проверки его по электронным ресурсам
оставлять в выпуске неологизмы, начавшие свое существование в разные годы текущего
десятилетия, от выпуска к выпуску постепенно добирая их. Сейчас уже на начальном этапе
жизни слова сетевые ресурсы позволяют сразу уточнить многие моменты относительно
отобранной единицы (время первой фиксации в текстах периодики, частоту употребления,
наличие производных, формирование многозначности и т. д.) и трудно на это не поддаться,
но если дополнительно обрабатывать материал в этом направлении, это совершенно меняет
прежнее, привычное лицо данного типа издания и превращает его в объемный словарь,
снижает его оперативность. Заметим также и то, что представление лексики при данной
методике будет неравномерным, поскольку в продвижении по десятилетию будут попадаться
лексемы с жизненной историей разной протяженности, а значит с разным объемом описания.
Напомним, что уже в начале работы над данной серией Н. З. Котелова предостерегала от
того, чтобы данный тип неологического издания превратить в словарь. Чтобы этого не
случилось, наиболее оптимально ограничиться только предъявлением новых лексем: «От
задачи установления не только появления слов, но и степени их употребительности
приходится отказаться, так как это неизбежно приведет к расширению хронологических
рамок обследуемого периода, увеличению списка источников, т. е. опять к созданию
словаря» [Котелова 1980: 4]. На сегодняшний день альтернативой данному типу
неологического издания должна стать публикация новых материалов в Интернете.
Проблема современной неографии в некоторой степени состоит в
недоиспользованности ее материалов и недооценке их специалистами (см. об этом также
[Буцева, Денисенко: 1999]). Это обусловлено тем, что совокупный материал, добытый и
описанный неографами за весь период существования направления, оказался
рассредоточенным в 23 книгах, а поскольку у большинства ежегодников есть еще и
приложения, то это 40 алфавитов. В связи с этим пользоваться этим материалом достаточно
неудобно. Проблемой является и ограниченная доступность неографических изданий в
следствие их малотиражности из-за того, что издаются они исключительно по грантам
(например, НСЗ-90 издан тиражом 500 экземпляров, еще меньший тираж у ежегодников,
изданных после 1990 г.). Идея Банка неологизмов (см. [Котелова 1983], который мог бы
20
объединить словники всех неологических изданий ИЛИ РАН, осталась нереализованной2. В
бумажном виде он уже мало актуален.
Оптимизации работ по неологии и неографии должен способствовать портал
Неология.Ру, работа над которым велась поддержке РГНФ. Главный его проектировщик –
Д. В. Дмитриев [см. Дмитриев 2013]. На этом портале должна быть размещена пополняемая
база данных неологизмов современного русского языка, основу которой составят все
опубликованные неологические словари ИЛИ РАН, позволяющая пользователям работать со
всеми зонами словарной статьи, в том числе и с иллюстративным материалом (по самым
грубым прикидкам он составляет не менее 500 тыс. контекстов из периодики второй
половины ХХ в.), по запросу извлекать из базы лексику по общему словообразовательному
элементу, группировать ее по тематической принадлежности и т. д. Кроме того, здесь
планируется регулярно размещать:
1) языковые и речевые неолексемы с минимальной обработкой: заголовочное слово,
текстовый пример и в специальной зоне в конце словарной статьи – указание на год первой
фиксации и на время актуализации в текстах (на основе данных «Интегрума» и ресурса
Books.Google). Это по сути дела рабочая электронная картотека – результат регулярного
обследования периодики с последующей проверкой отобранного материала по словарям и
названным выше базам данных. Ее вид складывался постепенно. Повторные цитаты сюда не
отбираются. При составлении словарной статьи автор-составитель подыскивает их в базе
Интегрума и вставляет непосредственно в текст словарной статьи. Публикация материалов в
таком виде может стать альтернативой НРЛам, что решит проблему оперативной поставки
новых неологических материалов заинтересованному пользователю. Сейчас, например, на
портал могут быть выложены материалы двух первых десятилетий ХХI в.;
2) пропущенные неологизмы предшествующего десятилетия. Например, неучтенные в
НСЗ-90 лексические новации 1990-х гг.: антиполитик, антиснайпер, безглючно, безглючный,
велобол, индор-хоккей, историческое фехтование, компилить, контакт-лист, корфбол,
линкование, липсинг, локинг, лоховоз, лунная походка, мини-овощи, мини-томаты, найтать,
нетбол, пляжный гандбол, шопинг-центр и мн. др.;
3) современные материалы по лексике, не являющейся, по данным сетевых ресурсов,
новой, но отсутствующей в словарях (при отсеве материалов регулярного обследования
периодики она обнаруживается постоянно и откладывается в отдельные файлы): медизделие,
самоактуализация, фламбировать и др.;
4) научные публикации по проблемам неологии и неографии, в том числе
библиографические указатели по этой проблематике (составлено и опубликовано 6
указателей).
В соответствии с общими тенденциями будущее отечественной неографии скорее всего
связано с работой над онлайновыми словарями, и ее рабочей платформой может стать портал
Неология.Ру.
Особенно важно то, что через портал может быть организована коллективная работа по
неологии и неографии с привлечением специалистов из российских вузов. Это должно
вывести работу по сбору и описанию неологизмов на новый уровень, придать ей иной
масштаб.
Словари
НРЛ – Новое в русской лексике: Словарные материалы-…[год]. Вып. 1977–1984 гг. М.:
Русский язык, 1979–1989; вып. 1985–1994 гг. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996–2006.
2 В архивах ИЛИ РАН имеется его машинописный вариант (с 1960-х по 1987 гг.), сделанный самой
Н. З. Котеловой с практической целью редактирования неологических словарей. О проекте другой версии банка
неологизмов русского языка см. Ю. Ф. Денисенко, Т. Н. Буцева. Банк неологизмов русского языка 1985–1991
гг. // Новые слова и словари новых слов. СПб., 1997. С. 17–36.
21
НСЗ-60 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М.: Сов. энциклопедия,
1971.
НСЗ-70 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1984.
НСЗ-80 – НСЗ-80 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам
прессы и литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. СПб.: Дм. Буланин, 1997.
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века. В 3-х тт. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), и
Е. А. Левашова. Ин-т лингвистических исследований РАН. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009-
2014.
СНС – Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – серединв 80-х годов) / Под
ред. Н. З. Котеловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.
Литература
Буцева 2016 – Т. Н. Буцева. Иллюстрирование в словарях новых слов / Научное
наследие Б. Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания (к 100-
летию со дня рождения Б. Н. Головина) // Сб. статей по материалам Международной научной
конференции. Н. Новгород: ДЕКОМ. 2016. С. 273–281.
Денисенко, Буцева 1999 – Единичное и узуальное в практике неографии: Итоги и
перспективы // Материалы ХХVIII межвузовской научно-методической конференции
преподавателей и аспирантов. Вып. 9. Лексикология. Лексикография. Фразеология. Ч. 1.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 12–19.
Дмитриев 2013 – Д. В. Дмитриев. Neologia.ru: принципы построения интернет-ресурса
для коллективной лексикографической работы // Лексикология. Лексикография и Корпусная
лингвистика. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 99–109.
Котелова 1980 – Н. З. Котелова. Предисловие // Новое в русской лексике. Словарные
материалы-77. М.: Русский язык, 1980. С. 2-9.
Котелова 1983 – Банк русских неологизмов сер. 50-х по 1980 г.// Новые слова и словари
новых слов. Л., 1983. С. 161–222.
22
Е. Ю. Ваулина
НОВЕЙШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ
Широкое распространение специальной лексики за пределами научной литературы
является одним из процессов, формирующих современный русский язык. Современную
языковую ситуацию характеризует «информационно-номинативный взрыв», вызванный
ростом научно-технического прогресса, ставшего неотъемлемой частью жизни общества.
Действительно, «приходится считаться с тем, что, по подсчетам разных специалистов, 80–
90 % всей новой лексики, появляющейся в развитых языках, – это термины и другие
специальные лексические единицы» [Лейчик 2000: 20]. Специфика терминов как
номинативных знаков проявляется в семиотическом пространстве специальной
деятельности, и с этой точки зрения широкое проникновение терминов в живой язык ведет к
их «детерминологизации» за рамками специального употребления. Углубление же
общенаучного знания о предметах и явлениях действительности приводит к детализации и
усложнению собственно языкового знания, присутствующего в термине. Оказавшись в
прямом контакте с общеупотребительной лексикой, терминология оказывает
непосредственное влияние своими специфическими особенностями на многие стороны
языка. Cпециальное значение в общей лексике редуцируется, термин приобретает
прагматические свойства, которых он прежде был лишен, то есть возникает новое слово с
терминологическим значением, требующее уже не дефиниции, а толкования [Суперанская,
Подольская, Васильева 2003: 133].
Нанотехнологии базируются на понимании того, что объекты размером менее ста
нанометров имеют совершенно иные физические, химические и электрические свойства, чем
те же объекты большего размера. Некоторые наноструктуры имеют совершенно уникальные
свойства (например, углеродные нанотрубки на порядок прочнее стали, имея при этом в
шесть раз меньший удельный вес). В лекции лауреата Нобелевской премии Р. Фенмана,
прочитанной в 1959 г., отмечалась не противоречащая законам физики принципиальная
возможность создания объектов путем манипуляций отдельными атомами, поведение
которых подчиняется законам квантовой физики, то есть был предсказан один из основных
методов нанотехнологий. В 2000 г. правительство США поддержало создание Национальной
Инициативы в Области Нанотехнологий – National Nanotechnology Initiative, на
нанотехнологические исследования были выделены средства из федерального бюджета. Это
послужило толчком для создания федеральных программ по нанотехнологиям и во многих
других развитых странах. В 2007 г был подписан документ «Стратегия развития
наноиндустрии» России, в котором выделены два основных этапа в развитии национальной
нанотехнологической сети. На первом из них должны быть сформированы
конкурентоспособный сектор исследований и разработок в области наноиндустрии и
эффективная система коммерциализации объектов и интеллектуальной собственности в
сфере нанотехнологий. На втором этапе должны быть созданы необходимые условия для
увеличения объемов производства продукции и выхода российских организаций на
международный рынок высоких технологий.
Будучи одним из наиболее перспективных направлений развития науки и техники, в
настоящее время наноиндустрия является предметом обсуждения не только профессионалов
в данной сфере. Естественно, открытия, связанные с достижениями нанотехнологии в
областях, практически близких каждому человеку, привлекают внимание средств массовой
информации, обсуждаются пользователями Интернета, используются в рекламных целях для
привлечения потребителей (например, «водоотталкивающая пропитка для замшевой обуви
с наносчастицами»).
Терминосистема подъязыка широкой междисциплинарной области нанотехнологии в
наши дни еще только формируется, прежде всего на английском языке. Европейским
комитетом по стандартизации в марте 2004 г. создана рабочая группа по нанотехнологии; в
23
том же году в структуре Британского института стандартов учрежден комитет по
нанотехнологиям, которым уже разработано и опубликовано несколько терминологических
стандартов и руководящих нормативных документов. В американской международной
добровольной организации, разрабатывающей и издающей стандарты для материалов,
продуктов, систем и услуг, в январе 2005 г. создан комитет для разработки различных
стандартов в области нанотехнологий, ряд которых в настоящее время уже опубликован.
Непосредственно вопросов стандартизации терминологии касается стандарт Е2456-06
«Терминология для нанотехнологии». В Международной организации по стандартизации
(International Organization for Standardization, ISO) в июне 2005 г. организован технический
комитет по разработке стандартов для нанотехнологий (ISO TC229), рабочая группа
которого занимается соответствующей терминологией. В Европейском комитете по
стандартизации (European Committee for Standardization) в мае 2005 г. появился технический
комитет по нанотехнологиям.
Русскоязычный ресурс «Словарь нанотехнологических и связанных с
нанотехнологиями терминов» (http://thesaurus.rusnano.com/) содержит около шестисот
терминов (слов и словосочетаний). Кроме общего предметного указателя сайт снабжен
отдельным списком сокращений. Вся описываемая терминология структурирована
следующим образом: выделены два крупных раздела – технология и наука; внутри второго
раздела выделены «объекты, относящиеся к сфере нанотехнологий», «получение,
диагностика и сертификация наноразмерных система», «продукты нанотехнологий». Таким
образом, наноматериалы попадают как в первый раздел (углеродные, органические,
полимерные), так и в первый (собственно наноматериалы) и третий (функциональные
наноматериалы) подразделы второго. Словарные статьи снабжены указанием английского
эквивалента, данными о происхождении слова, собственно дефиницей термина, более
развернутым описанием, а также ссылками на статьи системно связанных
терминологических единиц. Развернутое описание включает в себя сведения из истории
нанотехнологий (описание термина нанотрубка содержит информацию о том, что впервые
возможность образования наночастиц в виде трубок была обнаружена для углерода),
сведения о получении и использовании объектов (описание термина квантовая яма
содержит информацию о том, что в настоящее время квантовые ямы успешно используются
для создания лазеров), графические иллюстрации и т. д. Бумажное издание «Словаря
нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов» [Калюжный 2010]
содержит термины, наиболее часто встречавшиеся в проектах, представленных на экспертизу
в «Роснанотех» в 2007–2010 гг., а также некоторые другие специальные единицы,
являющиеся полезными для понимания природы процессов, происходящих в наномасштабе.
Словарь предназначается научным работникам, технологам, студентам профильных учебных
заведений.
Признавая факт широкой «интеллектуализации» или «терминологизации»
современного русского языка, следует представить рассматриваемую лексику в толковом
словаре с точки зрения ее места в общеязыковой системе, особенностей семантической
структуры единиц, возможной вариативности использования, грамматической
характеристики, особенностей происхождения, в том числе и для образований, возникших на
почве русского языка, а также показать специфику употребления. Такая задача была
поставлена перед словарем «Новейшая физическая терминология: нанотехнологии»
[Ваулина, Вербицкая 2014]. Материалы этого словаря включены также в «Современный
толковый словарь живого русского языка», составляемый под редакцией Г. Н. Скляревской в
Лаборатории компьютерной лексикографии СПбГУ.
В словаре, ориентированном на самый широкий круг носителей русского языка,
используется иной принцип отбора единиц описания, нежели в терминологическом. При
формировании словника кроме лексических единиц, относящихся собственно к сфере
наноразработок, в словарь системно добавлены физические, химические и биомедицинские
термины (актуатор, аллотропия, антисенс-РНК, биореактор, гетероструктура, графен,
24
дендример, диполь, диссипация, зародышеобразование, иммобилизация, квант, коллайдер,
макромолекула, микротом, нейтрино, органогель, пиролиз, рекомбинация, самосборка,
сверхструктура, фолдинг и т. п.), существенные для описываемой области знания и
необходимые для понимания многих собственно нанотехнологических терминов или
используемые в их описании. Такой подход использовался Д. С. Лотте (в предисловии к
немецко-русскому автомобильному словарю об этом говорится следующее: «При
составлении словаря автор брал за основу не немецкие специфические автомобильные
термины, а все понятия, имеющие большое значение в автомобильном деле и
рассматриваемые в соответственных современных учебных руководствах и научных трудах»
[Лотте 1936: 6]). При общей интеллектуалиазации языка науки не всегда можно отличить
собственно термины от нетерминов, в том числе профессионализмов (антисенс – антисенс-
олигонуклеотид, ассемлер – наноассемблер, магнитосопротивление –
магнетосопротивление). Словарь включет не относящиеся к терминам единицы (наноарт
„вид современного изобразительного искусства: создание композиций микро- и
наноразмеров под действием химических или физических процессов обработки материалов,
фотографирование полученных образов с помощью электронного микроскопа и обработка
фотографий в графическом редакторе; полученные таким образом изображения‟,
нанокосметика „косметические средства, содержащие мельчайшие частицы биологически
активных веществ, глубоко проникающих в ткани‟), разговорную лексику (нанобот, нанит,
наномобиль). В словаре широко представлены устойчивые словосочетания
терминологического характера (углеродное волокно, полупроводниковая гетероструктура,
ионная имплантация, квантовая точка, лазерный пинцет, сканирующий туннельный
микроскоп). Общий объем словаря составил 892 словарные статьи (слова разных частей речи
и аббревиатуры), включая 190 устойчивых словосочетаний.
Подход к описанию рассматриваемой лексики с точки зрения ее места в общеязыковой
системе потребовал особого отбора источников словаря. Кроме рассмотренного выше
ресурса http://thesaurus.rusnano.com/, привлекались также сайты http://sfiz.ru/ (проект «Вся
физика»), http://www.nanonewsnet.ru/ («сайт о нанотехнологиях № 1 в России»),
http://nuclphys.sinp.msu.ru/ («ядерная физика в Интернете»),
http://slovarionline.ru/entsiklopedicheskiy_slovar_nanotehnologiy/page/ellipsometriya.483
(энциклопедический словарь нанотехнологий), http://www.fasi.gov.ru/ (сайт Федерального
агентства по науке и инновациям Министерства науки и образования Российской
федерации), http://www.nanometer.ru/ (Нанометр. Нанотехнологическое сообщество –
общероссийский портал по наноматериалам), а также англоязычные ресурсы. Однако для
описания функционирования слова или словосочетания за рамками узкой терминосистемы
такой информации недостаточно. Круг источников данных для словаря расширен за счет как
научных, так и научно-публицистических текстов, затрагивающих те или иные аспекты
развития нанотехнологий.
Далеко не все представленные лексические единицы имеют фиксацию в
орфографических и других лингвистических словарях, поэтому их грамматическая,
сочетаемостная, произносительная характеристики уточнялись и проверялись на основании
употребления слов в реальных текстах. Для этого использовался «Электронный фонд
современного русского языка» лаборатории компьютерной лексикографии филологического
факультета СПбГУ, в который дополнительно были загружены необходимые
публицистические, научно-публицистические и учебные материалы, в частности, материалы
лекций по современной физике для гуманитариев. Кроме того, данные уточнялись с
помощью поиска по интернет-сайтам, включая аудио-записи докладов, ТВ-программы. Так
как словарь ставит своей целью широко показать живое функционирование описываемых
слов и словосочетаний как единиц языковой системы современного русского языка в
реальных текстах, эти же источники были использованы для формирования массива речений.
При этом особое внимание уделялось примерам практического применения описываемых
25
объектов, технологий и т. п., в том числе и возможного, планируемого использования,
например:
нанобл’ок, а, м. 1. Блок наноразмерных частиц. Графитовый н. Наноблоки
кристаллического льда. Конфигурация силикатных наноблоков. Белки, нуклеиновые кислоты
являются биологическими наноблоками. Наноблоки встраиваются в структуру покрытия.
2. Функционально самостоятельная часть сложного наноразмерного устройства. Оптический
н. Производство наноблоков фабрикаторами. Архитектура построения наноблоков.
Наноманипуляторы крупноузловой сборки соединят наноблоки в нанофабрику. Вживление
наноблоков в организм человека. Разработка технологии совмещения наноблоков и
микроэлектронных схем в одном кристалле. 3. Конструктивный элемент, используемый как
готовая часть сооружения, или отдельная часть технического комплекса, созданные на
основе наноматериалов. Пылеугольный энергетический н. Использование наноблоков в
строительстве домов.
наногетерострукт’урный <тэ>, ая, ое. Относящийся к наногетероструктурам,
связанный с наногетероструктурами, их изучением и использованием; содержащий
наногетероструктуры. Наногетероструктурные технологии. Наногетероструктурная
электроника использует квантовые эффекты. Наногетероструктурные СВЧ-
транзисторы. Наногетероструктурные полупроводниковые материалы.
Наногетероструктурные солнечные элементы.
Среди черт, свойственных терминологической лексике в целом, отмечают ее
абстрагированный, логико-понятийный характер, однозначность, неметафоричность. Правда,
последнему утверждению противоречат такие термины, как красный карлик, странность и
очарование кварков, черная дыра, сумеречное помрачение сознания, ревизия опухоли и т. п.
Действительно, метафора как способ осознания окружающего мира, в том числе и научного,
оказывается незаменимым инструментом, который позволяет человеку выразить неизвестное
через то, что уже освоено языковым опытом. Вполне естественно, что созданные на основе
метафорического переноса термины широко отмечаются и в лексике, связанной с
нанотехнологиями и смежными областями знания: двуликие частицы („разновидность
полифункциональных микро- или наноразмерных частиц, состоящих из двух и более частей
разного химического состава; частицы Януса‟), умные композиты („особым образом
структурированные системы функциональных материалов, состоящие из подсистем
считывания внешнего сигнала, его обработки, исполнения некоторого действия, механизмов
обратной связи, самодиагностирования и самовосстановления‟), голубой сдвиг („смещение
края полосы поглощения света в область высоких частот полупроводниковыми частицами
при уменьшении их размера), молекулярный переключатель („молекула, способная
существовать в двух или более устойчивых формах, между которыми возможны обратимые
переходы при внешнем воздействии – нагревании, освещении, изменении кислотности
среды, действии химических веществ, магнитном или электрическом воздействии‟).
Лексике нанотехнологий присуща так называемая междисциплинарная омонимия, не
всегда разрешаемая контекстами употребления и приводящая на уровне описания в толковом
словаре к многозначности:
м’атрица, ы, ж. 1. Массив, система связанных стандартизованных элементов.
Матрица нанотрубок в полимерной оболочке. 2. Конденсированная среда, в которую
помещаются изолированные активные частицы (атомы, молекулы, ионы, наночастицы
и т. п.) с целью предотвращения взаимодействия между собой и с окружающей средой;
макромолекулярная, полимерная или неорганическая основа для синтеза комплементарной
копии макромолекулы, выращивания трансплантатов. Нанокомпозиты с металлической,
керамической матрицей. Коллагеновые матрицы с контролируемой укладкой наноразмерных
волокон для культивирования клеток.
нанор’обот, а, м. 1. Робот размером менее десяти нанометров (сопоставимый с
молекулой), обладающий функциями движения, обработки и передачи информации,
выполнения программ. Наноробот, состоящий из единственной молекулы ДНК.
26
2. Автономная или дистанционно управляемая субмикрометровая машина, способная точно
взаимодействовать с объектами наноразмеров или манипулировать объектами в масштабе
нанометров. Силовой микроскоп относится к нанороботам.
В описываемой лексике происходит и типичное для слов русского языка развитие
многозначности, обусловленное собственно лингвистическими причинами:
нановеличин’а, ‟ы, ж. 1. Количественное выражение физического признака какого-л.
явления, лежащее в нанодиапазоне. 2. Разг. Наноразмер.
Следует отметить очень быстрое освоение русским языком лексики нанотехнологий в
контексте вариативности написания. Согласно правилам сложные слова с первой
иноязычной (интернациональной) частью, кончающейся на гласную, пишутся слитно; но на
начальном этапе освоения русским языком заимствуемой терминологии обычно
фиксируются варианты написания. Так, материалы «Электронного фонда современного
русского языка» и «Национального корпуса русского языка» позволяют обобщить
статистическую вариативность дефисного / слитного написания слов с первой частью
«медиа» следующим образом: медиабаинг и (реже) медиа-баинг; медиабаинговый и (реже)
медиа-баинговый; медиабизнес и (реже) медиа-бизнес; медиа-брокер и медиаброкер; медиа-
война и медиавойна; медиа-империя и медиаимперия; медиа-магнат и медиамагнат; медиа-
менеджер и медиаменеджер; медиа-ресурс и медиаресурс; медиа-рынок и медиарынок;
медиаселлер и медиа-селлер; медиаселлерский и медиа-селлерский; медиасообщество и
медиа-сообщество; медиафраншиза и (реже) медиа-франшиза; медиа-холдинг и
медиахолдинг. Лексика информатики, также сформировавшаяся в русском языке на основе
калькирования из английского, хотя и за более длительный период, до сих пор сохраняет в
реальных текстах как частотные следующие варианты написания: аудиоблог и аудио-блог,
аудиоклип и аудио-клип, видеоблоггинг и видео-блоггинг, видеоОЗУ и видео-ОЗУ и т. д. В
самом начале формирования терминосистемы в русском языке наблюдалась и вариативность
написания единиц, начинающихся на нано… (слитное и дефисное написание), но процесс
выбора основного варианта языковой системой русского языка прошел в этом случае гораздо
стремительнее, чем в случаях с другими заимствованными частями сложных слов, и
количество фиксаций дефисного написания единиц в упомянутых выше источниках не
является статистически значимым. Таким образом, несмотря на короткий период развития,
процесс формирования системы связанной с нанотехнологиями лексики в русском языке по
многим параметрам отличается от исследованных ранее случаев освоения
общеупотребительной лексикой специальной терминологии.
Рассмотрение материала с точки зрения его представления в толковом словаре
позволило выделить десять групп лексических единиц, для которых разработаны типовые
лингвистические толкования, например наночастицы и их системы – „твердофазные
нанообъекты, имеющие отчетливо выраженную границу с окружающей средой, у которых
все три характеристических размера находятся в диапазоне от одного до ста нанометров‟;
наноструктуры – „совокупность наноразмерных объектов искусственного или естественного
происхождения, свойства которой определяются не только размером структурных
элементов, но и их взаимным расположением в пространстве‟; наноустройства –
„устройства, чаще молекулярные, размером менее десяти нанометров, способные выполнять
механические действия‟.
Литература
Ваулина 2014 – Е. Ю. Ваулина, О. Н. Вербицкая. Новейшая физическая терминология:
нанотехнологии: краткий словарь. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014.
Калюжный 2010 – С. В. Калюжный. Словарь нанотехнологических и связанных с
нанотехнологиями терминов . М.: Физматлит, 2010.
Караулов – Ю. Н. Караулов. Этнокультурная и языковая ситуация в современной
России: лингвистический и культурный плюрализм.
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_106
27
Лейчик 2000 – В. М. Лейчик. Проблемы отечественного терминоведения в конце
XX века // Вопросы филологии. 2000. № 2 . С. 20–30.
Лотте 1936 – Д. С. Лотте. Немецко-русский автомобильный словарь. М.–Л.: Онти. Глав.
ред. общетехн. лит-ры и номографии, 1936.
Суперанская, Подольская, Васильева 2012 – А. В. Суперанская, Н. В. Подольская,
Н. В. Васильева. Общая терминология. Вопросы теории. М.: Либроком, 2012.
Шелов 1998 – С. Д. Шелов. Определение терминов и понятийная структура
терминологии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998.
28
Е. Н. Геккина
НОВОЕ В СЛОВАРЕ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Сфера пассажирского транспорта, как и любая другая сфера жизнедеятельности
современного общества, служит источником новых слов и выражений. Словари,
фиксирующие лексические изменения в русском языке, свидетельствуют, что во второй
половине ХХ в. транспортная тематика получила отражение в инновациях, характеризующих
все виды перевозок различных классов дальности.
Новая лексика, представленная в последующем кратком обзоре, может быть отнесена к
тематической группе „городской общественный транспорт‟1. Это названия транспортных
средств, в частности автобусов: икарус, ЛАЗ, микроавтобус, пазик, подкидыш [СНС], нюся
[НРЛ-78], пассажирка [НРЛ-82], кубанец [НРЛ-88], спецавтобус [НСЗ-80], гармошка, экобус
[НСЗ-90], ЛиАЗ [БСК]; троллейбусов: троллик [БСК], рогатый конь [НСЗ-90]; трамваев и
троллейбусов в совокупности: электротранспорт [БСК]. Среди неологизмов есть
обозначения водителей: автобусник, рейсовик [СНС], троллейбусник [НСЗ-92]; средств
ремонтно-технических служб: троллейвоз, электробус [СНС]. Для характеристики работы
городского наземного транспорта и системы оплаты проезда значимо определение
бескондукторный [СНС]. Наряду с ним список включает лексемы заячий (от заяц в значении
„безбилетный пассажир‟) [НРЛ-81] и лжеконтролѐр в значении „лицо, незаконно собирающее
плату за проезд у пассажиров‟ [НСЗ-90].
В группу обозначений наземного и подземного транспорта входят неологизмы
метротрамвай, надземка [СНС], магнибус, метрам, метротрам [НСЗ-80], лѐгкое метро,
мини-метро [НСЗ-90]2. Особенности обустройства и работы метрополитена отражаются в
лексическом ряде метромост, метровокзал, метропоезд, метростроение, метростроитель
[СНС], метрополитеновец, метрополитенщик, подземщик [БСК], в сочетаниях с
прилагательными метрополитеновский [НРЛ-81], метровский [СНС]. К элементам
инфраструктуры метро относятся номинации монеторазменник, монеторазменный [СНС],
метрожетон, жетонный [НСЗ-90].
В городах, где работает общественный транспорт разных видов, используются
следующие наименования проездных документов: единый проездной билет, или единый
[БСК]. Модернизация финансово-банковской сферы в последнее десятилетие ХХ в. и
обновление процедуры оплаты проезда, прежде всего в метрополитене, способствовали
распространению таких слов и словосочетаний, как магнитная карта (карточка), магнитка,
пластик, смарт-карта, электронный кошелек, контроллер, ридер, считыватель. То, что эти
лексические инновации пополнили состав и «транспортной» группы, подтверждает
иллюстративный материал словаря НСЗ-90.
Пассажиры, или автопассажиры [СНС], пользуются услугами не только автобусов, но
и такси. Изменения в работе этой категории общественного транспорта в 1980–1990-е годы,
например, появление частного такси и нелегальная деятельность государственных и частных
перевозчиков, привели к появлению семантических неологизмов извоз („перевозка
пассажиров на частном автомобиле‟), извозчик, индивидуал, левак („о государственном
автомобиле, водитель которого занимается частным извозом‟) [НСЗ-80], левачить
(„заниматься частным извозом‟), частник („владелец автомобиля, занимающийся частным
1 В группу включены инновации из «Словаря новых слов русского языка (середина 1950 – середина 1980 гг.)»,
изданий серии «Новые слова и значения», ежегодных выпусков «Новое в русской лексике» (сокращенные
обозначения даны в квадратных скобках, обычно после нескольких неологизмов, зарегистрированных в одном
издании) и Большой словарной картотеки ИЛИ РАН (сокращенное обозначение – БСК). 2 Наряду с лексикой, соотнесенной, как правило, с реалиями и понятиями советской и постсоветской
«транспортной» действительности, в неографических изданиях также представлены экзотизмы; ср.: труба („о
лондонском метро‟), локал („о метро в США‟), бурбухайка („о грузовом фургоне или автобусе в Афганистане‟),
булка („о такси в Пекине‟).
29
извозом‟) [ТССРЯ], частник-автовладелец, нелегал (в сочетании частник-нелегал), бомбила,
бомбить [НСЗ-90], извозчичий [НРЛ-90], автоизвозчик („тот, кто занимается платными
перевозками пассажиров на своем личном автомобиле‟) [НРЛ-93], выражения типа взять,
поймать или зарядить тачку [НРЛ-92]. О новом виде такси сообщают наименования
маршрутное такси, маршрутный автобус, маршрутка [СНС], маршруточник, тэшка [НСЗ-
90]. В парке маршрутных такси преобладают микроавтобусы, самые распространенные
модели – рафик [СНС] и газель (также в написании ГАЗель, Газель) [НСЗ-90].
Лексемы в представленном обзоре объединены на идеографической основе, что
закономерно при классификации материала тематической группы, или тематического
словаря, если иметь в виду вокабуляр отрасли и характерные для нее коммуникативные
практики, – в нашем случае словаря общественного транспорта. Идеографический принцип
используется и при рассмотрении «транспортных» неологизмов начала ХХI в.,
предопределяя направленность поиска и описания инноваций.
Источниками для выборки являются тексты, в которых нашла отражение транспортная
жизнь Санкт-Петербурга последних двух десятилетий. Об изменениях в работе
общественного транспорта, о нововведениях в правилах проезда пассажиров сообщается в
документах городской администрации, профильных комитетов и транспортных
предприятий, то есть материалом для исследования служат приказы, постановления,
распоряжения, положения, а также информационные сообщения и рекламные объявления,
или тексты, формирующие в совокупности официальный дискурс. В то же время
транспортная повседневность обсуждается профессиональным и пассажирским сообществом
вне институциональной коммуникации, в рамках неофициального персонального общения.
Поскольку в настоящее время самым большим и доступным хранилищем текстов
неофициального дискурса является интернет, постольку привлекаются записи в социальных
сетях, блогах и на сайтах, в частности http://forum.tr.ru и www.subwaytalks.ru. В качестве
источников также используются тексты печатных СМИ.
Для характеристики источников важно то, что они репрезентируют
противопоставленные по типологическим признакам дискурсы – официальный и
неофициальный. При этом их различия определяет еще один прагматический фактор,
связанный с отношением создателей текстов к транспортным услугам: одни предоставляют
услуги, другие услугами пользуются. Официальный и неофициальный дискурсы формируют
общую информационную среду отрасли – пространство речевого взаимодействия разных
субъектов. Неологизмы, принимающие «участие» в этом речевом взаимодействии,
оказываются в более сложных функциональных условиях по сравнению с другими
лексическими единицами. Следовательно, новую лексику можно рассматривать не только в
списочном формате тематического словника, но и в ракурсе дискурсивных параметров: в
каких именно текстах встречаются неологизмы и эффективно ли их «участие» в них.
В последние годы происходила реорганизация сферы пассажирских перевозок в России
и, в частности, в Санкт-Петербурге, связанная с развитием конкуренции на городских
маршрутах и более свободной организацией инфраструктуры. В настоящее время плановая и
экспериментальная работа городской администрации и подведомственных предприятий
нацелена прежде всего на систематизацию перевозок и оптимизацию деятельности
перевозчиков.
Перемены затронули материально-техническое оснащение общественного транспорта.
В официальных текстах и в публикациях СМИ новшества обозначают такие лексические
единицы, как низкопольный трамвай, автобус, троллейбус и низкопольник („модификация
автобуса, трамвая, троллейбуса с низким полом‟), двухкабинный, в отличие от однокабинный,
или челночный трамвай („модель трамвая, оснащенного кабинами с двух сторон; при
необходимости движения в обратном направлении водитель переходит в кабину на
противоположном конце‟), легкорельсовый трамвай, легкорельс, надземный экспресс
(„скоростной трамвай или поезд на обособленной магистрали‟), электробус и электрический
автобус („автобус, оснащенный аккумулятором‟), аквабус („вид водного транспорта и
30
транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров по воде‟), траволатор
(„горизонтальный эскалатор в метрополитене‟); названия автобусов различных марок: МАЗ,
Волжанин, Нефаз (НефАЗ), Скания. В речевой оборот вводятся номинации выделенная линия
(„полоса дорожного полотна, выделенная для движения общественного транспорта‟),
перехватывающая парковка.
В разговорной речи инновации отмечают не только изменения материально-
технической части, но и особенности устройства общественного транспорта: трѐхсекционник
(„трехсекционный трамвай‟), сочленѐнник („секционная модель автобуса, трамвая,
троллейбуса‟; производно от сочленѐнная модель); выделенка („то же, что выделенная
линия‘); наземка („наземный транспорт‟; ср. подземка), наземный (в метонимическом
употреблении типа наземная карточка), метрошный (в сочетании с существительными
турникет, билет, карта), жетоноприѐмник и жетонник („турникет в метро‟).
В отличие от официальных текстов, в интернет-записях встречаются номинации лиц,
занятых в транспортной сфере: наземники („работники наземного транспорта‟), метрошники
(„работники метрополитена‟), СКМщики („работники СКМ – службы контроля
метрополитена‟), электротранспортники („работники троллейбусных и трамвайных
парков‟), маршрутники и маршрутчики („водители маршрутных такси; маршруточники‟),
ГАЗелисты („водители микроавтобусов марки «ГАЗель»‟).
Между тем в функционировании наземно-подземного общественного транспорта
многое определяют финансово-экономические факторы. Это наглядно демонстрируют
номинации социальный и коммерческий, употребление которых инициировано городской
администрацией, законодательно закрепившей разграничение всех маршрутов на
социальные и коммерческие. Первые обслуживаются муниципальными транспортными
предприятиями, предлагающими пассажирам и льготные тарифы; вторые – частными
перевозчиками, устанавливающими собственные тарифы, без возможности льготного
проезда. В итоге выражения социальный транспорт и коммерческий транспорт приобрели
узкую смысловую специфику, поскольку если принимать во внимание юридическую
дефиницию коммерческой организации, деятельность которой нацелена на получение
прибыли, то номинация коммерческий транспорт должна подразумевать всех действующих
на основе этой формы собственности перевозчиков, как частных, так и муниципальных, а
номинация социальный транспорт вне узкого контекста может иметь такое же толкование,
как и гипероним общественный транспорт.
Значимым событием для транспортной жизни города стало введение проездных
документов нового типа. Речь идет о билетах на основе смарт-карты3 со встроенным
микропроцессором, позволяющим записывать и обновлять разные по типу сведения,
обмениваться ими со считывающим устройством (ридером) в контактном или
бесконтактном режиме; в последнем случае при проведении операции достаточно поднести
или приложить карту к устройству для считывания. Бесконтактные смарт-карты получили
признание и распространение в системе транспортного обслуживания в разных странах, в
том числе в России. Проездные билеты на основе смарт-карт начали внедрять в Санкт-
Петербурге в 2001 г., за последующие несколько лет электронное новшество полностью
заменило магнитные карты и прошло этапы расширения функций.
Термин смарт-карта восходит к английской номинации smart card, где smart означает
„умный, сообразительный‟, card – „карта‟4. В Петербурге используют полное
3 Первая смарт-карта создана в 1974 г. французским изобретателем Роландом Морено [Востриков, Калюжный,
Сергеев 2002]. 4 По сведениям в [Merriam-Webster‟ Online Dictionary], первое известное употребление выражения smart card
датируется 1980 г.
Описание в отечественных лексикографических изданиях отражает особенности начального этапа вхождения
слова в русский язык. Впервые неологизм в виде smart-card упоминается в иллюстративном материале
«Толкового словаря русского языка конца ХХ века» [ТСРЯ 1998], датированном 1996 г. и размещенном в
31
терминологическое обозначение бесконтактная смарт-карта5 (сокращенно БСК); ср. в
рекламном объявлении в метрополитене: многоразовый проездной билет на основе
электронной бесконтактной смарт-карты; также единые на БСК. Кроме того,
употребляются выражения бесконтактная электронная пластиковая карта (сокращенно
БЭПК), транспортная карта, электронный билет, электронная карта, электронный
кошелек; а также имя собственное Подорожник – название вида единого проездного билета.
Множественность нарицательных наименований едва ли имеет практическое обоснование с
точки зрения публичной коммуникации, скорее, представляет собой признак
неупорядоченности отдельного лексического участка официального дискурса6.
Правила для пассажиров предусматривают раздельную оплату проездного билета и
пластикового изделия с микропроцессором, записывающим сведения о билете. Это условие
предопределило терминологическое разграничение двух разных понятий – „билет‟ и
„пластиковое изделие‟. В настоящее время пластиковую карту принято обозначать
сочетанием электронный носитель (аналогично используются номинации визуальный
носитель и бумажный носитель при указании на бумажный билет, составляющий пару
магнитной или электронной карте). В официальных текстах выражение электронный
носитель часто употребляется с лексемами оформляться, оформление, оформленный,
восстанавливаться, восстановление. При этом фразы могут демонстрировать
нестандартную грамматическую сочетаемость, так как зависимый компонент ставится в
форму винительного падежа: билет оформлен на электронный носитель, билеты
оформляются на электронном носителе / электронный носитель, оформление билетов на
электронный носитель, оформление поездок на его [билета] носитель, оформление именного
электронного носителя; ресурс билета восстанавливается на временный носитель,
восстановление билета на временный носитель. Закономерен вопрос: во всех ли случаях
необходима терминологическая детализация или однозначными и информативными могут
быть высказывания со словосочетаниями электронный билет, электронная карта? Могут ли
фразу билеты оформляются на электронном носителе заменить фразы билеты
оформляются на электронной карте и оформляются электронные билеты? В 2012 г.
объявление у касс метрополитена сообщало о стоимости оформления носителя «БСК
Подорожник», и пассажир мог полагать, что подразумевается оплата услуги по записи
данных билета (или бесконтактной смарт-карты) на носителе. В действительности же
имелась в виду оплата пластикового изделия, а значит, в объявлении следовало бы написать
о стоимости карты, на которой кодировались сведения о билете «Подорожник»7.
статье карта. В переиздании словаря появилась отдельная статья смарт-карта, в которой даны отсылка к
оригинальному обороту smart card, толкование „чиповая карта‟ и цитаты 1997 и 1999 гг. [ТССРЯ 2001].
Слово смарт-карта фиксируется в «Новом словаре иностранных слов» [Захаренко, Комарова, Нечаева 2003];
здесь часть smart неточно переведена с английского языка как «резкий, быстрый».
В НСЗ-90 статья на слово смарт-карта, отсутствует, но оно встречается в цитатах, в том числе в гибридном
написании smart-карта. Иллюстрации показывают, что это слово появляется в русском языке как минимум в
1995 г., первоначально в специальных периодических изданиях, а позднее – в массовых СМИ.
В настоящее время аффиксоид смарт...- активно используется в обозначениях разного рода изделий и услуг за
рубежом и в России (ср. смартфон, смарт-квартира, смарт-часы и т. д.). 5 Ср. написание смарткарта в заголовке распоряжения Комитета по транспорту от 24 июня 2002 г.: «Об
утверждении временного положения о порядке продажи, обращения, использования и контроля квартальных и
месячных именных единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетов на основе бесконтактных
смарткарт...». 6 На информационных стендах метрополитена значится электронный билет, на сайте и на билете ―
электронная карта. В то же время популярный регионализм карточка (ср. проездной в других городах) не
востребован. 7 То, что высказывание со словами оформление, оформляться, электронный носитель в текстах, адресованных
в том числе пассажирам, могло быть спорным или сомнительным в лексическом и грамматическом отношении,
показывает следующая цитата: «...оформление нового Проездного билета на электронный носитель, на котором
оформлен действующий Проездной билет, может быть оформлено только после использования ресурса ранее
32
В функциональной характеристике электронного билета ключевым является понятие
«ресурс». Как показывает анализ официальных текстов, широкие смысловые границы этого
понятия обусловили вариантное употребление семантического неологизма ресурс8: лексема
выражает значение „количество поездок и/или срок действия билета‟ в одних случаях, а в
других – „количество денежных средств на счете билета‟. В некоторых текстах имеются
экспликаторы, актуализирующие вариант толкования лексемы; например, зависимые слова:
ресурс поездок, ресурс в размере стоимости поездки, ресурс исчисляется в рублях;
пояснения: Проездной билет представляет собой носитель информации с закодированным
на нем ресурсом проездного билета (количеством поездок и/или сроком действия). Однако
то или иное толкование может подразумеваться «по умолчанию» и не иметь контекстных
подсказок (ср.: использование, запись ресурса; неиспользованный, оставшийся ресурс; ресурс
записывается, обновляется, списывается, зачисляется). В этом случае высказывания
затруднительно интерпретировать однозначно9.
Описание процедур продажи и проверки электронного билета выполняется с помощью
лексем, обозначающих действия людей и технических устройств: кодировать, кодирование,
активировать, активация, активизировать, активизация, читать, чтение, читаемый,
нечитаемый, считывать, считывание, списывать, блокировать, блокирование, блокировка.
Кроме того, используются возвратные глаголы, в частности читаться, считываться,
списываться, блокироваться; ср.: [информация проездного документа] читается
устройствами контроля оплаты проезда (в распоряжении комитета по транспорту);
Поездки при контроле кондуктором не считываются (объявление в салонах автобусов и
трамваев). В официальных текстах возвратные глаголы вообще частотны, употребление же
новых лексем объясняется их способностью выражать не только пассивное значение (ср.:
аппарат блокируется кондуктором), но и квазипассивное значение10
при указании на
действия технических устройств либо операций самой карты (ср.: аппарат заблокировался,
карта не читается)11
.
Внедрение новых билетов повлекло за собой переоборудование всей инфраструктуры
продажи, использования, контроля проездных документов и появление задействованных в
этих процедурах технических устройств. В результате к наименованиям терминал,
считывающее устройство, устройство чтения, ридер, контроллер добавились устройство
электронного контроля и валидатор; устройство визуализации проездных документов и
визуализатор; АППБ (сокращение словосочетания автомат по продаже проездных
билетов).
При оплате проезда с помощью электронного билета пассажиру следует иметь в виду,
что может существовать промежуток времени, обычно несколько минут, когда действует
запрет на повторное использование билета и устройства электронного контроля не
срабатывают. Это может быть и промежуток времени, когда применяется тариф, не
предполагающий скидок. Такого рода ограничения обозначаются термином тайм-аут; его
семантическую специфику эксплицирует контекст, ср.: 10-минутный тайм-аут, карта с
тайм-аутом, действует тайм-аут входа.
Пассажиры вносят свой вклад в «транспортный» словарь. В разговорной речи билеты
стали обозначаться словами каталка, проезжалка, проезжальник (в том числе жетон), 10-
оформленного Проездного билета» (Приложение «Порядок обращения проездных билетов» к распоряжению
Комитета по транспорту от 27 июня 2007 г. (с изменениями на 13 августа 2015 г.)). 8 Ср. стандартное употребление существительного в форме множественного числа: ресурсы.
9 Можно предположить, что существуют специальные тексты для пассажиров, объясняющие значения таких
терминов, как ресурс (включая то, что он не выражает значение „вид проездного билета‟), однако нам не
известны источники, публикующие эти тексты. 10
В терминологии В. И. Гавриловой [Гаврилова 1986, 2001]. 11
Многозначность возвратного глагола и невыраженность субъектно-объектных отношений могут быть
факторами, обусловливающими некорректность высказывания; ср. фрагмент текста на сайте метрополитена:
При совершении поездки с Проездного билета списывается ресурс в размере...
33
поездочная карточка (на основе модели ...-поездочный создаются и другие производные);
безлимитка („билет, дающий право на неограниченное количество поездок‟). Кроме
льготных и нельготных карт появились скидочные, с формирующейся скидочной историей.
Технические устройства получили лаконичные наименования: читалка („считывающее
устройство‟), пополнятель, пополнятор, пополнялка („техническое устройство или интернет-
программа, с помощью которых пополняется баланс проездного билета‟), проверятор
(„техническое устройство, сообщающее сведения об электронном билете‟). При обозначении
операций с картой стали использоваться глаголы писать, записывать, прошить, заряжать,
чекать, банить, баниться, позаимствованные из вокабуляра специалистов компьютерной
сферы наряду с лексемами болванка („пластиковое изделие – носитель‟), девайс
(„электронные устройство‟). Собственные действия, в частности при регистрации
электронного билета, пассажиры называют глаголами прислоняться, прикладываться,
приложиться (к валидатору). Действия держателей карт и контролеров также стали
обозначаться производными глаголами от наименования валидатор: валидарить,
валидировать, валидироваться, валиднуть, свалидировать, провалидировать, завалиднуть.
Водители и кондукторы неформально делят пассажиров на бумажно и электронно
обилеченных. Если пассажиры приобретают бумажные билеты за наличные деньги, то их
называют наличниками. Продажа билетов водителями в отсутствие кондуктора получила у
транспортников название самообилет (или самообилетка), а тех, кто осуществляет такого
рода продажу, назвывают самообилетчиками.
Итак, обновление словаря пассажиров общественного транспорта представляет собой
процесс, соединяющий лексические «усилия» двух сторон: одна сторона официальная, ее
субъекты институциональные – организаторы и исполнители перевозок, а другая –
неофициальная, неформальная, персональная, ее субъектами являются и пассажиры, и те, кто
их обслуживает. Состав лексических инноваций и их функциональные характеристики
обнаруживают существенные различия, если рассматриваются в аспекте дискурсивной
принадлежности. И то и другое является предметом изучения в лексикографической работе.
Однако и перспективы реального речевого взаимодействия в фокусе таких наблюдений
определяются с отчетливостью.
Очевидно, что рефлексы затрудненной коммуникации в практике общественного
транспорта Санкт-Петербурга обусловлены особенностями дискурсивной деятельности
официальных институций. Эта специфика просматривается в сентенциях типа Порядок
обращения, стоимость и зона действия проездного билета определяются нормативными
актами Комитета по транспорту (запись на билете), то есть в отсылках к неким
установленным институцией правилам, тогда как пассажиру об основных нормах
транспортного обслуживания в наглядной форме должны сообщать доступные источники.
На билетах указано: дает право проезда в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах, но
для потенциального пассажира большей определенностью обладает указание для проезда в
метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Неологизмы в стилистике подобной
практической речи не всегда реализуют в полной мере свой информативный потенциал.
Между тем учет опыта речевого взаимодействия представителей транспортной отрасли с
пассажирами, нацеленность на потребности тех, кому предоставляются услуги по перевозке,
могли бы способствовать более эффективной коммуникации, особенно в условиях, когда
техническая модернизация и перестройка инфраструктуры сопряжены со значительным
лексическим обновлением.
Словари
Захаренко, Комарова, Нечаева 2003 – Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В.
Новый словарь иностранных слов: 25 000 слов и словосочетаний. М.: Азбуковник, 2003.
НРЛ-78 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-78 / Под ред.
Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1981.
34
НРЛ-81 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-81 / Под ред.
Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1986.
НРЛ-82 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-82 / Под ред.
Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1986.
НРЛ-88 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-88 / Под ред.
Е. А. Левашова. СПб.: Дм. Буланин, 1996.
НРЛ-90 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-90 / Под ред. Т. Н. Буцевой.
СПб.: Дм. Буланин, 2004.
НРЛ-92 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-92 / Под ред.
Е. А. Левашова. СПб.: Дм. Буланин, 2004.
НРЛ-93 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-93 / Под ред. Т. Н. Буцевой.
СПб.: Дм. Буланин, 2008.
НСЗ-80 – Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. СПб.: Дм. Буланин, 1997.
НСЗ-90 – Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), Е. А. Левашова. В 3-х томах.
СПб.: Дм. Буланин, 2009-2014.
СНС – Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов) / Под
ред. Н. З. Котеловой. СПб.: Дм. Буланин, 1995.
ТСРЯ – Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под
ред. Г. Н. Скляревской. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований.
СПб.: Фолио-Пресс, 1998.
ТССРЯ – Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца
ХХ столетия / ИЛИ РАН; Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Астрель, АСТ, 2001.
Merriam-Webster‟ Online Dictionary // Режим доступа: www.merriam-webster.com
Литература
Востриков, Калюжный, Сергеев 2002 – А. А. Востриков, В. П. Калюжный,
М. Б. Сергеев. Пластиковые карты с открытой памятью. СПб.: СПбГУАП, 2002.
Гаврилова 1986 – В. И. Гаврилова. Квазипассивные конструкции в русском языке //
АКД. М., 1986.
Гаврилова 2001 – В. И. Гаврилова. Возвратные глаголы совершенного вида как
средство выражения стихийных процессов и их место в залоговой системе // Русский язык:
Исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей. М., 2001.
35
С. В. Гудилова, О. Ю. Макарова
О ПРОЕКТЕ ОНЛАЙН-СЛОВАРЯ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ
Язык интернета – явление относительно новое, требующее исследования и описания.
Одно из ярких порождений этого языка – интернет-мем, единица коммуникации,
получившая неожиданную популярность в сети путем воспроизведения в новых ситуациях и
имеющая форму текста («Превед!», «Вежливые люди»), графики («Омская птица»), видео
или аудиофайла («Mr. Trololo», «Сумасшедший лягушонок»). Как замечает К. Ф. Седов, «его
признали своим, независимо друг от друга, самые разные науки и научные отрасли: психо-,
социо-, прагмалингвистика, лингвокультурология, речеведение, теория дискурса,
когнитология и т. д.» [Седов 2007: 5], поэтому данный феномен интересен специалистам
различных сфер.
Термин мем возник в 70-е гг. ХХ в. В книге «Эгоистичный ген» (1976) этолог Р. Докинз
называл мемами (англ. meme) устойчивые элементы человеческой культуры, передающиеся
по каналу лингвистической информации. Среди примеров мемов он называл мелодии, идеи,
модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок [Докинз 1993:
5].
Развивая свою мысль, Р. Докинз прибегает к сравнению: как биологическая
информация состоит из генов, так и вся культурная информация состоит из базовых единиц –
мемов. Они, так же как и гены, подвержены естественному отбору, мутации, искусственной
селекции и репликации, то есть способны адаптироваться, изменяться, улучшаться,
копироваться и размножаться [Докинз 1993: 189].
Продолжая идеи Р. Докинза, лингвисты ХХI в., дают самые разные толкования
данному термину: от широкого понимания мема как средства хранения информации до
более узкого, отмечая какие-либо особенные их характеристики.
Ю. В. Щурина вводит понятие интернет-мем. Это «единица информации, объект,
который получил популярность – как правило, спонтанно – в среде, обслуживаемой
информационными технологиями» [Щурина 2012: 162]. Также исследователь считает, что
интернет-мем должен порождать у пользователей ассоциации.
М. А. Кронгауз акцентирует внимание на популярности интернет-мема. Ученый
считает, что интернет-мем – это любая, но короткая информация (слово или фраза,
изображение, мелодия и т. п.), мгновенно и неожиданно ставшая модной и
воспроизводящаяся в интернете, как правило, в новых контекстах или ситуациях [Кронгауз
2012].
Значимая для М. А. Кронгауза новизна контекста использования перекликается с
метафоричностью, которую отмечает С. А. Глазкова. Она подчеркивает значение
коммуникативного события между участниками коммуникации, а также наличие
переносного значения. Поэтому рассматривает интернет-мем как единицу публичного
дискурса, обладающую метафорической функцией [Глазкова 2014].
Интернет является той средой, где мемы возникают, распространяются и «мутируют».
Представляемое мемом понятие (идея) имеет прецедентный характер, эффективность
коммуникации зависит от умения пользователя эксплицировать его скрытые культурные
коннотации.
Интернет-мем – «это юмор “не для всех”, а лишь для тех, “кто понимает”: комический
эффект рассчитан на определенную аудиторию». И для успешной коммуникации интернет-
пользователь должен «восстановить те ассоциативные связи, которыми обеспечен
комический эффект» [Щурина 2012: 163].
Наиболее ясным смыслом для максимально широкой аудитории традиционных СМИ
обладают политические метафоры-мемы благодаря контексту их появления [Глазкова 2014].
Если смысл мема устойчив, то он определяет и типы контекстов и ситуаций, в которых мем
используется [Кронгауз 2013]. То есть для выражения определенной эмоции используется
36
определенный мем, например, «чувствуете вы растерянность или потерянность, тут и
уместно произнести или написать “Йа криветко”, так как первоначальный смысл
выражения “Йа криветко‖ состоял, по-видимому, в самоуничижении, признании себя
ничтожной криветкой и, возможно, выпадении из действительности. Однако это не
исключает того, что на поверхностном уровне это сделано “ради прикола”» [Кронгауз 2013].
Передача мемов сопряжена с мутированием [Докинз 1993: 190]. Исследователи Facebook
из Мичиганского университета, проанализировав сотню тысяч мемов, пришли к выводу, что
более гибкие по содержанию вирусные сообщения эффективнее
(http://www.cossa.ru/news/244/60341). Пользователи социальных сетей решают изменить мем,
чтобы адаптировать его к своей аудитории.
Так, мем «Никто не должен умирать из-за того, что не может позволить себе
медицинскую помощь, и никто не должен разоряться из-за того, что болен. Если вы согласны
с этим, разместите фразу в качестве вашего статуса на весь оставшийся день»,
опубликованный 1,4 млн. пользователями, был модифицирован 121,6 тысяч раз. Процессы
«мутации» мемов и слов, которые они порождают к жизни, идут чрезвычайно быстро,
оставляют многочисленные следы, дающие возможность для их изучения с привлечением
сложного математического аппарата, с помощью которого можно зафиксировать и
проследить в динамике процесс зарождения, распространения и угасания использования
нового слова, создать которое когда-то помог интернет-мем.
Интернет-мемы – явления недолговечные, они быстро набирают популярность и
быстро ее теряют с появлением новых, поэтому целесообразна их фиксация и
систематизация.
Лексикографическая фиксация языковых нововведений, как правило, опаздывает за
развитием языка в целом, за движением жизни, что с философской точки зрения объективно
и логично. «Словарь – это моментальный снимок вечно обновляющегося и находящегося в
движении языка, словарь обязан угадывать за моментальным снимком постоянное движение
живого языка» [Апресян 1993: 12].
Электронный словарь – особый лексикографический объект, где могут быть
реализованы и введены в обращение многие продуктивные идеи, не востребованные по
разным причинам в бумажных словарях. Главное преимущество электронного словаря по
сравнению с бумажным словарем состоит в обновлении информации. Как и любой другой
массовый программный продукт, электронный словарь характеризуется частой сменой
версий и наличием постоянной обратной связи с тысячами пользователей, поэтому
компьютерная лексикография особенно актуальна [Саттарова 2011]. Именно она позволяет
реализовать идею фиксации, отслеживания динамики мемов, которые «обитают» в этой
среде.
Онлайн-словарь интернет-мемов может представлять их в алфавитном порядке, но в
соответствии с типовой характеристикой; думается, это было бы удобно пользователям.
Несомненно, словарная статья должна содержать толкование значения, а также включать
коннотации. Считаем необходимым указание частотности мема, которая будет меняться со
временем, однако именно критерий частотности может стать важным при отборе данных
единиц для онлайн-словаря.
Известно, что интернет-мем – это единица коммуникации, которая может иметь форму
текста, графики, анимации, видео или аудиофайла. Это позволяет выделить типы интернет-
мемов для дальнейшего предъявления их в онлайн-словаре в соответствии с данной
классификацией.
Текстовые мемы – это слова, словосочетания или фразы: «Превед!», «Аффтар
жжот», «Боян», «Британские учѐные», «Ватник», «Колорад». В них интернет-пользователи
часто используют так называемый «олбанский язык» – широко распространившийся в
Интернете в начале XXI в. стиль употребления русского языка с фонетически почти верным,
но нарочно неправильным написанием слов (эрративом). Его основой является возведение
ошибок в правило, своеобразный культ ошибки, которая превращается в единственно
37
признаваемый принцип. К нему, в свою очередь, присоединяется несколько технических
приемов, обеспечивающих в случае необходимости «перевод» с русского языка на
«олбанский». Во-первых, кредо «пиши, как слышишь», во-вторых, написание в конце слов
тех шумных звонких согласных, которые в произношении невозможны (классические
образцы – «превед!» вместо «привет» или «красавчег» вместо «красавчик»), и, в-третьих,
использование сочетания «сч» на месте буквы «щ».
Один из ярких примеров текстовых мемов – мем «Вежливые люди» – вооруженные
люди неизвестной принадлежности, похожие на российских военных. Появление этого мема
и его возросшую популярность относят к концу февраля 2014 г., когда в преддверии
референдума «на фоне кровавых событий в Киеве по всему Крыму начали появляться
вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков», которые «вежливо»
блокировали и брали под свой контроль военные и транспортные объекты. Популярность
«Вежливых людей» обусловлена не только актуальностью политических событий, но и
«комическим эффектом, заложенным в определении «вежливые» по отношению к
вооруженным субъектам» (http://topwar.ru/47922-vezhlivye-lyudi-kak-novyy-obraz-rossiyskoy-
armii.htm).
Выражение «вежливые люди» широко распространялось в сети Интернет, в СМИ и
«прочно вошло в политический и бытовой лексикон всей страны и, по мнению опрошенных
«РИА Новости» экспертов, постепенно становится новым символом российских
Вооруженных сил» (http://news.mail.ru/politics/18287095/). Мем «Вежливые люди» стал
«первым в новейшей истории мемом федерального значения», когда 21 марта В. В. Путин
использовал это словосочетание в эфире телеканала Russia Today, комментируя введение
санкций США, Канадой и Евросоюзом в отношении российских чиновников и бизнесменов
(http://top.rbc.ru/politics/16/04/2014/918516.shtml).
Мемы-картинки («Омская птица», «Ангела Меркель и Барак Обама на саммите G7»,
«Погладь кота», «Будь мужиком», «Фейспалм» (Рукалицо) и др. (см. Рис. 1) могут быть двух
разновидностей: 1) узнаваемое изображение, например, «Омской птицы», «Совы» или
других персонажей; 2) картинка, выполненная в графическом редакторе Photoshop
(Фотошоп), обработанная фотография, которая получила сленговое название «Фото-жаба».
Интернет-мем «Омская птица» появился в 2009 г., когда на одном из интернет-
порталов неизвестный разместил фразу «Добро пожаловать в Омск», сопровождаемую
картинкой, первоисточник которой – картина немецкого художника Хайко Мюллера под
названием «Winged Doom» (англ. «Крылатый рок»). Появившись в Интернете, картина стала
сверхпопулярна. По данным некоторых источников, мем отражает основную проблему
города Омск – большое число наркозависимых.
Одним из наиболее ярких примеров «Фото-жабы» на сегодняшний день является
фотография, сделанная во время саммита «Большой семерки», проходившего 8 июня 2015 г.
На снимке изображена канцлер Германии Ангела Меркель, раскинувшая руки, и президент
США Барак Обама, расположившийся на скамейке напротив нее. Интернет-пользователи
осмеивают позы государственных лидеров и возможные темы их личных бесед.
Видеомемы – комические видеосюжеты, которые размещаются на личных страницах
пользователей социальных сетей и передаются друг другу по электронной почте и через
другие каналы. Некоторые становятся источником комизма неожиданно для героя
видеозаписи, другие снимаются как пародии. Например, мем «Mr. Trololo». Его источник –
видеозапись выступления советского эстрадного певца Эдуарда Хиля, сделанная в 1967 г. и
получившая неожиданную популярность в 2010 г. Комический эффект достигается тем, что
некоторые части исполненного вокализа «звучат как «ололо» или «трололо» и
воспринимаются как отсылки к современному интернет-жаргону, который используют
пользователи социальных сетей и который ассоциируется со словом тролль („провокатор,
подстрекающий к пустопорожним дискуссиям, отвлекающим от смысла диалога или
сообщения‟). Жизнерадостная мимика певца довольно удачно иллюстрирует эмоции,
которые чувствует тролль, находя в Интернете новую жертву.
38
В данный тип входят мемы: «Сумасшедший лягушонок» (см. Рис. 2), «Дверь запили !»,
«Очень плохая музыка», «Саша Фокин», «Великие цитаты Кличко» и др.
Креолизованные мемы состоят из двух негомогенных частей: первая – вербальная,
вторая – невербальная [Сорокин 1990: 110]. Комический эффект здесь возникает при
прочтении двух контрастных фраз, одна из которых располагается вверху картинки –
«завязка», а другая – «развязка» – внизу [Щурина 2012: 166].
К креолизованным интернет-мемам можно отнести популярный среди филологов мем
«Филологическая дева». Он представляет собой изображение британской писательницы
Вирджинии Вулф, сопровождаемое надписями филологической тематики.
Настоящий всплеск популярности в марте 2015 г. получил креолизованный мем
«Карл». Особое значение имеет тот факт, что этот интернет-мем был выведен в офлайн-
среду благодаря политическим событиям. Так, во время специально организованной
конференции члены центрального совета Партии прогресса Алексей Навальный и Леонид
Волков сфотографировались рядом с табличкой «Праймериз, КАРЛ» (от англ. «primaries» –
предварительные выборы) [Мем: Карл 2015].
Интересно, что при анализе «востребованности» типов интернет-мемов, был выявлен
средний показатель их частотности (методом вычисления среднего арифметического
значения). Установлено, что наибольшей частотностью обладают видео-мемы (332 тыс.).
Показатель частотности мемов-картинок более чем вдвое меньше (123 тыс.). Наименьшая
частотность у тестовых мемов (98 тыс.). Полученные результаты привели нас к выводу, что
аудиовизуальный контент, который сочетает в себе видео-мем, наиболее интересен
пользователям. Прецедентный феномен отражается в самом видео-меме, что значительно
облегчает понимание и интерпретацию смысла мема.
На первом этапе работы над словарем производился отбор самих мемов. Он
осуществлялся методом сплошной выборки на различных площадках: социальные сети
(vk.com, facebook.com, twitter.com) – основные каналы осуществления интернет-
коммуникации; сайт-энциклопедия интернет-мемов (lurkmore.to), статьи которого
формировались пользователями Интернета (в настоящее время находится в реестре
запрещенных сайтов); сайты-генераторы интернет-мемов, используемые для создания
вариаций этого феномена на основе исходных шаблонов (1001mem.ru, risovach.ru). На этом
же этапе осуществлялась систематизация интернет-мемов по выше указанным типам, что
позволило в дальнейшем представить полученную информацию в виде картотеки. В ходе
исследования было проанализировано 100 интернет-мемов, из которых с помощью онлайн-
сервисов отобрано 44 наиболее частотных.
Для анализа частотности текстовых мемов был использован сервис «Яндекс. Блоги»,
который осуществляет поиск по блогам и форумам русскоязычного сегмента сети Интернет,
социальным сетям «Фэйсбук» (facebook.com) и «Твиттер» (twitter.com). Кроме того велся
поиск по социальной сети «Вконтакте» (vk.com), в которой на сегодняшний день
зарегистрировано более 84 млн. страниц пользователей из России, являющихся объектами
интернет-коммуникации. Сумма результатов поиска позволила получить количественные
данные, отражающие частотность цитирования каждого текстового интернет-мема.
Итак, статья текстового мема включает само заголовочное слово или словосочетание,
указание частотности (в скобках), его толкование и коннотации. Например: Боян (757 тыс.)
– старая, надоевшая шутка, употребляется в отношении любого информационного
материала (видеоролика, статьи, книги и т. д.), уже известного значительной части
участников обсуждения. Коннот.: всѐ, что давно известно и надоело.
Мемы-картинки и креолизованные мемы оценивались при помощи функции «Поиск по
картинке» в поисковой системе «Google». Алгоритм работы сервиса заключается в загрузке
исходного изображения на сайт поисковой системы, которая в результате выдает
информацию о количестве найденных в разных источниках идентичных изображений.
Количество результатов поиска приняты в качестве показателя частотности. Статья мема-
картинки может выглядеть следующим образом:
39
Фейспалм (Рукалицо) (300 тыс.) – представляет собой изображение человека,
закрывающего лицо рукой. Сам жест выражает разочарование, негодование или же досаду,
однако более известным жест стал благодаря применению его в ответ на очевидную
глупость. Изображение зачастую не сопровождается комментариями. Этот жест
приобрел широчайшую популярность благодаря американскому сериалу «Звездный путь»
(Star Track), в котором капитан Жан-Люк Пикард многократно использует данный жест.
Коннот.: неоправданные надежды, разочарование.
На Рис. 1 оригинал изображения «Рукалицо». На рис. 2 интернет-мем, созданный на
основе изображения «Рукалицо», в форме наиболее типичной для создания комиксов.
Рис. 1
Рис. 2
В качестве параметра, показывающего частотность видео-мемов, использовались
результаты поиска в системе «Google», который отображает количество видеозаписей,
добавленных пользователями на различные интернет-ресурсы. Таким образом, статья видео-
мема может быть представлена следующим образом:
Сумасшедший лягушонок (Crazy Frog) (89 млн. 517 тыс. просмотров, 1 млн. 460 тыс.
результатов поиска) – западноевропейский интернет-мем. Персонаж был разработан
средствами 3D-графики как виртуальный исполнитель. Также лягушонок послужил основой
40
для создания и сбыта линейки коммерческих продуктов. В Рунет также был популярен.
Коннот.: нет ничего невозможного, преодолимы любые препятствия, желание победы
важнее реальных возможностей.
На Рис. 3 – персонаж видео «Crazy Frog».
Рис. 3
Онлайн-словарь может постоянно пополняться по мере возникновения новых мемов, а
также включать дополнительные статьи, составленные активными пользователями. Могут
обновляться данные о частотности, дополняться или уточняться коннотативный ряд.
Учитывая прецедентность представляемого мемом понятия, возможно использование
отсылочного типа дефиниции, гиперссылки.
Литература
Апресян 1993 – Ю. Д. Апресян Лексикографическая концепция Нового Большого
англо-русского словаря // Новый большой англо-русский словарь. Т. 1. М., 1993.
Глазкова 2014 – С. А. Глазкова. Интернет-мем как инструмент метафоризации
публичного дискурса. http://obr.docdat.com/docs/62/index-196909.html (дата обращения
04.01.2014)
Докинз 1993 – Р. Докинз. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993.
Кронгауз 2013 – М. Кронгауз. Мемы в Интернете: опыт деконструкции.
http://www.nkj.ru/archive/articles/21327/ (дата обращения 23.09.2013)
Саттарова 2011 – Р. М. Саттарова. Электронная лексикография // Актуальные
проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Уфа, РИЦ БашГУ,
2011. С. 102 – 106.
Седов 2007 – К. Ф. Седов. Человек в жанровом пространстве повседневной
коммуникации // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация / под общей ред.
проф. К. Ф. Седова. М.: Лабиринт, 2007. С. 5–38.
Сорокин 1990 – Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция.
М.: Наука, 1990.
Щурина 2012 – Ю. В. Щурина. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации //
Филология. № 3. 2012.
41
В. В. Дубичинский
ОСНОВАНИЯ НЕОГРАФИИ
Одно лишь сравнение словаря языка в разные эпохи
дает возможность представить характер прогресса народа. Д. Дидро
Жизнь языка видна, прежде всего, по непрекращающемуся обогащению новыми
лексическими единицами – неологизмами. Объективно существующий и необратимый
процесс лексической неологизации напрямую связан с лексикографическим моделированием
языковых инноваций – неологической лексикографией (неографией).
Основная цель неографии – успеть за изменением языка, постараться как можно
быстрее зафиксировать то новое, что появляется в языке, но, как отмечал Дж. Свифт,
«установить и закрепить наш язык навечно», невозможно. «В этом случае он не мог бы
выполнять главного своего назначения – отражать меняющийся мир» [Скляревская 1998: 7].
Принципиально языковое обновление происходит в рамках двух основных процессов,
обусловленных: а) внеязыковыми факторами – необходимостью номинации новых явлений и
предметов; б) внутриязыковыми факторами – потребностью совершенствования системы
обозначений (экономия языковых усилий, благодаря которой, к примеру, в языке происходит
замена устойчивых словосочетаний однословными наименованиями, или стремление к
точности и выразительности языковых единиц и т. п.).
Лексикографическое описание новых слов изоморфно с проблемой типологии
неологизмов. Обычно среди неологизмов выделяют: а) новые слова (собственно
неологизмы); б) словообразовательные неологизмы; в) новейшие заимствования из
иностранных языков; г) новые значения и оттенки значений у слов, существующих в языке;
д) слова, проникшие в язык из диалектов, просторечия, жаргонов и т. п.
В переводной лексикографии особо выделяются неологизмы, закрывающие
номинативную лакуну в переводном языке, а среди них – наименования новых реалий
иноязычной культуры.
На основе привычной классификации предлагается более адекватная современному
состоянию лингвистики типология лексических неологизмов:
1. Неолексемы – новые лексические (исконные и заимствованные) единицы языка [ср.
пункты а, в и д].
2. Неоморфемы – новые словообразовательные единицы, путем сложения новых и
старых морфем приводящие к образованию новых лексем [ср. пункт б].
3. Неосемемы – новые лексико-семантические и стилистические варианты
существующих в языке лексем [ср. пункт г].
Самая, пожалуй, научно обоснованная и удобная форма исследования, изучения и
лексикографической фиксации неологизмов – издание тетрадей неологизмов с определенной
периодичностью в качестве дополнения к существующим современным нормативным
словарям. Прообразами таких тетрадей можно считать ежегодные периодичные издания
«Новое в русской лексике. Словарные материалы» (НРЛ) под ред. Н. З. Котеловой (НРЛ-77, -
78, -79 – ...-94; всего опубликовано 18 словарей-ежегодников). Именно ей принадлежит
разработка концепции и типологии неологических словарей. Именно с ее работ началась
русская неография.
Словари десятилетнего среза (одного десятилетия), созданные по концепции
Н. З. Котеловой, к настоящему моменту представлены 4 словарями-десятилетниками: 1960-х
(1971), 1970-х (1984), 1980-х (1997) и 1990-х гг. (в трех томах; 2009-2014). Третьим типом
неографического издания является нормативный словарь тридцатилетнего наблюдения за
неологизмами русского языка («Словарь новых слов русского языка (середина 50 – середина
80-х годов)»; 1995). Периодичность издания словарей неологизмов как в бумажном, так и в
электронном виде, должна стать темой серьезного обсуждения ученых.
42
Философски неологизм следует рассматривать в координатах времени и пространства.
Критерий времени – какой же период жизнедеятельности языка (период «распада»,
«полураспада») следует рассматривать как инвариантный для лексической неологизации –
наиболее важный и необходимый критерий для решения проблем лексикографического
моделирования инноваций в языке.
Словарь неологизмов, как и всякий словарь – лексикографическое произведение
определенного периода исторического развития. Вполне объективно, что словари быстро
устаревают. В принципе каждый лексикограф мечтает «схватить за руку», подчинить себе
движение языка и в наиболее точном и подробном виде зафиксировать в словаре все
семантические, грамматические, синтаксические и многие другие изменения, но возможно
ли обуздать языковую стихию?
«Словарь – это моментальный снимок вечно обновляющегося и находящегося в
движении языка» [Апресян 1993: 8], «словарь обязан угадывать за моментальным снимком
постоянное движение живого языка» [там же: 12], «словарь – это непрерывный круговорот
приобретаемых и утрачиваемых слов» [Вандриес 1937: 52]. Чувствительная душа словаря
чутко относится ко всем изменениям в языке. Будучи не в силах вмешаться в этот
необратимый процесс, она стареет.
Словари анахроничны, консервативны, опаздывают за движением жизни, но как любой
нормативный акт, словари, как правило, фиксируют устоявшееся, опробованное жизнью (о
принципиальной анахроничности словаря см. подробнее [Дубичинский 2009; 1998]). Таким
образом, само понятие неологизма остается хронологической условностью.
Анализируемый здесь процесс можно представить в виде единой шкалы времени: от
архаизации лексической единицы – через ее неологизацию – семантико-стилистическую
переориентацию – до ее актуализации.
Иначе говоря, единый процесс таков: устаревшие неолексемы (новые лексические,
исконные и заимствованные, единицы языка) или неосемемы (новые лексико-семантические
и стилистические варианты существующих в языке лексем) возрождаются, или появляются
совершенно новые неолексемы и неоморфемы (новые словообразовательные единицы, путем
сложения новых и старых морфем, приводящие к образованию новых лексем), приживаются
в языке, претерпевают определенные семантические, стилистические и т. п. изменения, и при
благоприятных как внутри-, так и внеязыковых условиях становятся современными,
актуальными для языка, а затем снова возможен переход языковых единиц в пассивный
словарный запас и даже устаревание лексем, которое вновь может стать отправной точкой
для неологизации, переориентации и актуализации лексических единиц и т. д.
Второй немаловажный фактор неографии – пространственный критерий: где, в какой
конкретно-географической или идеографической (тематической) сфере употреблена та или
иная языковая инновация.
Следует заметить, что сегодня у специалистов вызывает большое беспокойство
нормативный аспект неографии, ведь узус предлагает лексикографам разнообразные
жаргонные, диалектные, просторечные и др. неологизмы. Нормативность словарей новых
слов ограничена типом и задачами лексикографических произведений: например, должна
соблюдаться языковая норма в школьных или терминологических словарях неологизмов, но
в словари окказионализмов, индивидуально-авторских слов и т. п. могут быть включены и
ненормативные единицы – слова-однодневки, жаргонизмы, авторские окказионализмы.
Основная задача неологической лексикографии – сплошная в определенных временных
рамках словарная фиксация новых языковых единиц – может быть решена под углом зрения
обязательного указания (благодаря научно обоснованной системы лексикографических
помет) на сферу употребления того или иного неологизма, но она не должна отказываться от
описания ненормативных единиц.
Нормативность в неографии является, пожалуй, не первостепенной задачей, так как
словари новых слов фиксируют лишь языковые нововведения, потенциальные слова, новые
43
языковые процессы, и поэтому в момент лексикографической регистрации неологизма, еще
трудно сказать, приживется ли он в языке, актуализируется ли до нормативного состояния.
Довольно прозрачны и многочисленны функции словарей новых слов. Это и
подтверждение одной из основных характеристик языка как открытой, вечно изменяющейся
системы, это и удовлетворение интереса лингвистов, издателей, учителей и учащихся к
новым реалиям жизни и языка, это и фиксация тенденций развития языка в обществе, что
вплотную подводит лингвистов к такой перспективной области языкознания, как
прогнозирование языкового развития. Неография гипотетически могла бы предлагать
пользователям потенциально необходимые слова, чтобы избежать стихийно созданных
неологизмов, противоречащих словообразовательным и грамматическим законам
нормативного языка.
В связи с этим Н. З. Котелова еще в 1978 г. определила: «Все новые слова – это слова, в
каком-то смысле известные, «ожиданные», существующие в системе как потенциальные
единицы» [Котелова 2015: 194], хотя сразу же скептически заметила: «Нужно учитывать
природу естественного языка – уникальной знаковой системы, которая, будучи связана с
мышлением и действительностью, развивается по своим имманентным законам и не
поддается искусственному регулированию <…> При реализации потенций языка действуют
нередко не только грамматические законы, но сложное пересечение разных
взаимообусловленностей и узус всегда побеждает, даже если правильное, выведенное по
системе пропагандируется в словарях и грамматиках. В Словаре Ушакова в словарной статье
к слову выдых читателя предупреждают, что выдох – неправильно. Однако победило именно
второе слово» [там же: 195].
В качестве библиографической иллюстрации истории развития неологической
лексикографии приведу краткий хронологический перечень основных зарубежных словарей
новых слов XVIII – XX вв.: 1. Pierre-Francois G. Desfontaines. Dictionnaire neologique a Fusage des beaux esprits du siecles. Paris , 1726. –
143 р. (9-ое изд. 1798).
2. Pons Augustin Alletz. Dictionnaire des richesses de la langue francaise et du neologisme qui s'y est introduit.
Paris, 1770. – 496 р. (переиздан в Женеве в 1968 г.).
3. Mercier Louis Sebastian. Neologie ou Vocabulaire de mots nouveaux, a renouveler ou pris dans des
acceptions nouvelles. 2 vol. Paris, 1801. LXXVI. 334, 384 р. – Автор данного словаря стремится предъявить не
столько новые слова конца XVIII в., сколько возродить нововведения, которые не вошли в Словарь
французской Академии и незаслуженно забыты официальной французской лексикографией (Эпиграф к
словарю красноречиво провозглашает словами Вольтера основное кредо автора: «Наш язык – гордый нищий,
которому необходимо подать милостыню, хотя он и не просит ее»). В основном словарь регистрирует
неолексемы и неосемемы дореволюционного периода (XVІI-XVIII вв.).
4. Panzini Alfredo. Dizionario modemo. Milano, 1905 (7-ое изд. – 1935, 10-ое изд. – 1963). – Словарь
содержит только те слова, которые не включены в другие словари итальянского языка. В предисловии автор
определил свою задачу таким образом: «Я не спрашивал у слова паспорт, я открывал доступ в словарь каждому
слову, уподобляясь монахам, которые пускают в монастырь каждого, кто постучится во врата. Я тем самым
регистрировал момент прихода слова в язык».
5. Benjamin Е. Smith. The Century Dictionary Supplement. New York, 1909-1910.
6. Wieger Leon. Neologie. 5000 termes modernes. Paris, 1925. 324 р.
7. Berg Paul С. A Dictionary of New Words in English. New York, 1953. 175 р. – Словарь включает около
2500 словарных статей, описывающих новые слова и значения двух последних десятилетий.
8. Reifer Mary. Dictionary of New Words. New York, 1955. 234 р. – Словарь регистрирует около 4500
неолексем с начала 1930-х гг.
9. Giraud Jean / Pamart Marcel / Riverain Jean. Les Mots "dans le vent". Paris, 1971. 251 р.
10. Blochwitz W. Runkewitz W. Neologismen der franzosischen Gegenwartssprache unter besonderer
berucksichtigung des politisches Wortschatzes. Berlin. 1971. 4000 инноваций, выписанных из французской
периодики 1960-1965 годов, распределены в словаре по способам образования: 1. Словообразовательные
модели. 2. Семантические неологизмы. 3. Заимствования. 4. Политическая лексика, которая оказалась за
пределами словообразовательных моделей. 5. Журналистские обороты, распределенные по тематическим
разделам (военная, спортивная, медицинская и т. п. лексика).
11. Gilbert Pierre. Dictionnaire des mots nouveaux. Paris, 1971. – 572 р. – В словаре около 5500 инноваций,
выбранных из периодической печати и художественной литературы 1966-1971 гг. Описываются не только
неолексемы, неосемемы, а также неоморфемы и новые словосочетания.
12. Burchfield Robert (ed.). A Supplement to the Oxford English Dictionary. 4 vol. Oxford. 1972-1986.
44
13. Barnhart Clarence L. Steinmetz Sol. Barnhart Robert K. The Barnhart Dictionary of New English Since
1963. Bronxville. New York, 1973. – 512 р. – Из более чем миллиона цитат периодики и книг 1963-1972 гг.
авторами отобрано 5000 неолексем, которые были не зарегистрированы английской нормативной
лексикографией того времени. Словарь содержит как наиболее употребительные слова, так и новые термины,
слова сленга, диалектизмы, иноязычные заимствования.
14. Giraud Jean. Pamart Marcel. Riverain Jean. Les Nouveaux Mots "dans le vent". Paris. 1974-272 p. (второе
издание см. словарь 9).
15 6000 Words: A Supplement to Webster's Third New International Dictionary. Edited by Maire Weir Kay,
Frederick C Mish & H Bosley Woolf G & C Merriam, Springfield, Massachusetts,1976 – 220 р.
16. Heberth Alfred. Neue Wörter – Neologismen in der deutschen Sprache seit 1945. Wien, 1977. 272 p.
17. Cellard Jacques. Sonaraant Micheline.500 mots nouveaux definis et expliques. Paris, 1979. 101 р.
18. Barnhart Clarence L. Steinmetz Sol. Barnhart Robert K. The Second Dictionary of New English. Bronxville,
New York, 1980. XV. – 520 р. (см. словарь 13).
19. Wijnands P. Ost J. M. Mots d'aujourd'hui. Neerlandais-francais, francais-neerlandais. 2-nd ed. Antwerpen,
1980. 322 p.
20. Gilbert Pierre. Dictionnaire des mots contemporains. Paris, 1980. 739 р. (второе переработанное издание
словаря 11).
21. Cirillov I. Recnik novihreci. Belgrad, 1982.
22. Dimitrescu Florica. Dictionar de cuvinte recente – Bukarest, 1982. 535 р.
23. Mish Frederick С. 9000 Words. A Supplement to Webster's Third New International Dictionary. Springfield,
Mass., 1983. – 218 р. (дополнительное издание к словарю 15).
24. Fantapie Alain. Brule Marcel. Dictionnaire des neologismes officiels. Tous les mots nouveaux. Paris, 1984.
544 р.
25. Neologismes du francais actuel. Paris (Datations et documents lexicographiques – Materiaux pour 1'histoire
du vocabulaire francais, 24), 1984. – 236 р.
26. Petersen Pia Riber. Nye ord i dansk 1955-1975. Copenhagen, 1984. 678 р.
27. Depecker Loic. Pages Alain. Guide des mots nouveaux. Paris, 1985. 160 р.
28. Bertil Molde (ed.). Nyord i svenskan fran 40-tal till 80-tal Stockholm, 1986. 312 р.
Заслуживают внимание неографические произведения начала ХХІ в., описывающие
инновации украинского языка: 1. Мазурик Д. Нове в українській лексиці. Словник-довідник. Львів, 2002. 130 с.
2. Віняр Г., Шпачук Л. Словник новотворів української мови. Кривий Ріг, 2002.
3. Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (1983-2003). Харків, 2004.
4. Нові слова та значення: словник / Уклали Л. В. Туровська, Л. М. Василькова. К., 2008. 271 с. –
Создание словаря обусловлено необходимостью собрать и систематизировать новую украинскую лексику,
ранее не зафиксированную в лексикографических источниках. Представление нових слов происходит с учетом
нескольких критериев: время появления, лингвистическая и экстралингвистическая обусловленность,
использование, лексическое и словообразовательное значение.
5. Балог В. О., Лозова Н. Є., Тименко Л. О., Тищенко О. М. Нові й актуалізовані слова та значення:
словникові матеріали 2002–2010. К., 2010. 279 с. Словарь включает 1550 слов и словосочетаний. Создан на
основе обработки различных электронных ресурсов и лексических баз данных.
6. Словари серии «Лексико-словотвірні інновації» (за 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 гг.). Х.:
Харківське історико-філологічне товариство.
Приведенные краткие перечни позволяют проследить не только динамику развития
неографии и географическую закрепленность неологических исследований, но также
проанализировать и выделить типы словарей неологизмов.
Принципиально словарь неолексем отличается от других специальных словарей языка
широтой охвата лексики. Неографическое произведение, как правило, включает лексику
различных областей знания, общеупотребительные слова и выражения, терминологию,
арготизмы, профессионализмы, диалектную лексику и т. п.
Схематически типологию словарей неологизмов можно представить в виде
ступенчатой структуры:
СЛОВАРИ НЕОЛОГИЗМОВ: Переводные; одноязычные:
Словари-дополнения; авторские (самостоятельные) словари:
Авторские общеязыковые; авторские специальные.
В зависимости от количества языков данные лексикографические произведения можно
подразделить на переводные (см., например, словарь 20) и одноязычные. Из одноязычных, в
45
свою очередь, можно выделить словари-дополнения к толковым нормативным словарям
языка (например, словари 5, 13, 16, 24) и самостоятельные авторские, которые также делятся
на авторские общеязыковые (например, словари 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 26, 27, 28) и авторские специальные, описывающие определенные лексические
пласты словарного состава языка (например, 11, 25).
Словари неологизмов ИЛИ РАН составляются на основе картотек, которые создаются
коллективом их авторов под каждое конкретное издание. Эти неологические картотеки (в
«нулевые годы» уже не в бумажном, а в электронном формате) в своей совокупности, а
также Большая картотека Словарного отдела (о ней подробнее см. [Рогожникова 2003])
являются базой для отсева материала по временному параметру при работе над каждым
следующим словарем, хотя в настоящее время большее значение для этого приобретают
доступные через интернет текстовые базы данных по русскоязычной периодике.
Приведем в хронологическом порядке краткий перечень изданий по русской неографии
последних 20 лет:
1. «Словарь неологизмов Велимира Хлебникова» Н. Н. Перцовой (Wiener Slawistischer
Almanach, Sonderband 40, 1995) описывает «изобретенные» В. Хлебниковым слова с точки
зрения звукоподражаний, гнездового и обратного принципов
2. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред.
Г. Н. Скляревской. СПб., 1998. Цель словаря – показать те перемены, которые произошли за
1985-1997 гг. в русском языке. Из созданной авторским коллективом электронной картотеки,
насчитывающей около 2 млн. словоупотреблений, было отобрано около 5500 слов и
выражений, отражающих практически все сферы современной жизни.
Словарь дает обширную и разнообразную информацию о слове: толкование, примеры в
виде речений и цитат, энциклопедические данные, стилистическую характеристику,
особенности словоупотребления, при необходимости этимологию; в словарной статье
приводятся синонимы, антонимы, варианты, устойчивые сочетания и фразеология; в
необходимых случаях в справочном отделе даны сведения о функционировании слова в
прошлом и его смысловых изменениях.
Лексикографическое произведение такого типа перспективно и продуктивно. Лексика
русского языка впервые на строго обоснованной научной основе анализируется в динамике
своего развития, четко расставляя «метки» на шкале времени от архаизма до актуализации
неологизма (в данном случае используются специальные графические знаки, которые
характеризуют неологизмы следующими формулами: «зафиксировано впервые»,
«зафиксировано в словарях последнего десятилетия», «возвращение слова в актив»,
«актуализация», «уход в пассив»).
В 2001 г. вышло новое дополненное издание этого словаря, продолжающее традицию
динамического описания лексики: Толковый словарь современного русского языка:
Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской . М., 2001.
3. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под ред.
Г. Н. Скляревской. М., 2006. Значительно обновлен раздел, описывающий иноязычные
слова в латинском написании. Объем лексического материала увеличился в 6 раз, заметно
тематическое разнообразие неологизмов.
4. К неологическим словарям относятся также два лексикографических издания,
автором-составителем которых является Е. Н. Шагалова: Словарь новейших иностранных
слов (конец XX – начало XXI вв.). М., 2009; Самый новейший толковый словарь русского
языка XXI века. М., 2011.
5. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века: В 3-х т. (1-ый – 2009 г.; 2-ой, 3-ий – 2014 г.). В словаре
использованы материалы сетевого ресурса русскоязычной периодики (Интегрум). По
сравнению с десятилетником, описывающим неологизмы предшествующего десятилетия,
справочник существенно увеличил свой словник (ок. 10,5 тыс. словарных статей) за счет
46
лучшего выявления системных образований, разного рода вариативности,
многозначности лексем, лексической и синтаксической сочетаемости, иллюстраций.
В настоящее время актуальность приобретает электронная разновидность словарей. В
этом контексте для современной лексикографии очевидна важность разработки единой
стратегии компьютерного обеспечения пополнения, обработки и использования
неологизмов. Обработка данных на магнитных носителях не только максимально
объективирует процесс неологизации и его неографической фиксации, но и намного
ускоряет процесс лингвистического и статистического анализа языковых нововведений.
Оптимизации работ по неологии и неографии должен способствовать портал
«Неология.Ру», который разрабатывается в Институте лингвистических исследований РАН
(ИЛИ РАН) в Санкт-Петербурге. На портале будет размещена пополняемая база данных
неологизмов русского языка, основу которых составят все опубликованные словари
неологизмов Института. Здесь планируется регулярно размещать неологизмы, отобранные из
текущей периодики, пропущенные неологизмы предшествующего десятилетия, а также
современные материалы по лексике, которая не является новой и которая отсутствует в
словарях [Буцева 2015: 14].
Современное развитие информационных технологий породило новую творческую
возможность для пользователей словарей – предлагать определенные языковые единицы для
включения в электронный словарь, а также самостоятельно создавать словарные статьи и
даже полные лексикографические произведения. В. А. Ефремов называет такие словари
опытами русскоязычного наивного лексикографирования. Это – 1) научный проект проф.
Н. Д. Голева «Викилексия» – словарь обыденных толкований слов; 2) лексикографический
ресурс «Викисловарь»; 3) народный словарь русского языка «Словоборг», «СловоНово»,
«Словарь молодежного сленга»; 4) интерактивная энциклопедия современного языка
«Жаргон.ру»; 5) энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур «Лукоморье»
[Ефремов 2015: 29].
В настоящее время в ИЛИ РАН также разрабатываются автоматизированные системы
слежения за появляющимися в языке неологизмами различных типов (например,
лингвопроцессор OOmnik) [Дмитриев 2015: 20-21].
Язык настолько непредсказуем, богат и разнообразен, что не дает человеку даже
возможности со временем пользоваться словарем неологизмов как современным
лексикографическим произведением. Многие окказиональные инновации отомрут, покинут
язык, потенциальные лексемы не раскроют свои возможности и т. д. В этом ощущается
диалектика языковых изменений, в которых «неологизмы – дыхание языка. Они
удостоверяют, что язык активен и продолжает функционировать» [Barnhart 1989: 1159].
Осознание непрерывности и обновляемости языка раскрывает перед неографией совершенно
неисчерпаемые возможности.
Литература
Апресян 1993 – Ю. Д. Апресян. Лексикографическая концепция НБАРСа // НБАРС.
Т. 1. М., 1993. С. 6-17.
Буцева 2015 – Т. Н. Буцева. Сегодня и завтра академической неографии // Неология и
неография: современное состояние и перспективы (к 50-летию научного направления):
Тезисы Междунар. научн. конференции. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 13-15.
Вандриес 1937 – Ж. Вандриес. Язык. М., 1937.
Дмитриев – Д. В. Дмитриев. О задаче автоматического выявления неологизмов //
Неология и неография: современное состояние и перспективы (к 50-летию научного
направления): Тезисы Междунар. научн. конференции. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 20-
21.
Дубичинский 1998 – Теоретическая и практическая лексикография // Wiener
Slawistischer Almanach – Sonderband 45. Вена – Харьков, 1998.
47
Дубичинский 2009 – В. В. Дубичинский. Лексикография русского языка. М., 2009.
Ефремов 2015 – В. А. Ефремов. Наивная лексикография как форма неографии:
интернет-извод // Неология и неография: современное состояние и перспективы (к 50-летию
научного направления): Тезисы Междунар. научн. конференции. СПб.: Нестор-История,
2015. С. 28-29.
Котелова 2015 – Н. З. Котелова. Избранные работы. СПб.: Нестор-История, 2015.
Рогожникова 2003 – Р. П. Рогожникова. Сокровищница русского языка / Отв. ред.
Н. Н. Казанский; Институт лингвистических исследований РАН. СПб.: Наука, 2003.
Скляревская 1998 – Г. Н. Скляревская. Введение // Толковый словарь русского языка
конца XX века. Языковые изменения / Под ред Г. Н .Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998.
Barnhart 1989 – R. and C. Barnhart. The Dictionary of Neologisms // Worterbucher.
Dictionaries. Dictionnaires. An International Encyclopedia of Lexicography / Ed. F. J. Hausmann,
O. Reichmann, H. E. Wiegand, L. Zgusta. New-York, Amsterdam, Berlin, Vol. 1. 1989.
48
И. Б. Дягилева
НЕОЛОГИЯ В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА XIX ВЕКА»
(на материале газетной публицистики 1820-40-х гг.)1
Идея описания языка Нового времени через концепцию исторического
дифференциального словаря, предложенная Ю. С. Сорокиным и Л. Л. Кутиной, реализуется
в настоящее время в работе над «Словарем русского языка XIX века». Основными задачами
Словаря являются показ становления норм и отражение динамики лексико-семантической
системы русского языка XIX в. В Словаре описываются новации и лексические единицы,
претерпевающие в это время формальные и семантические изменения.
Исходя из особенностей Словаря в круг источников включены тексты, разнообразные в
жанровом и стилистическом плане. Особое внимание уделяется периодическим изданиям:
журналам, газетам, альманахам, так как именно в прессе находят отражение изменения,
происходящие в различных языковых сферах.
Среди неологизмов начала XIX в. ведущее место принадлежит заимствованной лексике
и словам, образованным на их основе. Журналисты столичных газет «Санкт-Петербургские
ведомости» (далее СПВ) и «Северная пчела» (далее СП), осуществлявшие активную
переводческую деятельность, широко употребляли иноязычные слова на страницах своих
изданий. Актуальность новой лексики способствовала ее быстрому распространению и
закреплению в языке. Неологические процессы наиболее интенсивно протекают в лексике
следующих сфер: общественно-политической, медицинской, разных видов искусства, моды.
Неологизмы, относящиеся к светской жизни высшего общества и бытовой сфере, также
представлены в газетных текстах, однако их меньше. Среди экономической лексики
встречаются экзотизмы, относящиеся к наименованиям денежных единиц (вильгельмсдор). К
мерам веса и объема относится, например, неологизм гектолитр.
Общественно-политическая лексика в первой половине XIX в. редко употреблялась вне
публицистического текста по причине жесткой цензуры, последовавшей после восстания
декабристов в 1825 г. В новостях мировой политики, в рубрике «Иностранные известия»,
сообщалось о борьбе за власть, за новые территории и колонии, о военных действиях, о
столкновениях на религиозной почве. К неологизмам данной группы следует отнести прежде
всего названия политических групп и партий: педристы и мигуэлисты (сторонники двух
братьев Педру и Мигеля, претендентов на португальский престол после смерти в 1826 г. их
отца Жоана VI), карлисты и христиносы (представители двух враждебных партий,
выступающих соответственно за брата умершего в 1833 г. короля Испании Фердинанда VII
дон Карлоса и вдовствующую королеву Марию Кристину), монтемолинисты (сторонники
вступления на престол в Испании внука Карла IV, сына дон Карлоса), анти-юнионисты и
юнионисты (сторонники отделения южных штатов от федерального Союза в США и их
противники), локофоки2 (партия демократов в США), модерадосы (правая партия в Испании,
объединявшая часть дворян и либералов в 1820–1868 гг.), сентябристы (политическая
партия в Португалии, державшаяся революционной конституции 27 сентября 1822 г.),
синтагматики (греческая политическая партия прозападной ориентации, которую
возглавляли Маврокордатос, Миаулис и Канарис), протекционисты (в Англии: сторонники
пошлин с ввозимых товаров), легитимисты (во Франции XIX в. после Июльской революции
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 14-04-
00388. 2 Локофоки (Locofocos) – мелкая партия, объединявшая сторонников полной отмены бумажных денег,
устроившая 29 октября 1835 г. в Таммани-холле, в Нью-Йорке, предвыборное собрание (по названию только
что изобретенных спичек – 'locofocos', которые члены этой партии использовали, когда хозяева отключили
газовое освещение, что позволило им провести собрание до конца).
49
1830 г.: приверженцы династии Бурбонов; преимущественно крупные землевладельцы
аристократического происхождения и представители высшего католического духовенства) и
др.
Отдельные группы общественно-политической лексики составляют наименования
представителей и членов религиозных объединений, союзов, движений: оранжисты (в
Англии: противники католиков в парламенте; в Бельгии: сторонники Оранского дома),
диссентеры (в Англии: наименования лиц, не придерживающихся официально принятого
вероисповедания – англиканства); названия общественно-политических учений и
направлений и их дериваты: комунисм, комунистский, социялизм / социализм, социяльный. К
ним примыкают неологизмы, появление которых отразило нарастание общественно-
политической борьбы внутри европейских стран, начавшееся со времен Французской
революции: пролетарий, революционер, революционерный, контрреволюция, террорист,
лозунг и др. Еще одну группу новых иноязычных слов составляют наименования народов и
племен: абреки, аржентинцы, бельгийцы, кабилы, кандиоты, румелиоты, флитассы и др.
Увеличение числа слов-этнонимов, рост их употребительности был обусловлен
внешнеполитическими причинами, прежде всего колониальной политикой европейских
стран в Африке, Индии, Латинской Америке.
Становление и развитие пласта общественно-политической лексики продолжалось на
протяжении всего XIX в. Эти динамические языковые процессы найдут свое отражение в
«Словаре русского языка XIX века». Лексикографическое представление истории отдельных
слов и понятий можно проиллюстрировать на примере описания слова радикал.
РАДИКА’ЛЫ, ов, мн.; ед. Радикал, а, м. Англ. Radical. 1. Члены, сторонники общественно-
политической партии, добивающейся коренных государственных преобразований. Испытайте заставить
Англичан отказаться от их нелепой азбуки, и вы увидите, что легче помирить Тори с Радикалами, нежели
убедить в ненужности букв OO, EE, и проч. МТ. Т. 21. с. 505 [1828]. 3000 человек вспомогательного войска
Швица оставили Кантон с негодованием и сделали на прощании несколько выстрелов по дому радикала
Г. Кейзера. СПВ №271 с. 2 [1847]. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались
усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. А. И. Герцен. Былое и думы. [1855].
Партия радикалов. Англия. …Приверженцы умеренной партии радикалов говорят: потерпим и посмотрим,
чего можно ожидать от нынешнего Парламента. СП №10 с. 2 [1833]. / Отриц. Партия радикалов, то есть людей
без религии, без совести, без чести, без истинного патриотисма, возникших большею частию из низких,
необразованных сословий общества, захватила верховную власть, и нещадно терзает свое отечество. Если бы
пример соседей мог действовать на людей, происшествия Швейцарии послужили бы самым сильным
противуядием либералисму и радикалисму в Германии. СП. №273 с. 1 [1847].
2. Сторонники крайних взглядов, решительных и бескомпромиссных действий. Между крестьянскими
детьми вы встретите нередко таких же наивных радикалов, как и между детьми других сословий.
Н. А. Добролюбов. Черты для характеристики русского простонародья. [1859]. Политические,
религиозные. . радикалы. Приходится ли социалистам-революционерам видеть в политических радикалах
своих завтрашних неизбежных союзников и братьев или своих самых опасных соперников и врагов?
П. Л. Лавров. Социальная революция и задачи нравственности. [1888]. Все равно как Лютер враждовал с
Цвингли, Карлштадтом, религиозными радикалами, требовал огня и меча против сектантов и проклинал
Мюнцера, как Кальвин радостно смотрел на костер Сервета, так и в английской революции мы видим борьбу
различных религиозных партий, из которых одна спокойно была готова отправить другую на костер.
Е. А. Соловьев-Андреевич. Оливер Кромвель. Его жизнь и политическая деятельность. [1893]. Великие,
отчаянные, ярые. . радикалы. Около «Русского слова» группируются отчаянные радикалы, нигилисты,
отвергающие все законы нравственные, эстетические и религиозные во имя прогресса и социального
благоденствия человеческого рода. А. В. Никитенко. Дневник. Ч. 3. [1865]. Читая роман < Писемского>, можно
подумать, что все движение только в том и заключалось, что Баклановы, Софи Леневы, Басардины, Галкины и
пр., и пр. внезапно сорвались с цепи и сделались ярыми радикалами, оставаясь все теми же негодяями и
уродами, какими были и прежде. А. М. Скабичевский. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная
деятельность. [1897]. / В поэзии. Где воля – дерзость, там всегда скандалы; Где мало пишут – много говорят;
Где люди шепчутся, там радикалы В народ пускают слухи и молчат. Я. П. Полонский. Братья. [1870].
– Лекс. Д1 радика‟л.
Одной из доминант культурной жизни России XIX в. являлось музыкальное и
театральное искусство, в разделах «Фельетон», «Смесь», «Петербургские городские
новости» регулярно рецензировались новые спектакли, концерты, балеты. В материалах
газет широко представлена новая музыкальная лексика, как заимствованная, так и
50
образованная на базе уже освоенных русским языком заимствований: демольный, дуэттино,
терцет, фермата; дирижер, дирижировать, дирижировка, виолончелистка и др.
Как выразить изменение страсти без контральтовых нот? Это почти то же, что
писать без согласных букв… (СП №230 1847 с. 3). Во всех искусствах, украшения
необходимы, и пение, лишенное фиоритур, походит на здание с совершенно гладкими
стенами, без карнизов, без фронтонов, колонн и других архитектурных принадлежностей.
(СПВ 1847 № 279 с. 1).
В публицистических текстах прослеживается рост числа наименований лиц женского
пола по роду деятельности, образованных преимущественно от основ заимствованных
существительных мужского рода с помощью суффиксов -к-, -ш-: бенефициантка, виртуозка,
концертантка, композиторша.
Именно в области музыкальной и театральной лексики прослеживается
преемственность развития словообразовательных гнезд от XVIII в. к XIX в. Ср. концерт,
концертик, концертный, концертант (музыкальное произведение для двух и более
инструментов), концертантный – XVIII в.; концертист, концертантка – XIX в. Ср.
Любителям музыки и почитателям таланта Г-на Вьетана, вероятно, уже известно, что
наш несравненный концертист устроивает к будущему Воскресенью блистательное
музыкальное утро, в зале Петропавловского Училища. (СП 1847 № 285 с. 2). Билеты, по 3 р.
сер., можно получить в квартире концертантки, в доме Скрипицына, на Мойке, близ
Певческого Моста. (СП 1847 № 281 с. 2).
В светской хронике газет, в рубриках «Моды», «Смесь» появляются первые
употребления новаций, относящихся к сфере моды: названия предметов и деталей одежды
(клок, спенсер, пелеринка), тканей (бареж, креп-крепе, марселин), украшений (эсклаваж),
цветообозначения (пламя базара, планшевый).
В «Словарь русского языка XIX века» также войдут зафиксированные в газетной
публицистике неологизмы, относящиеся к области медицины: аллопат, аллопатический,
анестезация, астма, грипп; светской жизни высшего общества: преферансистка, редова
(танец), экарте (карточная игра); бытовой сфере: ватерклозет, докторка (экипаж),
портмоне; кулинарии: карри (приправа, соус), тартинка (маленький бутерброд). Ниже
представлены словарные статьи на слова гастроэнтерит, хлороформ, ватерклозет.
ГАСТРОЭНТЕРИ’Т (гастро-энтерит), а, м. Лат. Gastroenteritis. Мед. Воспалительное заболевание
слизистой оболочки желудка и тонкой кишки. С того времени <возникновения идей Бруссе> и началось
царство желудочных и желудочно-кишечных воспалений, гастритов и гастро-энтеритов. БЧ т. 35 с. 140 [1839].
Гастроэнтериты по обыкновению встречались в летние месяцы и в особенности в июле. Медицинское
обозрение. Т. 31. с. 1041 [1889]. Отравления рабочих сурьмой встречаются редко; они протекают при явлениях
гастроэнтерита, ускорения дыхания и сердцебиения. Ф. Ф. Эрисман. Профессиональная гигиена. [1871-1908]. /
Нетрансл. Понос, Желчная рвота, могут принадлежать то к воспалению желудка – кишек (gastro-enteritis) и
печени и проч., то к действию ядовитых веществ. СП №111 с. 3 [1830].
– Лекс. Энц. Южакова. 1901 гастроэнтерит.
ХЛОРОФО’РМ, а и у, м. Франц., англ. chloroforme. Бесцветная летучая жидкость, содержащая хлор
и обладающая наркотическим и анестезирующим действием. Мы уже извещали наших читателей об открытии
действия, производимого на человека жидкостию Trichloride de Formyle (тройное соединение хлоровой кислоты
с основанием), которая с выгодою заменяет сернистый эфир, имея пред ним важные преимущества. Теперь
находим в иностранных газетах известие, что 20 Ноября деланы были в Королевской коллегии в Лондоне
опыты над этим веществом, (названным, для сокращения, хлороформом), в присутствии многих ученых,
хирургов и врачей. СПВ № 276 с. 2 [1847]. 9-го сего Декабря, в Госпитальной Клинике Императорского
Московского Университета.. сделан был первый у нас в Москве опыт над употреблением хлороформа при
хирургических операциях. СПВ №290 [1847]. Употребление хлороформу становится нынче всеобщим в
европейской хирургии, в медицине и даже в повивальном искусстве. БЧ т. 87 с. 129 [1848]. Хлороформ,
взболтанный с жидкостью, не окрасился в синий цвет. А. М. Бутлеров. Теоретические и экспериментальные
работы по химии. [1851-1886]. ◊ Под хлороформом. Сегодня под хлороформом молодой солдатик все
бредил неприятелем: «Это наш, это наш, – кричал он, – сюда, сюда» и прочее. Н. А. Белоголовый. Сергей
Боткин. Его жизнь и врачебная деятельность. [1890]. [Астров:] В Великом посту у меня больной умер под
хлороформом. А. П. Чехов. Дядя Ваня. [1897]. ◊ Нравственный х. Образно. Мы.. находимся под влиянием
нравственного хлороформа, притупляющего чувство добра и зла, и в фантастической дремоте представляющего
нам мелочи в гигантском виде, бесцветное в радужных красках, и помрачающего истинно великое и
51
прекрасное. СП №294 [1847] Какой же нравственный хлороформ довел ее до такого бесчувствия, что довело ее
до такого эгоизма? Человек создан для жизни общественной; он не имеет права отчуждаться от общества, да и
подобное отчуждение бывает гибельно для него самого. Н. К. Михайловский. Софья Николаевна Беловодова.
[1860].
– Лекс. Д1 хлорофо‟рм.
ВАТЕРКЛОЗЕ’Т (ватер-клозет), а, м. Англ. water-closet. 1. «Герметически закрытое приспособление
для отхожего места, снабженное водоочистительною машиною.» Сл. Лучинского с. 180 [1879-1880].
Английские ватерклозеты. Они составляют столчак, которого сосуд, посредством особого механизма,
выполаскивается проведенною, с возвышенного места, водою. Механизм приводится в действие – или
тяжестию сидящего на столчаке человека, или отворяемою и запираемою дверью нужника, или другими
способами. К. Гелинг. Опыт гражданской медицинской полиции примененной к законам Российской Империи.
Т. 1 [1842]. Продаются.. дорожные столы, складные кресла и ватерклозеты. СПВ №270 с. 4 [1847]. / В образн.
контексте. Выкупные ссуды проедены или прожиты так, что почти, можно сказать, спущены в ватерклозет.
М. Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом. [1880].
2. Помещение, в котором расположен ватерклозет. В одном из петербургских закрытых учебных
заведений, чуть-ли не у каждого питомца есть полная тетрадь произведений Баркова. Начальник раз застал
целую компанию своих птенцов за чтением оного поэта, и где-же?.. в ватерклозете… ЖМНП т. 111 с. 188
[1861]. Дрались обыкновенно в ватерклозете. Все отделение присутствовало при этом. А. И. Куприн. На
переломе (Кадеты). [1900]. / Перен. Отриц. Редакции – это кухни, или еще хуже – клоаки, ватерклозеты
литературы. К. Н. Леонтьев. Моя литературная судьба. [1891]. Карташев начал излагать теорию Шацкого.
Корнев с презрением слушал. – Ну-с, это уж совсем ватерклозет, – заметил он, махнул рукой. Н. Г. Гарин-
Михайловский. Студенты. [1895].
– Лекс. Д1 ватерклозет.
Публицистический газетный текст позволяет представить в иллюстративном материале
словаря полемически заостренные тексты. Новая лексика в них часто имеет яркую
негативную или позитивную коннотацию.
Новый Президент Полиции, Г. Гинкельдей, очищает Берлин удивительным образом.
Вся революционная сволочь, все литературные наездники, разглагольствующие Жидята –
словом вся эта гнусная толпа голодной и разрушительной канальи, в Калабрезских шляпах, с
красными петушьими перьями и развратным санкюлотисмом, исчезла совершенно. (СП
1848 № 283 с. 3).
Исследование газетной публицистики XIX в. показывает, что новые иноязычные слова
и их дериваты возникают в разнообразных сферах общественной жизни, отражая широту
международных контактов, включенность России в мировое событийное и культурное
пространство. Наблюдение за ними позволяет определить основные звенья языковых
изменений этого периода, что является одной из главных задач «Словаря русского языка
XIX века».
52
Е. А. Жданова
НОВЫЕ СУФФИКСАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
С ОТВЛЕЧЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
(по данным неографии)
Академические неографические издания предоставляют исследователю богатый
материал, позволяющий проанализировать тенденции развития языка как в целом, так и на
отдельных участках системы, в частности, активные процессы в словообразовании. Среди
неологизмов, зафиксированных в НСЗ-90, немало суффиксальных существительных с
отвлеченным значением: буревестничество, имиджмейкерство, зиновьевизм, зюганизм,
лагеризация, левшизм, примадонство, совкизм, чубайсизация и др. Как отмечает
Е. И. Коряковцева, «абстрактная, “интеллектуальная” лексика быстрее и ярче других
лексических пластов реагирует на качественные изменения этнического языка, а тенденции
ее развития всегда отражали особенности эволюции русского национально-языкового
сознания» [Коряковцева 2008: 120].
Словообразовательная система русского языка располагает рядом моделей, по которым
образуются слова отвлеченной семантики, однако в конце ХХ в. востребованными, по
данным НСЗ-90, оказываются далеко не все из них. Его материалы показывают, что самой
многочисленной (около 20 неологизмов) является группа существительных, образованных с
помощью суффикса -ств(о)/-еств(о). Они могут называть идеологическое направление
(державничество), должность и время пребывания в ней (вице-президентство, вице-
спикерство, генсекство и др.); занятия, сферу профессиональной деятельности лиц,
названных в производящих основах (дворничество, диггерство, дилерство, киллерство и
др.); принадлежность к определенной (социальной, идеологической, профессиональной)
прослойке, совокупность лиц (ди-джейство во 2-м знач., гопничество во 2-м знач. и др.);
свойство, характерное для определенной группы лиц (гопничество в 1-м знач., дебильство и
др.). У некоторых из этих новообразований наблюдается развитие многозначности.
«Существительные этого типа непосредственно мотивированные относительными
прилагательными, опосредованно мотивируются существительными со знач. лица,
которыми, в свою очередь, мотивированы эти прилагательные» [РГ-80: § 317]. В
соответствии с этим отсылки к производящему существительному, которые дают авторы
НСЗ-90 в словообразовательно-этимологических справках у анализируемых слов,
представляются нам вполне правомерными.
Слова с суффиксом -ств(о) могут образовываться как от основы простых слов (киллер
→ киллерство), так и сложных (вирусописатель → вирусописательство; генсек →
генсекство). Часто в качестве производящей выступает основа заимствованного
существительного, в т. ч. и недавнего заимствования. Например, в НСЗ-90 фиксируются
производные от неоанглицизмов дистрибьютор (дистрибьютер, дистрибутор) →
дистрибьюторство (дистрибьютерство); имиджмейкер → имиджмейкерство.
В РГ-80 отмечается высокая продуктивность суффикса -ств(о) в газетно-
публицистической, художественной и разговорной речи [РГ-80: § 317]. С пометой
«публицистическое» в НСЗ-90 дается слово державничество, с «книжное» –
буревестничество; помета «разговорное» стоит при неологизмах генсекство и дебильство
(последнее трактуется как «разговорно-сниженное»). Некоторые многозначные неологизмы
в разных значениях имеют разную стилистическую окраску. Например, существительное
дворничество в первом значении „работа дворником‟ характеризуется как «разговорное», а
во втором „форма протеста – отстранения от участия в общественно-политической,
экономической жизни государства, связанная с отказом от работы по специальности и
(часто) работой дворником‟ – как «публицистическое».
Как семантические новообразования (со знаком *) рассматриваются в НСЗ-90 слова
вампирство*, губернаторство*, донорство*, которые возникают на базе новых (или
53
актуализировавшихся) значений производящих слов вампир, губернатор, донор. Таким
образом, продуктивность словообразовательной модели «основа существительного + -ств(о)
поддерживается не только собственно словообразовательными, но и семантическими
неологизмами.
Еще одна продуктивная группа новообразований конца ХХ в. – новые отвлеченные
существительные, образованные с помощью суффикса -изациj(а): арендизация,
банкротизация, интернетизация и др. Некоторые из них рассматриваются в НСЗ-90 как
отсубстантивные, несмотря на существование в языке глаголов, которые потенциально
могли бы быть производящими. Например, ваучеризация возводится к слову ваучер, а не к
глаголу ваучеризировать, зафиксированному в этом же словаре. Такая позиция авторов НСЗ-
90 может объясняться двумя причинами: 1) более ранним появлением в русском языке
существительного, а не глагола; 2) низкой частотой употребления глагола (по данным
Национального корпуса русского языка).
В качестве производящих основ выступают как исконно русские (баран (в переносном
значении) → баранизация), так и заимствованные (доллар → долларизация) слова, при этом
последние преобладают. Новые слова обозначают социально значимые, актуальные на
данном этапе развития общества понятия из сферы политики, экономики, идеологии. С
экономическими преобразованиями связаны слова валютизация, ваучеризация,
долларизация, бартеризация и др.; актуализация слова губерния обусловила появление
новации губернизация; падение общего уровня культуры населения страны отразилось в
номинациях дебилизация и баранизация (населения), а рост бандитизма – в неологизме
бандитизация. В качестве мотивирующих могут выступать и имена собственные
(гайдаризация).
Новые существительные анализируемой группы характеризуются принадлежностью к
разным функциональным стилям и нередко имеют экспрессивную окрашенность, что
отражено в НСЗ-90 соответствующими пометами: гайдаризация (публицистическое,
неодобрительно), ельцинизация (публицистическое, неодобрительно), дебилизация
(разговорное). У некоторых неологизмов этой группы (векселизация, губернизация,
долларизация) развиваются дополнительные значения, что свидетельствует об актуальности
этих новых лексем.
Кроме собственно морфологических новообразований с суффиксом -изациj(а), в НСЗ-
90 фиксируются и семантические неологизмы: канализация* (1. Канализация эфира
(вещания). А. Создание кабельных каналов для кабельного телевидения, объединения их в
кабельные сети. Б. Процесс образования, обособления и т. п. телевизионных каналов в
самостоятельную единицу определенного тематического вещания. 2. В политике,
социологии: направление каких-л. общественных событий (протестов, конфликтов и т. п.) в
определенное русло (путем преднамеренного манипулирования определенных кругов
общественным сознанием); придание этим событиям более благоприятного для данных
кругов, спокойного течения, развития). Вполне вероятно, что новое значение возникает не в
результате семантического переноса узуальных значений, а в результате параллельного
образования от других значений производящего слова канал. Хотя неологизм канализация
можно толковать и как семантический (т. к. благодаря значению производящего
существительного канал он находится в одном денотативном поле с уже существующей
единицей), но он важен и для анализа словообразовательной системы. Наличие подобных
существительных (см. также западнизация*, албанизация*) подкрепляет продуктивность
анализируемой модели, т. к. с точки зрения словообразовательной синхронии подобные
семантические неологизмы могут рассматриваться как производные с суффиксом -ациj(а).
Е. А. Земская, анализируя русскую речь 1990-х гг., отмечала, что «новые социально
значимые процессы действительности активно именуются существительными на -изация,
обозначающими „наделение тем или свойствами того, что обозначает базовая основа‟ <…>
Социальная действительность требует прежде всего новых номинаций для происходящего,
54
вот почему именные основы, совмещающие значение процессуальности с номинативностью,
побеждают глаголы» [Земская 1995: 158–160].
Еще одна заметная группа отсубстантивных новообразований – производные с
суффиксом -изм, которые чаще всего обозначают общественно-политические,
идеологические направления и движения и мотивированы именами собственными:
гайдаризм, горбачевизм, гэкачепизм / гекачепизм, ельцинизм, звиадизм, зиновьевизм,
кимирсенизм и др. Существительные на -изм, мотивированные именами нарицательными,
могут быть названиями какой-либо сферы деятельности: граффитизм и пр.
Интересно для анализа новообразование васькизм („упорное продолжение какой-л.
деятельности, несмотря на ее осуждение общественностью‟), формально образованное от
основы имени собственного Васька и семантически мотивированное крылатым выражением
из басни И. А. Крылова: «А Васька слушает да ест». Вероятно, как имеющее двойную
мотивацию можно трактовать новообразование биовампиризм („в парапсихологии: действия,
способности биовампира‟). Авторы НСЗ-90 в словообразовательной справке рассматривают
данную новацию как производную от биовампир (НСЗ-90), но возможным представляется и
способ создания новообразования на базе существительного вампиризм с помощью
начального компонента био..., свободно сочетающегося с разными производящими.
Необходимо отметить, что суффикс -изм может выступать в качестве дериватора в
нескольких словообразовательных моделях современного русского языка. Например, кроме
модели, рассмотренной выше, данный формант используется в модели, называющей
элементы языка или речи [РГ-80: § 290]. Как образованный по этой модели можно
рассматривать неологизм горбачевизм в его втором значении (2. Слово или выражение,
характерное для политического и государственного деятеля М. С. Горбачева).
Новообразования с суффиксом -изм нередко обладают негативной коннотацией и в
НСЗ-90 сопровождаются пометами «неодобрительное» (васькизм, гайдаризм, ельцинизм),
«презрительное или ироническое» (зюганизм). Часто они относятся к функциональному
стилю публицистики и в данном словаре маркированы пометой «публицистическое»:
гайдаризм, зюганизм и др., а также к разговорному стилю: васькизм (сопровождаются
пометой «разговорное»). В разных значениях лексическая новация может иметь разную
стилистическую окраску: гэкачепизм в значении „воззрения и идеология лидеров
Государственного комитета по чрезвычайному положения, попытавшегося совершить
государственный переворот в СССР (август 1991 г.)‟ дается с пометой «разговорное», а
оттенок значения „о политике пересмотра чего-л., ревизионизме прошлых эпох‟ подается с
пометой «публицистическое». Это может объясняться актуальностью новообразования
гэкачепизм в начале 1990-х гг., в результате чего новация, родившаяся в разговорной речи,
вышла за пределы узкой области своего первоначального бытования.
Суффикс -щин(а) используется при образовании существительных отвлеченной
семантики со значением «признак, названный мотивирующим прилагательным, как бытовое
или общественное явление, идейное или политическое течение» [РГ-80: § 318]. Неологизмы,
созданные таким образом, семантически близки новообразованиям, образованным по модели
«основа существительного + -изм», о чем свидетельствуют отношения синонимии между
словами: горбачевизм и горбачѐвщина.
В отдельных случаях в НСЗ-90 в словообразовательно-этимологической справке
показывается двойная мотивация, в качестве производящих даются и существительное, и
прилагательное. Например, у новообразований диссидентщина (1. Взгляды, поступки
диссидентов; диссидентство; 2. Произведения литературы, кинематографа и т. п.,
противостоящие официальной, господствующей идеологии, содержащие критику
существующего строя) и гулаговщина (1. о широком распространении системы лагерей
ГУЛАГ; о массовых репрессиях в СССР в сер. 1930-х – начале 1950-х гг. ХХ в.; 2. Образ
жизни в ГУЛАГе; дух ГУЛАГа). Такой подход обусловливается, вероятно, тем, что, согласно
РГ-80, среди существительных этого типа выделяется группа слов, непосредственно
55
мотивированных прилагательными, а опосредованно – существительными, которыми, в свою
очередь, мотивированы эти прилагательные. [РГ-80: § 318].
В НСЗ-90 отмечено около 10 новаций с данным суффиксом. В большинстве случаев
они опосредованно мотивированы фамилиями политических деятелей и других известных
лиц: алиевщина („стиль управления страной, характерный для руководства Азербайджана во
главе с Г. Алиевым‟); жириновщина („в речи противников – идеологическое содержание
программы ЛДПР, предлагаемой ее лидером В. В. Жириновским; политическое влияние
этого лидера‟), а также ельцинщина, дудаевщина, кашпировщина. В подавляющем
большинстве случаев аффикс привносит негативную коннотацию, что отразилось в пометах,
которыми эти слова сопровождаются в НСЗ-90: «неодобрительное» (алиевщина, дудаевщина,
гулаговщина, кашпировщина) или «презрительное» (ельцинщина, жириновщина,
диссидентщина (в 1-ом значении „взгляды, поступки диссидентов‟)). Любопытно, на наш
взгляд, отметить, что в НСЗ-90 фиксируются дублетные новообразования (например,
ельцинщина – ельцинизм), когда у одного слова негативная коннотация может связываться с
дериватором, а у другого (ельцинизм) отрицательная окраска не обусловлена суффиксом, т. е.
не выражается формально, специфическими морфемами, но оказывается в целом присуща
новообразованию.
Большинство этих новаций относится авторами НСЗ-90 к публицистическому стилю, и
лишь единичные новообразования – к разговорному (аморальщина, гайдаровщина).
Отдельные новообразования могут характеризоваться разной стилистической окраской, в
зависимости от лексического значения неологизма-полисеманта. Так, кашпировщина в
значении „особенности психотерапии в практике А. М. Кашпировского, его методы
воздействия на пациентов‟ подается с пометой «разговорное», а в переносном,
метафорическом значении „о том, что отдаленно напоминает такое воздействие и граничит с
непрофессионализмом и шарлатанством‟ – с пометой «публицистическое».
Новые существительные с отвлеченными значениями могут создаваться и по другим
моделям, хотя они и менее активны в русском языке конца ХХ в. Например, в 1-ом томе
НСЗ-90 зафиксированы следующие новообразования с суффиксом -иан(а): гитлериана
„совокупность произведений, посвященных личности А. Гитлера, его жизни, деятельности‟ и
джеймсбондиана „совокупность кинофильмов, главным героем которых является Джеймс
Бонд – агент 007‟.
Отвлеченное значение имеют и производные с суффиксом -ик(а), но модель с данным
формантом оказывается не столь востребованной: в 1-ом томе НСЗ-90 было зафиксировано
только одно производное с этим аффиксом – достоевистика „область литературоведения,
занимающаяся изучением жизни и творчества Ф. М. Достоевского‟.
Интересным для словообразовательного анализа представляется неологизм
деноминирование „осуществление деноминации‟, связываемое в НСЗ-90 производными
отношениями с существительным деноминация, хотя там же фиксируется и глагол
деноминировать, который потенциально мог бы выступать производящим данного
неологизма. Можно предположить, что анализируемое существительное должно
рассматриваться как отглагольное, поскольку оно оказывается ближе к глаголу и в
формальном отношении (наличие межморфемной прокладки -ир- в обоих словах). Отнесение
его в НСЗ-90 к отсубстантивным производным продиктовано, вероятно, тем, что и глагол, и
существительное появились в языке приблизительно в одно и то же время и могли быть
образованы независимо друг от друга, т. е. существительное деноминирование вполне может
быть отсубстантивным, тем более что подобные словообразовательные отношения
поддерживаются активной тенденцией в русской языке конца ХХ в. к образованию
производных с суффиксом -ниj(е) от основ существительных.
Итак, при образовании новых производных имен существительных с отвлеченным
значением наиболее продуктивными из существующих оказываются модели с суффиксами -
ств(о), -ациj(а), -изм, -щин(а). Показательно то, что эти суффиксы могут сочетаться как с
основами существительных, так и с основами глаголов и прилагательных. Отметим, что
56
трактовка некоторых новообразований как отсубстантивных производных оказывается
спорной, намечаются расхождения, вызванные не только разными теоретическими
установками разных исследователей, но и разными подходами – диахроническим или строго
синхроническим.
В качестве производящих для слов анализируемой группы выступают слова,
называющие актуальные, общественно важные реалии и понятия, характеризующие новые
общественные явления, а также имена собственные. «В процессах деривации медиальных
неологизмов – nomina abstracta – реализуются системные потенции русского языка и находят
свое выражение такие противоположные тенденции социолингвистического развития,
обусловленные разнокультурным синкретизмом российского общества, как «стремление к
коммуникативной выразительности» и “экономизация”, “национальная спецификация” и
“интернационализация”, “интеллектуализация” и “демократизация”» [Коряковцева 2008:
125].
Сокращения
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов ХХ века: В 3 тт. // Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), Е. А. Левашова.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2009, 2014.
РГ-80 – Русская грамматика. В 2-х тт. М.: Наука, 1980.
Литература
Земская 1995 – Е. А. Земская. Язык как зеркало современности (словообразовательные
заметки) // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика
В. В. Виноградова). М.: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1995.
С. 154-163.
Коряковцева 2008 – Е. И. Коряковцева. Nomina abstracta в современном русском языке:
социокультурные факторы роста продуктивности словообразовательных моделей //
Активные процессы в современном русском языке: Сб. научных трудов, посвященный 80-
летию со дня рождения профессора В. Н. Немченко. Н. Новгород: Издатель Ю. А. Николаев,
2008. С. 119-126.
Очерки 1964 – Очерки по исторической грамматике русского литературного языка
XIX века. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в
русском литературном языке XIX века. М.: Наука, 1964.
57
В. П. Захаров
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Выявление неологизмов является одной из главных задач как традиционной
лексикографии, так и новых информационных технологий, использующих машинные
словари для автоматического анализа текста. Данная статья «выросла» из задачи
усовершенствования алгоритмов морфологического анализа. В статье рассматривается
образование новых слов с помощью префиксоидов.
Одной из основных проблем автоматического морфологического анализа являются так
называемые «несловарные» слова. Если обычно словарь русского языка, включая словари
машинной морфологии, насчитывает максимум несколько сот тысяч слов («Грамматический
словарь А. А. Зализняка – 110 000 слов, компьютерный словарь системы АОТ – 200 000 слов,
словарь системы Open Corpora – 400 000 слов), то словник лемм, полученный на основе
больших корпусов текстов современного русского языка, содержит уже несколько
миллионов лексических единиц. Помимо обычных «словарных» слов туда входят языковые
неологизмы, окказионализмы, разговорные или искаженные слова, аббревиатуры, слова с
ошибками и т. д.
Префиксальное и суффиксальное словообразование – один из основных способов
образования новых слов в русском языке. Во 2-ой половине ХХ в. появился термин
«аффиксоид», который трактуется следующим образом: «компонент сложного или
сложносокращенного слова <…>, повторяющийся с одним и тем же значением в составе
ряда слов и приближающийся по своей словообразовательной функции (способность
образовывать новые слова с тем же компонентом) к аффиксу-суффиксу (для последних
компонентов сложений) или префиксу (для первых компонентов); соответственно А.
подразделяются на суффиксоиды и префиксоиды» [Русский язык 1979]1.
В содержательном плане аффиксоиды имеют материально-предметное вещественное
значение, обозначают те или иные явления объективной действительности и этим они
отличаются от аффиксов [Минина 1984; Денисенко, Буцева 2000]. Имеются проблемы
вычленения аффиксоидов из всей массы словообразовательных компонентов (см. [Левашов
2009: 4-7]).
В нашем случае не принципиально, что считать аффиксоидом, а что нет: нашей задачей
стал морфологический анализ «несловарных» слов (отсутствующих в словаре
морфоанализатора), образованных с помощью квазиморфем, которые мы будем называть
префиксоидами. Данная статья описывает эксперимент, целью которого было выяснить,
насколько улучшатся результаты анализа словоформ, образованных по префиксоидальной
модели и не распознанных морфоанализатором, если отбросить префиксоид и анализировать
оставшуюся часть – квазиоснову. Была поставлена задача – по корпусу текстов получить
данные о продуктивности отдельных префиксоидов.
Словарь аффиксоидов [Левашов 2009] содержит 684 префиксоида и намного
превосходит по полноте и последовательности отбора единиц списки префиксоидов,
зафиксированные в разных словарях и грамматиках.2 Он не является полным, поскольку в
каждой научной области существуют свои, не учтенные в словарях или грамматиках,
префиксоиды. Очевидно также, что продуктивность той или иной квазиморфемы зависит от
1 См. также другие определения: «Аффиксоид – это корневая морфема, выступающая в функции аффикса»
[Розенталь, Теленкова 1976]; «Аффиксоид – это непроизводная или производная основа, выполняющая роль
аффикса» [Шанский 2005]. 2 Так, в «Грамматике русского языка» (т. 1. М., 1980) в списке из 154 повторяющихся компонентов сложения,
предшествующих опорному, есть англо-..., франко-..., германо-… и нет романо-..., сино-..., чехо-…; есть:
крекинг-…, но нет карбо-..., амино-... и т. д. Естественно, там нет таких сравнительно новых префиксоидов, как
веб-..., Интернет-... и др.
58
того, в какой предметной области она используется. Например, такие префиксоиды, как
гексо-, карбо-, сульфито- и др., очень продуктивны в химических текстах и совсем не
используются в других.
Для эксперимента было выбрано 105 «межотраслевых» префиксоидов, которые
встречаются в зафиксированных в орфографическом словаре русского языка словах,
например: авто…, теле…, фото…, кило…, меж…, пан…, мега…, нано…, вибро…, крио… и
др. (см. Табл. 1).
М а т е р и а л и и н с т р у м е н т ы и с с л е д о в а н и я : 1) Национальный корпус
русского языка (НКРЯ) (http://ruscorpora.ru); 2) корпус русских текстов Araneum Russicum
Maius из семейства псевдопараллельных корпусов Aranea Университета им. А. Коменского в
Братиславе (http://ucts.uniba.sk/).
Объем основного корпуса НКРЯ составляет 230 млн словоупотреблений,
русскоязычный Araneum насчитывает 1200 млн токенов (около 1000 млн. текстоформ).
Вначале подсчитывалось количество слов в корпусе, начинающихся на искомое
буквосочетание из нашего списка префиксоидов. Для каждого префиксоида по каждому
корпусу были получены абсолютная частота и ipm (относительная частота на миллион
словоформ). Таким образом, была получена таблица, где каждому префиксоиду был
присвоен ранг в обоих корпусах (Табл. 1). Таблица отсортирована по ipm корпуса Araneum,
однако приведенные в таблице данные – это грубая оценка, так как сюда входят частоты и
тех слов, в которых искомое буквосочетание не является квазиморфемой (например, авто в
слове «автор» или моно в слове «монокль»). Желательно эти случаи из рассмотрения
исключить. Поэтому из частотных списков всех слов, начинающихся на искомое
буквосочетание (рис. 1 и 2) вручную осуществлялся отбор слов-непрефиксоидов. Это было
сделано для первых десяти самых частых префиксоидов (по первым 100 наиболее частотным
лексемам).
Рис. 1. Фрагмент частотного словаря для отбора «непрефиксоидов» для авто-
59
Рис. 2. Фрагмент частотного словаря для отбора «непрефиксоидов» для псевдо...
Далее эти слова-непрефиксоиды (леммы) включались в запрос к корпусу со знаком
операции отрицания («НЕ»), например: авто* & НЕ автор & авторитет & НЕ … или
псевдо* & НЕ псевдоним & НЕ псевдо & НЕ ...3.
После такой процедуры частоты префиксоидов и ранги менялись. К примеру,
префиксоид много- с пятого места в списке переместился на первое. Слова из полученных
таким образом частотных списков, в случае отсутствия их в словарях, могут быть туда
включены.
Таблица 1
Частотный список префиксоидов
Префиксоид Ранг в
Araneum
Maius
Частота в
Araneum
Maius
Ipm Ранг в
НКРЯ
Частота в
НКРЯ
ipm
Много...4 1. 1059045 870,9 5. 52703 232,77
Все... 2. 1052428 865,5 4. 68663 321,29
Авто... 3. 724878 596,1 3. 81518 316,37
Само... 4. 495925 407,8 1. 141297 631,98
Теле... 5. 458777 377,3 2. 88542 306,09
Техно... 6. 279548 229,9 12. 24981 109,04
Кило... 7. 262565 215,9 17. 19572 85,1
Фото... 8. 261582 215,1 7. 29368 127,79
Психо... 9. 231411 190,3 6. 32577 141,63
Взаимо... 10. 147953 121,6 16. 21378 92,95
Мало... 11. 142881 117,4 8. 28718 124,86
Био... 12. 124441 102,3 10. 25971 112,92
3 Звездочка при буквосочетаниях (авто*, псевдо*) – знак усечения: это значит, выдать все, что начинается на
это буквосочетание. 4 Курсивом выделены префиксоиды с уточненными частотами (после удаления частот слов-непрефиксоидов).
60
Водо... 13. 114247 93,9 18. 22923 99,67
Гос... 14. 119049 97,9 14. 19157 83,29
Микро... 15. 106624 87,7 21. 14547 63,25
Электро... 16. 106616 87,6 15. 22815 99,20
Эко... 17. 105881 87,0 25. 9433 41,01
Милли... 18. 103194 84,8 52. 2522 10,97
Интернет-... 19. 96437 79,3 97. 174 0,76
Гео... 20. 93480 76,8 9. 27916 121,37
Санти... 21. 90518 74,4 11. 25853 112,40
Видео... 22. 88031 72,4 41. 3658 15,90
Бизнес-... 23. 81669 67,1 39. 3923 17,06
Аэро... 24. 73236 60,2 19. 16560 72,00
Пресс-... 25. 72091 59,2 33. 4888 21,25
Авиа... 26. 70178 57,7 28. 6415 27,89
Евро... 27. 66499 54,7 29. 2358 10,25
Моно... 28. 65599 53,9 54. 12604 54,80
Кино... 29. 65182 53,5 23. 15336 66,68
Тепло... 30. 61896 56,4 20. 5764 25,06
Спец... 31. 61198 50,3 27. 7829 34,04
Военно-... 32. 60726 49,9 24. 12421 54,00
Радио... 33. 57640 47,3 13. 23352 101,53
Мета... 34. 51884 42,6 22. 13350 58,04
Библио... 35. 48790 40,1 60. 1838 7,99
Мега... 36. 43104 35,4 56. 2013 8,75
Бое... 37. 41811 34,4 36. 4325 18,80
Спорт... 38. 41082 33,8 67. 1536 6,68
Энерго... 39. 39984 32,9 37. 4232 18,40
Веб-... 40. 37897 31,1 103. 17 0,07
Социо... 41. 34600 28,4 32. 5225 22,72
Астро... 42. 34087 28,0 45. 3195 13,89
Гидро... 43. 33994 27,9 26. 8637 37,55
Нано... 44. 29229 24,0 44. 3209 13,95
Газо... 45. 27600 22,7 34. 4545 19,76
Мульти... 46. 27412 22,5 66. 1587 6,90
Медиа... 47. 24366 20,0 63. 1687 7,33
Термо... 48. 24208 19,9 30. 5283 22,97
Аудио... 49. 22653 18,6 84. 547 2,38
Мото... 50. 22185 18,2 65. 1655 7,20
Космо... 51. 21991 18,1 40. 3893 16,93
Стерео... 52. 21864 18,0 48. 3017 13,12
Псевдо... 53. 21034 17,3 38. 4118 17,90
Этно... 54. 20454 16,8 46. 3079 13,39
Эндо... 55. 19142 15,7 69. 1479 6,43
Гомо... 56. 18526 15,2 43. 3214 13,97
61
Зоо... 57. 17797 14,6 31. 5256 22,85
Аква... 58. 17674 14,6 42. 3291 14,31
Антропо... 59. 15577 12,8 47. 3076 13,37
Броне... 60. 14982 12,2 53. 4538 19,73
Нео... 61. 14932 12,0 35. 1022 4,44
Макро... 62. 14909 12,3 73. 2382 10,36
Свежее... 63. 14082 11,6 55. 2113 9,19
Лже... 64. 13852 11,4 49. 2839 12,34
Хроно... 65. 12174 10.0 50. 2603 11,32
Остео... 66. 12121 10,0 95. 263 1,14
Агро... 67. 10731 8,8 51. 2584 8,00
Вело... 68. 10402 8,5 76. 328 1,43
Рок-... 69. 10379 8,5 94. 775 3,37
Метео... 70. 10151 8,4 82. 578 2,51
Кибер... 71. 10140 8,3 96. 206 0,90
Кардио... 72. 9853 8,1 79. 637 2,77
Иммуно... 73. 8815 7,2 58. 1954 8,50
Фито... 74. 8784 7,2 70. 1096 4,77
Ретро... 75. 8732 7,2 71. 1033 4,49
Палео... 76. 8041 6,6 68. 1486 6,46
Арт-... 77. 7647 6,3 100. 117 0,51
Агит... 78. 6778 5,6 80. 601 2,61
Мезо... 79. 6761 5,5 64. 1685 7,33
Пиро... 80. 6590 5,4 57. 1984 8,63
Воздухо... 81. 6527 5,4 61. 1798 7,82
Альфа-... 82. 6280 5,2 86. 455 1,98
Пневмо... 83. 6130 5,0 87. 438 1,90
Бензо... 84. 5246 4,3 62. 1706 7,42
Штаб-... 85. 5085 4,2 59. 1840 8,00
Чудо-... 86. 4990 4,1 99. 143 0,62
Турбо 87. 4762 3,9 75. 776 3,37
Бета-... 88. 4362 3,6 102. 92 0,40
Рентгено... 89. 4276 3,5 78. 670 2,91
Деци... 90. 4207 3,5 91. 341 1,48
Гига... 91. 4093 3,3 74. 169 0,73
Фоно... 92. 4001 3,3 98. 808 3,51
Квази... 93. 3950 3,2 77. 732 3,18
Гетеро... 94. 3389 2,8 72. 1029 4,47
Вибро... 95. 3285 2,7 92. 329 1,43
Крио... 96. 3006 2,5 90. 355 1,54
Борт... 97. 2979 2,4 83. 567 2,47
Пиар-... 98. 2656 2,2 104. 7 0,03
Горе-... 99. 2404 2,0 105. 3 0,01
Масс-... 100. 2338 1,9 101. 106 0,46
62
Блиц... 101. 2067 1,7 89. 329 1,43
Гамма-... 102. 2009 1,7 93. 384 1,67
Сейсмо... 103. 1947 1,6 81. 589 2,56
Гелио... 104. 1769 1,5 85. 486 2,11
Спелео... 105. 917 0,8 88. 430 1,87
Полученные данные характеризуют частотность в корпусе слов с соответствующим
префиксоидом. Если мы сравним относительные частоты и ранги по двум корпусам, то
увидим, что они не только не совпадают, но подчас и серьезно разнятся, например, техно...
имеет ранг 7 в Araneum Maius и ранг 14 в НКРЯ, видео..., соответственно, 26 и 50, гео... 20 и
9. Эти цифры находят свое объяснение, если учесть, что НКРЯ – это сбалансированный
корпус с большим подкорпусом художественной литературы, в том числе изданной давно, в
то время как Araneum – корпус, составленный на базе текстов из Интернета, т. е.
преимущественно из современных текстов. Можно заметить, что в корпусе Araneum
наибольшие расхождения с НКРЯ имеют такие префиксоиды, как Интернет-..., веб...-,
видео..., бизнес-... и т. д.
Нас интересовала также продуктивность префиксоидов, которой будем называть число
дериватов, порожденных с помощью данного префиксоида. В качестве примера можно
привести префиксоиды кило... и фото.... Хотя они (т. е. слова, их содержащие) обладают
сравнительно одинаковой частотой встречаемости в обоих корпусах, тем не менее, кило...
встречается только в 24 словах, а фото... в 95 из 100 наиболее частотных (по корпусу
Araneum).
Следующим шагом было исследование «словарности» правых компонентов сложных
слов с префиксоидами на предмет их вхождения в словарь и на возможность их
распознавания морфологическим анализатором TreeTagger. Эксперимент проводился на
первых 10 префиксоидах. Для эксперимента использовались те же списки первых 100
наиболее частотных лемм, полученные с помощью корпуса Araneum. Из них были
исключены слова, не включающие в себя префиксоид как квазиморфему, поэтому
количество анализируемых слов разное для разных префиксоидов. На следующем шаге у
каждого из анализируемых слов префиксоид был удален. Слово-«остаток» вновь
анализировалось программой TreeTagger. Были получены следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2
«Словарность» основы
Префиксоид Количество
анализируе-
мых слов
С префиксоидом После удаления префиксоида
Количество
распознанных
слов
Процент
распознанных
слов
Количество
распознанных
слов
Процент
распознанн
ых слов
Авто... 75 51 76 71 95
Взаимо... 98 29 29 85 87
Все... 60 33 55 50 83
Кило... 24 9 37 14 58
Много... 95 46 59 70 74
Психо... 93 35 38 65 70
Само... 92 68 74 81 88
Теле... 76 54 71 70 92
Техно... 39 11 28 27 69
Фото... 94 42 45 84 89
63
Как видно из таблицы, процент распознанных слов заметно увеличивается. То есть
можно сделать вывод, что в этом случае целесообразно использовать метод
морфологического анализа «по аналогии» [Белоногов, Зеленков 1995; Сокирко 2004].
Методом «морфологического предсказания» можно найти существующую лемму или
словоформу языка, которая максимально совпадала бы с входным словом. Нераспознанному
слову в этом случае приписываются характеристики этого «подобного» слова. Процедура
анализа нераспознанного слова реализуется методом последовательного отсечения символов
слева или справа и подачей «урезанного» слова в морфологический анализ. При наличии
словаря префиксоидов этот остаток можно получать сразу. Как видим, результат
положителен.
Сегодня русский язык переживает период бурного обновления своего состава, в том
числе за счет префиксоидных дериватов. Чтобы отслеживать эти изменения, нужны большие
корпусы текстов и соответствующие корпусные инструменты. Корпусные данные полезны
как при разработке систем автоматической обработки текста, так и для теоретической
описательной лингвистики.
В результате эксперимента было показано, что морфологический анализ по аналогии
значительно облегчается при наличии словаря префиксоидов. Хотя этот способ и не
обеспечивает абсолютную точность, тем не менее, процент распознанных слов при его
применении увеличивается больше, чем наполовину.
Представляется, что при пополнении словаря автоматического морфологического
анализа следует учитывать продуктивность префиксоида, а именно: слова с
малопродуктивными префиксоидами могут быть добавлены в словарь анализатора, а если
модель является широко продуктивной и невозможно полностью учесть все слова,
образованные по ней, то логичнее применять метод анализа «по аналогии» с отделением
префиксоида и анализом квазиосновы.
Литература
Белоногов, Зеленков 1995 – Г. Г. Белоногов, Ю. Г. Зеленков. Еще раз о принципе
аналогии в морфологии // Научно-техническая информация. Сер. 2, 1995. № 3. С. 29–32.
Денисенко, Буцева 2000 – Ю. Ф. Денисенко, Т. Н. Буцева. Разработка семантики
аффиксоидов в словарях новых слов // Материалы XXIX Межвузовской научно-
методической конференции преподавателей и аспирантов. Секция лексикологии и
лексикографии (русско-славянский цикл). 13-18 марта 2000 г. Выпуск 11. СПб., 2000. С. 38-
45.
Левашов 2009 – Н. А. Козулина, Е. А. Левашов, Е. Н. Шагалова. Аффиксоиды русского
языка. Опыт словаря-справочника / Отв. ред. Е. А. Левашов. СПб.: Нестор-История, 2009.
Минина 1984 – Л. И. Минина. Заметки о русских аффиксоидах // Дериватология и
дериватография литературной нормы и научного стиля. Владивосток, 1984. С. 185-190.
Розенталь, Теленкова 1976 – Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Словарь-справочник
лингвистических терминов. М., 1976.
Русский язык 1979 – Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ф. П. Филин. М.: Советская
энциклопедия, 1979.
Сокирко 2016 – А. В. Сокирко. Морфологические модули на сайте www.aot.ru.
Предсказание ненайденных слов [Электронный текст] URL
http://aot.ru/docs/sokirko/Dialog2004.htm (дата обращения 13.02.2016)
Шанский 2005 – Н. М. Шанский. Аффиксоиды в словообразовательной системе
современного русского литературного языка // Очерки по русскому словообразованию. М.,
2005. С. 296-310.
64
А. В. Зеленин
СКАНДИНАВСКАЯ НЕОЛОГИЯ И НЕОГРАФИЯ:
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Скандинавская неология и неография – понятие, объединяющее (в узком смысле)
региональные лингвистические традиции трех стран: Дании, Норвегии, Швеции, однако в
нашей статье мы будем исходить из широкого понимания скандинавской лингвистической
парадигмы и включим в рассмотрение также неологию и неографию Финляндии, Исландии,
Фарерских островов.
Формирование скандинавской неологии и неографии приходится, как и во многих
странах Европы, на послевоенное (после 1945 г.) время и в значительной мере связано с
политико-экономическими трансформациями в Европе: появлением там англо-американских
баз, мощным англо-американским культурным присутствием, потоками мигрантов,
вызванными событиями Второй мировой войны, широким распространением средств
массовой коммуникации. Изменения, в первую очередь, в лексической системе языка
(обильный приток англо-американизмов, семантические кальки, словообразовательная
активность) требовали адекватного описания и представления этих процессов в
лексикографических справочниках; фундаментальные, подготавливаемые десятилетиями
словари не могли отразить лексико-семантические и словообразовательные инновации в
языках. Прежде достаточно замкнутые, национально-ориентированные лингвистики в
послевоенное время стали развиваться в двух противопоставленных, но чрезвычайно
обогащающих национальные лингвистики тенденциях: центробежной (заимствование
новшеств в соседних, близких, родственных или сопредельных более развитых
лингвистиках) и центростремительной (стремление унифицировать лингвистические
поиски). Это касалось как универсализации методов исследования языка (например,
структурализм в 1950–1960-е гг. захватил практически все национальные лингвистики), так и
заимствования некоторых видов научной продукции, отсутствовавшей в национальных
лингвистиках. Неология и неография относятся к числу последних. С одной стороны, в
скандинавской неологии и неографии можно видеть интегрирующие черты, с другой –
различия в типологии языков, времени их сложения и кодификации создают национально-
этническое «полотно» презентации материала.
Самыми старыми являются датская, шведская, исландская лингвистики, самыми
молодыми – финская, норвежская. В Новое время сильное влияние на первую группу оказала
французская (XVIII в.), немецкая (в XIX в.) и английская (в XX в.), на вторую группу –
шведская (первая половина XX в.) и английская (со второй половины XX в.), немецкая
лингвистика чаще действовала опосредованно. Разумеется, общелингвистические тренды,
направлявшие развитие национальных лингвистик в указанное время, особенно сильно
затрагивали новую, формирующуюся область описания фактов языка – неологию и
неографию как одну из новейших сфер языкознания.
Для скандинавской модели характерны следующие особенности:
1) децентрализованность собирания неологизмов (университеты, научные группы, центры),
что обусловлено исторически; 2) различная языковая политика в каждой стране, разное
отношение к нормированию и кодификации языка; 3) ступенчатое влияние региональных
лингвистик: сильное влияние датской лингвистической традиции (в том числе и
лексикографической) на шведскую, далее (через шведскую) – на финскую и норвежскую;
4) тесное сотрудничество скандинавских лингвистов с коллегами и партнерами не только на
европейской арене, но и во внутрискандинавском масштабе.
Каждая из скандинавских стран следовала своему пути развития и охраны
национального языка / национальных языков, поэтому и Советы по языку создавались в них
в разное время. И лексикография как часть языковой политики, языковой экологии в странах,
и неология как специализированная сфера лексикографии развивались несинхронно.
Например, Совет датского языка (DanskSprognævn) был образован в 1955 г. со следующими
65
целями: 1) публикация словарей разных типов; 2) выпуск ежеквартального научного журнала
о состоянии датского языка; 3) систематическое отслеживание и фиксация новых слов и
значений; 4) нормализаторско-кодификаторская деятельность по использованию датского
языка в публичной сфере. За такое продолжительное время существования Совета вышло
только два словаря новых слов и значений, включающих в себя неологизмы: первый словарь
охватывает период с 1955 по 1975 гг. [Riber Petersen 1986], второй, обобщающий и
содержащий выявленные пропуски, а также новые неологизмы, – с 1955 по 1998 гг. [Jarvad
1999]. Оба словаря составлены одним человеком; в рецензии на эти словари отмечалось, что
это может кому-то нравиться, кому-то нет, так как в таком случае не удается избежать
некоторого личного (индивидуального) пристрастия составителя к той или иной лексеме
[Larsen 2001: 186] или пропуска ввиду недостаточности сведений у автора о первом
появлении слова или значения. Второй словарь насчитывает около 10 000 лемм, он включил
также примерно 1500 новых слов и значений, отсутствовавших в первом словаре
неологизмов; его словник пополнился или действительно новыми словами и значениями, или
пропущенными в первом словаре по недосмотру.
Шведская неография располагает двумя словарями новых слов и значений: первый
вышел в 1986 г. и включал инновации, появившиеся в шведском за 40 лет (1940-1980 гг.)
[Nyord 1986], второй вышел в 2000 г. [Nyordsboken 2000] и содержал слова и значения
последнего десятилетия XX в. (1990-2000). Этот словарь новых слов и значений шведского
языка регистрирует более 2000 единиц. Пополнение лексического состава шведского языка
активно происходило за счет, в частности, композитного словообразования: data-, dator-
(datafreak, datorvirus), -factor (trendfactor), miljö- (miljöbomb, miljödisel), -mare (bilkmare,
brokramare) и еще трех десятков популярных и регулярных деривативных элементов. Около
400 единиц представляют собой заимствования из американского варианта английского
языка, здесь же представлены и некоторые единичные заимствования из других языков:
идиша (beigel, kletmer, kosher, pastrami), датского (deponi, energisparlampa, fundis, femitolv),
японского (kaizen, karaoke, ninja, sushi, tamagochi), русского (apparatijk, glasnost, perestrijka,
spetsnaz), арабского (fatwa, intifada, jihad, mujahedin), китайского (falun, gong, qigong, taiji),
французского (aoili, raclette, sommelier), испанского (enchilada, taco), итальянского (ciabatta,
pesto), португальского (lambada), венгерского (langos), сербского (etniskrensning), чешского
(sammelrevolution; чешский оригинал sametová revoluce, английский смысловой эквивалент
the Velvet Revolution), турецкого (bulgur), латинского (defacto-flyckting, nocebo) [Nyordsboken
2000: 16].
Стилистическая характеристика слова или значения в этом словаре дается минимальная
(bildlig – образное, skämsamt – шутливое, speciel – специальное, vardagligt – сниженное), в
основном среди помет используется указание на язык-источник.
Норвежские лексикографические сайты (в том числе и страницы с новыми словами и
значениями) вынуждены давать неологизмы и толкования на двух равноправных,
официально закрепленных вариантах норвежского литературного языка: букмоле (bokmål) и
нюношке (nynorsk). Букмол – так называемый норвегизированный датский, доминирующий
в массмедийной, литературно-художественной сфере и в речевом обиходе. Им владеют
около 90% норвежцев. Нюношк – язык, основанный на западнонорвежских диалектах в
пуристической оппозиции датскому (и частично букмолу). Интернет-страницы с поиском
новых слов и значений предлагают пользователям выбрать один из двух вариантов
(bokmålили nynorsk) или же использовать оба (begge), ввести поисковое слово и ждать
результата. Различия могут касаться как графической формы искомого слова, так и
языкового оформления толкований (в нюношке стремятся избегать заимствованных лексем).
Читатель без труда может увидеть некоторые отличия, например, в толковании и подаче
слова джиу-джитсу (jiu-jitsu), набрав это слово в поисковой строке на странице
http://www.nob-ordbok.uio.no/.
Англоамериканское влияние на букмол в норвежском языке сильнее, чем на нюношк,
поэтому англоамериканизм, зафиксированный, например, в букмоле, может отсутствовать в
66
нюношке, и наоборот – неологизм, отмеченный в нюношке, не обязательно находится в
букмоле. Вообще англоамериканизация словаря скандинавских и финского языков –
острейшая проблема; процентное соотношение англоамериканизмов в странах Скандинавии
(в широком смысле) значительно разнится. Это связано, во-первых, с разной степенью
нормализаторско-кодификаторского вмешательства государственных институций в язык в
разных странах, во-вторых, с социально-ментальными факторами (модальная окрашенность
понятий коллективности, этничности, национальной идентичности значительно
варьируется). В качестве небольшой иллюстрации приведем таблицу, показывающую
социолингвистическую оценку носителями языка присутствия английского языка в
повседневной жизни [Vikør 2004: 9].
страна позитивно негативно
Дания 51 30
Норвегия 39 38
Финляндия 35 41
Швеция 28 47
Финские шведы 25 56
Фарерские острова 25 60
Исландия 11 77
Таблица явственно показывает, что среди представленных здесь стран Дания занимает
ведущее место в позитивном отношении к английскому языку, напротив – Фарерские
острова и Исландия наиболее отрицательно относится к такому англоязычному воздействию.
И в этом есть свои исторические причины. Например, на Фарерских островах (население
всего 50 000 человек) распространены два официальных языка: фарерский и датский.
Фарерский сформировался на основе языка норвежских переселенцев-викингов еще в IX в.,
датский язык – результат завоевания датчанами островов в Средние века (XVI в.). Фарерский
стал устным языком, датский – письменной формой, языком публичного дискурса. С
середины XIX в. фарерский постепенно отвоевывал свои позиции в социально-общественной
жизни. Во время Второй мировой войны он испытал сильное влияние английского языка
вследствие оккупации Англией островов в 1940 г. Формирование фарерского, таким
образом, постоянно происходило под давлением других языков, что инициировало в
обществе появление сильных пуристических тенденций как на лексическом, так и на
морфологическом уровнях языка, (в частности, стремление заменять иноязычные
словообразовательные морфемы).
Языковой комитет (Føroyskamálnevndin) на Фарерах был основан Й. Х. Поульсеном
совсем недавно (в 1995 г.) и базируется на модели аналогичного исландского органа. Цель
комитета изначально пуристическая: оценка инноваций в языке, максимально возможная
замена новых заимствований (в первую очередь из датского и английского) фарерским
языковым материалом. С. П. Леонард описывает почти анекдотичный, но весьма
показательный случай, рассказанный ему Поульсеном: группа девушек пришла к дому
Поульсена с необычной просьбой – они играют в воллейбол, но никак не могут понять, зачем
и почему им надо использовать иностранное слово, разве на фарерском языке нет
подходящего эквивалента, ведь им предстоят матчи в Исландии, где заимствования не очень
жалуют. Поульсен задумался; в результате в фарерском лексиконе вместо англицизма
volleyball (букв.: летящий мяч) появилась лексико-морфологическая калька fogbóltur [Leonard
2011]. В этом отношении фарерский близок по своим социально-кодификаторским
устремлениям к пуристическим норвежскому нюношку и исландскому языку.
Особенно были заметны пуристические тенденции в словаре новых слов и значений,
вышедшем в 1978 г. [Clausén 1978], и в первом (пока единственном) толковом словаре
фарерского языка 1998 г. [Poulsen&al 1998]. Давление глобального мира, включенность
Фарер в мировую экономику, экологический туризм как быстро растущая сфера занятости
67
населения на островах колеблют пуристические интенции, расшатывают
лингвоохранительные настроения в обществе и, как результат, заставляют лексикографов все
чаще вносить семантические и деривационные инновации в словари (особенно это касается
двуязычных словарей, своеобразных индикаторов изменения языковых вкусов) [Jacobsen
2008; Knudsen 2010].
Финское Языковое бюро (Kielitoimisto) было сформировано в 1945 г. путем
реорганизации Комиссии по вопросам финского языка (Suomenkielenlautakunta, год
образования – 1928). Примечательно, что среди инициаторов его создания и спонсоров были
крупные издательства WSOY и Otava, нуждавшиеся в нормативных унифицированных
языковых справочниках для издания справочно-энциклопедической литературы. В 1976 г.
создан Исследовательский центр отечественных языков (Kotimaistenkieltentutkimuskeskus), в
2012 г. переименованный в Центр отечественных языков (Kotimaistenkieltenkeskus, KOTUS).
Одно из основных направлений деятельности KOTUS – подготовка и публикация
фундаментальных словарей в Финляндии.
Первой попыткой лексикографирования неологизмов в финском языке является
[Uudissanasto 80]. Его выход диктовался практической потребностью – восполнить
лексические лакуны в «Словаре современного финского языка» (Nykysuomensanakirja, 1951–
1961, объем словника около 200 000 слов) и отразить новые укоренившиеся явления в
финском языке. Объем нового словаря – примерно 6000 единиц, подавляющая часть лексики
относится к 1960–1970-м гг. и совсем незначительная – к 1940–1950-м гг. Данный словарь
не претендовал на исчерпывающее описание неологизмов, оставляя это право готовящемуся
к изданию «Основному словарю финского языка» (Suomenkielenperussanakirja, 1990–1994 гг.,
объем словника около 100 000 слов). Во вступительной статье к «Словарю новых слов и
значений-80» подчеркивается его прагматический характер. В ней не содержится
теоретических наблюдений и обобщений, не предлагается систематическое отслеживание
появляющихся в финском языке новых слов и значений. Таким образом, Uudissanasto 80
остался единственной «ласточкой» в бумажной неографии финского языка, не создал
прецедентов для последующей практики. С 1997 г. словари финского языка стали выходить
сначала на компакт-дисках (CD-ROM), а затем, в 2000-е гг., в электронных, постоянно
пополняемых версиях. Новая лексика органично включена в них и специально не выделяется
(более подробная характеристика финской неографии и неологии содержится в [Зеленин
2006]).
Необходимость использования электронных баз данных значительно изменила
инструментарий лексикографов и требования к их профессиональной квалификации. В
рабочие инструменты лексикографа в настоящее время входят традиционные, испытанные
временем ручка, блокнот, а в последние десятилетия – стикеры. Например, в финском центре
языков в рабочих помещениях висит доска, куда сотрудники на стикерах вносят новые слова
или значения, услышанные на улицах, по телевидению и т. д.; коллеги периодически
просматривают эту растущую коллекцию и также делают пометки; в конце месяца на общем
собрании группы решается судьба каждого слова или значения: или продолжать следить за
использованием его в речи, или же отложить в сторону. Умение пользоваться различными
электронными базами данных и компьютерными программами – необходимая составляющая
профессионализма современного лексикографа. Для статистических подсчетов они
используют, например, следующие программы обработки данных: SPSS, STATA, JPN,
Minitab, Graphpad и др., а также программы Excel, Numbers для создания электронных
таблиц. Для обработки текста используются Word, Pages; в некоторых группах используются
текстовые редакторы TextWrangler, Notepad+, Oxygen.
Глобальный тренд мультимодальной визуализации инспирировал лексикографов-
неологов практически во всех скандинавских странах в сотрудничестве с английскими,
американскими и немецкими коллегами начать работу по извлечению фрагментов из текстов
СМИ, в том числе телевизионных программ, и созданию в перспективе обширной видеотеки.
Слово в таком случае предстает не только как факт лексикона, словаря, но и в совокупности
68
его мультимодальных характеристик (сфера употребления, конситуация, гендерно-
возрастные параметры, включенность в спонтанную речь, диалогово-монологический
режим, вербально-невербальное сопровождение и т. д.).
Для овладения компьютерными навыками и для поддержания их на современном
уровне лексикографы периодически проходят курсы повышения квалификации.
В неологии, конечно, сохраняется и старый, традиционный способ сбора
неологического материала, основанный на языковой и профессиональной компетенции
специалиста. Однако все возрастающий поток информации, почти мгновенно
распространяющейся по миру, участие в социальных сетях, полилингвизм, свойственный
практически всем жителям Скандинавии, многократно умножают фреквентативность и
скорость вхождения лексических инноваций в лингвокультурный обиход. Мировой тренд в
способах сбора языкового материала в настоящее время уверенно переместился к
машинному, корпусному методу. Традиционный, ручной способ выборки, принятый,
например, в фундаментальном Merriam-Webster‟s Dictionary вплоть до 2011 г., теперь
участвует лишь как факультативный, тестовый инструмент. Английская неология,
базирующаяся на словарной картотеке словаря Коллинза также располагает обширной
электронной базой (CollinsWordBanksOnline = theCollinsWordWeb). Лингвистические
корпуса медиаобразовательной группы «Лонгман», построенные на выборке из книг, газет,
журналов и насчитывающие около 400 миллионов лемм, преследуют цель не только полного
лексикографического описания, но и учебно-практическое цели: выпуск аспектных
(дифференциальных) словарей для пользователя, будь то в бумажном или электронном виде,
в свободном доступе или требующем регистрации и оплаты.
Начиная с 1990-х гг. скандинавские лексикографы (преимущественно датские и
шведские, затем в середине 2000-х гг. к ним присоединились финские и норвежские)
принимали активное участие в международных проектах, связанных с электронно-
компьютерной обработкой огромных массивов данных, выработкой лексикографических
поисковых стратегий в текстах, в том числе и верификацией нелогизмов: 1) AVIATOR
(Analysis of Verbal Interaction and Text Retrieval) – создание корпуса текстов (диахронический
аспект) для определения степени новизны слова (1990–1993); 2) APRIL (Analysis and
Prediction of Innovation in the Lexicon) – продолжение предыдущего проекта, использование
веб-текстовой базы (1997–2000); 3) TheWebCorp (WebasCorpus, 2000-2003) – создание
корпуса, построенного на актуальных массмедийных веб-текстах; 4) TheWevCorp (2004-
2007) – коммерческий проект, организованный компанией Searchengine.com совместно с
поисковой системой Google; 5) WebCorpLSE (WebCorp Linguist‟s Search Engine) –
продолжение и шлифовка предыдущего проекта (2007-2011).
Результаты многолетнего плодотворного сотрудничества компьютерщиков и
национальных коллективов лексикографов можно оценить на веб-странице
http://wse1.webcorp.org.uk/, где представлено 45 языков для предложенного пользователю
поиска, в том числе и русский. Разумеется, результаты поисковых запросов в разных языках
не совпадают. Например, для финского слова bloggailla („вести блог‟) данный сайт выдает
большое количество материала, а для русского чатиться („общаться при помощи интернет-
чата в режиме реального времени‟) материалов почему-то не нашлось, хотя слово
существует с 1990-х гг. (см. [HCЗ-90, т. 3]). Тесное взаимодействие скандинавских
лексикографов с другими европейскими коллегами, высокая обеспеченность скандинавских
стран быстродействующими компьютерами и лабораториями позволяет идти скандинавским
лексикографам в первых рядах совершающегося на наших глазах перевода лексикографии на
компьютерно-мультимодальные рельсы. Пользовательско-ориентированные словари –
главное направление развития скандинавской (и не только) лексикографии, включая
неографию.
Поворот академической лексикографии к потребителю инициировал активизацию
интерактивного взаимодействия профессионалов и любителей. Современные формы
коммуникации позволяют всем желающим соучаствовать в пополнении электронного
69
словника, проводить среди наиболее заинтересованных пользователей интернет-опросы,
анкетирование по тому или иному случаю, интересующему профессиональное сообщество.
Стали создаваться онлайновые словари различных сленгов. Неутоленная жажда носителей
языка в поиске слова, значения из низовых регистров языка, как правило, отсутствующих в
нормативных справочниках, привела к возникновению на просторах Интернета разного
качества многочисленных словариков или перечней слов, фраз, коллокатов из бытовой речи.
Например, широко известный сетевой словарь современного английского узуса Urban
Dictionary с 1999 г. ежедневно пополняется примерно 2 000 новых языковых регистраций,
выносимых на всеобщее тестирование. В Финляндии с 2007 г. появился аналог
Urbaanisanakirja, насчитывающий пока немногим более 30 000 слов и дефиниций; в 2010 г.
вышла бумажная версия электронного словаря [Söderlund, Wahrman 2010]. По словам
финских неологов-профессионалов, критически оценивших этот словарь, главная цель его не
столько научная, сколько развлекательная, что проявляется в целом ряде отступлений от
профессиональной лексикографии: 1) в толкованиях лемм, или входных слов, далеких от
политкорректности; 2) в наивных попытках этимологизирования или в некорректном
определении источника заимствования; 3) в лексикографическом любительстве; 4) в
некритическом подходе к материалу [Eronen 2010: 36-37].
Интерактивный интерфейс «лексикограф – пользователь», опробованный в интернет-
пространстве в 1990–2000-е гг., вошел в активное пользование и в скандинавской
лексикографии: каждый человек, зарегистрировавшись на соответствующей странице
национального языкового центра, может предложить лексикографам слово, фразу для
рассмотрения, дать свое объяснение их значения и по возможности указать источник. Группа
профессионалов-неологов периодически обсуждает материал, полученный от широкой
аудитории.
Словарь – коммерческий продукт, поэтому многие национальные языковые центры по
сути превратились в научно-коммерческие организации, получающие субсидирование как со
стороны государства, министерств, профильных культурных или социальных подразделений,
так и зарабатывающие деньги проведением мастер-классов, приглашением специалистов на
различные семинары, в высшие учебные заведения и школы.
Выводы: 1) скандинавская неология и неография начали развиваться после Второй
мировой войны как результат реализации прокламированных целей в созданных в
скандинавских странах советах (комитетах) по охране и кодификации национального
языка/национальных языков; 2) в исландской, фарерской, норвежской (нюношк) традициях
важную роль играет пуристический фактор; для лексикографий этих стран характерно
стремление максимально оградить свой язык от проникновения в него «чужих» (например,
датских, англоамериканских) лексических и деривационных элементов; национальные
традиции других стран (датская, шведская, финская, норвежская (букмол)) менее нацелены
на искоренение иностранных элементов или поиск адекватной замены; 3) для скандинавской
модели характерна рассредоточенность сбора, обработки и презентации неологического
материала. Словари новых слов немногочисленны; существует практика представления
неологических материалов широкой общественности в виде приложений к популярным в
Скандинавии ежегодникам по актуальным событиям в стране: HHH (Hem, Hvad, Hvor,
Дания, 1933-2012), NVH (När, Var, Hur, Швеция, 1944-2007), MMM (Mitä, missä, milloin,
Финляндия, с 1950 г.); 4) в последние полтора десятилетия происходит переход на
электронно-компьютерный путь пополнения неологического словника; ручная выборка стала
вспомогательным, факультативным, тестовым инструментом работы лексикографа-неолога;
5) неологизмы разных типов представлены в лексикографическом виде на интернет-сайтах
институтов, центров в качестве одного из фрагментов общего словаря национального языка;
6) формируется новый тип взаимоотношений научно-пользовательской сети «лексикограф –
потребитель» на базе интерактивного интернет-сотрудничества или при помощи мобильных
гаджетов; 7) создаются мультимодальные банки не только неологизмов, но и (в перспективе)
всего лексического богатства языка, что предполагает визуальное, аудиальное
70
сопровождение лексемы, грамматической или синтаксической формы в живом
употреблении; слово проектируется как совокупность вербальных и невербальных
составляющих.
Сокращения
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века. В 3-х тт. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), и
Е. А. Левашова. Ин-т лингвистических исследований РАН. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009-
2014.
Литература
Clausén 1978 – U. Clausén. Nyord i färöiskan: ett bidrag till belysning av språksituationen
på Färöarna. Stockholm: Almqvist &Wiksell, 1978.
Eronen 2010 – R. Eronen. Urbaani sanakirja verkosta kansien väliin // Kielikello. № 4.
2010.
Jacobsen 2008 – J. í Lon Jacobsen. Álvaratos, who cares? Ein samfelagsmálvísindalig
kanning av hugburði og nýtslu av tøkuorðum og nýggjum orðum í føroyskum. Í røðini: Moderne
importord i språka i Norden, 2008.
Jarvad 1999 – P. Jarvad. Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk. 1955–1998. Køpenhavn:
Gyldendal, 1999.
Knudsen 2010 – K. J. Knudsen. Language Use and Linguistic Nationalism in the Faroe
Islands // International Journal of Multiculturalism. № 7. 2010.
Larsen 2001 – F. Larsen. Рец. на: Pia Jarvad. Nye Ord: Ordbog over nye ord i dansk 1955–
1998. Copenhagen: Gyldendal, 1999 // Acta Linguistica Hafniensia. V. 33. № 1. 2001.
Leonard 2011 – S. P. Leonard. Ethnolinguistic Identities and Language Revitalisation in a
Small Society: The Case of the Faroe Islands // Journal of Northern Studies. № 1. 2011.
Nyord – Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Esselte Studium: Utgiven av Svenska
språknämden, 1986.
Nyordsboken – Nyordsboken: Med 2000 nya ord in i 2000-talet. Stokholm: Svenska
språknämden: Nordstets ordbok, 2000.
Poulsen, Simonsen, Poulsen, Jacobsen, Johansen, Hansen – J. H. W. Poulsen, M. Simonsen,
J. Jacobsen, L. A. Johansen, Z. S. Hansen. Føroysk orðabók. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
1998.
Riber Petersen – P. Riber Petersen. Nye ord i dansk 1955-75. 2. oppl. København:
Gyldendal, 1986.
Söderlund, Wahrman 2010 – M. Söderlund, N. Wahrman. Urbaani sanakirja. Helsinki:
Tammi, 2010.
Vikør 2004 – L. S. Vikør. Nordiske språkhaldningar i 2002. Eimeiningmåling // Språknytt.
Oslo: Norsk spra krad, № 1. 2004.
Uudissanasto 80. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & WSOY, 1979.
Зеленин 2006 – А. В. Зеленин. Финская неология // Русская академическая неография
(к 40-летию научного направления). Материалы Международной конференции. Институт
лингвистических исследований РАН. 23 – 25 октября 2006 г. / Отв. ред. Т. Н. Буцева и
О. М. Карева. СПб.: Наука, 2006. C. 53-59.
71
В. П. Изотов
ЗОНА КОММЕНТАРИЕВ В СЛОВАРЯХ АВТОРСКИХ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ
Работа над составлением словарей окказиональных слов В. С. Высоцкого [Изотов
1998], Н. И. Глазкова [Изотов 2012 а], В. Г. Ражникова [Изотов 2012 б], А. Е. Кручѐных
[Изотов, Панюшкин 2013], В. В. Каменского, В. С. Шефнера и других привела к
необходимости включения в состав словарной статьи (которая в обязательном порядке
содержит заголовочное слово, толкование значения, контекст употребления, способ
словообразования) факультативной зоны комментариев.
Идея наличия зоны комментариев не является принципиально новой. Еще
П. Н. Денисов, характеризуя «идеальную универсальную словарную статью», среди ее
обязательных компонентов называет «отсылки и справки разного характера и назначения»
[Денисов 1980: 217].
Эта зона призвана дать различного рода справочные материалы по поводу
анализируемого слова, поскольку далеко не всегда авторские окказионализмы прозрачны и в
отношении значения, и в отношении словообразовательной интерпретации. Составители
словарей авторских окказионализмов в той или иной мере говорят о необходимости
включения различного рода справочной информации в словарную статью. Так,
Н. Н. Перцова в структуре словарной статьи «Словаря неологизмов Велимира Хлебникова»
выделяет такую рубрику, как «ассоциации, связанные со словом» [Русская… 2003: 425].
Л. В. Алешина включает в словарную статью для словаря авторских новообразований «зону
дополнительных сведений» [Алешина 2001: 144].
Среди компонентов словарной статьи, разработанной для «Словаря неологизмов
Игоря-Северянина», в качестве комментариев можно рассматривать следующие: «8.
Идентичный неологизм в творчестве другого/других писателя/писателей. 9. Толкование
другого исследователя, данные других словарей (в случаях расхождения с представленным
толкованием или в целях уточнения). 10. Обращение к языку-источнику мотивирующего
слова (в связи с толкованием неологизма, произведенного на базе заимствованных морфем).
11. Синонимы. 12. Антонимы». [Никульцева 2008: 9].
При описании окказиональных слов футуристов Д. Б. Масленников не включает в
структуру словарной статьи какие-либо компоненты, которые можно было бы считать
относящимися к зоне комментариев [Масленников 2009: 144].
Составители словаря авторских новообразований Евг. Евтушенко указывают, что
«комментарий и сведения энциклопедического характера даются факультативно, чаще
всего в статьях с отонимами (образованиями от собственных имен) или в случаях, трудных
для читательского восприятия» [Намитокова, Нефляшева 2009: 11]. Так, при словарной
статье НЕДО-БЛОК-АЛЬХЕН (Поклонник Блока, Анненского, Тютчева, // взобравшийся по
книгам на Парнас, // глаза полузакатывая с аханьем, // небеснооким недо-Блоком-Альхеном //
он призывал к возвышенности нас) дан следующий комментарий: «Альхен – жуликоватый
персонаж из «Двенадцати стульев И. Ильфа и Е. Петрова – примечание Евг. Евтушенко»
[Намитокова, Нефляшева 2009: 157]. Словарная статья УИТМЕНОВСКИЙ (Воздух
уитменовский, Роберт-фростовский, // но оглядишься – пропасть за пропастью)
сопровождается такой энциклопедической справкой: «Уолт Уитмен (1819-1892) –
американский поэт, публицист, воспевавший всемирное братство людей труда»
[Намитокова, Нефляшева 2009: 272].
В словаре окказионализмов В. В. Маяковского «приводятся также указания на
частотность употребления окказионализма, словообразовательная и, при необходимости, –
энциклопедическая справка» [Валавин 2010: 20].
В монографии Л. Л. Шестаковой, посвященной русской авторской лексикографии
[Шестакова 2011], к сожалению, не содержится отдельной информации о структуре и
содержании словарной статьи в словарях авторских новообразований.
72
Таким образом, зона комментариев в словарях окказиональных слов отдельных
авторов, как правило, особо не оговаривается, хотя в ряде случаев окказионализм является
определенного рода символом в поэтической картине мира автора. Рассмотрим несколько
конкретных примеров.
В. С. Высоцкий в песне «Купола» создал интересный окказионализм: «Я стою, как
перед древнею загадкою, Пред великою да сказочной страною, Перед солоно- да горько-
кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною». К этому слову можно дать следующий
комментарий. Этот окказионализм является средоточием представлений поэта о Родине.
Взаимодействие значений каждого компонента и их сумма создают парадоксальный образ
России, передают парадоксальное к ней отношение, своего рода «любовь-ненависть» по
отношению к Родине, – в традиции, впрочем, русской литературы и русского самосознания,
в котором уживаются и боль, и гордость, и небрежение... Правда, это отношение, как
правило, выражается описательно, обычно через синонимико-антонимические ряды (ср.,
например, некрасовское: «Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, –
Матушка-Русь!»). В. С. Высоцкому же удалось обозначить, выразить это внутренне
противоречивое отношение посредством только одного слова.
Для Н. И. Глазкова словом-символом его творчества стал окказионализм Поэтоград.
Это самый частотный окказионализм в его произведениях – там он отмечен около 20 раз (это
и название двух поэм, и употребление этого слова в различных стихотворениях и поэмах).
Поэтоград Н. И. Глазкова – версия утопического проекта города поэтов, города для них. Вот
что пишет об этом исследовательница творчества поэта:
Обращается Глазков и к любимым хлебниковским темам, в частности, к теме «азийских» корней России,
развивая ее в своей поэме «Азия». Не обходит он и тему «Ладомира», однако трактует ее совершенно по-
новому, скорее споря с Хлебниковым, чем вторя ему. Осуществимость нарисованной в хлебниковском
«Ладомире» (1920) социальной утопии вызывает у Хлебникова явный скептицизм.
А потому он выходит с собственной версией утопического проекта, который называет «Поэтоград» и
который с начала 1940-х гг. постоянно упоминается в глазковских стихах.
И не только в стихах. В архиве поэта сохранился нарисованный Глазковым план «Поэтограда», который
будет впоследствии репродуцирован в сборнике «Самые мои стихи». На этом плане мы находим «Маяк
Маяковского», «Набережную Хлебникова», «Аэродром Каменского», «Ул. Пастернака», «Бульвар Глазкова»,
«Огород Васькова», «Тупик Кумача»… Судя по плану, в Поэтограде имелось 13 общежитий, 31 ресторан, 45
пивных, 64 журнала, 75 издательств, 3 сумасшедших дома – «для прозаиков, для критиков и для редакторов».
Даже самый наивный читатель не мог отнестись к глазковскому «Поэтограду» серьезно, и на это,
очевидно, и рассчитывал поэт. В отличие от Хлебникова, убежденного в точности «чертежа» своего
«Ладомира», Глазков выражает серьезное сомнение в реализуемости подобного рода проектов. [Винокурова
2006: 127].
Сборник В. В. Каменского «Танго с коровами» имеет подзаголовок «Железобетонные
поэмы». Слово железобетонный зафиксировано в «Национальном корпусе русского языка»
37 раз, самое раннее употребление относится к 1922 г.: «В железобетонный век так
естественны грезы о каменном» (К. И. Чуковский, Кубофутуристы). Ср.: «В 1912-1913 гг. в
северо-западном углу фронта возведено сильное бетонное убежище на четыре
противоштурмовые пушки, а к казарме пристроен железобетонный броневой
наблюдательный пост» (С. А. Хмельков, Борьба за Осовец, 1939).
А вот самые ранние примеры употребления слова железобетон, зафиксированные тем
же источником: «Они чувствуют, эти люди, сияние вокруг своих голов, и одной лишь волей
своею в перл создания возводят себя, – ―разносчики новой эры, в небеса шарахающие
железобетон‖» (Н. В. Устрялов, Под знаком революции, 1927); «Молодой зеленоватый
железобетон вылущивается из деревянных опалубок, лесов» (В. П. Катаев, Время, вперед!,
1931–1932); «Трамбованный бетон от удара и взрыва этих бомб расслаивается по рабочим
слоям, дает весьма большое количество трещин, особенно горизонтальных, причем
наблюдаются случаи отделения покрытия от стен и стен от фундамента; все это говорит
о том, что в крепостном оборонительном строительстве необходимо перейти к более
надежному материалу, каким является железобетон» (С. А. Хмельков, Борьба за Осовец,
1939) [Национальный корпус русского языка].
73
В предисловии Ю. Молока («Типографские опыты поэта-футуриста») к этой книжке
читаем следующее:
Само название этой книжки сегодня может показаться странным, соединившим такие разные понятия,
как «танго» и «коровы». Новомодный тогда танец «Танго» представлялся современникам чуть ли не
сокрушением основ. Выступая в его защиту, – «Все танцуют Танго...», – петербургский журнал «Аргус»,
однако, утверждал: «Танго вовсе не так невинен, иначе его не запрещали бы, даже в родной ему Англии...».
Среди лекций, которые поэт-футурист И. Зданевич читал в то время – на различных петербургских
литературных вечерах, –- «Раскраска лица» или «О башмаке», – была и специальная лекция «О танго». В
программе вечера от 13 апреля 1914 г. сообщалось: «После лекции будут танцы, прения. В прениях выступают:
гг. Тэффи, Н. Альтман и др.». (Тремя годами раньше другой новомодный танец, «Аргентинская полька», стал
темой картины К. Малевича, написанной им по образцу журнальной фотографии того времени). Наконец,
полное название поэмы Каменского – «Танго с коровами» – было вполне во вкусе алогизмов нового искусства,
если вспомнить название одной из картин того же К. Малевича «Корова и скрипка» 1913 г. или поэмы
В. Маяковского «Флейта-позвоночник», написанной уже после «Железобетонных поэм». (Позднее К. Малевич
повторит свою картину в литографии, сопроводив ее специальным, тоже литографированным, текстом:
«Логика всегда ставила преграду новым подсознательным движениям и чтобы освободиться от предрассудков,
было выдвинуто течение алогизма. Показанный рисунок представляет собой момент борьбы – сопоставлением
двух форм: коровы и скрипки в кубистической постройке»).
Новым в то время было и понятие «железобетон», которое только-только начало в России входить в
обиход, и футуристы с их бунтом против сладкозвучных эвфемизмом, характерных для поэтики символизма,
подхватили это новое слово из лексикона строительной техники. Как отмечает Джеральд Янечек, первым среди
футуристов, за год до Каменского, этот неологизм использовал А. Крученых в своей книжке «Поросята»:
железобетонные гири-дома тащут бросают меня ничком. Но, по мнению американского исследователя, здесь
это понятие буквально прикреплено к архитектурному образу, характеризует его и только его и поэтому не
представляет собой поэтической метафоры. «Каменский первый, кто использовал его метафорически».
Ответ на вопрос, почему В. В. Каменский употребил в качестве эпитета к своим поэмам понятие
«железобетонные», неоднозначен. Некоторые зарубежные исследователи русского футуризма буквально
выводят его из особых качеств этого материала – наличие проволочного каркаса и заполнение его другим
материалом – бетоном. В самом деле, В. В. Каменский выстраивает из многоугольников, пятиугольников,
треугольников каркас поэмы, заполняя его своими текстами. К тому же он был не только поэтом, не только
художником, но, как известно, и авиатором; во время футуристического турне, о котором уже упоминалось, он
выступал с докладами на тему: «Аэропланы и поэзия футуристов», – где, согласно тезисам, говорил «о влиянии
технических изобретений на современную поэзию», о том, что «пробеги автомобилей и пролеты аэропланов,
сокращая землю, дают новое мироощущение», утверждал «новые понятия о красоте».
Неудивительно поэтому, что он так дерзко оперирует техническими терминами применительно к
собственной поэзии. Однако в книге поэм Каменского одна половина имеет графически выраженную
структуру, другая – не имеет, даже поэма, по которой дано название всему изданию: «Танго с коровами», –
оказывается не самой «железобетонной» из поэм. Очевидно, Каменский употреблял этот термин в более
широком смысле, а не только как прямое обозначение жесткой конструкции: он ввел его по принципу «чужого»
слова, как антипод лирического, романтического словаря поэзии. Таким чужим словом была метафора
Маяковского в стихотворении «Вывескам»: «Читайте железные книги!» – напечатанном в «Требнике троих» в
1913 году, за год до книги Каменского, который пошел дальше, назвав свои поэмы «железобетонными».
[http://www.raruss.ru/avant-garde/2436-tango-with-cows.html].
У В. Ражникова в стихотворении «Петр Первый» есть такие строки: Администрель, ты
слышишь стон? // Россия – длинный фельетон // по царской прихоти и нашей лени.
Окказионализм администрель может быть прокомментирован следующим образом: Петр
Первый является менестрелем администрации, поскольку в обыденном сознании именно с
его именем связано создание и становление административно-бюрократической системы.
Таким образом, комментарии в словарях авторских новообразований сообщают самую
разную информацию, связанную с бытованием слова в идиолекте конкретного автора, с
разъяснением некоторых лингвистических и внелингвистических реалий и ассоциаций, с
сообщением сведений энциклопедического характера и т. д.
Как показывает практический опыт, целесообразнее всего комментарии такого рода
размещать в подстрочных примечаниях – в таком случае они, как представляется, в большей
степени являются наглядными (хотя, конечно, их можно размещать и в основном тесте
словарной статьи, снабдив это размещение каким-либо специальным знаком).
Разумеется, зона комментариев присуща не всем словарным статьям. Однако в тех
случаях, когда окказиональное слово является знаковым для автора, когда оно
взаимодействует со всем контекстом творчества поэта и проявляет определенные
74
прецедентные связи, зона комментариев является необходимым компонентом словарной
статьи.
Литература
Алешина 2001 – Л. В. Алешина. Словари авторских новообразований в контексте
современной отечественной лексикографии. Орел: ОГУ, 2001.
Валавин 2010 – В. Н. Валавин. Словотворчество Маяковского: Опыт словаря
окказионализмов. М.: Азбуковник, 2010.
Винокурова 2006 – И. Винокурова «Всего лишь гений…». Судьба Николая Глазкова.
М.: Время, 2006.
Денисов 1980 – П. Н. Денисов. Лексика русского языка и принципы ее описания. М.:
Русский язык, 1980.
Изотов 1998 – В. П. Изотов. Окказионализмы В. С. Высоцкого. Опыт словаря. Орел,
1998.
Изотов 2012 (а) – В. П. Изотов. О принципах составления словаря окказионализмов
Николая Глазкова // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки, 2012. № 2 (46). С. 122-124.
Изотов 2012 (б) – В. П. Изотов. «Распродажа в новолунье» В. Г. Ражникова: словарь
новообразований // В. П. Изотов. Четыре словаря. Орел: ОГУ, 2012. С. 29-74.
Изотов, Панюшкин – 2013 – В. П. Изотов, В. В. Панюшкин. Алексей Крученых и
поэтика русского словообразования // Жизнь языка. Жизнь в языке: Материалы
Всероссийской научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора
филологических наук, профессора Василия Васильевича Щеулина (Липецк, 13 марта 2013
года). Сборник научных трудов. Ч. 2. Липецк: ЛГПУ, 2013. С. 51-54.
Масленников 2009 – Д. Б. Масленников. Русское поэтическое словотворчество. Ч. 1.
Футуристы. Уфа: БГПУ, 2009.
Намитокова, Нефляшева 2009 – Р. Ю. Намитокова, И. А. Нефляшева. Слова поэта:
Опыт словаря авторских новообразований Евгения Евтушенко. Майкоп: ООО «Качество»,
2009.
Национальный корпус русского языка // www.ruscorpora.ru
Никульцева 2008 – В. В. Никульцева. Словарь неологизмов Игоря-Северянина. М.:
Азбуковник, 2008.
Русская... 2003 – Русская авторская лексикография ХIХ-ХХ веков: Антология. М.:
Азбуковник, 2003.
ТипОгрАФскиЕ ОпЫтЫ поЭтА-ФутуристА // http://www.raruss.ru/avant-garde/2436-
tango-with-cows.html
Шестакова 2011 – Л. Л. Шестакова. Русская авторская лексикография: Теория, история,
современность. М.: Языки славянских культур, 2011.
75
В. Н. Калиновская, С. А. Эзериня
ОТ НЕОЛОГИЧЕСКОГО ДО НЕО-НЕО-НЕО-РЕАЛИЗМА:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ С
НАЧАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ НЕО-1
…Мы внимательны ко всему тому, что ново для нас, но не настолько
ново, чтобы быть совершенно незнакомым и потому непонятным;
новое должно дополнять, развивать или противоречить старому
К. Д. Ушинский
Неологические словари традиционно принято рассматривать в первую очередь через
призму современности как отражение синхронного среза языкового бытия, при таком
подходе неоправданно уходит в тень их теснейшая связь с категорией исторического; тем не
менее, такая связь существует, и в ней отчетливо прослеживаются два основных аспекта.
1. Известнейший французский ученый-медиевист, один из основателей исторической
антропологии Жорж Дюби отмечал, что в историческом процессе, в истории ментальностей
можно выделить четыре ритма, четыре типа времени. Первый из них – глубинный
ментальный слой, связанный с биологическими свойствами человека как такового. Ко
второму относится совокупность традиционных представлений и моделей поведения, не
изменяющихся со сменой поколений, упорно противостоящих любым внешним
воздействиям. К третьему – более быстротечные по сравнению со вторым ментальные
процессы, например, постепенное изменение эстетических вкусов и пристрастий вместе со
сменой эпох. Четвертый же ритм времени, короткий, отличается наибольшей
быстротечностью и поверхностностью, отражая (в том числе и вербально) резонанс на
сиюминутные события общественно-культурной жизни социума [Шенкао 2009: 65]. Именно
поэтому Ж. Дюби считает изучение языка, выделение массива употребительной лексики
необходимой подготовительной работой исследователя при изучении истории
ментальностей. В своей статье «История ментальностей» он особо подчеркивает, что
«история ментальностей не может развиваться без помощи лексикологов. Они могут дать ей
фундаментальные данные – например, перечни слов, употреблявшихся в ту или иную эпоху.
Задача истории ментальностей – выявить вербальные констелляции, отражающие главные
сочленения коллективного сознания. Необходимо рассмотреть изменения словаря,
установить потери, приобретения и трансформации в значении слов и выявить связь этих
изменений с колебаниями в сфере ментальностей» [цит. по Горюнов 1996: 20]. Все это
подводит к мысли о том, что словари неологии – ценнейший материал для историков,
ученых всех дисциплин, изучающих человека и общество (политологов, социологов и т. д.);
в этом междисциплинарный, общегуманитарный статус современной неологии и неографии.
2. Неологические словари по своей сути и типу – исторические дифференциальные
словари. Определенным образом неологическим можно считать «Словарь русского языка
XVIII века», создававшийся на основе понимания базового принципа историзма как
динамического феномена лексической языковой системы (Ю. С. Сорокин). Отсюда в словаре
продуманная система показа входа/выхода, нарастания/угасания употребительности
лексических единиц. При внимательном прочтении данного словаря неологический пласт
XVIII в. можно легко выявить по формальному знаку входа у соответствующей лексемы.
В значительно большей степени неологическим является современный исторический
«Словарь русского языка XIX века» – по своей организации и отбору лексики, по
тщательной проработке семантики и лексической сочетаемости, по подаче этимологии,
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №
14-04-00388.
76
историко-культурного комментария, по строгому документированию текстовых источников
[Проект 2002: 10-17, 49-66, 84-127, 153-199].
Главное их отличие – описываемые временные периоды, эпохи.
Исходя из принципов историзма, в настоящей статье авторы предприняли попытку
отследить на конкретном примере жизнь новаций определенного типа на большем
временном промежутке, чем это делается в исторических словарях русского языка XVIII или
XIX веков или в неологических словарях последнего времени, т. е. на более чем двухвековом
протяжении. В качестве материала исследования была выбрана группа лексики, такая
«вербальная констелляция», семантика «новизны» которой была бы эксплицитно выражена –
например, через префиксоид нео-, который, в отличие от ново-, является относительно
недавним (к тому же заимствованным) фактом русского языка, актуализирующим в русском
культурном и языковом пространстве семантическую мотивационную модель для
номинации новых понятий, развившихся на метафорической основе.2
Эмпирической базой исследования послужили а) словари (неологические,
исторические, толковые, орфографические, иностранных слов, энциклопедические,
двуязычные (RDW)); б) картотеки Словарного отдела ИЛИ РАН (Большая картотека – старая
и новая части, словарей русского языка XVIII и XIX вв.), в) текстовые базы данных (группы
«Словаря русского языка XIX века», Ruscorpora, Knigafund), различные интернет-ресурсы).
В начале своего появления в русском языке компонент нео- неотделим от
заимствованного слова, хотя, вероятно, он вполне осознается как отдельный
словообразующий элемент образованной частью русских (владеющих классическими и
западноевропейскими языками). Первая фиксация заимствования с нео-, по данным
словарей, – прил. неологический („нововымышленный‟ – о слове) 1768 г. [Сл. русского языка
XVIII в.: 242], что весьма интересно и показательно с точки зрения тематики данного
сборника.
«Новый словотолкователь» Н. Яновского 1804, 1805 гг. (фактически первый в
российской лексикографии словарь иностранных слов) фиксирует уже 4 композита с
описываемым компонентом, причем в дефиниции делается характерная для составителя
попытка авторского калькирования европейской иноязычной лексики, не прижившегося
впоследствии: неолог („новослов; тот, кто употребляет часто в разговоре и на письме новые
слова‟), неологизм, неология („новословие, наука составлять новые слова‟); неофит. Первые
три из них в ХХ в. подвергаются переосмыслению и получают общепринятое ныне в
русистике новое, терминологическое значение.
«Настольный словарь» Ф. Толля 1864 г. дает более развернутые, непривычные для
современного читателя и особенно лингвиста толкования значений существительных
неологизм („страсть вводить в язык слова бесполезные, т. е. назначенные для выражения
идей, ясно передаваемых другими словами, уже вошедшими в употребление‟) и неология
(„изобретение и введение в язык новых терминов или употребление старых, но в другом
смысле; также употребляется в смысле бесполезного введения в язык новых слов‟), а также
впервые кодифицируемых в этом словаре заадноевропеизмов неография („новые правила
правописания‟) и неограф („писатель, старающийся проводить новые мнения; в особенности
же старающийся ввести новые правила правописания‟), имеющих отличное по сравнению с
современным смысловое наполнение. Характерная для XIX в. корреляция между понятиями
неология и неологизм емко сформулирована во «Всеобщем французско-русском словаре»
Ивана Татищева 1841 г.: «Неология есть искусство, неологизм злоупотребление» [Татищев
1841 II: 250].
Пополнение данной группы лексики в XIX в. происходит за счет заимствования
естественнонаучной и философской терминологии (неоген „сплав, похожий на серебро‟,
2 Такая же модель работает в отношении новых топонимов с компонентом Нью-, возникавших, по мнению
Б. А. Успенского, как следствие культурной ориентации. См. об этом: Б. А. Успенский. Европа как метафора и
как метонимия // Историко-филологические очерки. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 10-11.
77
неогеновый, неозойский, неопетр, неотропический, неофобия; неокантианизм,
неокантианство, неопифагореизм, неоплатонизм, неоплатоники, неосхоластика), названия
новых реалий (неорама, неотермы „горячие бани по новой системе‟ – [Алексеев 1898: 450], а
также западноевропеизмов, обладающих особым, значимым на момент заимствования
политическим или общественно-культурным статусом (неокатолицизм, неокатолики,
неопедагог „воспитатель по новому способу‟ [Михельсон 1891: 460], неопедагогический,
неохристиане, неохристианский и др.).
В рамках публицистического стиля во второй половине XIX в. можно наблюдать
первые эксперименты по соединению компонента нео- с русской основой: Что признается
народностью в литературе? Из каких стихий должна она образоваться? На каких эпохах
нашей народной жизни должны утвердиться начала и основания ее? Нельзя не спросить
учителей и законодателей новой школы: куда и до каких граней нам возвратиться или, по
крайней мере, куда и какими путями вам идти? Разрешения этих вопросов не найдем нигде.
наши нео- и староучители отвлеченным языком, общими местоимениями намекают о
том, что должно бы выразить существительными собственными, личными словами, так,
чтобы не было ни недоумения, ни сбивчивости. У иных, по странному противоречию,
притязания на русскую народность облекаются в зыбкие призраки туманной немецкой
философии, так что добрый русак, не посвященный в таинство гегелевского учения, и в
толк не возьмет, как ему надлежит окончательно обрусеть. У других эти притязания
высказываются в напряженной и пошлой восторженности. У третьих в неуместной
подделке простонародного языка. П. А. Вяземский. Языков и Гоголь (1876).
Постепенно нео- встраивается в словообразовательную систему русского языка и к
концу XIX в. получает статус самостоятельного словообразовательного компонента наряду с
синонимичным ново-, закрепляясь, в отличие от последнего, в сфере книжного, научного, а
затем и публицистического стиля литературного русского языка. Так, в качестве второй
части сложных образований с нео- регулярно могут выступать уже не западноевропеизмы, а
собственно русская лексика, например: нео-народники (1909), нео-вторники (Литературно-
художественные вторники будут отныне называться нео-вторниками. Раннее утро
28.02.1909) и др.
Как самостоятельный словообразовательный компонент префиксоид нео- впервые
фиксируется в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, при этом следует
отметить выделяемую авторами словаря особую (присущую данной эпохе) смысловую
коннотацию компонента: [нео] (книжн.). Первая часть составных слов в знач.: в новой.
видоизмененной и чаще всего ухудшенной форме (выделено нами – В.К., С.Э.), напр.
неовитализм, неодарвинизм, неокантианство, неомальтузианство, неоклассицизм,
неоромантизм и т. д. [Ушаков 1938 II: 522].
Как следствие оценочной семантики словообразовательного компонента формируется
специфическая семантически мотивационная модель для номинации соответствующих
понятий. Например, неославянофильство: К сожалению, в Петербурге, в последние 5 лет,
подняло голову своего рода неославянофильство на подкладке русского славянизма. Отеч.
записки, 1878. Отрицательная коннотация в семантике компонента выделяет композиты
такого рода (зачастую употребляемые иронически) из ряда стилистически нейтральных. Эта
тенденция прослеживается на протяжении вот уже более столетия.
Проекцию исторических процессов, происходивших в российском обществе на
протяжении двух столетий, темпорального изменения ментальности на язык можно
отследить на примере русской поэзии (поэзия в целом, как правило, менее подвержена
интервенции неологизмов по сравнению с публицистикой или эпистолярным жанром) (по
материалам Ruscorpora):
XIX в.: неофит „новый сторонник чего-л., новичок в чем-л.‟ (4 примера, 1824 –
Н. Гнедич, 1869 – А. Апухтин)
1908: неоромантический («неоромантическая сказка») – Н. Гумилев
1913: нео-поэзный («Скуку взорвал неожиданно нео-поэзный мотив») – И. Северянин
78
1917-1925, 1927: неоклассик (ирон.) – И. Сельвинский
1956: нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы – С. Кирсанов
1965: неореализм „о художественном течении в киноискусстве‟, неореалист
Д. Самойлов
1967: неонацизм – И. Сельвинский
1981: неомолодежь (ирон. «кейфующая неомолодежь») – А. Межиров.
«Словарь современного русского литературного языка» впервые отмечает
словообразовательную специфику префиксоида нео-, вытекающую из его «признаковой»
семантики: композиты, которые он формирует, являются вплоть до настоящего времени
исключительно именами существительными и прилагательными (что не мешает
продуцировать наречия от уже сформированных прилагательных, включающих компонент
нео-; в качестве примера можно привести наречия неологически, неомарксистски,
неоромантически и т. п.).
К концу XX в. словообразовательная активность префиксоида нео-, по данным
неологических словарей 1960–1990-х гг., толковых словарей XX-XXI вв. и web-источников,
оказывается максимальной в области формирования политической лексики
(преимущественно в публицистическом стиле и языке СМИ): неоевразиец – неоевразийство
– неоевразийский, нео-КПРФ, нео-пионеры/неопионеры, неосоветский, нео-СССР,
неототалитаризм, неофевралисты и др. Второй по значимости сферой продуктивности
компонента является искусство в различных его проявлениях: нео-нуар, неореализм (кино),
нео-металлический, неопанк, неофолк (муз.), нео-поп-арт, неоэкспрессионистский (изобр.
искусство) и др. Весьма примечательно, что постоянное обновление течений в современном
искусстве находит вербальное отражение в виде умножения вновь присоединяемых
компонентов нео- к уже существующим ранее в составе определенного искусствоведческого
термина (параллельные процессы происходят и с их западноевропейскими аналогами; здесь
трудно провести грань между заимствованиями и собственно русскими образованиями – за
исключением тех случаев, кs потенциал данного префиксоида.
В XXI в. все перечисленные выше тенденции сохраняются и активно развиваются. В
качестве подтверждения можно привести как примеры дупликации нео- на русской почве из
источников последнего времени (для обозначения вновь возникающих общественных и
религиозных течений и, соответственно, их представителей): неонеославянофильство (1991),
неонеославянофилы (2000-е), неонеоязычники (ирон. контекст, 2015), так и ряд новейших
лексических образований из разнообразных функционально-стилистических сфер с
единичным префиксоидом нео-: неосказка (2009), неофольклор, неофольклоризация (2010-е),
необандеровка (2011), нео-бизнес-сообщества (2011), нео-ретро-проект (в музыке) (2013),
нео-мушкетерский (о романе В. Мединского «Стена», о повести братьев А. и Б. Стругацких
«Трудно быть богом» в рецензии на ее экранизацию) (2013, 2014), неосапатистский,
неосапатисты (полит., „последователи идей Эмилиано Сапаты‟) (2014) и др.
Общая статистика:
По нашим подсчетам общее число композитов с нео- с начала их появления в русском
языке составляет порядка 500 лексических единиц (ЛЕ) и продолжает расти; в различных
лексикографических источниках таких композитов на текущий момент кодифицировано
около 400 ЛЕ (в т. ч. 203 – совокупно в неологических изданиях ИЛИ РАН).
В «Русском орфографическом словаре» под ред. В. В. Лопатина (издание 2000 г.) 113
ЛЕ распределены в 34 словообразовательных гнездах со следующим функционально-
стилистическим распределением: общественно-политическая сфера – 9 ед., научные,
религиозные и философские течения – 12 ед., искусство – 6 ед., наука – 6 ЛЕ, а также
словообразовательное гнездо, образованное от существительного неофит и относящееся к
книжному стилю.
Из зарубежных словарей наиболее полно русская лексика представлена в двуязычном
словаре Russisch-Deutsches Wörterbuch, издаваемом Майнцкой Академией наук и
литературы, – 241 ЛЕ, среди которых имеется 68 словообразовательных гнезд (также с
79
преобладанием лексики, относящейся к общественно-политической и научно-философской
сферам: общественно-политическая сфера – 21, наука – 20, религиозные, философские,
научные течения – 17, искусство – 9, плюс словообр. гнездо, образованное от
существительного неофит).
Заимствованный первоначально в составе формально не членимых с точки зрения
русского языка лексических единиц, начальный компонент нео- с течением времени
превращается в самостоятельный словообразовательный элемент заимствующего языка,
активно функционирующий и в настоящее время. Его семантика обогащается и дополняется,
распадаясь фактически на два значения, одно из которых получает негативную
маркированность, распространяющуюся на весь композит в целом.
Таким образом, внутренний вектор развития данной «вербальной констелляции»,
заданный на рубеже XIX-XX вв., сохраняет свое основное направление до настоящего
времени, что тесно связывает данную эпоху с современностью и выявляет для этих, столь
разных внешне, временных периодов общность «короткого» времени (по Ж. Дюби) и,
следовательно, определенную общность ментальности. Нам же, лингвистам, лексикологам и
лексикографам, это еще раз напоминает о том, что только через призму историзма можно
дать объективную оценку современным языковым процессам.
Словари
Алексеев С. Д. Самый полный общедоступный словотолкователь и объяснитель
150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык. Изд-е пятое, исправленное,
дополненное и вновь обработанное. М., 1898.
Михельсон А. Д. Объяснительный словарь иностранных слов. Изд-е одиннадцатое. М.,
1891.
Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. Под ред. Ф. Толля и
В.Р. Зотова. Т. I-III. СПб., 1863-1864.
Русский орфографический словарь / Отв. ред. В. В. Лопатин. М., 2000.
Словарь русского языка XVIII века. Вып. 14. СПб.: Наука, 2004.
Словарь современного русского литературного языка. Т. 7. М.-Л.: Издательство
Академии наук СССР, 1958.
Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Тт. 1-4. М.: Гос. ин-т «Сов.
энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940.
Татищев И. Всеобщий французско-русский словарь, составленный по изданиям
Раймонда, Нодье, Боаста и Французской академии действительным статским советником и
кавалером Иваном Татищевым. Том II. От H до Z. СПб., 1841.
Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Ч. 1-3. СПб., 1803-
1806.
RDW Russisch-Deutsches Wörterbuch. 6: Н. Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften
und der Literatur, Mainz herausgegeben von Renate Belentschikow. Wiesbaden: Harrassovitz
Verlag, 2008.
Литература
Горюнов 1996: В. Е. Горюнов. «Ж. Дюби. История ментальности» // История
ментальности, историческая антропология. М.: РГГУ, 1996.
Проект 2002: Словарь русского языка XIX века: Проект. СПб.: Наука, 2002.
Шенкао 2009: М. А. Шенкао. Изучение ментальностей во французской школе
«Анналов» // Terra Humana. Общество. Среда. Развитие. 2009, №1. С. 60-72.
80
Н. В. Козловская
К ПРОБЛЕМЕ УЗУАЛИЗАЦИИ
ВИДОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ
«Появление в языке новых слов, новых значений слов и выражений отражает
изменения в бесконечно разнообразном мире вещей и явлений...», – отмечала Н. З. Котелова
[Котелова 1982: 4].
В последние десятилетия в язык вошло большое количество неолексем, обозначающих
предметы детского обихода. Среди лексико-семантических новообразований данной
тематической области значительно преобладают заимствования: ниблер, фруттейкер –
„сетчатый контейнер для прикорма‟, мобиль – „вращающаяся подвеска с игрушками, которая
крепится над кроваткой‟, хипсит – „приспособление для переноса детей в сидячем
положении‟, бустер – „вид детского автокресла без подлокотников‟, боди – „вид одежды из
трикотажа, закрывающей туловище, с длинными рукавами‟, слинг или бэби-слинг –
„приспособление из ткани для переноски ребенка‟, свим-трэйнер – „приспособление в виде
круга для обучения плаванию детей первого года жизни‟ и др.
Расширение состава лексико-семантической группы, которой можно дать рабочее
название «обозначения предметов детского обихода», происходит не только за счет
заимствований, но и с использованием морфологических и неморфологических способов
русского словообразования: автолюлька, детская переноска, горка для купания, поильник,
прорезыватель (для зубов), прыгунки, развивалка, развивающий коврик, сеточка для
прикорма, ходунки, хохотунчик. Отметим большое количество слов-композитов среди
новообразований анализируемой группы: каталка-ходунки, коляска-трансформер, коляска-
трость, корзина-переноска, лежак-переноска, поильник-непроливайка, рюкзачок-кенгуру,
стул-качели.
Предметом рассмотрения в рамках настоящей статьи является немногочисленная, но
активно пополняющаяся в настоящее время гиперо-гипонимическая группа,
объединяющаяся вокруг понятия «подгузник».
Выскажем осторожное предположение, что в настоящее время в языке происходит
формирование гиперо-гипонимического ряда с родовым компонентом памперс (или
подгузник) и видовыми компонентами хаггис/хаггисы, меррис/меррисы, гун/гуны и др., по
происхождению являющимися названиями торговых марок. Отметим, что во многих
проанализированных нами контекстах при родовом обозначении подгузник лексема памперс
(также восходящая к названию торговой марки) может выступать в функции видового
обозначения.
Под процессом узуализации принято понимать процесс вхождения наименования в
узус, т. е. во всеобщее пользование: «Узуализация означает приобретение номинативной
единицей свойства воспроизводимости. Следствием этого процесса в плане содержания
является формирование определенного лексического понятия, зафиксированного в языковом
сознании всех носителей данного языка и предопределяющего выбор узуальной
номинативной единицы в речевой деятельности» [Голев 2001: 94]. Можно предположить,
что наименование можно считать узуализированным, когда оно входит в активный и (или)
пассивный запас средней языковой личности.
Освоенным заимствованием в анализируемой парадигме, по-видимому, можно считать
только слово памперс, хотя орфографический и орфоэпический облики лексемы в
современном русском языке по-прежнему нельзя назвать абсолютно устоявшимися, ср.:
памп'[э]рс и пам[э]рс. Другие гипонимы – хаггис/хаггисы, меррис/меррисы, гун/гуны,
муни/муны – можно обозначить как лексемы, находящиеся на ранних этапах заимствования и
освоения языком, поэтому их употребление характеризуется значительными колебаниями
как в произношении, так и в написании (ср.: хагис, мэрис, мэррис, мэрисы, гуун, ггуны, мун,
муни , мууни и др.).
81
Вначале охарактеризуем семантические отношения между лексемами памперс и
подгузник и выявим место каждой из сопоставляемых лексем в гиперо-гипонимическом ряду.
Для определения родового компонента гиперо-гипонимического ряда нами было
проанализировано употребление лексем памперс и подгузник по данным трех корпусов:
Национальный корпус русского языка (НКРЯ), Google Books Ngram Viewer и Sketch Engine
Online Corpora.
Google Books Ngram Viewer – электронный сервис, при помощи которого можно
построить линейные графики, отражающие сведения о частоте упоминания лексемы в
книгах, написанных на русском языке до 2000 г. включительно (более 5 млн источников).
Корпус Sketch Engine Online Corpora, разработанный английскими и чешскими
исследователями, фиксирует лексическую и грамматическую сочетаемость лексических
единиц: на основе морфологически размеченного корпуса текстов (до 2011 г. включительно)
ресурс генерирует списки слов, в которых содержится информация об их синтагматических
и парадигматических связях.
По данным НКРЯ, лексема памперс впервые зафиксирована в русском языке в 1967 г.,
однако активизация употребления приходится на начало 1990-х гг.
Первая словарная фиксация лексемы в форме множественного числа осуществлена в
1998 г. в «Толковом словаре иноязычных слов» Л. П. Крысина. Множественное число
заголовочного слова сохраняется в лексикографических описаниях слова до 2011 г.:
«Большой академический словарь русского языка» предлагает заголовочное слово в форме
единственного числа мужского рода. Лексикографическое описание слова отразило этап его
грамматической ассимиляции в современном русском языке:
ПАМПЕРСЫ, ов, ед. памперс, а, м. [англ. to pamper баловать, изнеживать]. Детские
подгузники из очень мягкого, хорошо впитывающего влагу материала [ТСИС].
ПАМПЕРСЫ, мн. Подгузники – преимущественно детские – из мягкого, хорошо
впитывающего влагу материала [ТСРЯ].
ПАМПЕРСЫ [англ. pamper баловать, нежить] – одноразовые подгузники из мягкого,
быстро поглощающего влагу материала [НСИС].
ПАМПЕРС, а, м. Одноразовый подгузник со специальной прокладкой, легко
впитывающий жидкость и остающийся сухим снаружи [БАС].
Онлайн-ресурс Google Books Ngram Viewer отражает резкий рост показателя частоты
употребления лексемы памперс в сравнении с лексемой подгузник в единственном и
множественном числе в русском языке с 1985 по 2000 гг. Еще более впечатляющие
результаты дает сопоставление словоформ памперсы (мн. ч.) и подгузник и сопоставление
пары «памперсы – подгузники». Приведем только один показатель: в 1994 г. частотность
словоформ памперсы и подгузники равна 0,0000008257 % (памперсы) и 0, 0000013080 %
(подгузники), в 2000 г. частота первой лексемы увеличивается в 7 раз, а частота второй
остается примерно на том же уровне: 0,0000057882 % (памперсы) и 0,0000018224 %
(подгузники) [см.: https://books.google.com/ngrams].
Сопоставим сочетаемостные возможности лексем памперс и подгузник, чтобы лучше
осознать семантические различия в значениях этих лексем в современном русском языке.
Для этого обратимся к одному из инструментов ресурса Sketch Engine Online Corpora,
позволяющему сопоставить синтагматический потенциал лексем на материале корпуса
русских текстов объемом 14,553,856,113 слов.
Нами было исследовано три типа отношений: сочинительное (=и/или) атрибутивное
(N+N2: =gen_modifier/gen_modifies) и объектное (V+Vinf: =post_inf/ verb_post_inf) .
В сочетаниях с союзами и/или наиболее частотными синтагматическими партнерами
лексемы подгузник являются слова: пелѐнка, салфетка, памперс, ползунок, бутылочка,
присыпка, подгузники-трусики, штанишки, чепчик (всего 25). У лексемы памперс таких
сочетаний не отмечено (по всей вероятности, в корпусе представлена только «правая»
синтагматика), «зону пересечения» составляют лексемы пелѐнка, салфетка, трусики,
распашонка, штанишки.
82
По схеме «существительное + gen_modifier» со словом подгузник сочетаются лексемы:
марок, видов, премиум-класса, а также видовые обозначения, восходящие к названиям
торговых марок: Меррис (в разной орфографической интерпретации), Либеро, ТЕНА, Хаггис,
муни и другие.
Показательно, что тяготеющее к родовому обозначению слово памперс не имеет этих
сочетаемостных возможностей. Не анализируя представленные данные подробно, отметим
лишь, что сочетаемость русской лексемы существенно шире, чем у заимствованной; зону
пересечения составляют преимущественно сочетания с глаголами: надевать, поменять,
сменить, переодевать, одевать, надеть, одеть, впитываться, какать.
Это говорит о тенденции использовать слово подгузник для обозначения родового
понятия в письменной речи – в сфере рекламы и торговли.
Отметим также, что сгенерированные программой Sketch Engine Online Corpora
«лексические портреты» (word sketches) двух сопоставляемых лексем говорят о значительной
близости их значений. В корпусе функция создания таких «портретов» носит название
«тезаурус» и осуществляется через 3 команды: задать лемму, определить частеречную
принадлежность, найти похожие слова. Анализ контекстов в Sketch Engine Online Corpora
показал, что семантические отношения между членами пары «памперс – подгузник» могут
быть представлены в следующих вариантах (все примеры взяты из корпуса, стилистические
и пунктуационные особенности текстов сохранены):
1. Родо-видовые отношения: памперс – гипоним по отношению к гиперониму
подгузник:
Перепробовали много подгузников (мерриес, гун, муни, нипеа, хаггис, памперс, либеро),
мууми оказались единственными на которые нет раздражений. Толстые, конечно, но зато
попка у маленького без покраснений.
С рождения покупала доче гуны и мэррисы, у них очень хороший материал, мягкий, не
вызывает раздражения. Один недостаток обнаружила только сейчас, когда ребенок начал
активно двигаться, не хватает в этих подгузниках эластичных резиночек-застежек, как у
Памперсов.
2. Синонимические или аналоговые отношения:
Сегодня на полках в магазинах представлено огромное количество разнообразных
памперсов, и сделать выбор молодым родителям, становиться, мягко скажем,
трудновато. Какие подгузники для новорожденного будут самыми лучшими? Ответить
сможет только сам малыш. Для того, чтобы подобрать памперсы для своего малыша,
нужно их попробовать в использовании.
Ну у нас почти также-дома без подгузников ходим и днѐм спим без них
тоже.Осталось ночью не надевать. А «на выход» пока конечно в памперс облачаемся!)))
Для взрослого человека использование подгузника – это крайне неудобная ситуация.
Кто-то стыдится этого, кто-то не может смириться с болезнью, отказываясь от
удобного и индивидуального средства гигиены. Однако в определенных ситуациях и
состояниях использовать памперсы необходимо.
3. Слова одной ЛСГ с разным лексическим значением:
В этом случае лексема подгузник используется с семантическими распространителями
(марлевый, обычный, традиционный, многоразовый) и может выступать как
контекстуальный антоним по отношению к лексеме памперс.
Марлевые подгузники или памперсы – это вечная тема для спора между мамами и
бабушками. Бабушки доказывают, что ребенку памперс давит, что он в нем парится, что
мальчикам их надевать нельзя и вообще мамаши сейчас совсем распоясались и не хотят
стирать пеленки. Маме же очень удобно пользоваться памперсами, ведь с ними у нее
больше свободного времени.
Можно выбрать золотую середину: надевать памперс на прогулку, особенно в
прохладное время года, и на ночной сон, а в остальное время пользоваться обычными
подгузниками.
83
Отметим, что слово памперс в разном орфографическом облике может использоваться
в значении торгового знака (пишется с большой буквы или используется латиница).
Орфографическую адаптацию слова можно считать в целом завершенной: латиница
сохраняется в названии фирмы-производителя, в обозначении торговой марки, в рекламно-
информационных жанрах. Иногда название пишется кириллицей с большой буквы.
Нарицательное имя существительное пишется со строчной буквы.
Грамматическая адаптация выражается в наличии у слова русской флексии и
появлении склонения. Словарное представление лексемы в форме мн. ч. (pluralia tantum) по
аналогии с лексемами трусы, брюки и пр. обусловлено, по всей вероятности, атавистическим
аффиксом -s, указывающим в языке-источнике на эту форму. В русском языке аффикс вошел
в состав корня (ср. джинсы, слаксы, баксы). Кроме того, отметим деривационную
активность анализируемой лексемы, которая выражается в появлении прилагательного
памперсный (например, памперсный дерматит), а также уменьшительной формы памперсок.
Приведенные данные говорят о том, что лексема памперс постепенно вытесняет
лексему подгузник из «привычных» контекстов в ситуациях непринужденного бытового
общения и за пределами бытовых тем. Однако полному вытеснению мешает ряд факторов,
основным из которых является семантический: наличие яркой семы «одноразовость»,
входящей в ядро значения и во многом определяющей семантическую адаптацию слова
памперс в языке.
Проведенный анализ позволяет уточнить семантический облик лексемы памперс.
Предположим, что семантическая адаптация лексемы памперс привела к развитию двух ЛСВ
или появлению оттенка значения: „одноразовый подгузник из мягкого, хорошо
впитывающего влагу материала‟ и разговорное (восходящее к названию торговой марки)
видовое обозначение подгузников.
В позиции родового идентификатора гиперо-гипонимического ряда конкурируют две
лексемы: русское слово подгузник и освоенное заимствование памперс. По показателю
абсолютной частоты лексемы памперс существенно превосходит лексему подгузник, у
которой, однако, шире сочетаемость. На основе полученных данных можно говорить, что
слово памперс прошло этапы фонетической, грамматической и семантической адаптации и
узуализировалось в современном русском языке.
Иначе обстоит дело с видовыми обозначениями в анализируемой парадигме. Анализ
текстов электронных корпусов и анализ сочетаемости позволяют выделить в данной
тематической области особую группу слов, находящихся на раннем этапе заимствования и
представляющих особый интерес для анализа. Это перешедшие (переходящие) в разряд
нарицательных обозначения торговых названий различных видов одноразовых подгузников,
оригинальные названия которых таковы: Huggies, Merries, Moony, Goo.n (так!), Libero,
Moomi.
Вне номенклатурной системы номены (в строгом понимании термина) приобретают
качества слов с конкретно-предметным значением и теряют свойства товарного знака. Этому
способствует орфографический и грамматический факторы: написание с маленькой буквы,
изменение по падежам и числам, несвойственные названиям торговых марок.
Выскажем предположение, что «видовая часть» анализируемой парадигмы в настоящее
время начинает заполняться разговорными лексемами, которые по происхождению являются
запатентованными названиями торговых марок. Это явление, видимо, касается только
отдельных сфер употребления национального русского языка: языка родителей маленьких
детей, языка обиходно-бытовых коммуникативных ситуаций.
Переход номенов в слова тесно связан с процессом многосторонней адаптации
заимствованного слова. Степень орфографической и грамматической ассимиляции этих
названий может быть очень разной, что обусловлено не только невысокой освоенностью
слов языком, но и
в ряде случаев – различиями в артикуляционных базах языка-источника и русского
языка. Немаловажным оказывается факт знания / незнания читателем английского языка.
84
Так, например, Merries орфографируется следующими способами (в ед. и мн. ч): меррис,
Меррис, мерриес, Мерриес, мэррис, мэрриес, Мэрис, мерис, Мерис, мэрис.
Процесс перехода собственных имен в нарицательные отражен в корпусе Sketch Engine
Online Corpora, где зафиксировано 176 употреблений слова меррис, 214 – мерис, 110 –
мерриес. Приведем несколько примеров из электронного корпуса (стилистические и
пунктуационные особенности оригинала сохранены).
Пользовались муни японскими (90 штук использовали), потом за неимением их в
магазине купили меррисы.
Нам 3,5 месяца, пользуемся меррисами, размер м.
Девочки, мы всегда пользовались Меррис. Правда в роддоме я одела на дочу Памперс и
у нас высыпала жуткая аллергия сразу же...
Вот мы сколько разных подгузников перепробовали – лучше японских нет! да и лялечку
жалко – не хочется, чтобы он во влажных подгузниках ходил, а вот меррисы совсем сухие
даже после нескольких часов использования!
И, если заботливые родители всегда держат дома запас чистых памперсов-хаггисов-
либеро и прочих, то ребятишки, чьих родителей и родителями-то назвать можно с
большой натяжкой, такими запасами не обеспечены.
Там, откуда мы приехали, я пользовалась памперсами с полосочкой. была очень
довольна... хаггисы просто не нравятся.
Отметим, что написание со строчной буквы в представленных примерах можно
рассматривать как первый шаг от номена к слову. Наблюдается грамматическое освоение
заимствованных номенов в склонении форм pluralia tantum: меррисы – меррисов, хаггисы –
хаггисов и т. д. Грамматическая изменяемость номенов (при обязательной утрате прописной
буквы) есть свидетельство их семантической трансформации, поскольку торговой марке
такие грамматические характеристики не свойственны (ср.: пользуемся подгузниками
«Памперс»).
В семантическом плане происходит постепенный отрыв от обозначения торговой
марки в сторону нарицательного существительного, обозначающего конкретный вид товара.
Отметим также функциональную закрепленность лексем за сферой непринужденного
бытового общения.
В заключение можно сделать вывод о формировании в современном русском языке
родо-видовой группы с двумя конкурирующими гиперонимами: подгузник и памперс.
Лексемы, формирующие видовую часть парадигмы, заимствованы сравнительно недавно и в
настоящее время проходят период орфографической и грамматической адаптации.
О завершении процесса узуализации видовых обозначений подгузников говорить не
приходится, так как этап освоения этих лексем языком не завершен и их значения не
являются известными средней языковой личности.
«Лингвистическое поведение» слова в описанном гиперо-гипонимическом ряду
характеризуется рядом особенностей: в качестве родового обозначения конкурируют русская
и заимствованная лексемы памперс и подгузник, видовые обозначения являются
неолексемами, находящимися на ранних этапах освоения языком. В целом, эта лексическая
парадигма отражает основные принципы и этапы узуализации заимствованных неолексем в
современном русском языке.
Словари
БАС – Большой академический словарь русского языка. Т. 15. М., СПб.: Наука, 2011.
НСИС – Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных
слов. М.: Азбуковник, 2008.
НСРЯ – Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.
ТСИС – Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Русский язык, 1998.
85
Литература
Голев 2001 – Н. Д. Голев. Стихийная узуализация номинативных единиц // Известия
Уральского государственного университета. 2001. № 21. Проблемы образования, науки и
культуры. Вып. 11. С. 94–102.
Котелова 1982 – Н. З. Котелова. Проект словаря новых слов русского языка. Л.: Наука,
1982.
НКРЯ – Национальный корпус русского языка: http://ruscorpora.ru/ (дата обращения
29.05.2016).
Google Books Ngram Viewer: https: //books.google.com/ngrams (дата обращения
29.05.2016).
Sketch Engine Online Corpora https: //the.sketchengine.co.uk (дата обращения 29.05.2016).
86
В. А. Козырев, В. Д. Черняк
ФАКТОР НОВИЗНЫ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКОГРАФИИ1
Мысль о связи словарной продукции с социокультурными доминантами эпохи
справедлива для любого времени, однако для начала XXI в. она наполняется особым
содержанием. Словарь в обыденном сознании – навигатор в море информации. Рядовой
читатель ищет в словаре информацию о новых реалиях, о новых словах, о семантике часто
используемых и не всегда понятных лексических единиц, о языковой норме, в том числе о
норме употребления новых заимствований. На эти вопросы призваны ответить в первую
очередь неологические словари. Они позволяют осуществить завет Л. В. Щербы,
приведенный в качестве эпиграфа к словарю «Новые слова и значения. Словарь-справочник
по материалам прессы и литературы 90-х годов ХХ века»: «Совершенно очевидно, что
каждый культурный народ должен следить за изменениями в словаре своего языка».
Лексикография давно пыталась разрешить одну из важнейших словарных антиномий,
о которой писали Н. Ю. Шведова, Ю. Д. Апресян и другие исследователи: стремление
словарей отразить все языковые приобретения, с одной стороны, и неизбежное отставание
словарей от реальной динамики лексикона – с другой. Сведения о новых лексических
единицах (значение, написание, произношение, происхождение) являются приоритетными в
пользовательских запросах. Именно поэтому, с учетом фактора адресата, слова новый,
новейший являются весьма распространенными в названиях словарей. Так, в составленном
нами списке из 3200 отечественных словарей русского языка (включая дореволюционные)
около 90 содержат в своих названиях слова новый, новейший. Ориентация на новизну
просматривается и в часто используемом в них слове современный.
Установка на фиксацию новой лексики и фразеологии является безусловным
стимулом развития разных жанров отечественной лексикографии, в том числе и
«лексикографических эссе», написанных в своеобразном жанре лингвистической
публицистики. В качестве примера можно привести «Словарь модных слов» В. И. Новикова
– первый опыт научно-художественного описания современной речевой моды. «Модное
слово, – пишет его автор, – это слово с претензиями, оно часто звучит в устной речи,
мелькает в прессе, то и дело доносится из радиоприемника или телевизора». В словарь
включены заимствования из иностранных языков, новейшие научные, экономические и
политические термины, молодежные жаргонизмы, а также и старые слова, приобретающие
новые значения: амбициозный, беспредел, блин, востребованный, гламур, драйв, жесть,
зомбировать, кайф, качественный, круто, менеджер, отморозок, пофигизм, раскрутка,
самодостаточный, толерантность, фиолетово, харизма и др. [Новиков 2012]. За каждым
словом стоит своеобразный сюжет или общественно-культурная проблема.
Словари, фиксирующие новую лексику, неразрывно связаны с идеологическими
установками своего времени. Заметим, что уже первые словари советского периода
демонстрировали попытку словарников немедленно отреагировать на идеологические
запросы своего времени. См. в «Словаре советских терминов и наиболее употребительных
иностранных слов» под редакцией П. Х. Спасского: реквизиция – „применяемое в силу
государственной необходимости принудительное, возмездное отчуждение или временное
изъятие государством частного имущества‟, диктатура пролетариата – „неограниченное
господство в государстве сплоченного и организованного рабочего класса, имеющее целью в
конечном результате устройство социализма на земле‟, кооператив – „объединение
потребителей или производителей в целях удешевления товаров путем устранения
посредников и капиталистов‟, коммуны – „кооперативные объединения отдельных лиц; у
членов коммуны нет отдельных хозяйств, у них все общее: и земля, и скот, и орудия, и
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
№ 15-04-00318 («Социокультурные факторы как мотивационная основа типологии словарей»).
87
продукты, и часто даже жилища‟, рабфак – „рабочий факультет: учебное заведение, цель
которого подготовить к научным занятиям в вузы всех типов тружеников из рядов
пролетариата и трудового крестьянства‟ [ССТ].
Попытка дать моментальный ответ на запросы времени просматривается и в более
позднем издании – словаре В. З. Овсянникова «Литературная речь». Ср., например:
вредители – „впервые под кличкой вредителей прослыли герои знаменитого Шахтинского
дела в 1927 году – контрреволюционная группа инженеров и прочих спецов Шахтинского р-
на Донбасса...; отсюда слова вредители, вредительство вошли в широкое употребление в
речевом обиходе как нарицательные термины прямой и косвенной контрреволюционной
работы всякого рода антисоветских элементов‟; раскулачивание – „обобществление
имущества кулака; термин, вошедший в широкий обиход во второй половине 1929 года в
связи с поворотом широких масс бедняцко-середняцкого крестьянства на путь сплошной
коллективизации, а затем с начала 1930 года в связи с лозунгом ликвидации кулачества как
класса‟ [Овсянников 1933].
Фактор новизны, во все времена важный для развития лексикографии, определил и
становление неологических словарей – одного из активно развивающихся в последние годы
и наиболее подвижных типов лексикографических изданий. Сформировавшаяся в последние
десятилетия неологическая лексикография открывает особые возможности для осмысления
«новой и новейшей истории» русской лексики, раскрывает новые грани меняющейся
картины мира. Безусловным флагманом отечественной неологии явилась серия словарей
новых слов и значений, реализующая уже на протяжении полувека концепцию
Н. З. Котеловой.
Сложившиеся в отечественной лексикографии три жанра неологических словарей
русского языка (словари одного года, словари одного десятилетия, сводный словарь трех
десятилетий), различающиеся по степени регулярности представленных в них лексических
единиц, позволяют исследовать динамические процессы в лексике на отрезках разной
временной протяженности.
«Поток стихийной языковой жизни» представлен в регулярно выходящих словарных
выпусках серии «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (НРЛ-77 – НРЛ-94),
материалы которых были использованы при подготовке ряда последующих словарей. Как
известно, многое из описанного в этих бюллетенях, обречено на короткую жизнь в языке, что
позволяет рассматривать их как своеобразную моментальную фотографию лексико-
фразеологической системы в определенный период. Ежегодники дают возможность увидеть
реальную картину динамических процессов в лексике, определить соотношение
окказионального и узуального, представить изменчивую жизнь русского языка в
неразрывной связи с переменами в науке, технике, культуре, общественной жизни.
Иным подходом к отбору материала характеризуются словари «Новые слова и
значения». Они фиксируют новую лексику и фразеологию русского литературного языка
конкретного десятилетия (60-, 70-, 80-, 90-е гг. XX в.). В отличие от ежегодников, словари-
десятилетники включают лишь устоявшиеся, воспроизводимые, узуальные новообразования
и демонстрируют путь закрепления слов в языке – от окказиональных до регулярных.
Материалы словарей убеждают, что естественным «полигоном» для перестройки
семантической структуры слова, для актуализации его словообразовательного потенциала
являются разговорная речь и публицистика, раскрепостившаяся с середины 1980-х гг. и
существенно приблизившаяся к разговорной речи.
Каждый из словарей серии «десятилетников», созданных в Институте
лингвистических исследований РАН, отражает неологизмы определенного временного
периода. В своей же совокупности словари данной серии убедительно представляют
постепенный, не прекращающийся ни на один год, месяц и даже день процесс обновления
русского языка. Остановимся на последнем академическом фундаментальном трехтомном
словаре, посвященном неологизмам 1990-х гг. [НСЗ-90].
88
В словаре отражены разнотипные явления: с одной стороны, это неологизмы,
отражающие прогресс в разных сферах жизни, которые, несомненно, займут (или уже
заняли) свое место в толковых словарях, с другой стороны – лексика, которая является
приметой эпохи, специально маркирована временем и останется в словаре именно как
моментальный снимок языкового состояния (ср. бровеносец, болдыревцы, белодомовец,
белодомовский; гуманитарщик „тот, кто участвует в оказании гуманитарной помощи‟;
оталонивание „обеспечивание кого-, чего-л. талонами‟, талонизация; гробовые, груз-200).
Для осмысления направлений развития лексики очень показательными являются
многочисленные гнезда с устойчивой первой частью (ср., например, гнезда слов с первой
частью евро..., национал-..., около... и др.). Они не только указывают на активные
словообразовательные модели, но и фиксируют языковые предпочтения времени,
социальные и культурные доминанты эпохи. Содержательное наполнение каждого гнезда –
материал для специального и интересного анализа.
Словарь убеждает в том, что динамические процессы в лексике связаны с тремя
основными тенденциями: с тенденцией к заимствованию (как отмечается в предисловии, 70
(15%) из 465 слов на букву «Б» имеют иноязычное происхождение), тенденцией к
активизации терминологии и тенденцией к жаргонизации. Именно разнообразие
заимствованных слов создает ореол новизны лексических приобретений. Ср. актуальные
заимствования из разных языков: бонсай, барбекю, барсетка, бодибилдер, бренд, боулинг,
блистер, жиголо, от кутюр, паста, тамагочи и мн. др.).
В словаре описываются лексические группы, которые наиболее активно пополнялись
в последние годы или подверглись существенным семантическим трансформациям
(политика, экономика, техника, спорт, медицина, массовая культура и др.). Анализ лексики,
относящейся к каждой группе, дает богатый материал для осмысления меняющейся картины
мира нашего современника.
Изменение значений – важнейший механизм обновления словаря: ср. бульдозер „об
очень энергичном, пробивном человеке‟; подбрюшье „о территории, находящейся южнее
какого-л. государства‟; прачечная „об учреждении, организации, стране, сфере деятельности
и т. п., используемых для обналичивания и легализации (отмывания) полученных
преступным путем доходов‟ (перен., публ.).
Разнообразие моделей, по которым образуются новые слова, открывает богатейшие
возможности для исследования словообразовательных потенций слова (ср.: безбензинье,
грузинизировать, голосовальщик, жюрить, идиотизация, нашист, новостийный и мн. др.).
Во многих случаях семантически значимый словообразовательный элемент является знаком
нового осмысления окружающей действительности. Например, слова с приставкой не-
демонстрируют новые аспекты поляризации российского и постсоветского пространства:
негражданин, негражданство, невъездной (ср. невыездной – неологизм предшествующей
эпохи), негрузины, неказахи, нелатыши, нелитовцы, нельготники, нероссияне, нечеченцы и
др.
Важным представляется и включение в словарь некоторых актуальных для
описываемого хронологического среза производных от имен собственных (болдыревцы,
горбомания, горбостройка, ельциноид, ельциномика и др.). Их включение в словарь не
только фиксирует заметную часть лексикона, но и представляет важный социокультурный
материал, ценность которого будет со временем только возрастать (гайдаризация, гайдаризм,
гайдарики, гайдаристы, гайдарки, гайдаровка, гайдаровский, гайдаровско-ельцинский,
гайдаровско-федоровский, гайдаровско-чубайсовский, гайдаровцы, гайдаровщина,
гайдарономика, гайдарята, гай-чубайсовский).
В словообразовательных гнездах, представленных в словаре, раскрывают свои грани
лексические доминанты конца 1990-х гг. Продолжают активно пополняться группы слов,
занимающие заметное место во всех неологических словарях второй половины ХХ в.
(например, более 50 новых слов с префиксоидом теле-). Показательны в разных аспектах
группы с начальным компонентом блиц..., байк-..., гео..., гипер..., около..., псевдо... и мн. др.
89
Широкий пласт лексики, обозначающей реалии криминального мира, отражает их
значимость в современном языковом сознании.
Сопоставление одноименных участков различных неологических словарей позволяет
осмыслить направления языковых изменений, отражающие актуальные фрагменты картины
мира современника.
Третьей типологической разновидностью неологических словарей, создававшихся под
руководством Н. З. Котеловой, является обобщающий словарь тридцатилетия. «Словарь
новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)» – уникальное
лексикографическое издание, представляющее лексический портрет переходного, по словам
составителей, периода «от тоталитаризма к перестройке». Словарь обобщает результаты
работы лексикографов, на протяжении нескольких десятилетий скрупулезно фиксировавших
инновации в периодической печати и художественной литературе. По замыслу составителей,
в словаре должна была быть представлена закрепившаяся в литературном языке
жизнеспособная новая лексика, однако издатели словаря, предваряя фундаментальный труд
лексикографов, пишут: «Давайте вместе полистаем словарь... АГИТБЕСЕДКА…
АГИТКУЛЬТБРИГАДА... КОМСОГРУППА... КУЛЬТПРОСВЕТУЧИЛИЩЕ...
МЕЖИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ... Это слова из нашего прошлого, хотя и недавнего.
Может ли книга, содержащая подобные слова, называться “Словарем новых слов русского
языка”? Все дело в том, что в результате стремительного исторического развития России за
последние десять лет из речевого обихода ушел целый пласт общественно-политической
лексики, и слова, которые были новыми, стали старыми, неологизмы стали историзмами»
[СНС: 3]. Словарь сразу после выхода попал в разряд исторических, поскольку, как
отмечают издатели, «составлялся в одну историческую эпоху, а увидел свет в другую».
«Прошлое можно оценивать по-разному, но его нельзя изменить. “Словарь новых слов
русского языка” нужно рассматривать как ценный исторический документ своей эпохи. В
этом его научное и общественное значение» [Там же]. Перед читателем словаря предстают
отлакированные детали «реального социализма», лексические пропагандистские средства
советского новояза, а наряду с ними – те новообразования, которые отражали
неофициальное отношение народа к реалиям советской жизни, например: передовик, маяк,
треугольник и лимитчик, телега, невыездной, непроходной.
Таким образом, сложившаяся в отечественной лексикографии типология
неологических словарей (словари одного года, одного десятилетия, сводный словарь трех
десятилетий), различающихся по степени регулярности представленных в них лексических
единиц, позволяет исследовать динамические процессы в лексике на отрезках разной
временной протяженности.
Сам статус нового слова подвижен, что определяет динамичность жанра
неологических словарей. Вследствие естественного развития языка слова, отмеченные как
новые, становятся или вполне привычными языковыми единицами, или со временем
переходят в разряд устаревших. Кардинальные языковые изменения (как приобретения, так и
утраты) отражают словари, созданные под редакцией Г. Н. Скляревской и названные
динамическими (в них описываются разнонаправленные процессы – появление новых слов и
значений и уход в пассив или полная утрата на рубеже XX–XXI веков ряда лексических
единиц) [ТСРЯ-ЯИ, ТССРЯ-ЯИ, ТСРЯ-АЛ]. В последнем словаре из этой серии описано 8
500 лексических единиц, которые в своей совокупности воплотили то новое, что отражает
живое употребление лексики и фиксирует изменения в языковом сознании современников.
Активное освоение заимствований, процессы их адаптации в современной речи
требуют осмысления в неологической лексикографии, а затем и в других типах словарей
проблемы вариантности. Словари дают богатый материал для наблюдения за процессами
укоренения заимствований. Ср.: бейдж и бэйдж; бойфренд, бойфрэнд и бой-фрэнд; блэк-
топ и блектоп; банданна и бандана, пентхауз и пентхаус и мн. др.
Для понимания актуальных процессов в русской синонимике, связанных с
отражением устно-бытового узуса, с «движением разговорности в публичные формы
90
коммуникации», с «невиданной прежде коллоквиализацией публичного общения» важным
представляется появление «Толкового словаря русской разговорной речи» [ТСРРР]. Особое
место в структуре словарных статей принадлежит зоне синонимии, которая расширяет и
нередко дополняет материалы существующих синонимических словарей. Приведем
несколько примеров: алкаш – алик, алконавт, выпивоха, забулдыга, пропойца, пьянчуга,
пьянчужка, пьянь; амбал – битюг, бугай, бык, верзила, верста, детина, дубина, дуболом,
дылда, жеребец, жлоб, каланча, лоб, оглобля, шкаф; заморский – буржуйский, забугорный,
закордонный; байбак – бездельник, лежебока, лоботряс, лодырь, сачок, филон.
Важной проблемой, которую постоянно вынуждены решать составители современных
словарей, является проблема соотношения лингвистической и энциклопедической
информации, поскольку новая лексика, особенно терминологического характера (80–90 %
новой лексики составляют термины), обязательно должна сопровождаться в словаре
объяснением реалий. Энциклопедическая составляющая является важной частью новейших
лексикографических изданий. Так, энциклопедическая информация и этимологические
справки являются важной частью ряда словарных статей в разных словарях серии «Давайте
говорить правильно!». Например, слово спам, актуализировавшееся в современной речи
сравнительно недавно, получает (с пометами информ., неодобр.) толкование „массовые
почтовые рассылки (обычно рекламного характера), проводимые без согласия пользователя;
сетевой мусор, выдача незапрашиваемой коммерческой рекламы и другой информации в
Интернете„, сопровождаемое иллюстративным материалом (Рекламный спам. Борьба со
спамом. Программа проверки сообщений на спам.) и этимологической справкой: «От spanned
ham – консервированная ветчина (назойливо рекламировавшийся продукт)» [Скляревская
2004]. Таким образом, читатель получает информацию о семантике слова (в том числе и о
коннотативных компонентах, эксплицированных не только в пометах, но и в элементах
толкования – сетевой мусор), о типичных контекстах его употребления, об этимологии,
которая в сочетании с энциклопедической информацией создает «образ слова», закрепляет
его в сознании читателя.
Таким образом, представление новых лексических единиц в словарях различных
типов выдвигает целый ряд серьезных лексикографических проблем: темпы фиксации новых
лексических единиц и приемлемый объем лексических инноваций в составе словника,
соотношение лингвистической и энциклопедической информации, место в словаре единиц,
находящихся на границе литературного языка и субстандарта, соотношение строгой
нормативности и приемлемой вариантности, фиксация социокультурных и идеологических
компонентов в семантике слов. Как пишет В. Г. Костомаров, «естественно восторгаться
размахом вечно бурлящего океана – языка, но нельзя не заметить его избыточности: в нем
много устаревающего и новейшего, необходимого и ненужного, прекрасного и
отвратительного, всплывающего из глубин во время шторма» [Костомаров 2014: 6]. Особая
роль в отражении «потока стихийной языковой жизни» и в поисках оптимальных способов
лексикографической интерпретации слова на первых этапах его освоения принадлежит
неологическим словарям.
Словари
НСЗ-90 – Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х гг. ХХ века: В 3 т. / Под Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и Е. А. Левашова. Ин-т
лингв. исслед. РАН. Тт. 1–3. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009–2014.
СНС – Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х гг.): / Под
ред. Н. З. Котеловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.
ССТ – Словарь советских терминов и наиболее употребительных иностранных слов:
объяснение сокращений и новых понятий, вошедших в разговорную и литературную речь
при советской власти / Под ред. П. X. Спасского. Н. Новгород: Школа-тип.
им. В. Г. Короленко, 1924.
91
ТСРРР – Толковый словарь русской разговорной речи / Под ред. Л. П. Крысина. Вып.
1: А–И. М.: Языки славянской культуры, 2014.
ТСРЯ-ЯИ – Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения:
около 5 500 слов и выражений / Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998.
ТСРЯ-АЛ – Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика /
/ Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2008.
ТССРЯ-ЯИ – Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения
конца ХХ столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Астрель, АСТ, 2001.
Литература
Костомаров 2014 – В. Г. Костомаров. Язык текущего момента. СПб.: Златоуст, 2014.
Новиков 2012 – Вл. Новиков. Словарь модных слов: языковая картина современности.
М.: АСТ-Пресс Книга, 2012.
Овсянников 1933 – В. З. Овсянников. Литературная речь: толковый словарь
современной общелитературной фразеологии: употребительнейшие иностранные и русские
отвлечѐнные термины, образные слова и иносказания с указанием их происхождения и
примерами фразеологического употребления. М.: ОГИЗ, 1933.
Скляревская, Ваулина 2004 – Г. Н. Скляревская, Е. Ю. Ваулина. Давайте говорить
правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском
языке: краткий словарь-справочник. СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004.
92
С. Колковска, Д. Благоева
АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ
ОПИСАНИИ НОВЫХ СЛОВ
Являясь лексикографическими изданиями, предназначенными регистрировать
лексические новации в конкретном хронологическом отрезке, толковые неологические
словари представляют, по словам Е. Карпиловской, «моментальный снимок языковой
системы в движении, образец актуальной речевой деятельности общества» в
соответствующий период и в связи с этим противопоставляются словарям академического
типа, которые являются «панорамой в состоянии покоя, в равновесии, фиксирование того,
что установилось в лексиконе, прошло проверку во времени и соответствует критериям
действующих грамматических и орфографических норм литературного языка» [Карпiловська
2004: 9]. В отличие от общих толковых словарей, которые могут иметь нормативный
характер или совмещать дескриптивные и нормативные функции, неологические словари
обычно ограничиваются описанием и не преследуют нормативных целей.
До сих пор в славянской неографической практике известен только один
неологический словарь нормативного типа. Это «Словарь новых слов русского языка
(середина 50-х – середина 80-х годов)» [Словарь 1995], в который по задуманной авторами
концепции включены только те лексические единицы, которые полностью утвердились в
лексической системе русского языка в эти годы. Нормативные словари подобного типа
предназначены служить в качестве дополнения к общим толковым словарям
соответствующего языка.
Очевидно, чтобы выявить и отобрать те лексические инновации, которые полностью
усвоены и закреплены в языковой системе, неографическое описание необходимо проводить
с известной хронологической дистанции, что находится в противоречии со стремлением к
оперативности словарных изданий. Однако это не означает, что при лексикографическом
описании новой лексики нормативностью следует пренебрегать.
Рассмотрим некоторые аспекты нормативной деятельности (в основном в области
лексической нормы), осуществлявшейся при составлении самого представительного из
неологических словарей болгарского языка – «Словаря новых слов в болгарском языке
(конец ХХ – начало ХХI вв.)» [Словарь 2010] (далее СНСБЯ), составленного коллективом
сотрудников Института болгарского языка Болгарской академии наук.
Так как вопрос языковой нормы сложный и в значительной степени все еще
дискуссионный, необходимо сделать некоторые уточнения.1
Языковую норму можно рассматривать как в широком плане (по отношению к
языковой системе в целом), так и в более узком плане (по отношению к отдельному
языковому уровню, определенному функциональному стилю и т. д.). По мнению польского
языковеда А. Марковского, языковая норма – это «совокупность тех языковых элементов,
т. е. слова, их формы и сочетания, а также способы их образования, сочетания,
произношения и написания, которые в определенный период принимаются данной
общностью (чаще всего всем обществом и прежде всего образованными слоями в нем) в
качестве образцовых, правильных или по крайней мере допустимых». [Markowski 2006:
21].
А. Марковский предлагает разграничивать следующие виды языковой нормы:
образцовую и употребляемую. Он считает, что образцовая норма включает элементы,
которые принимаются и оцениваются положительно большей частью высокообразованных
носителей языка и которые соответствуют языковым традициям, грамматическим и
1 Более подробно теоретические вопросы о языковых нормах и лексической нормативности рассмотрены в
другой нашей публикации [Колковска, Благоева 2016].
93
семантическим правилам и действующим языковым тенденциям, в то время как
употребляемая норма охватывает совокупность лексических единиц, их форм и сочетаний,
которые характерны для неофициальных сфер общения [Markowski 2006: 32–36].
В болгарском (и вообще в славянском) языкознании все еще отсутствует общепринятое
и достаточно точное определение понятия лексической нормы.2 При одном из
распространенных подходов лексическая норма рассматривается в аспекте речевой практики
и связывается с соблюдением определенных правил при использовании слов в речи в
соответствии с их лексическим значением и с учетом их синтагматических и
парадигматических особенностей [Горбачевич 1989; Кротова 2001; Божилова 2013 и др.].
Рассматриваемая в другом плане – как отражение состояния и функционирования
определенного языкового уровня – лексическая норма имеет другое содержание, которое
также можно понимать разным способом – в зависимости от того, воспринимается ли норма
как внутренне присущее языку явление, или как система сформулированных лингвистами
предписаний.
На основании нашего понимания языковой нормы в ее связи с внутренней
организацией языка предлагаем следующее определение: лексическая норма – это
совокупность закрепленных в узусе лексических единиц с сформированными при их
функционировании особенностями, связанными с семантикой, стилистической
характеристикой, парадигматикой и синтагматикой, которые обуславливают
принадлежность соответствующих лексем к определенному функциональному стилю
литературного языка или к определенной сфере коммуникации. Лексическая норма, как и остальные виды языковых норм, имеет конкретно-
исторический характер – она формируется и существует на определенном этапе языкового
развития. Важной особенностью является то, что она подлежит переменам вопреки
сдерживающей роли кодификации. В отношении лексических новаций норма находится в
динамическом состоянии и характеризуется неустойчивостью, что связано с тем, что новая
лексика негомогенна и включает очень разнородные по характеру лексические единицы:
неузуальные, находящиеся в процессе узуализации и узуализованные. Некоторые из
неологизмов уже признаны нормативными единицами, некоторые могут стать таковыми при
определенных условиях, другие же находятся за пределами нормы.
Можно разграничить несколько аспектов лексической нормативности в неологических
словарях. Наше внимание будет направлено на два из них: отражение лексической нормы (в
плане, связанном с ее пониманием в качестве совокупности лексических единиц и их
особенностей) и нормирующая деятельность, связанная с оценкой функциональной
целесообразности лексических новаций.
Первый из указанных аспектов связан с определением и описанием значения,
стилистических и функциональных особенностей лексических новаций, особенностей их
сочетаемости, а также и с определением заголовочного слова при графическом,
фонетическом, морфологическим варьировании неологизмов. Эти элементы нормативности
представлены в СНСБЯ, причем здесь (из-за ограничения в объеме) мы рассмотрим только
часть из них.
В СНСБЯ с помощью системы квалификаторов последовательно отмечается
принадлежность неологизмов к определенной функциональной системе (в том числе и
терминологической), характеризуются также их стилистические и коннотативные
особенности. Указан, например, разговорный характер таких новых лексем, как гард
(„охранитель‟), гербаджия, кабеларка, силиконка, и новых значений, развитых у слов
гастрольор („преступник‟), закопчавам („арестовать‟), зарибявам. В качестве относящихся к
книжной лексике охарактеризованы неологизмы гетоизация, глобализатор, глобофоб,
гурман, консенсус. Новые лексические единицы реститут, реститутка, сапунка из-за их
2 Из-за неопределенности понятия иногда даже ставится под сомнение существование лексической нормы в
языке [Кротова 2001].
94
стилистической нагрузки классифицированы пометой ироническое, а лексемы силовак,
чалгаджийница, ченгесарски – пометой нежелательное.
Из-за динамического характера нормы в ряде случаев ее отражение в неологическом
словаре может иметь характер прогноза или подлежать коррекции. Некоторые из
неологизмов очень быстро меняются в функционально-стилистическом плане. В начале
своего функционирования они выступают только в определенных сферах (например, в
разговорной речи или в жаргонах), но с течением времени расширяют область своего
употребления. Так, например, лексема записвачка, первоначально относящаяся к
компьютерному сленгу, подвергается стилистической нейтрализации и приближается к
пласту общеупотребительной лексики [Кирова 2010]. Поэтому характеристика этой лексемы
в СНСБЯ как принадлежащей к лексике из компьютерной области подлежит коррекции.
На начальном этапе функционирования неологизмов и закрепления их в языковой
системе наблюдается повышенная вариативность в формальном плане как следствие
нестабильности языковой формы. В ряде случаев параллельно существуют разные
модификации данного названия в плане выражения, которые конкурируют между собой. Это
особенно характерно для новых заимствованных слов, где у многих отмечаются разные
варианты: фонетические, графические (по способу написания), грамматические
(формообразующие, родовые) и др. Элементом нормативной практики в СНСБЯ является
рекомендация одного из существующих вариантов и его обозначение в качестве
предпочтительного на основании критериев, которые учитывают, с одной стороны,
тенденции в употреблении отдельных вариантов в речевой практике и частоту их
встречаемости, а с другой стороны, степень, в которой отдельные варианты соответствуют
языковой норме (на разных уровнях).
У заимствованных неологизмов часто наблюдается фонетическое и графическое
варьирование. В таких случаях в СНСБЯ рекомендуется в качестве заголовочного слова один
из существующих вариантов, а остальные подаются в справочном отделе словарной статьи
как другие его формы. К примеру, в качестве заголовочных даются варианты бранд (вместо
бренд), браузър (вместо браузер), джендър (вместо джендер), провайдър (вместо провайдер),
риалити (вместо реалити), сканирам (вместо скенирам), тийнейджър (вместо тинейджър).
Выбор основывается на частотности отдельных вариантов и на соблюдении правил
транскрипции заимствованных слов в болгарском языке. Например, в связи с правилом не
отмечать длину гласных в словах иностранного происхождения в качестве заголовочного
определяется вариант блутут (вместо блутуут, с англ. Bluetooth) и руткит (вместо рууткит
с англ. rootkit). В качестве рекомендуемых указаны графические варианты откутюр, имейл
вместо нетипичных (из-за наличия дефиса) форм от-кутюр, и-мейл. Графические варианты
заимствованных неологизмов, написанные латиницей (по сути варваризмы),
рассматриваются как недопустимые, ненормативные и не отражаются в СНСБЯ. Например,
при таких заимствованиях, как вип, диджей, джиесем, уайфай и др. (от английских
инициальных аббревиатур) представляются только графические варианты на кириллице
вопреки использованию в письменной практике и нелексикализованных графических
вариантов на латыни (VIP, DJ, GSM, CV, Wi-Fi). При наличии разных графических вариантов
(например, ВИП и вип; ПиАр и пиар; ДжиЕсЕм, джи ес ем и джиесем) в качестве
нормативного указывается вариант, подвергшийся целостной графической адаптации.
Второй аспект нормативной деятельности, осуществляемой в СНСБЯ, связан с оценкой
лексических новаций (в частности – новых заимствований) с точки зрения их
функциональной целесообразности.3
Функциональная целесообразность или нецелесообразность оцениваются
лексикографом в зависимости от семантических и функционально-стилистических
3 О принципе целесообразности см. более подробно [Горбачевич 1978: 30–31; Walczak 1995: 124; Москвин
2004: 113] и др.
95
особенностей новых заимствований, от коммуникативных потребностей общества и от
наличия / отсутствия в языке лексических соответствий. Если данное новое заимствованное
слово удовлетворяет определенную номинативную или стилистическую потребность и
является единственным названием соответствующего понятия, его вхождение в язык
квалифицируется как функционально обоснованное. В качестве целесообразных
принимаются и новые заимствованные слова, имеющие синонимы, от которых, однако, они
отличаются своей функционально-стилистическими свойствами или экспрессивной
нагрузкой. На основании этих критериев как функционально обоснованный оценивается ряд
представленных в СНСБЯ лексем иностранного происхождения, относящихся к специальной
сфере коммуникации или к общеупотребительной лексике.
Как функционально необоснованные обычно оцениваются новые заимствованные
слова, которые дублируют уже существующую (домашнего происхождения или
заимствованную) лексическую единицу с тем же значением и теми же функционально-
стилистическими характеристиками, или семантика которых совпадает с новым значением,
развитым у домашних лексем. В этих случаях преимущество обычно предоставляется
домашнему номинативному средству с целью поддержки национально-специфического
характера языка. Заимствованный неологизм в таких случаях обычно оценивается как
функционально нецелесообразный, не получает рекомендательную оценку и характеризуется
квалификатором нежелательное. Следует иметь в виду, что квалификация заимствованных
слов как нежелательных делается в соответствии с образцовой лексической нормой.
Соответствующий неологизм, однако, может утвердиться в речевой практике, стать частью
реальной нормы и тогда оценка нежелательное будет нуждаться в переосмыслении.
В качестве функционально нецелесообразного (и соответственно – нежелательного) в
СНСБЯ охарактеризовано, например, заимствованное слово атачмънт, потому что оно
конкурирует с синонимичными словосочетаниями прикачен файл и прикрепен файл.
Отметкой нежелательное квалифицированы и неологизмы провайдър (с синонимом
интернет доставчик), дивелъпър (с синонимом разработчик), файъруол (с синонимом
защитна стена), бийчволей (с синонимом плажен волейбол), лоукост (с синонимом
нискобюджетен и нискотарифен), фастфуд (с синонимом бързо хранене). В качестве
функционально необоснованного оценен и термин фолдър, синонимом которого является
новое значение имени существительного папка. Отметкой нежелательное квалифицированы
и неологизмы даунлоудвам (синонимы – новые значения глаголов свалям и смъквам) и юзър
(синоним – новое значение слова потребител).
В рассмотренных случаях при наименовании новых понятий наблюдается конкуренция
между заимствованными словами и образованиями на почве родного языка. Некоторые
новые заимствования означают понятия, для которых давно существуют названия в
болгарском языке. Их появление часто продиктовано языковой модой и стремлением к
престижности (это относится прежде всего к употреблению новых англицизмов). Если такие
новые заимствованные слова не отличаются от домашних синонимов по семантическим
нюансам, экспрессивной нагрузке или функционально-стилистическим характеристикам,
они тоже оцениваются как функционально необоснованные. Так, например, отметкой
нежелательное в СНСБЯ отмечены имена существительные тишърт и тишъртка
(употребляемые вместо знакомого слова тениска), дискаунт (вместо отстъпка), гайд
(вместо справочник), откутюр (вместо висша мода).
Появление значительного количества лексических новаций в болгарском языке в
последние годы ведет к дестабилизации лексической нормы. Вторжение множества
иноязычных заимствований требует формирования соответствующей языковой политики
[Бояджиев 2005]. Можно считать, что заложенные в СНСБЯ аспекты лексической
нормативности являются шагом к формированию такой политики. При этом следует
соблюдать баланс между потребностью обогащения словарного состава языка (в том числе
путем заимствования из других языков), с одной стороны, и необходимостью сохранения
национальной специфики языка, с другой стороны, имея в виду и роль современных
96
языковых тенденций, ведущей из которых является тенденция к интернационализации
лексики.
Осуществляемая неографами нормирующая деятельность имеет целью установление
образцовой лексической нормы применительно к новой лексике. Показательным является
тот факт, что большинство вариантов, рекомендуемых в СНСБЯ в качестве
представительных (как браузър, блутут, имейл, риалити, откутюр), уже кодифицированы в
орфографическом словаре болгарского языка [Словарь 2012].
В заключение можно сказать, что на современном этапе развития славянских языков,
когда процессы неологизации протекают очень активно, важно, чтобы их результаты были
не только своевременно выявлены и лексикографически зафиксированы, но и оценены с
точки зрения нормативности. В связи с этим уместно составление неологических словарей
частично нормативного характера.
Сокращения
СНСБЯ – Словарь новых слов в болгарском языке (конца ХХ – начала ХХI вв.). См.
[Словарь 2010]
Литература
Божилова 2013 – М. Божилова. Прагматична и стилистична характеристика на
българската лексика // Българска лексикология и фразеология. Т. 1. София: АИ «Проф.
М. Дринов», 2013. С. 593–767.
Бояджиев 2005 – Т. Бояджиев. Националният език в условията на чуждо влияние и
глобализация // Български език, 2005. № 4. С. 5–15.
Горбачевич 1978 – К. С. Горбачевич. Вариантность слова и языковая норма. На
материале современного русского языка. Л.: Наука, 1978.
Горбачевич 1989 – К. С. Горбачевич. Нормы современного русского литературного
языка. М.: Просвещение, 1989.
Карпіловська 2004 – Є. Карпіловська. Сучасна українська словотворчість та її
відображення в неологічних словниках // Вісник Львівського університету. Серія
філологічна, 2004. № 1. С. 3–10.
Кирова 2010 – Л. Кирова. Езикът на BG инфо поколението. София: Галик, 2010.
Колковска, Благоева 2016 – С. Колковска, Д. Благоева. Лексикалната норма и
неографската практика // В: За словото – нови търсения и подходи. София: Изд. на БАН
«Проф. М. Дринов», 2016. 185–199.
Кротова 2001 – А. Г. Кротова. Лексическая норма и ее отражение в языковом
сознании носителей языка. Дис. на соискание канд. филол. наук. Новосибирск, 2001. http: //
www.dissercat.com/content/leksicheskaya-norma-i-ee-otrazhenie-v-yazykovom-soznanii-nositelei-
yazyka
Москвин 2004 – В. П. Москвин. Правильность современной русской речи. Норма и
варианты: Учебное пособие. Волгоград. Перемена, 2004.
Словарь 1995 – Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х
годов) / Под ред. Н. З. Котеловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.
Словарь 2010 – Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в
българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI в.). София: Наука и изкуство,
2010.
Словарь 2012 – Официален правописен речник на българския език. София: Просвета,
2012.
Markowski 2006 – А. Markowski. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia
leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Walczak 1995 – B. Walczak. Norma językowa wobec elementów obcego pochodzenia. – In:
Kultura języka dziś. Pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej. Poznań, 1995. С. 120–133.
97
Л. Е. Кругликова
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
(по материалам словарей)
В последнее время наблюдается попытка политизировать сферу русского языка:
обществу настойчиво навязывается мнение о том, что наш язык после революции 1917 г.
остановился в своем развитии, что его словарный запас катастрофически уменьшается, а
приток новых слов в него минимален. Все эти умозаключения строятся на некорректном и
непрофессиональном сравнении данных словарей русского и английского языков в потуге
доказать превосходство английского языка и западной системы. Вот лишь несколько
выкладок М. Н. Эпштейна1, особенно рьяно проводящего эту мысль. В статье «Добро и зло в
зеркале русского языка» он пишет: «Удивительно, как мало новых слов прибавилось в русском языке за последние полтора столетия, в
результате всех революций и реакций, войн и кризисов, научного прогресса и социальных катастроф, – меньше
10 тысяч. Динамика языкового развития прослеживается через объем самых полных словарей
соответствующих периодов.
―Словарь Академии Российской‖ (6 тт., 1789–1794) содержит 43 257 слов.
―Словарь Академии Российской‖ (6 тт., 1806–1822) – 51 388 слов.
―Общий церковно-славяно-российский словарь‖ П. И . Соколова (2 чч., 1834) – 63 432 слова.
―Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Академии Наук‖
(1847) – 114 749 слов.
―Толковый словарь живого великорусского языка‖ В. Даля (1-е изд., 1863–1866; 2-е изд.,1880 ) – более
200 000 слов. В третьем издании под редакцией И. А. Бодуэна-де-Куртенэ (1903–1909) добавлены еще тысячи
слов.
―Толковый словарь русского языка‖, в 4 тт., под редакцией Д. Н. Ушакова (1935–1940) – 88 239 слов.
―Словарь современного русского литературного языка‖, изд. Академии Наук СССР (17 тт., 1948–1965)
– 120 480 слов.
―Большой толковый словарь русского языка‖, под редакцией С. А. Кузнецова (2003) – 130 000 слов.
Для наглядности сведем все данные в таблицу:
Год Число слов Добр(о) Зл(о)
1794 43 257
1822 51 388
1834 63 432
1847 114 749 146 254
1880 200 000+
1909 200 000 ++ 195 286
1940 88 239 42 82
1965 120 480
2003 130 000 37 63
Основные потери лексического запаса, если судить по его отражению в толковых словарях (а у нас нет
более надежных источников), пришлись на первые послереволюционные десятилетия. Истреблялись не только
целые сословия и пласты культуры, но и лексические пласты языка. Между 1909 г. и 1940 г. (третьим
изданием Словаря Даля и Словарем Ушакова) зияет пропасть <…> Но сравним сравнимое (выделено нами. –
Л. К.): четырехтомный академический словарь 1847 г. (114 749) содержит на 26 510 больше слов, чем
изданный почти столетие спустя четырехтомный академический словарь 1940 г. (88 239). Да и самый
объемный, семнадцатитомный словарь советской эпохи (1965 г.) содержит немногим более, чем словарь
1847 г. (разница – всего 5731 слово).
И такое топтание на месте – в период бурного роста лексического запаса в других европейских языках,
когда, например, словарный фонд английского языка увеличился в несколько раз! Знаменитый «Словарь
английского языка» Сэмюэла Джонсона, изданный в 1755 г., содержал 42 773 слова. Первое издание
вебстеровского словаря в 1806 г. включало около 48 000 слов. ―Американский словарь английского языка‖,
1М. Н. Эпштейн – выпускник филологического факультета МГУ. С 1990 г. живет и работает в США.
98
издание которого было начато Вебстером и продолжено под его лексикографической маркой, вырос уже до
70 000 слов в 1828 г. и 114 000 в 1864 г. Далее: 1890 г. – 175 000, 1900 г. – 200 000. Как видим, в XIX в.
лексический запас русского и английского языков и его отражение в национальных словарях растут примерно
одинаковыми темпами. Но уже второе, «полное» издание вебстеровского «Нового международного словаря
английского языка» (Webster‘s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged), вышедшее
в 1934 г., содержало примерно 600 тыс. слов. В этот исторический период – в первые десятилетия ХХ в. –
происходит решающий разрыв между лексическими запасами двух языков и, соответственно, объемами их
лексикографического описания. В то время, когда объем русского языка под давлением советского «новояза»
сокращается, английский язык стремительно растет. Сравнение двух почти одновременно вышедших
словарей говорит само за себя: 88 тыс. в ушаковском (1940) и 600 тыс. в вебстеровском (1934). По сравнению
с концом XIX в. лексический запас русского сократился примерно вдвое, а запас английского вырос примерно
втрое: шестикратная разница. Правда, 3-е издание вебстеровского словаря, вышедшее в 1961 г., пользовалось
более жесткими критериями отбора и содержало 450 тыс. слов. Но и это почти в четыре раза превышает
объем изданного примерно тогда же самого большого, 17-томного академического словаря советской эпохи –
120 тыс. (1965).
Конечно, никакой словарь не может отразить всего лексического богатства языка. Но здесь дело
обстоит так же, как с демократией: это плохая политическая система, но все остальные еще хуже. Точно
так же и словари: они не отражают языка в его полноте, но нет более точного средства судить о состоянии
языка, чем его самые полные словари. Можно провести эту параллель и дальше. Как говорится, каждый народ
имеет такое правительство, какого он заслуживает. И у каждого языка – те словари, каких он
заслуживает». [Эпштейн 2007].
Ту же мысль М. Н. Эпштейн высказывает и в беседе с заведующим кафедрой
прагматики культуры Высшей школы экономики А. Долгиным, опубликованной в
«Независимой газете» от 14.10.09: «В 1920–1940-е годы лексический фонд русского языка, по крайней мере в его словарном отражении,
уменьшился примерно в 2–3 раза в результате выбывания (и выбивания) культурного слоя, который его
практиковал. Распространился новояз.
Новояз – это не творческое обновление языка, а сокращение, когда лишние, «вредные» слова,
вызывающие свободное движение мысли, прореживаются, а остальные сводятся к двум значениям – «за» и
«против». Русский язык истощился до такой степени, что творческая, проективная задача выходит сейчас
на первый план. [Лебедева 2009].
А вот что можно прочитать, например, под броским заголовком «Русская жизнь
вырождается вместе с языком» на сайте http://newsbabr.com/?IDE=98388: Заслуженный профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта) и
член Академии российской современной словесности Михаил Эпштейн заявил в интервью газете «Невское
время», что русский язык – отнюдь не самый великий и могучий. За ХХ век он, по словам Эпштейна, сильно
деградировал.
«Язык динамично развивался вплоть до Октябрьской революции. Английский и русский словари шли, как
говорится, ноздря в ноздрю до начала ХХ века. В каждом из них было примерно по 200 тысяч слов. Когда в
1934 году вышел словарь Уэбстера, в нем было уже 600 тысяч слов. А в 1940-м самый полный для советской
эпохи словарь Ушакова содержал лишь 80 тысяч слов. Сегодня этот разрыв только усугубляется. С
вырождением языка вырождается и наша жизнь, уходят эмоциональные оттенки, нравственные понятия,
которыми изобиловал русский язык в XIX веке», – сказал Эпштейн.
Вроде бы приводятся реальные цифры. Так, четырехтомный «Словарь
церковнославянского и русского языка» (1847 г.) действительно содержит на 26 510 слов
больше, чем четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова,
выходивший с 1935 по 1940 гг. В третьем издании словаря В. И. Даля на самом деле 220 000
слов, а в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова только88 239.
М. Н. Эпштейн подчеркивает, что сравнивает сравнимое. Но так ли это?
«Словарь церковнославянского и русского языка» получил такое название потому, что
в нем совмещаются нынешний русский, старинный русский и церковнославянский языки как
составные части единого языка. Словарь является «сокровищницей языка на протяжении
многих веков, от первых письменных памятников до позднейших произведений нашей
словесности» [СЦРЯ II: XI]. Словарь Даля также не является нормативным словарем: он
отражает живой национальный язык. Что же касается словаря под редакцией Д. Н. Ушакова,
то это словарь литературного языка своей эпохи, причем это словарь среднего типа по
классификации С. И. Ожегова [Ожегов 1974], т. е. он не должен был отразить даже весь
литературный язык, не говоря уже о национальном языке в целом. Изначально заданным
99
параметром данного словаря был его ограниченный объем. С целью экономии места в него
не включались целые пласты лексики, о чем говорится во вступительной статье к словарю2.
В разделе «Как пользоваться словарем» читаем: «Выпускаемый Толковый словарь русского
языка не ставит себе целью объять все богатство русского языка во всем его историческом и
территориальном объеме. Задачи и объем словаря ограничены. Он дает объяснение значений
слов современного русского литературного языка, причем под литературным языком
понимается не собственно язык художественной литературы, но вообще книжная и
разговорная речь образованных людей <…> Кроме того, намеченный объем словаря
заставляет ограничить количество слов некоторых категорий, определяя выбор степенью
употребительности того или иного слова в общем языке. Так, не даются узкоспециальные
термины наук, искусств, техники <…> Исключены собственные имена (людей,
географические и др.), а также названия жителей городов (костромич, курянин, тверитянин и
т. п.). Наконец, выпущены многие такие производные слова, которые легко образуются и
легко понимаются: некоторые категории производных существительных <…>,
прилагательных <…>, глаголов <…>, наречий <…>, степеней сравнения прилагательных и
наречий <…>» [Ушаков: XXII].
Так что Словарь Ушакова, «Словарь церковнославянского и русского языка» и Словарь
Даля по объему сравнивать нельзя. Сопоставима у них только чисто внешняя сторона:
каждый из указанных словарей состоит из четырех томов. Между тем именно на количестве
слов в этих словарях базируется вывод М. Н. Эпштейна об оскудении русского языка в
советское время: «Словарный запас русского языка последовательно сокращался, из него
выбрасывались целые тематические и стилевые пласты, что можно видеть, например, из
сравнения Словаря Ушакова (1940) с российскими словарями 19-го века (академическим
1847 г. и далевским 1863–65)» [Эпштейн].
Интересно, что М. Н. Эпштейн почему-то не упоминает еще один словарь – «Словарь
русского языка», выходивший с 1891 г. по 1936 г. (1-е изд. – 1891–1930, 2-е изд. – 1930–
1936)3, который можно назвать словарем-сокровищницей. Именно в этом словаре
исчерпывающим образом представлена не только лексика литературного языка того периода
(в качестве точки отсчета современного русского языка была избрана эпоха
М. В. Ломоносова), но и словарный состав других пластов национального русского языка
аналогично тому, как это делается в упоминаемых М. Н. Эпштейном словарях английского
языка. Словарь представляет собой как бы двухчастное образование, основанное на разных
теоретических принципах: первый том из трех выпусков (А–Д) создавался под руководством
Я. К. Грота и отражал живой литературный язык, последующие тома (после смерти
Я. К. Грота), выходившие под руководством А. А. Шахматова, описывали не только живой
литературный язык, но и другие разновидности национального языка, прежде всего
диалекты, т. е. вторая его часть как раз подходит для сопоставления со словарем В. И. Даля.
Чтобы дать представление о количественном составе этого словаря, приведем
сделанные нами подсчеты слов в третьем выпуске тринадцатого тома (Л.: Изд-во Академии
наук СССР, 1935), который содержит слова от недовернуться до нежунька. Их оказалось
1318. В аналогичном отрезке в СЦРЯ имеется 205 слов, т. е. в 6,4 раза меньше, во втором
прижизненном издании словаря Даля [Даль II] – 454 слова, т. е. в 2,9 раза меньше. Изобразим
этот прирост в таблице.
2 Словарь Ушакова по своему предназначению в определенной степени можно сравнить с кратким
Оксфордским словарем («The Сoncise Oxford English Dictionary of Current English»), который регулярно
выходит с 1911 г. Словник его шестого издания (1976 г.) насчитывает 74 000 слов, т. е. в нем меньше слов, чем
в словаре Ушакова. 3 Ни первое, ни второе издание словаря завершены не были. В первом издании наличествовали следующие
словарные статьи: А – издѐргивать, К – крошечный, Л – лисичий, М – маститый, Не – недорубщик, О –
обкататься, во втором – А – антиципироваться, Д – даятельный, И – идеализироваться, Л – лесной, М –
махать, Не – некрытый, Обкатить – обратность.
100
Количество слов в отрезке недовернуться – нежунька в словарях русского языка
Название словаря Год издания Количество слов Прирост
СЦРЯ 1847 205
Словарь Даля (2-е
издание)
1880–1882 454 В 2,21 раза, или на
121, 46%
Словарь русского
языка, XIII том,
выпуск 3
1935 1318 В 2,9 раза, или на 190,3%
по сравнению со Словарем
Даля и в 6,42 раза, или на
642,9% по сравнению со
СЦРЯ
О значительном пополнении лексического состава русского языка в ХХ в.
свидетельствуют и следующие факты. К. С. Горбачевич – главный редактор второго (до
конца не опубликованного, 1–6 тома выходили в 1991–1994 гг.), уже двадцатитомного,
издания «Словаря современного русского литературного языка» – отмечал, что словник
этого издания по сравнению с первым изданием в 17 томах (1948–1965), несмотря на
исключение тех слов, которые к моменту работы над новым изданием словаря полностью
вышли из употребления, увеличится примерно на 15% [Горбачевич 1989: 17], т. е.
приблизительно на 18 000 слов за 26 лет. БАС, который начал выходить в 2004 г.
(опубликовано 23 тома из планируемых 33), предположительно будет содержать 150 000
слов, т. е. по сравнению с первым изданием этого словаря увеличение уже составит 25%, или
30 000 слов (за 39 лет). И это при том, что при подсчете учитывалось только то новое,
которого нет в первом издании, хотя там зафиксировано множество новообразований,
появившихся в ХХ в., в том числе и после 1917 г. Таким образом, с 1965 г. (год окончания
публикации «Словаря современного русского литературного языка» в 17-ти томах) по 2004 г.
(год начала публикации «Большого академического словаря русского языка») в русский язык
ежегодно приходило в среднем по 769 слов. Это больше, чем ежегодный прирост английских
слов в самом полном словаре английского языка – Оксфордском («Oxford English
Dictionary», сокращенно OED) даже без учета тех прочих образований, которые обычно
включаются в объем толковых словарей английского языка и не фигурируют при подсчетах в
словарях русского языка.
Заявленный объем БАС – 150 000 слов, возможно, будет превышен, так как
привлечение при его составлении наряду с Большой словарной картотеки ИЛИ РАН,
насчитывающей свыше 8 000 000 словоупотреблений, электронных ресурсов позволило
выявить новые языковые единицы, которые выпали из поля зрения при традиционной
выборке материала.
В доказательство того, что использование электронных ресурсов существенно влияет
на пополнение словаря, приведем следующий факт. Подсчет слов в отрезке на букву «Р» от
ракитовый до распятие показал, что в ССРЛЯ имеется 666 слов, в БАС – на 297 слов
больше, т. е. увеличение составило 44,5%4. Ср. с заявленным пополнением на 30 000 слов,
или на 25%. Таким образом, обращение к текстовым базам данных увеличивает словник
почти в два раза. Т. Н. Буцева, говоря о первом опыте использования базы данных по
4Данный отрезок словаря пополнился также 103 новыми значениями (16 из которых являются
принадлежностью ХIХ в., но ранее не были зафиксированы), 61 – новыми оттенками значений (7 из них были
известны в XIX в., но не получили отражения в словарях), 101 – новым употреблением (из них 17 являются
принадлежностью XIX в.), 23 – новыми фразеологизмами (8 из них бытовали уже в XIX в.), что в сумме
составляет 288 дополнений. Если встать на позиции английской лексикографии, то можно говорить, что
данный отрезок БАС-3 по сравнению со ССРЛЯ пополнился 585 (297 + 288) новыми единицами. P. S. Под
употреблением понимается использование существительного, не являющегося собирательным, в
собирательном значении, новая сочетаемость слов (например, в словарной статье Распад это распад личности)
и т. д.
101
русскоязычной периодике информационного агентства «Интегрум» при работе над
словарем-справочником «Новые слова и значения» (1990-е гг.), отмечает почти двукратное
увеличение в нем количества словарных статей [НСЗ-90: 6]. О значительном росте объемов
словарей при использовании сетевых ресурсов говорят и английские лингвисты. Дэвид
Барнхард, сын известного лексикографа К. Барнхарта, который с 1982 г. вместе с отцом
готовил ежеквартальные публикации новых слов, тоже отмечает, что при использовании
электронных баз данных фиксируется в 2 раза больше неологизмов [Barnhart 2000: 372].
Нынешний главный редактор «Оксфордского словаря английского языка» Майкл Проффитт
заявил в апреле 2014 г., что если готовящееся сейчас третье издание OED, размещенное в
сети, будет напечатано, то оно будет состоять из 40 томов, т. е. в 2 раза превысит объем
второго издания [Flanagan 2014]. Как отмечалось выше, ныне издаваемый БАС,
отражающий, в отличие от OED, только литературный язык в его современном состоянии,
предположительно будет состоять из 33 томов, т. е. их количество будет почти в два раза
больше, чем в 17-томном ССРЛЯ 1948–1965 гг.
Таким образом, о каких потерях лексического состава русского языка может идти речь?
Теперь же прокомментируем неизвестно на чем базирующиеся слова М. Н. Эпштейна:
«Если английский язык в течение ХХ века в несколько раз увеличил свой лексический запас,
то русский язык скорее потерпел убытки» [Эпштейн 2006: 193]. Что русский отнюдь не
потерпел убытки, мы уже выяснили. А вот что происходит с английским? Сначала
попробуем опровергнуть М. Н. Эпштейна его же методом. Объем Вебстеровского словаря,
изданного в США в 1909 г., составлял 400 000 слов. В его втором издании (1934 г.)
содержится 600 000 лексем, в третьем (1961) – 450 000. На основании этого можно сделать
вывод о том, что английский язык активно пополнялся до 1934 г. (увеличение за 25 лет на
50 000 слов), но с 1934 г. началось его катастрофическое вырождение (сокращение на
150 000 слов, т. е. на четверть за 27 лет!!!). Если же попытаться разобраться в причинах
таких резких скачков, то оказывается, что дело здесь лишь в том, что у второго и третьего
изданий были разные редакторы, у которых разные принципы отбора слов в словарь. Так что
спешить с громогласными заявлениями о процессах, происходящих в языке, только на
основании количества слов в том или ином словаре нельзя.
По данным портала компании «Мерриам» (http://www.merriam-
webster.com/help/faq/total_words.htm), которая издает Вебстеровский словарь, третье издание
этого словаря, появившееся в 1961 г., вместе с приложением 1993 г. содержит 470 000
словарных статей. Если учесть, что издание 1961 г. включало 450 000 словарных статей, то
прибавка за 30 с лишним лет составила 20 000 лексем, т. е. примерно 666 слов в год.
Количество слов в словаре увеличилось в 1,04 раза, или на 4,25%. И это с учетом тех
образований, которые обычно в толковые словари русского языка не включаются.
Для выявления интенсивности пополнения английского языка в ХХ в. обратимся также
к данным OED. Его первое издание (1928 г.) содержало 252 500 слов, второе (1989 г.) –
290 500. Количество слов увеличилось в 1,15 раза, или на 13% за 61 год. За этот период
добавилось 38 000 слов, т. е. прирост составил примерно 622 слова в год. Ср. с
вышеприведенными данными по словарям русского языка: 15% за 26 лет и 25% за 39 лет.
Темпы прироста отнюдь не в пользу английского языка.
В последние годы не произошло каких-либо существенных изменений: в 2013 г. в OED
добавлено 466 новых словарных статей, в 2014 г. – 566, в 2015 г. – 481. Подчеркнем: новых
словарных статей, а не слов (их можно пересчитать по пальцам), т. к. в качестве заголовка
словарной статьи в словарях английского языка может выступать и словосочетание с
целостным значением (например, Antikythera mechanism, comedy of errors, federal fund), чего
не наблюдается в толковых словарях русского языка.
Аналогичную картину имеем и в словарях, отражающих только современное состояние
языка. Первое издание «Oxford Dictionary of English» вышло в 1998 г., второе – в 2003 г. Во
второе издание было добавлено более 3 000 слов, выражений, значений, т. е. пополнение за
год составило примерно 600 слов, выражений и значений. То же самое можно наблюдать и в
102
американском варианте английского языка. Первое издание «New Oxford American
Dictionary» вышло в 2001 г., второе издание (2005 г.) пополнилось 3 000 новых слов,
выражений и значений, в третье издание (2010 г.) добавлено более 2 000 слов, выражений и
значений. Итого за 9 лет – 5 000, т. е. прирост за год составляет 555 единиц.
Интересно также сопоставить словари новых слов английского и русского языков.
В 1970-х гг. в русской лексикологии и лексикографии выделились самостоятельные
разделы – неология (раздел языкознания, занимающийся изучением неологизмов) и
неография (теория и практика составления словарей новых слов), чего не наблюдается в
англистике. Английские и американские лингвисты больше сосредоточены на практической
стороне дела – составлении словарей новых слов.
Самыми полными словарями новых слов английского языка являются словари,
подготовленные К. Л. Барнхартом5. Интересно, что этот американский специалист из
Чикагского университета лично познакомился с основателем русской неографии
Н. З. Котеловой и деятельностью руководимой ею в те годы Группы словарей новых слов
Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР (ныне Институт
лингвистических исследований РАН) и использовал некоторые ее наработки при создании
своего словаря новых слов, изданного в 1973 г. («The Barnhart dictionary of new English since
1963»). В этом словаре отражается лексика, появившаяся в 1963–1972 гг. В нем около 5 000
словарных статей, в качестве заголовков которых выступают новые слова, значения слов,
словосочетания, а также аффиксы, зафиксированные в американской, канадской и
британской периодической печати. Второй словарь новых слов К. Л. Барнхарта вышел в
1980 г., третий – в 1990 г. Словарь, изданный в 1990 г. (в соавторстве с Робертом
К. Барнхартом), содержит 12 000 новых слов и выражений, появившихся за последние 30
лет, что позволяет говорить о том, что средний прирост в год составляет приблизительно 400
единиц. Для сравнения: словари неологизмов русского языка 1960-х, 1970-х, 1980-х годов
[НСЗ-60, НСЗ-70, НСЗ-80], в совокупности отражающие новообразования за тридцатилетие,
содержат 15 220 новых слов, значений и устойчивых выражений (соответственно 3 500;
5 500; 6 220)6, т. е. прирост примерно на 507 единиц в год).
Оксфордский словарь новых слов («The Oxford dictionary of new words», Oxford
University Press, 2 edition, 19997) отражает десятилетний период с конца 1980-х до конца
1990-х гг. В нем содержится 2 500 слов и выражений. Исходя их этих данных, прирост равен
примерно 250 единицам в год. Словарь неологизмов русского языка того же периода [НСЗ-
90] описал около 10 500 слов, значений и выражений, т. е. пополнение за год составляет
приблизительно 1 050 образований. На самом деле, по наблюдениям неографов,
неологизация русского языка в это десятилетие шла еще активнее, о чем свидетельствуют
многочисленные неологизмы 1990-х гг., выявленные при обследовании периодики уже после
публикации этого словаря [Буцева2012: 244].
Особенность словарей новых слов заключается в том, что как у нас, так и в
лексикографии других стран, основным источником для выборки материала служит
периодика. При этом, если The Barnhart Dictionary Companion имела возможность
использовать компьютерную базу данных полнотекстовых газетных и журнальных статей с
1983 г. [Barnhart 2000: 372], то сотрудники ИЛИ РАН смогли это делать только с 2003 г.,
когда появилась возможность использовать сетевой источник «Интегрум», в
5Одними из первых словарей, отражающих новые лексические единицы английского языка, явились словари
Пола Берга [Berg 1953] и Мэри Рейфер [Reifer 1955]. Первый охватывает период с 30-х гг. ХХ в. до 1953 г.
(число единиц в нем не указано), второй – с 30-х гг. ХХ в. до 1955 г. и содержит 4500 новообразований, т. е.
пополнение составляет 300 единиц в год. 6 Заметим, что на самом деле слов может оказаться даже больше, т. к. выборка была не сплошной, а делались
лишь контрольные срезы: НСЗ-60 – сплошное обследование источников 1965–1967, выборочное обследование
источников 1964, 1968; НСЗ-70 – 1973–1975, выборочно 1972, 1976; НСЗ-80 – 1986–1988, выборочно 1980–1985
и 1989 гг. (из предисловий к этим словарям). 7Первое издание, отражающее более ранний десятилетний период, вышло в 1991 г.
103
информационно-поисковой базе которого представлена практически вся центральная и
региональная российская пресса. Несмотря на это, словари неологизмов русского языка
отнюдь не уступают неологическим словарям английского языка по количеству
зафиксированных в них единиц.
Отразим интенсивность пополнения лексического состава русского и английского
языка в виде таблицы:
Прирост новообразований в словарях русского и английского языков
Язык
Словари Отражаемый
временной период
Примерное
количество
дополнений в год
Английский
Толковые словари
Вебстеровский словарь
OED
Oxford Dictionary of English
New Oxford American
Dictionary
1961–1993
1928–1989
2013
2014
2015
1998–2003
2001–2010
666 слов,
выражений и
значений
622 слова,
выражения и
значения
466 словарных
статей (слов и
словосочетаний с
целостным
значением) и 101
значение
566 словарных
статей (слов и
словосочетаний с
целостным
значением) и 27
значений
481 словарная
статья (слова и
словосочетания с
целостным
значением) и 78
значений
600 слов,
выражений и
значений
555 слов,
выражений и
значений
Русский
Толковые словари
ССРЛЯ – БАС
1965–2004
769 слов
104
Английский
Словари новыхслов
Third Barnhart Dictionary of
New English
The Oxford Dictionary of New
Words
1960–1989
Конец 80-х–конец
90-х гг. ХХ в.
400 слов,
значений и
выражений
250 слов и
выражений
Русский
Словари новых слов
НСЗ-60
НСЗ-70
НСЗ-80
НСЗ-90
1965–1967,
добавочно 1964–
1968
1973–1975,
добавочно 1972 и
1976
1986–1988,
добавочно 1980–
1985 и 1989
1990–1999
350 слов,
значений и
выражений
550 слов,
значений и
выражений
622 слова,
значенияи
выражения
1 050 слов и
значений 8
Если отталкиваться от всех представленных выше данных и использовать лексикон
М. Н. Эпштейна, то придется констатировать, что не русский, а английский язык гибнет,
скукоживается, вырождается. Мы этого делать не будем: при наличии общих тенденций
каждый язык развивается по своим законам. Можно констатировать только тот факт, что
рост количества слов в русском языке превышает рост числа новых слов в английском. Так
что фраза М. Н. Эпштейна об увеличении в несколько раз лексического запаса английского
языка в течение ХХ в. и убытках русского не соответствует действительности.
Сопоставление интенсивности пополнения двух языков по данным словарей не
подтверждает ущербность русского языка, а скорее является показателем его
жизнеспособности и мощи.
Словари
БАС – Большой академический словарь русского языка. Т. 1–23. СПб.: Наука, 2004–
2014 (издание продолжается).
Даль – В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I–IV.
СПб.–М., 1880–1882.
НСЗ-60 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М.: Сов. энциклопедия,
1971.
НСЗ-70 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой . М.: Рус. яз., 1984.
НСЗ-80 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.
8 Ср. с количеством неологизмов, появившихся в немецком языке за десятилетие (90-е годы ХХ века), – 950
[Штеффенс, Никитина 2012: 378].
105
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов ХХ века. В 3 тт. // Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), Е. А. Левашова.
Т. I. СПб.: Дмитрий Буланин. Т. 1. 2009; тт. II-III. 2014.
ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.–Л.: Изд-во
Академии наук СССР; Наука, 1948–1965.
СЦРЯ – Словарь церковнославянского и русского языка. Т. I–IV. СПб., 1847.
Ушаков – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. I. М.: Гос. ин-
т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935.
OED – Oxford English Dictionary.
Литература
Буцева 2012 – Т. Н. Буцева. «Новые слова и значения. Словарь-справочник по
материалам прессы и литературы 90-х годов ХХ века»: из опыта составления и
редактирования // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических
исследований РАН / Отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2012. Т. VIII. Ч. 3 / Отв. ред.
И. А. Малышева, Т. Н. Буцева, О. М. Карева. С. 242–262.
Горбачевич 1989 – К. С. Горбачевич. Нормы современного русского литературного
языка. 3-е изд., испр. М.: Просвещение, 1989.
Лебедева 2009 – Е. Лебедева. Oshchushchenie языка // http://www.ng.ru/science/2009-10-
14/9_new_words.html
Ожегов 1974 – С. И. Ожегов. О трех типах толковых словарей русского языка //
С. И. Ожегов. Лексикология. Лексикография. Культура речи. Учеб. пособие для вузов. М.:
Высшая школа, 1974. С. 158–182.
Штеффенс, Никитина 2012 – Д. Штеффенс, О. А. Никитина. От словаря неологизмов
немецкого языка к немецко-русскому словарю неологизмов // Acta Linguistica Petropolitana.
Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.:
Наука, 2012. Т. VIII. Ч. 3 / Отв. ред. И. А. Малышева, Т. Н. Буцева, О. М. Карева. С. 371–394.
Эпштейн – М. Н. Эпштейн. Русский язык: проективный подход //
http://intelros.ru/subject/figures/mixail-yepshtejn/11284-russkij-yazyk-proektivnyj-podxod.html.
Эпштейн 2006 – М. Н. Эпштейн. Русский язык в свете творческой филологии
разыскания // Знамя. 2006. №1. С. 192–207.
Эпштейн 2007 – М. Н. Эпштейн. Добро и зло в зеркале русского языка // Континент.
2007. №132 // http://magazines.russ.ru/continent/2007/132/ep21.html
Barnhart2000 – David K. Barnhart. Reflections in Lexicography // American Speech. Volume
75. № 4. Winter 2000. PP. 370–372.
Berg 1953 – P. A. Berg. Dictionary of New Words in English. London: George Allen
&Unwin, 1953.
Flanagan 2014 – P. Flanagan. RIP for OED as world's finest dictionary goes out of print //
The Telegraph. 20 Apr 2014.
Reifer 1955 – M. Reifer. Dictionary of New Words. NewYork: Philosophical Library, 1955.
106
С. Д. Левина
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД НАИМЕНОВАНИЯМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ
СЕКСУАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В последние годы в России тема ЛГБТ (сообщество геев, лесбиянок, бисексуалов,
трансгендеров)1 – предмет острой полемики. Поэтому в русском языке лексика
соответствующей тематической группы очень активна. Актуализировались давно
существующие наименования, заимствуются и образуются новые слова, называющие разные
стороны жизни ЛГБТ-сообщества. Лексика эта разнородна стилистически и относительно
сфер ее употребления: слова нейтральные и оценочные, общеупотребительные и
относящиеся к терминологии разных областей знания или к разным жаргонам. Раньше
однополые отношения были за пределами моральных, правовых и медицинских норм,
соответственно, и тема эта практически не освещалась публично или освещалась лишь в
негативном ключе. Сейчас, с одной стороны, происходит либерализация отношения к ЛГБТ
на Западе, активно развивается движение за права ЛГБТ в России. С другой стороны,
эмансипация ЛГБТ встречает в консервативных слоях общества сопротивление,
используемое в политических целях. Идеологическое противостояние находит отражение в
языке: сохраняется отрицательное отношение к явлению, выражающееся в экспрессивной
лексике, по-прежнему составляющей большую часть слов данной тематической группы, но
формируется и нейтральный дискурс, требующий иных языковых средств. Отметим, что
экспрессивная лексика данной тематической группы уже становилась предметом
лингвистического исследования [Кромбах 1994] и зафиксирована в различных словарных
изданиях, например, [Козловский 1986; Балдаев 1992; Быков 1993; Мокиенко 2000; Грачев
2003; Химик 2004; Никитина 2013]. Поэтому представляется интересным проанализировать
лексику называющую, а не характеризующую: какие языковые единицы, как и почему
используются в нейтральном дискурсе об ЛГБТ и почему «уходят» из него?
В данной статье рассматриваются как старые, так и новые нейтральные наименования
лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а также представление этой лексики в
словарях.
В начале ХХ в. для наименования однополых отношений и мужчин, практикующих их,
употреблялись в основном слова педерастия и педераст, характеризующие, строго говоря,
не гомосексуальную ориентацию как эмоциональное и сексуальное влечение к лицам своего
пола, а гомосексуальное поведение2. Они использовались и в научной литературе.
За последние примерно 70 лет сфера употребления и коннотация этих слов изменились.
По данным НКРЯ, соотношение нейтральных и отрицательных контекстов употребления
слов педераст (37 вхождений), педерастия (215 вхождений) примерно 1:3. Однако до конца
1940-х гг. количество нейтральных и отрицательных контекстов почти одинаково, а начиная
с 1950-х гг. – в основном отрицательные: Мужчин, которые при встрече стали бы
целоваться, тогда бы обозвали «педерастами». Л. Дурнов, Жизнь врача (2001); – Ну, когда я
так тебе делаю, разве тебе не приятно? – заискивал гей <…> – Нет, для меня
омерзительно. – Я показал ему кулак. – Педерастия... Знаешь, что это? Это волчья ягода в
заячьей губе! С. Шаргунов, Ура! (2002).
Эти изменения вызваны двумя причинами: 1) в середине ХХ в. центре внимания
медиков оказывается сексуальное влечение, а не поведение, и слова педераст и педерастия
исчезают из научной литературы (например, в «Малой медицинской энциклопедии» есть
1 ЛГБТ – неологизм 2003 г.; от англ. LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).
2 В СУ педерастия толкуется как „извращенные половые отношения мужчины с мужчиной, мужеложство‟;
наряду с этим обозначением сексуальной практики в данном словаре присутствует и слово гомосексуализм,
толкуемое как „Книжн. Извращенное половое влечение к лицам своего пола‟. Соотношение „поведение‟ –
„влечение‟ сохраняется в толкованиях этих слов впоследствии в других словарях. Первые фиксации слов в
НКРЯ: педераст – 1833–1835, педерастия – 1841, гомосексуалист, гомосексуализм – 1908.
107
термин гомосексуализм и нет термина педерастия3); 2) распространяется тюремно-лагерный
жаргон, в котором фиксируется отношение к гомосексуальному акту как к унижению. В
современном русском языке эти слова носят крайне оскорбительный характер, у слова
педераст и его искаженных форм развивается второе, исключительно бранное значение4. С
актуализацией темы ЛГБТ в общественно-политической жизни России эти слова появляются
в политическом дискурсе и используются для разжигания ненависти к гомосексуалам: Всем
известно, что в рядах человеконенавистников явный педераст депутат Верховной Рады
Олег Ляшко, неявный педераст министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. И их
сексуальная ориентация никого бы не волновала, если бы они не декларировали лютой своей
ненависти к России и к дружбе между украинцами и русскими, но именно эти товарищи и
лютуют на Донбассе. И если бы кто-то из сочувствующих сексуальным меньшевикам дал
им толковый совет <…> не выпендриваться в компании с официальными недругами России
<…>, а <…> выразить свой протест против Ляшко и Авакова, своими действиями
порочащих честное имя педераста-интернационалиста, так нет же – их еще и
превращают в борцов против традиций собственной родины (телеканал «Санкт-
Петербург», 29.09.14; URL: http://topspb.tv/programs/v10655/). Это фрагмент из авторской
телепередачи «Реакция» В. Татарова, посвященной открытию ЛГБТ-фестиваля «Квирфест» в
Петербурге, куда пригласили представителей консульств нескольких стран Европы, за что
журналист осуждает организаторов. Журналист использует прием введения информации в
отрицательный контекст: передача начинается с напоминания о санкциях, введенных ЕС в
отношении России, затем говорится об украинских политиках, на которых в российских
СМИ не раз возлагалась ответственность за трагические события на Украине, упоминается
об их предполагаемой сексуальной ориентации. Политическое поведение российских
организаторов фестиваля, таким образом, связывается c их сексуальностью. Неудивительно,
что из всех возможных номинаций ведущий выбирает именно слово педераст.
Производные от слов педераст, педерастия также обладают отрицательной
коннотацией. В русском языке давно существуют образованные от слова педераст еще более
грубые слова, возникшие в основном в тюремно-лагерном жаргоне и обозначающие гея или
любого мужчину, которого хотят оскорбить. Однако в последние десятилетия и в сфере
общественно-политической лексики появился целый ряд неологизмов с крайне
отрицательной оценочностью, которые образованы от этих слов: восьмидераст, единораст,
импераст, либераст, путираст, толераст, федераст; единорастия, либерастия,
толерастия, федерастия. Они возникли в результате контаминации: первая часть –
элементы слов, называющих поколение (восьмидесятники), определенную общественно-
политическую позицию или ее сторонников, а вторая – элементы слов педераст /
педерастия – выражает оценку.
Наметилась тенденция восприятия самых распространенных номинаций
(гомосексуализм, гомосексуалист) как неодобрительных, дискриминационных. Однако, если
слова педерастия, педераст устойчиво выражают интенцию говорящего осудить, оскорбить,
то гомосексуализм, гомосексуалист употребляются независимо от наличия у говорящего
такой интенции. Но они часто представляются некорректными этически самим
гомосексуалам и терминологически – специалистам в разных областях.
В ряде медицинских, антропологических, психологических, сексологических
исследований5 указывается на неточность использования слов гомосексуализм,
гомосексуалист в качестве терминов. Обычно при этом приводится лингвистический
3Малая медицинская энциклопедия / Под ред. В. В. Покровского. М.: Медицина, 1991–1996.
4 См., например: Педераст. 2. Бран., вульг., отриц. О человеке как дурном, скверном, очень неприятном [Химик
2004]. 5 См., например: И. С. Кон. Любовь небесного цвета. СПб., 2001; М. М. Бейлькин. Гордиев узел сексологии.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007; Д. В. Воронцов. «Семейная жизнь – это не для нас»: мифы и ценности мужских
гомосексуальных пар // Семейные узы: Модели для сборки. Книга 1. М.: Новое литературное обозрение,
2004. С. 576-607.
108
аргумент – значение суффиксов -изм / -ист: Я пишу «гомосексуальность», а не
«гомосексуализм», соответственно, «гомосексуал», а не «гомосексуалист», потому что
слова с суффиксами -изм, -ист воспринимаются в русском языке как обозначающие некое
учение, направление, идеологию и сторонников этой концепции <…> Термин
«гомосексуалист» в русском языке ответвился от «гомосексуализм», а тот вошел в язык
тогда, когда люди этого склада воспринимались как еретики и злонамеренно уклоняющиеся
от общественных норм поведения и взглядов. Это связано с представлением о произвольно и
сознательно выбранной жизненной позицией <…> Как правило, тяга к собственному полу
изначально не такова6.
Слова с такими суффиксами действительно обычно называют идеологию,
деятельность, болезнь / лицо по этим признакам [РГ-80: §§ 272, 289, 319, 343, 355], и
признание гомосексуальности биологическим свойством, а не взглядами, поведением,
болезнью вызвало рефлексию о терминах. Интересно, что слова в парах бисексуализм /
бисексуальность, бисексуалист / бисексуал, гетеросексуализм / гетеросексуальность,
гетеросексуалист / гетеросексуал сопоставимы по времени появления (первая фиксация
каждого в НКРЯ, БЛ и ГК – не позднее 10-х гг. ХХ в.), но слова на -изм / -ист гораздо менее
употребительны и резко снижают частотность в последние десятилетия (в Интегруме
соотношение количества вхождений – сотни против тысяч, тысячи против десятков тысяч в
пользу слов на -ость / ). В употреблении слов гомосексуализм / гомосексуальность,
гомосексуалист / гомосексуал, гораздо более частотных и менее специальных, соотношение
обратное: слов с суффиксами -изм / -ист сотни тысяч, а с суффиксами -ость / – десятки
тысяч. Однако вне сопоставления десятки тысяч – немалый показатель.
Научные представления о гомосексуальности изменились, но в представлениях многих
носителей русского языка она по-прежнему за пределами нормы. В русском языковом
сознании слова гомосексуализм, гомосексуалист могут находиться в одном ряду со словами,
называющими социально осуждаемую деятельность, психические расстройства и лиц по
этим признакам (воровство, вор, шизофрения, шизофреник), и часто встречаются в
отрицательном контексте: МЫ ПРОТИВ: Растления детей под видом их сексуального
просвещения, обучения «безопасному сексу» и «толерантности» к гомосексуалистам <…>;
гей-парадов, пропаганды сексуальных извращений и насилия в СМИ, легализации так
называемых «однополых семей». Что такое полноправная Ювенальная юстиция (или смерть
семье) (2009–2012); Будто уличили его в каком-нибудь постыдном грехе – в гомосексуализме,
например (бывают ведь и грехи непостыдные…). А. Слаповский, Гибель гитариста (1994–
1995).
В. В. Волков, размышляя об этих словах как лингвист-эксперт, делает вывод, что их
«следует трактовать как обозначающие лицо / явление, связанное с явным отклонением от
моральных и социальных норм общества и в силу этого содержащие экспрессивную
негативную оценку поведения человека, свойств его личности» [Волков 2013: 171]. Сами
гомосексуалы также часто ощущают негатив в словах гомосексуализм, гомосексуалист.
Метаязыковую рефлексию об этих номинациях видим, например, в изданных ЛГБТ- и ВИЧ-
активистами брошюрах для журналистов, сопровождаемых краткими глоссариями, где
истолковываются слова соответствующих тематических групп и даются рекомендации к их
употреблению: «Гомосексуалисты». Этот термин, возникший во времена, когда однополый
секс считали «отклонением» и пытались лечить, воспринимается сейчас многими как
дискриминационный и устаревший <...> Говоря о сексуальной ориентации, лучше
употреблять более современные и политически нейтральные термины «гетеросексуалы»,
«гомосексуалы» и «бисексуалы», а также заимствованное из английского и все более
популярное у нас слово «геи»7; [Гомосексуализм] – некорректное название
гомосексуальности, так как в суффиксе «изм» заложена патология и отклонение от нормы.
6 Л. С. Клейн. Другая любовь. СПб., 2000.
7 Савельева И. Если Вы пишете о СПИДе… М., 1999. С. 123.
109
Сравните: гетеросексуальная ориентация – гетеросексуальность, а не
«гетеросексуализм»8. Представляется все же, что причина восприятия этих слов как
оценочных не в словообразовательной структуре, а в дискриминационном прошлом, когда
гомосексуализм понимался как „уголовно наказуемое поведение‟ или „психическое
заболевание‟. Отношение к данному явлению как к выходящему за пределы нормы отражено
и в большинстве словарей: в толковых словарях, за исключением БАС-3, Шв.-08 и НСРЯ, и в
словарях других типов (ЯИ, ТССРЯ и ТСИС), причем сравнительно недавно вышедших, в
толковании слова гомосексуалист присутствуют компоненты „извращенный‟, „извращение‟,
„противоестественный‟, „отклонение‟, а в толковании слова гомосексуалист – компоненты
„страдающий‟ (СУ, СО-90) и „подверженный‟ (БАС-3, НСРЯ). Таким образом,
сформированное в прошлом отношение к денотатам лексем гомосексуалист, гомосексуализм
как к чему-то находящемуся за пределами нормы нашло отражение в сигнификатах этих
слов, и в этом отношении эти номинации действительно можно сопоставить с такими
словами, как вор или бандит, называющими какое-либо отклонение от социальных норм,
хотя их значения не содержат коннотативных сем. Однако слова гомосексуализм,
гомосексуалист, не имея в виду какое-либо отступление от нормы, употребляют и сами
гомосексуалы по отношению к себе, и журналисты, общественные деятели и ученые,
которых невозможно заподозрить в гомофобии: Подавляющее большинство
гомосексуалистов – это люди, которые такими родились. Мне непонятно, как можно
пропагандировать гомосексуализм9. Но сама метаязыковая рефлексия, отраженная и в
специальных текстах, и в активистской литературе, и Википедии10
, очень показательна.
Меняется концептуализация явления, и эта рефлексия отражает неудовлетворенность
общепринятыми номинациями и поиск иных, связанных с новым представлением об этом
явлении, таких, которые не будут толковаться как „извращение‟ или „отклонение‟.
Как показывают примеры, приемлемой альтернативой словам гомосексуализм,
гомосексуалист видятся слова гомосексуальность / гомосексуал, а также гей. Однако их
употребление не всегда говорит о толерантности автора: Что же может грозить ребенку в
случае, если он <…> попадет в такие, с позволения сказать, «семьи»? Разумеется,
гомосексуалы о судьбе-судьбинушке сироток, которые обретут однополых «родителей»,
выражаются весьма радужно: лубоффь, заббота и килограмм щастья. А в жизни один из
вариантов ответа дала <…> лесбийская пара из американского штата Калифорния – того
самого, где однополые браки разрешены и половым первертам дан зеленый свет
практически по всем направлениям жизнедеятельности11
. Слово гомосексуалы вводится
здесь в отрицательный контекст (утверждается, что однополая семья небезопасна для детей),
и этот же референт далее называется половыми первертами (извращенцами). Таким образом,
употребление, казалось бы, нейтрального термина не мешает автору статьи выражать
отрицательное отношение к людям, которые им названы. Сравнить же лексикографические
описания лексем гомосексуальность / гомосексуализм, гомосексуал / гомосексуалист пока
невозможно: первых компонентов этих пар еще нет в толковых словарях русского языка, а в
ТССРЯ и в НСИС они толкуются через отсылку к более употребительным синонимам.
Отметим появление в общественно-политическом дискурсе неологизмов с явной
негативной оценочностью, образованных от нейтральных слов гей, Европа, европейский,
европейцы: Гейропа, гейропейский, еврогейский, еврогейцы. В их значениях объединяется
«чужое» территориально, культурно и идеологически. Возможно, их возникновение связано
8 Как корректно писать о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах. СПб., 2013. С. 9-10.
9Сексолог Лев Щеглов: «Путь к сердцу женщины лежит не через точку G» (Комс. правда 13.03.13).
10Терминология для обозначения гомосексуальности. [Электронный ресурс] URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%
D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B
5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 11
От кривой половой березы яблоня не вырастет (Комс. правда 27.10.11).
110
и с остро ощущаемой носителями языка иноязычностью, «инокультурностью» слова гей, и
эти неологизмы можно рассматривать как языковое сопротивление «чужому».
Старые наименования сексуальных ориентаций и лиц по этому признаку возникли в
основном как медицинские термины. Примерно с конца 1980-х гг. тема ЛГБТ начинает
широко обсуждаться в российском обществе и постепенно выходит за пределы специальной
медицинской сферы. Происходит детерминологизация слов бисексуал, бисексуальность,
гетеросексуал, гетеросексуальность. Только в постсоветское время эти лексемы
фиксируются в толковых словарях и словарях иностранных слов, обычно без помет,
указывающих на специальную сферу употребления.
Из номинаций, вошедших в русский язык в последние десятилетия, назовем
следующие: сексуальное меньшинство (2-я половина 1980-х гг.), сексменьшинство, гей
(начало 1990-х гг.), традиционная (нетрадиционная) сексуальная ориентация (1-я половина
1990-х гг.), лицо традиционной (нетрадиционной) сексуальной ориентации (конец 1990-х
гг.), гей-сообщество (1995 г.), лесбигеи (1997 г.), пансексуальность ‗сексуальное или
романтическое влечение к людям вне зависимости от их пола и гендерной идентичности‘
(1997 г.), асексуальность „отсутствие сексуального влечения к лицам и противоположного, и
своего пола‟ (1997 г.), асексуал (2000 г.), ЛГБ „лесбиянки, геи, бисексуалы‟ (2001 г.), ЛГБТ
(2003 г.), пансексуал (2003 г.), ЛГБТ-сообщество (2005 г.), квир „человек, чья сексуальность
не вписывается в существующие гендерные стереотипы; собирательное наименование таких
людей‟ (2006 г.), ЛГБТИ12
(2011 г.), ЛГБТИК (2012), дети-404 „гомосексуальные,
бисексуальные и трансгендерные подростки‟ (2013 г.)13
), ЛГБТИКА (2014 г.), ЛГБТКИА
(2014 г.). Относительно неологизмов этой группы лексики можно сделать следующие
наблюдения:
1. Они характеризуют человека и явление прежде всего с социокультурной точки
зрения, а не с медико-биологической, как раньше. Появляются номинации, обозначающие не
только индивидуумов, но и общности: группу людей (сексменьшинство, гей-сообщество)
либо несколько групп (ЛГБТ).
2. Дополняются синонимические ряды, обозначающие сексуальную ориентацию и лиц
по данному признаку, и образуются новые, обозначающие группу людей, объединяемую по
признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, отличной от большинства
(гомосексуалист, гомосексуал, гей; сексуальное меньшинство, гей-сообщество; ЛГБТ, ЛГБТ-
сообщество, квиры, ЛГБТИ, ЛГБТКИА).
3. Новые номинации отражают представления о многообразии человеческой
сексуальности, не сводимого к бинарному соотношению мужское/женское (асексуал,
асексуальность, пансексуал, пансексуальность, квир). Расширяется и семантический объем
наименований, в которых объединяется несколько групп людей: гей-сообщество – ЛГБТ-
сообщество; лесбигеи (на данный момент устарело) – ЛГБ (употребляется, но гораздо реже,
чем ЛГБТ) – ЛГБТ – ЛГБТИ – ЛГБТИК – ЛГБТИКА (ЛГБТКИА). Показательно появление
обозначения ЛГБТ+, где + оставляет открытую возможность добавить новые буквы в любом
количестве и разной последовательности.
4. Неологизмы этой группы в основном являются заимствованиями или кальками
англоязычных наименований: sexminorities, gay, LGB, LGBT, LGBT-community, gay-
community, queer. Заметим, что по происхождению queer – крайне оскорбительное
английское название гомосексуала14
. В 1990-х гг. его демонстративно приняли некоторые
американские ЛГБТ-активисты, подчеркивая, что не стыдятся своей инаковости. В русском
языке квир – нейтральное и очень широкое обозначение людей, чье сексуальное или
12С 2010 г. аббревиатура ЛГБТ расширяется, включая в себя названия и других сексуальных и гендерных
меньшинств: И – интерсексуалы „люди, имеющие анатомические признаки обоих полов‟, К – квиры, А –
асексуалы. Приведенные аббревиатуры являются кальками англ. LGBTI, LGBTIQ, LGBTIQA, LGBTQIA. 13
По данным Интегрума. 14
Oxford English Dictionary. [Электронный ресурс] URL: http://www.oed.com/; Merriam-Webster. Encyclopædia
Britannica. 2014 [Электронный ресурс] URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/queer).
111
гендерное поведение не соответствует общепринятым стереотипам, связанным не только с
полом партнера.
5. На русской почве возникают такие номинации, как традиционная (нетрадиционная)
сексуальная ориентация, лицо традиционной (нетрадиционной) сексуальной ориентации15
и
дети-404. Заметим, что их очень мало. Апелляция к «традиции» в названиях появились в
годы, когда негетеросексуальность перестала быть нарушением юридической, медицинской
и отчасти моральной нормы. Однако картина мира не перестраивается мгновенно, и
потребность обозначить отношение явления к норме осталась. Так образовались
наименования, обозначающие соответствие/несоответствие иной норме – культурной.
Возможно, эти выражения возникли как эвфемистические: о сексуальных предпочтениях уже
можно говорить, но эта тема еще воспринимается как не очень приличная, об этом нельзя
говорить прямо. Отметим, что такие номинации, как и гомосексуализм, гомосексуалист,
могут восприниматься как некорректные и дискриминационные: Гомосексуальная
ориентация, а не нетрадиционная сексуальная ориентация. Как известно, ЛГБТ-люди
существуют и существовали во всех культурах, традициях, странах и во все времена,
поэтому все три сексуальные ориентации одинаково традиционны для всех обществ16
.
Номинация дети-404 возникла в связи с законом о запрете так называемой «пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. «Дети-404» –
название опубликованной в 2013 г. статьи Е. Климовой17
, в которой говорится о том, что
ЛГБТ-подростки в России вне информационного поля и являются главными, невидимыми
жертвами закона о запрете «пропаганды гомосексуализма». Название было дано по аналогии
с «ошибкой-404» в Интернете – ссылкой на несуществующую страницу. Это же название
получил проект помощи таким подросткам, которое затем стало их нарицательным
обозначением. Появилась и форма единственного числа ребѐнок-404. В словарях русского языка эта лексика описана неполно и неточно. Ни в одном
толковом словаре нет очень частотных слов гомосексуал, гомосексуальность. (Гомосексуал
есть в ТССРЯ, а гомосексуальность – в словарях иностранных слов). В ЯИ, ТССРЯ, НСЗ-90,
НСРЯ, ТСИС, НСИС описаны малоупотребительные лексемы бисексуализм / бисексуалист,
гетеросексуализм, а бисексуал / бисексуальность, гетеросексуальность либо вообще
отсутствуют, либо даются отсылки к словам с суффиксами -изм / -ист. Однако в БАС-3
появляются бисексуал, бисексуальность – без отсылок к бисексуализм / бисексуалист.
Лексикографическая трактовка гомосексуальности в целом следует за медицинской: в СУ
слово гомосексуализм толкуется с пометой книжн., а гомосексуалист – „человек,
страдающий гомосексуализмом‟ (т. е. больной), в БАС-1 эти слова отсутствуют (возможно,
как специальная лексика), а в постсоветское время из толкований этих слов, а также слов
лесбиянство, лесбийский в основном уходит слово извращение. Однако в БТС дефиниции
этих лексем включают слово отклонение, а толкования лексем гетеросексуал (БАС-2) и
гетеросексуализм (НСРЯ) – слова нормальный, естественный. Меняющееся отношение к
сексуальности практически не отразилось в интерпретации как денотата, так и коннотации
слов педераст, педерастия в толковых словарях. Во всех проанализированных нами
словарях, кроме БАС-2 и Шв-08, дефиниции слова педерастия (педераст толкуется через
отсылку к нему) включают слова извращение, извращенный. В Шв-08 и СО-90 имеется
помета спец., на момент публикации этих изданий явно устаревшая. Ни один из
проанализированных нами толковых словарей и словарей иностранных слов не указывает на
сниженную коннотацию этих слов, хотя слово педераст в обоих значениях и его
многочисленные производные описаны в словарях субстандартной лексики. В ТССРЯ слово
педераст толкуется как разговорный синоним слова гомосексуалист, хотя в толкованиях
15В англоязычных текстах удалось обнаружить выражение non-traditionalsexualorientationначиная с 2013 г.,
только в контексте сообщений о положении ЛГБТ-сообщества в России и часто закавыченное. 16
Как корректно писать о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах. СПб., 2013. С. 10. 17
URL: http://www.rosbalt.ru/generation/2013/03/04/1101683.html.
112
ряда других словарей очевидна разница в значениях этих слов: первое называет поведение,
второе – влечение. Помета разг. также не отражает реальной коннотации этого слова. В
ТСИС термины бисексуализм – гетеросексуализм – гомосексуализм выстраиваются в единый
понятийный ряд. От каждого из них даны отсылки к двум другим. Однако при первых двух
указана помета физиол., которой нет при слове гомосексуализм. Различаются и дефиниции:
„половое влечение к особям как противоположного, так и своего пола‟; „половое влечение к
особи противоположного пола‟ – и „половое извращение (перверсия), состоящее в половом
влечении к особям своего же пола‟. Таким образом, несмотря на выстроенную понятийную
триаду, создается впечатление, что ее компоненты неравнозначны: первые два естественны,
третий – нет. Показательно, что дефиниции слов бисексуал, бисексуальность, бисексуалист,
бисексуализм, лексикографируемых лишь с 1990-х гг., ни в одном словаре не указывают на
отклонение от нормы, а толкования других лексем указанной группы в той или иной мере
следуют прежней традиции. Стилистически нейтральное слово гей описано в БТС, НСРЯ,
ТССРЯ, НСЗ-90 с пометами разг. или жарг.
Эти неточности и лакуны имеют объективные причины: некоторые из этих слов долгое
время знали только специалисты; некоторые возникли совсем недавно; велико расхождение
между современными научными и бытовыми представлениями в данной области. Явление
иначе концептуализируется – соответственно, и называющие его языковые единицы
изменились и ждут своего лексикографического описания.
Электронные корпусы текстов
ГК – Гугл.Книги: www.books.google.ru
БЛ – Библиотека лексикографа. Сост. А. А. Бурыкин18
Интегрум – www.integrum.ru
НКРЯ – Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru
Словари
Балдаев 1992 –Балдаев Д. С. , Белко В. К. , Исупов И. М. . Словарь тюремно-лагерного
блатного жаргона: Речевой и графический портрет советской тюрьмы. М.: Края Москвы,
1992.
БАС-1 – Словарь современного русского литературного языка: В 17 тт. / Под
ред. В. И. Чернышева. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.
БАС-3 – Большой академический словарь русского языка. СПб.: Наука, 2004–2014
(издание продолжается).
БТС – Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998.
Быков 1993 – Быков В. Русская феня. Словарь современного интержаргона
асоциальных элементов. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, 1993.
Грачѐв 2003 – Грачев М. А. Словарь тысячелетнего русского арго. М.: Рипол Классик,
2003.
Козловский 1986 – Козловский В. Арго русской гомосексуальной субкультуры:
Материалы к изучению. New York: Chalidze Publikcations, 1986.
Мокиенко 2000 – Мокиенко В. В., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона.
СПб.: Норинт, 2000.
Никитина 2013 – Никитина Т. Г. Ключевые концепты молодежной культуры:
Тематический словарь сленга. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013.
18См. об этом источнике: А. А. Бурыкин. Электронная «Библиотека лексикографа»: Цели, задачи и возможности
проекта. СПб.: СПбГУ. Филологический факультет, 2011. С. 1-27.
113
НСЗ-90 – Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов ХХ века. В 3 т. // Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), Е. А. Левашова.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2009, 2014.
НСИС – Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных
слов. М.: Азбуковник, 2008.
НСРЯ – Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.
СО-90 – Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990.
СУ – Толковый словарь русского языка: В 4 тт. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ОГИЗ,
1935–1940.
ТСИС – Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005.
Химик 2004 – Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи.
СПб.: Норинт, 2004.
ТСРЯ – Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под
ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2006.
Шв.-08 – Толково-словообразовательный словарь русского языка с включением
сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2008.
ЯИ – Толковый словарь русского языка конца ХХ в.: Языковые изменения / Под ред.
Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998.
Литература
Волков 2013 – В. В. Волков. Гомосексуализм в современной России:
лингвокультурологический аспект // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2013, № 6. С. 168-
173.
Кромбах 1994 – Т. Кромбах. Жаргон гомосексуалистов // Русистика. Берлин, 1994, № 1-
2. С. 124-132.
РГ-80 – Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. §§ 272, 289, 319, 343, 355.
.
114
О. И. Литвинникова
НОВАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА
В ТЕКСТАХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ УКРАИНЫ
Начало XXI в. связано с активизацией процессов неологизации русского языка на всем
постсоветском пространстве, в том числе и на Украине. Актуальность нашего описания
неономинаций в русскоязычных СМИ Украины поддерживается повышенным вниманием
исследователей к осмыслению и анализу процессов неологизации на разных уровнях
современного русского языка. К новой социально-политической лексике относим единицы,
не зафиксированные пока в новейших словарях и справочниках.
Источником фактического материала (более 900 единиц) послужило всеукраинское
общественно-политическое русскоязычное издание «Рабочая газета» (далее РГ), основанное
в 1897 г., до 2015 г. – ежедневное, в настоящее время выходит три раза в неделю.
Понимание производного слова, как известно, составляет неотъемлемую часть
правильного восприятия текста, для интерпретации которого нужны как знания о мире, так и
о языке, о ситуации или условиях речи. Поскольку в производном слове эти знания чаще
всего являются отраженными в его формальной организации, «доступ к пониманию
облегчают материально выраженные составляющие: мотиваторы и словообразующие
форманты, которые могут рассматриваться как прямые указатели на определенное значение»
[Кубрякова 1998: 49]: уписты – „члены УПА‟ (Украинской Повстанческой Армии).
Словообразовательная семантика прямо и непосредственно вытекает из значений мотиватора
и словообразующего суффикс -ист, их смысловой сочетаемости и совместимости, о чем
более 30 лет назад писал И. С. Улуханов: «Для того, чтобы соединение аффикса и основы
мотивирующего слова состоялось, необходимо, чтобы они были семантически совместимы»
[Улуханов 1977: 215].
В производном слове как языковой структуре представление знаний ярче, чем в других
немотивированных словах. Сохраняя свою внутреннюю форму, «производное слово
позволяет понять “привычку сознания”, узнать, о чем и как думает тот или иной народ (и
отдельный человек), отсылая его к концептуализации мира» [Вендина 1999: 27]. Сам процесс
«означивания» предметов и явлений внешнего мира с помощью словообразующих средств
говорит о значимости их для носителей языка. Словообразующие средства привлекаются,
как правило, для «означивания» тех реалий, которые могут оцениваться при необходимости
актуализации в них таких признаков и свойств, что имеют практическую значимость для
человека в его освоении мира, свидетельствуя о приобретении этими реалиями нового,
утилитарного статуса. В их числе не только связанные с биологическим выживанием
человека или имеющие важное хозяйственное значение, но и помогающие ему
ориентироваться в сложном многоликом мире.
Cтруктура производных слов довольно прозрачна, границы морфем отчетливо видны,
на их стыках обычно не возникает значительных морфонологических изменений. Способы и
средства создания социально-оценочных дериватов не новы: суффиксация, сложение,
циркумфиксация, аббревиация, префиксация, постфиксация, субстантивация.
Определяющими в количественном отношении оказались наименования лиц. По
справедливому замечанию Т. И. Вендиной, это «один из составляющих компонентов
семантического поля ‟человек‟, базовый в русской языковой картине мира, постоянно
привлекает к себе внимание исследователей» [Вендина 1999: 6-7].
В данной статье рассматриваются слова разных грамматических классов (с учетом их
продуктивности): имена существительные, прилагательные и глаголы, рожденные в период
так называемого евромайданизма на Украине.
Для субстантивной лексики в текстах периодики характерно преобладание сложных по
структуре слов, что закономерно, т. к. именно сложение – одна из отличительных
особенностей современного русского словообразования. В таких единицах большая
115
смысловая и формальная слитность компонентов. В подборе или создании сильных и
убедительных средств авторам публикаций помогает не только хорошее знание системы
русского национального языка со всеми ее частностями и особенностями, но и общая
эрудиция, позволяющая если не порадовать, то хотя бы не разочаровать читателя,
соответственно воздействуя на него.
Такая производная лексика характеризуется оценочностью и эмотивностью.
Использование ее помогает авторам выражать свое отношение к реалиям и одновременно
формировать отношение к ним читателя. Эмоционально-оценочный компонент «входит» в
семантику дериватов по-разному, но определяющим фактором является значение мотиватора
(мотиваторов – при неединственной мотивации.
Среди слитно оформленных сложений выделяются наименования лиц
(майданострадальцы, бандеромайдановцы, юлефаны и т. д.), из них наиболее
многочисленны образования с компонентами евро... и нео... (евроукраинцы, евроинтегранты
/евроинтеграторы, евроспасатели, евроваряги, еврозвери, евромайдауны, неоевропейцы,
необандеровцы, неоконсерваторы и мн. др.). Когда на смену еврооптимизму в стране
пришел еврореализм, стали появляться более экспрессивные дериваты (европереворот,
еврограбѐж, европолицаи, еврофокусы и др.).
Между компонентами составных наименований типа майдауны-командиры, люди-
флюгери, селюки-руководители, денонсанты-неадекванты и т. п. особый тип связи –
согласование на основе параллелизма. Грамматически это проявляется в словоизменении:
стовАртистов-раши однозначно нужно убрать. РГ 10.07.15.
Многочисленные производные, не отличающиеся широкой употребительностью,
созданы по имеющимся и действующим в языке образцам, чему способствует
словообразовательный потенциал самого языка. Сгущенная семантика необычных
образований, порожденных евромайданизмом, служит созданию остроты авторских
высказываний, обеспечивает высокую степень экспрессии. В текстах РГ такие единицы
вполне органичны: Мало того, что погибли украинские граждане, инспирированный США
февральский переворот в Киеве сделал совершенно неопределенным экономическое будущее
самого Евросоюза, значительно усилив позиции правых «евроскептиков». РГ 03.06.14.
Ключевые слова майдан и евромайдан стали мотиваторами для синонимичных субстантивов
суффиксального типа со значением ‟участники майдана и евромайдана‟: майданщики,
майдановцы, майданеры / майданѐры; евромайдановцы, евромайданщики, евромайданеры /
евромайданѐры.
Многие обозначения лиц по принадлежности к определенной партии, группе,
организации, течению, направлению, функционировавшие во время президентства
В. Ющенко и В. Януковича (пиэры, регионалы, БЮТовцы, пористы, нашеукраинцы, нунсоты
и т. д.), уступили место на газетной полосе другим субстантивам данной семантики:
правосеки (от «Правый сектор»), самооборонцы (от «Национальная самооборона»), кпушники
(от КПУ), ИГИЛовцы (от ИГИЛ), комсомолыч (от комсомол), обкомыч (от обком), «нацики»
(от «Национал-патриоты»), тники»«пятьдеся (от названия политической партии «5.10»),
«укропы» (от УКРОП – Украинское Объединение Патриотов) и мн. др. Ср. в тексте: <…> г-н
Турчинов многолик и прекрасен. Да вы сами посудите: бывший обкомыч и комсомолыч,
ставший по мановению великого волшебника Доллара протестантом, либералом и
националистом в одной бутылке и начавший войну в Донбассе, вдруг стал ярым путинцем!
РГ 08.10.15. − Конечно, могу и на украинском. Что же вы сразу не сказали? – тут же
нашелся «пятьдесятник», продолжив далее свое выступление на корявой смеси русских и
украинских слов, напоминающей украиноязычные потуги Николая Азарова или Виталия
Кличко. РГ 10.12.15.
Индивидуально-авторскими являются новообразования цаборци (от борец);
рицамиротво (от миротворец); тельницаумиротвори (от умиротворитель).
Небезынтересны слова с семантикой, актуализируемой текстом статьи: дальщикипа
далью‟ (РГ 10.07.14),– ‟те, что питаются па тчикипереворо – ‟те, что совершили
116
переворот на Украине‟ (РГ 31.07.14), птичники: Тот самый отряд «Нахтигаль» [от
„соловей, ночная птица‟], который вешал на балконах и расстреливал людей на улицах,
членов которого те же самые львовяне презрительно называли «птичниками». РГ 15.12.15.
Единичными примерами представлены префиксальные производные: недонарод,
супербогач, недети, недепутаты, нестуденты, неукраинцы (четыре последних
сконцентрированы в одном предложении): Как я понял г-на премьера, неукраинцы, недети,
нестуденты, недепутаты от присяги будут освобождены, но страна все равно останется
несокрушимой. С такими бравыми премьерами это как бы само собой разумеется. РГ
26.08.15. Путем усечения, иногда с одновременным использованием суффикса, созданы
слова: ппоо – ‟оппозиционеры‟, шикифа – ‟фашиствующие элементы‟. Фактом языковой
игры можно считать существительное законоослушники, созданное по аналогии с
законопослушники – „законопослушные граждане‟.
Немногочисленны дериваты с негативной оценкой, мотивированные глаголами,
именами прилагательными, местоимениями: <…> а резвятся «сливщики» в основном на
просторах Интернета, прикрывшись «никами», ибо «ники сраму не имут». Но срама
достаточно – все их якобы прогнозы и стенания не подтверждаются. А тут еще
последовал удар от заказчика: Вашингтон «слил» Киев. РГ 5.11.15. Креативисты, они же
офисные хомячки, в основном творят и креативят в области рекламы. РГ 27.11.15
(креативисты от креативить). Они-то там, в США, думали, что они «главнюки», а
оказалось, «никакяны». РГ 13.10.15.
Неодушевленные существительные в большинстве своем также являются сложениями с
первой частью евро... и имеют негативную оценку: евроагрессия, европропасть, европасть,
евроталибан, евробесчинства, евробунт, евросмута, евровакханалия, евроярмо,
евронационализм, европофигизм и т. п. С другими «говорящими» «слагаемыми» образованы
существительные автомайдан, бандомайдан, долларомайдан, майдантеррор, зомбоящик,
«УкроЯщик», «МЕРКОЗИ» (Меркель + Саркози), «Украэрорух» (рух (укр.) − ‟движение‟). Ср.
в тексте: Из зомбоящиков и Интернета идут беспрерывные атаки на остатки мозгов
здравого человека. РГ 11.12.15. Случайно услышал по «УКроЯщику», как наши лихие хлопцы
из Кабмина «обломали» Путина насчет долга России в три миллиарда. Комментарий был
такой: Попятился великий Пу, как рак, мы его казацкими усами защекотали. РГ 19.11.15.
Нарастают проблемы между Парижем и Берлином. То есть тандем «МЕРКОЗИ» сегодня
начинает давать трещину. РГ 16.07.15. Потери «Украэроруха» составят 25-30 миллионов
евро в год, а потери от ухода российских авиакомпаний с украинского рынка – 150
миллионов долларов США. РГ 01.12.15.
Новообразования заводопад и ленинопад перестали быть единичными, как и
«кричащие» о происходящем в стране уродовластие (название рубрики в РГ), популизм-
болтовизм, государство-шизофреник, страна-банкрот, страна-катастрофа (последние 3
единицы отмечены в одном небольшом по объему тексте): Обозреватель RT Стив Элиот
отслеживает и анализирует события на Украине <…> с момента своего отделения от
СССР Украина была чем-то вроде государства-шизофреника <…> теперь Украина – это
страна-катастрофа, страна-банкрот, управляемая жуликами и бандитами,
находящимися в долгу у других преступников из ЕС. РГ 11.08.15. Мотиватором для ИС
заводопад стало значение ‟ослабевать, понижаться в силе‟ полисемичного глагола падать,
для ленинопад − „валиться вниз на землю‟.
Почти в каждом номере РГ мелькает аббревиатура АТО, первоначально –
„антитеррористическая операция‟ (Тем временем в штабе АТО требуют новых жертв.
«Только всеобщая мобилизация спасет Украину, потому что желающих добровольно
воевать за Украину не осталось», – заявил заместитель командующего АТО Валентин
Федичев. РГ 21.08.15), затем она стала употребляться в ином значении: АТО теперь
именуется Отечественной войной. РГ 21.07.15.
Кроме дериватов-синонимов суффиксальной производности (майданизация,
майданизм, майданство, майданирование), на страницах РГ появилось немало других
117
образований с негативной семантикой: бандеризация, декоммунизация, оглупление,
озверение, оподление, ошизение, помпезятина, ситуевина. Ср. в тексте: Помпезятина
перехлестывала через край. Было сообщено, что из 270 претендентов стать детективами
антикоррупционного бюро отобрали лишь 70 лучших. РГ 17.09.15. Наступает, если уже не
наступило, глобальное озверение, оглупление, оподление и ошизение. На Земле практически
не прекращаются стрельба и взрывы. РГ 11.12.15. Сложившаяся после слов Байдена о
«независимых штатах» (на Украине – О. Л.) ситуация сразу переходит в разряд будущей
кошмарной «ситуевины», простите за новояз. РГ 15.12.15.
В составе новой социально-политической лексики данного периода менее всего
производных префиксального типа: недогосударство, нероссия, постмайданизм,
антиукраинизм: Спасибо СБУ за подсказку, попробую исследовать конструктивный
антиукраинизм на примере новейшей истории Украины. РГ 03.07.15. Фактами языковой
игры являются существительные дурьба (ср.: борьба), отстоинство (ср.: достоинство),
манитыринг (ср.: рингмонито и нима (жарг. ‟деньги‟) ритьты + -инг).
В сфере имен прилагательных преобладают единицы суффиксального типа, созданные
при участии суффиксов -н-, -ск-, (-овск-), -онн-, -ут-, -ящ-: голодоморное (мероприятие),
майданное (беззаконие), майданный (тромб, переворот, бунт, протест), майданная (ложь,
вакханалия, толпа), майданные (акции, поборы, подельники, отморозки), евросоюзные
(поджигатели), евросериальная (эпопея), майдаунные (головы); майдаунский (беспредел),
майдаунское (начальство), евроамериканский (майдан), майдановские (избушки-палатки),
майдауновская (пропаганда); евроинтеграционное (послевкусие), евроинтеграционный
(пакет, опыт), евроинтеграционная (афера); майданутые (командиры, снайперы),
майданутый (Львов), майданутое (время); майданящие (сограждане). Часть новых
прилагательных образована префиксально-суффиксальным способом: домайданный „до
майдана‟, предмайданный (год) – „перед майданом‟. Ср. в тексте: Украине не понадобились
бы транши МВФ, если бы экспорт промышленной продукции сохранился хотя бы на
«домайданном» уровне. РГ 21.08.15. В предмайданном 2013-ом валютный эквивалент ВВП
составил более 182 миллионов долларов. РГ 04.12.15. Спорадичны прилагательные дефисно-
и слитнооформленных сложений: супер-пупер-европейская (демократия) (супер-пупер +
европейский). Подобные «штучки-дрючки» окказионального типа были подробно описаны в
свое время Н. А. Янко-Триницкой [Янко-Триницкая 1968: 48-52].
Количество глаголов, как и разнообразие способов их создания, невелико:
итьзаевропе, примайданить, отнезависеть, отупить, замайданить, застабилизировать,
отъевропеизировать, майданить, помайданиться, добазариться, декоммунизироваться,
евроинтегрироваться. Глагол обезвредить равнозначен по значению глаголу убить:
Пограничники уничтожили три автомобиля с оружием и обезвредили пятерых боевиков, а
одного взяли в плен. РГ 29.05.14.
Новизна гом мотиваторов и более свободнойинтересующей нас лексики
обеспечивается кру их сочетаемостью со словообразующими аффиксами. Авторская
способность соединять несоединимое с точки зрения нормы обеспечивает дериватам особую
смысловую выразительность и стилистическую окрашенность: майданутые (ср.: шизанутые,
стуканутые).
В лингвистике последних десятилетий все чаще утверждается мысль о том, что язык
является «хранителем всей информации о мире и об истории народа, а слово – не просто
номинативная единица языка, но – сгусток эмоций, экспрессии, оценок, намерений,
желаний» [Скляревская 1997: 165]. Оценочный компонент значения производного ярче
проявляется в том случае, если оно не нейтрально, а стилистически маркировано: майдауны
– результат междусловного наложения (майдан + дауны) – включает в свой смысловой объем
семантику обоих слов. Необычность образования таких слов позволяет использовать их в
публицистических текстах и придает им особую выразительность: В Украине создан некий
штаб национального сопротивления. О национальности штаба говорят доходчивые цифры
– 70 процентов майдаунов прибыли из Галичины. А о логике, подсказанной из Вашингтона,
118
говорят без обиняков строки постановлений штаба. РГ 10.12.13. Авторы газетных статей
периода евромайданизма, переросшего в откровенную войну на юго-востоке Украины,
охотно используют аббревиатуры (в том числе и окказиональные) для создания комического
эффекта, придания тексту экспрессивности. Ср.: Выборы в формате АТО? А то! РГ 23.05.14;
ВНО − Вне Нормального образования. РГ 10.07.14.
Как видим, русскоязычный словарь периода евромайданизма на Украине пополнился
значительным количеством новой социально-политической производной лексики. В
большинстве своем она содержит в себе осуждение, осмеяние и критику с позиций идеала.
М. М. Бахтин рассматривал осмеяние как «один из речевых жанров, предполагающих
отрицательное критическое воздействие говорящего на объект речи – чаще всего лицо или
его речевые действия» [Бахтин 1996: 159-206]. Коммуникативную цель осмеяния
В. В. Химик видит «в представлении адресата комическим, смешным, т. е. вызывающим
осуждение своей несообразностью, нелепостью или несоответствием каким-либо нормам в
представлении говорящего» [Химик 2005: 670].
«Разностилье» дериватов, «живущих» на страницах РГ, мотивировано социально-
политическими факторами, отражает «экспрессию психологического состояния общества»,
работает на «несомненное следствие новейшего возвышения устности и изменения ее
отношения с письменностью» [Костомаров 2003: 232].
Дальнейшее изучение нового языкового материала русскоязычных СМИ Украины
представляется актуальным в коммуникативно-прагматическом аспекте, который, возможно,
откроет и новые перспективы его исследования. Со временем можно будет установить тот
минимум лексики, который готов к пополнению лексического состава русского языка,
проследить частотность употребления каждой из номинаций, степень стереотипизации,
определить роль и место таких образований в языковой культуре народа.
Материалы данной статьи могут быть полезны для описания речевой масс-культуры
как социолингвистического и психолингвистического феномена. Определенная часть
дериватов найдет свое место в языковой картине современности и отражение в новейших
лексикографических проектах.
Литература
Бахтин 1996 – М. М. Бахтин. Проблема речевых жанров. Собр. соч. в 7 тт. Т. 5. М.:
Русские словари; Языки славянских культур, 1997. С. 159-206.
Вендина 1999 – Т. И. Вендина. Словообразование как способ дискредитации
универсума // ВЯ. №2. 1999. С. 6-7; 27.
Костомаров 2005 – В. Г. Костомаров. Наш язык в действии // Очерки современной
русской стилистики. М.: Гардарики, 2005. С. 232.
Кубрякова 1998 – Е. С. Кубрякова. Когнитивные аспекты в исследовании семантики
слова // Семантика языковых единиц. Доклады VI международной конференции. Т. 1. М.,
1998. С. 84.
Скляревская 1997 – Г. Н. Скляревская. Категория оценки: основные понятия, термины,
функции (на материале русского языка) / Оценка в современном русском языке Сб. научных
статей. Studia Slavica Funlandeksia. 1. XIV. Him-Helsinki, 1997. C. 165.
Улуханов 1977 – И. С. Улуханов. Словообразовательная семантика в русском языке и
принципы ее описания. М.: Наука, 1977. С. 215.
Химик 2005 – В. В. Химик. Русская разговорная речь: осмеяние объекта // Грани слова.
Сб. научных статей к 65-летию проф. В. М. Мокиенко. М.: ЭЛПИС, 2005. С. 670.
Янко-Триницкая 1968 – Н. А. Янко-Триницкая. «Штучки-дрючки» устной речи
(повторы – отзвучия). Русская речь. № 4. 1968. С. 48-52.
119
Е. Г. Лукашанец
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ: ТЕГИ (ДЕСКРИПТОРЫ, МЕТКИ)
Известное высказывание Вольтера – «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке»
– в настоящее время в значительной степени потеряло свое значение. С появлением
Интернета во многом изменились принципы построения лексикографических справочников:
электронные словари представляют собой скорее гипертекст, чем простой список
лексических единиц.
Поскольку важной составляющей языка разметки гипертекста в информационно-
поисковых системах Интернета служат дескрипторы, позволяющие упростить процесс
обнаружения нужных данных, новым элементом статьи словарей, размещенных в
виртуальном пространстве, стали т. н. теги (или метки) – аналог дескрипторов. Их функция в
электронных словарях – эксплицировать связи и отношения различного характера между
лексическими единицами, являясь неким шагом на пути к классификации лексики по каким-
либо параметрам. Таким образом, осуществилось то, о чем еще более 30 лет назад писал
Ю. Н. Караулов: «Рассматривая особенности нынешнего словаростроения и движение
современной лексикографии, мы определили <...> основную линию ее развития как
тенденцию к лексикографической параметризации языка». [Караулов 1981: 108].
В этом плане не являются исключением также словари сленга и разговорной лексики,
существующие в электронном виде и пополняемые самими пользователями Интернета
(именно их мы будем называть далее онлайн-словарями). Примерами таких словарей служат
русскоязычные лексикографические источники Словоново и Словоборг, размещенные
соответственно на сайтах www.slovonovo.ru и www.slovoborg.su. Поскольку их
коллективными создателями являются носители языка, не являющиеся филологами,
теги/дескрипторы в их статьях отражают фолксономические категоризации – «народные»,
«наивные» классификации. Исследование того, ч т о именно выбирают в качестве
тега/дескриптора/метки создатели онлайн-словарей сленга, может показать, как они
осознают специфику языковых явлений и оценивают разные подсистемы родного языка, а
также каковы способы категоризации ими окружающей действительности.
Однако, несмотря на признание важности того, что «народные интернет-словари
становятся все более заметным явлением современной российской лингвокультуры и
представляют особый интерес для исследователя обыденного метаязыкового сознания»
[Шумарина 2014: 293], удовлетворяя «социальную потребность человека в общении и
самореализации» [Бойко 2010: 70], тегирование в онлайн-словарях еще не стало предметом
изучения в современной русистике, что свидетельствует как об актуальности, так и о новизне
предпринятого нами исследования.
Как показали наши предварительные наблюдения, характер тегов варьируется в разных
онлайн-словарях сленга, будучи обусловленным, кроме прочего, характером размещаемого
на сайте обращения разработчиков к пользователям (см., например: «Теги (класс понятий и
т. п.) через запятую» (Словоборг)) и приводимых ими примеров, ср.: Метки – «Категории,
к которым следует отнести данное слово. Например, «Молодежный сленг». Можно
указать несколько категорий через запятую» (Словоново). Поэтому неудивительно, что, как
показал проведенный нами ранее анализ меток этого словаря [Лукашанец 2011], основными
являются метки со словом «сленг»: армейский сленг, сленг айтишников. Напротив, в
примерах словарных статей, приводимых создателями сайта словаря Словоборг, косвенно
указывается на разнообразные возможности формулировки тегов: при слове бровка
„поребрик, бордюр‟ – тег архитектура, а при выражении одиннадцатый маршрут
„передвигаться пешком‟ – теги технологии, метафоры, числа; см. также выше о тегах как
«классах понятий». Поэтому мы сосредоточим внимание именно на тегах этого словаря.
Анализ тегов должен привести нас к ответам на следующие вопросы: насколько
120
разнообразны те теги, которыми помечены словарные статьи, как эти теги соотносятся с
содержанием словарной статьи и с типом лексической единицы.
В словаре Словоборг зафиксировано 10046 различных тегов. Больше всего слов с двумя
и тремя тегами – соответственно 3145 и 2304, в то время как с одним тегом всего 1178, что
свидетельствует о стремлении носителей сленга не ограничиваться одной меткой, а дать
словам более или менее разностороннюю характеристику.
Максимальное число тегов в одной словарной статье (24) отмечено для слова отыметь
„отругать, задать головомойку‟1: теги отругать, поругать, накричать, побранить, сделать
выговор, выбранить, пробрать, пожурить, отчитать, распечь, распушить, взгреть,
отделать, пропесочить, пропистонить, вздрючить, вставить, задать головомойку,
намылить голову, снять голову, вставить пистон, вставить клизму, задать перцу,
насадить на кукан. Большим числом тегов помечены также лексические единицы зарядить
„заехать, ударить, угодить‟ (22), мамочка моя бабуся (фраза, употребляемая для выражения
крайнего удивления или от избытка чувств) (19), гитлеркапут „конец, гибель‟ (шутливое
выражение) (18).
По числу словарных статей, в которых фиксируются те или иные теги, их можно
разделить на высокочастотные, частотные, низкочастотные и единичные. К
высокочастотным тегам мы относим те, которые отмечены более чем в 100 словарных
статьях (их всего 23), частотные теги зафиксированы в 11–100 статьях (253), низкочастотные
– в 2–9 словарных статьях (3412). Единичных тегов – больше всего (6342 тега).
Интерес представляют прежде всего высокочастотные теги. Самые используемые из
них – теги характеристика (921), ругательства (656), заимствования (387), технологии
(329), половая сфера (313), сокращения (302), части тела (301). Несколько меньшую частоту
(110–240) имеют теги алкоголь, поведение, животные, функции организма, метафоры,
Интернет, пища, деньги, эвфемизмы, фразеологизмы, взаимоотношения, профессии,
автомобили, внешность, компьютеры, старина. Набор высокочастотных тегов нам кажется
вполне предсказуемым. Во-первых, он включает теги максимально обобщенного характера
(характеристика, поведение, внешность), которые могут быть приписаны многим единицам
разных лексических систем, будучи связанными с выделением основных понятийных
областей языка человека. Во-вторых, набор высокочастотных тегов отображает и ведущие
лексические группы молодежного сленга, характеризующего, в свою очередь, главные
интересы молодежи (алкоголь, Интернет, деньги, автомобили, части тела). Наконец, в
тегах метафоры, сокращения, заимствования отражается особенности путей пополнения
лексики современного сленга.
По характеру соотношения с заглавным словом теги неодинаковы. Можно выделить
следующие группы тегов.
I. Ф о р м а л ь н о - я з ы к о в ы е теги (около 10% всех тегов). Эти теги либо касаются
формы словесных знаков, либо характеризуют лексические единицы с точки зрения
вхождения в ту или иную подсистему языка.
Тем самым «лингвистические» теги указывают на следующие признаки:
1) сферу/особенности использования лексической единицы: а) время: 70-е, 80-е, 90-е;
архаизм; б) отнесенность к социальной, функциональной или территориальной подсистеме
русского языка: арго, блатной жаргон, диалект, жаргон, жаргонизм, местные говоры,
молодѐжное, одесский сленг, профессиональный сленг; блогеры, геймерство; в)
стилистическую/эмоциональную окраску единицы: ироничное, насмешливое прозвище,
сарказм, смешные слова;
2) происхождение (язык-источник или сферу первоначального использования,
например, произведение художественной литературы или его автора): английский,
заимствование, латынь, мифология, Михалков, фольклор;
1 Словарные статьи приводятся нами в основном в том же виде, что и в словаре; исправлены были
орфографические и пунктуационные ошибки в толкованиях, допускалось незначительное их сокращение.
121
3) структурные особенности единицы: сокращения, аббревиатуры;
4) принадлежность к лексическим или грамматическим подсистемам: а) частям речи:
междометие, местоимение; б) идиоматике: поговорки, фразеологизм;
5) взаимоотношения с другими словами/значениями: метафоры, эвфемизмы;
6) речевой акт или целевую установку использования единицы: пожелание,
приветствие, ругательства, согласие, угроза.
Несмотря на то, что мы не затрагиваем вопрос о правильности отнесения сленговых
единиц словаря к тем или иным группам лексики в соответствии с присвоенными им тегами,
не можем не отметить, что, судя по формально-языковым тегам, знания в области
языковедения, русистики у пользователей достаточно разнообразны. При этом большинство
таких тегов являются хорошо известными лингвистическими терминами; исключение
составляют немногочисленные выражения, носящие явный отпечаток любительства:
смешные слова, быдло-сленг.
II. П о н я т и й н ы е теги отражают содержательную сторону лексических единиц и, в
свою очередь, распадаются на следующие подгруппы.
1. Тематические теги.
С их помощью может указываться общая понятийная область, к которой относится
значение данной единицы: авиация, архитектура, география, еда, Интернет, искусство,
культура, медицина, музыка, наука, одежда, пища, поведение. Тематические теги
различаются по степени конкретизации: от обобщенных (теги поведение, характеристика)
до имеющих более конкретный характер, например, тег хитрость объединяет в одну
подгруппу слова заковыка „небольшая помеха, мешающая выполнению определенной
задачи‟, хитрожопый „высшая форма хитрости‟ и подловить „заставить ошибиться при
помощи хитрости‟. Часто такая область обозначается именем существительным в форме мн.
ч.: взаимоотношения, емкости, животные, знаменитости, инструменты, компьютеры,
напитки, наркотики, профессии.
Например, тегом автомобили объединяются такие единицы, как банан „запасное колесо
меньшего размера, чем обычное (название пошло от желтого цвета диска этого колеса)‟, день
жестянщика „неожиданный заморозок весной, когда многие автомобилисты уже сменили
шины на летние и в результате чего много автомобилей оказываются помятыми из-за
плохого сцепления летних шин с подледеневшей дорогой‟, колдырь „старый автомобиль
советских марок, чаще Москвич 412‟, копейка „народное название отечественного
автомобиля ВАЗ 21013, 21011, 2101‟, космич „автомобиль «Москвич»‟, литьѐ „литые
автомобильные диски‟, лихач „водитель, злоупотребляющий быстрой ездой‟, лобовик
„лобовое стекло автомобиля‟, микробус „автомобиль-микроавтобус‟, ноздря „у
автомобилистов – название воздухозаборника, расположенного на капоте‟, подкурить
„завести автомобиль путем подсоединения аккумулятора от другой машины посредством
специальных проводов‟, поливать „ехать быстро‟, тошнить „передвигаться значительно
медленнее скорости потока‟, автомобиль на вѐслах „автомобиль с ручным механизмом
подъема стекол‟. Как мы видим, в группу с таким тегом объединяются слова,
принадлежащие разным частям речи и обозначающие не только типы автомобилей, но и
детали, части автомобилей и наименования лиц.
Таким образом, можно говорить о том, что тег связан с заглавным сленгизмом
различными парадигматическими2 и синтагматическими связями: таков, например, тег нос
при сленгизме пчихнуть „чихнуть‟. В последнем случае семантическая связь между
сленгизмом и тегом может быть не очень явной и носит скорее ассоциативный (в широком
смысле слова) характер: тег опекать сопровождает сленгизм наседка „мать, чрезмерно
опекающая своего ребенка‟, тег ответственность находим в статье с заглавной единицей –
глагольным фразеологизмом за базар ответишь „ответить за конкретное изречение (слова)
перед человеком, которому они адресованы‟.
2 Кроме синонимических и деривационных связей, о которых речь пойдет ниже.
122
2. Теги-синонимы.
Большинство тегов-синонимов присваиваются достаточно правомерно: тег бездельник
сопровождает словарную статью слова шланг „человек, отлынивающий от работы‟, тегом
чуть-чуть отмечен сленгизм чуть по чуть „немного, чуть-чуть‟. Последний случай наиболее
распространен в словаре: тег-синоним повторяет одно из слов толкования сленгизма или
даже полностью все толкование: тег уходить при слове отчаливать „уходить‟, тег фильм
при слове смотриво „фильм‟.
Однако в некоторых случаях выявление тегов-синонимов наталкивается на
определенные трудности. Прежде всего, поскольку онлайн-словари составляются
неспециалистами, дефиниции грешат различными неточностями. Отсюда вытекает, в
частности, сложность в разграничении гиперонимов-гипонимов, соотносящихся как род –
вид, и синонимов. Например, тег захотеть присвоен фразеологизму раскатать губу
„захотеть чего-то недоступного, слишком дорогого или не оправдывающего ожиданий ‟, хотя
значение сленгизма уже , чем значение слова-тега. То же: заховать „далеко и глубоко
запрятать‟ – тег запрятать. Слова котомка и борсетка обозначают лишь виды сумок
(соответственно „бесформенная невзрачная дорожная сумка‟ и „небольшая мужская сумка‟),
хотя получают тег сумка. Отметим, что теги, носящие гиперонимичный характер другого
типа (соотношение часть – целое), мы отнесли к тематическим тегам: тег голова при слове
лобешник „лоб‟. Точно так же именно к тематическим тегам нами были причислены теги,
синонимичные не сленгизму, а общенародному слову, звуковая оболочка которого была
использована для образования слова сленга – семантического деривата: так, тегами бабуин,
обезьяна и павиан отмечен сленгизм гамадрил „мужланоподобный человек с неприятной,
отталкивающей внешностью‟.
Кроме того, следует учитывать, что понятие синонимичности в сленге вообще и в
онлайн-словарях в частности достаточно размыто: так, тег поучить отмечен в словарной
статье вкрутить мозги „научить‟, а тег угнетать – в статье гнобить „оскорблять и всячески
издеваться психологически‟. Тем не менее мы посчитали возможным отнесение таких тегов
к синонимическим.
Тегами-синонимами мы считаем также те случаи, когда тег, выраженный глаголом, не
совпадает по грамматической форме с заглавным словом статьи или главным словом
фразеологизма глагольного типа: тег возжелать фиксируется в статье пробило на что-либо
„неожиданно захотеть чего-то‟, тег не понимать – я не въезжаю „я ничего не понимаю‟.
По принадлежности к той или иной социальной подсистеме языка теги-синонимы
делятся на стандартные и субстандартные; первые представляют собой общелитературные
слова и выражения, вторые – чаще всего молодежные сленгизмы или единицы обсценной
лексики. Нередко эти теги фиксируются при одних и тех же словах: например, тег рот
сопровождает слова базло, варежка, зевало, лоханка, паяло, репродуктор, рупор, хайло,
хлебало, хлебальник, хлеборезка, в то время как слово хайло „рот‟ имеет также
субстандартные теги пасть, хлебало, хлебальник и т. д.; тег дурак фиксируется при
сленгизмах олень „недалекий или неадекватный человек‟ и удод „глупый или придурковатый
человек‟, в то время как сленгизм олень сопровождается тегом удод, а сленгизм удод – тегом
олень.
Отметим, что субстандартными могут быть и тематические теги: тег лавандос (на
сленге „деньги‟) сопровождает словарную статью мультик „сленговое название денежной
единицы любой действующей валюты, равной одному миллиону‟, однако такие примеры
единичны.
3. Теги-варианты.
Тег представляет собой графический, фонетический или морфологический вариант
заглавного слова: аллегория – тег алегория; ацкая сотона – тег ацкий сотона; тегов этого
типа очень мало.
4. Теги-мотиваторы.
123
Тег является мотивирующим словом для заглавного слова статьи или одним из слов
фразеологизма. Примером первых может служить тег блатной для сленгового слова
блаткомитет „группа людей, состоящая из блатных: смотрящих, воров в законе и т. п.‟,
примером вторых – тег унитаз для выражения работать на унитаз „тратить всю зарплату на
пропитание‟, тег трактор – для выражения получай деревня трактор „выражение, по
смыслу соответствующее значению «вот тебе», «получай», «знай наших » и т . п.‟. Теги-
мотиваторы, сопровождающие фразеологизмы , встречаются чаще , что понятно : носители
сленга испытывают большие трудности в выделении производящего (мотивирующего) слова,
в то время как указать одно из слов фразеологизма для них не составляет труда.
В редких случаях тег-мотиватор объединяется с тематическим тегом: выражение худой
как велосипед „об очень худом человеке‟ получает тег транспорт, выражение мамочка моя
бабуся „выражение крайнего удивления или избытка чувств‟ – тег семья; тег животные
присвоен словарной статье сгуситься „скрутиться непонятно в какую позу‟, так как гипоним
тега (гусь) является мотивирующим словом для сленгового глагола. Кроме того, следует
учитывать и возможность двоякого рассмотрения некоторых тегов: так, тег альтруизм,
сопровождающий слово альтруист „человек, занимающийся альтруизмом, то есть
помогающий людям бескорыстно, от доброты своей‟, можно считать как тегом-мотиватором,
так и тематическим тегом; тег бандит при слове бандюк „человек, имеющий отношение к
криминалу‟ – как тегом-мотиватором, так и тегом-синонимом.
Один и тот же тег может использоваться в разных функциях. Например, тег баран
выполняет роль тега-мотиватора для фразеологизма баран начхал „очень мало, ничтожное
количество‟ и тега-синонима для слова имбиот „исходные слова «имбецил» и «идиот», это
что-то среднее между этими словами‟; причем возможны другие функции и у формально-
языковых тегов: тег вопрос находим и при слове чокаво „шутливый вопрос, которым
переспрашивают, когда что-нибудь непонятно‟ (формально-языковой тег), и при слове свеча
„на сленге знатоков: игранный ранее (засвеченный) вопрос‟ в качестве тега-синонима. Более
того, иногда теги используются и как единицы литературного языка, и как элементы
субстандарта; так, тег мусор сопровождает два слова: даздроферма „грязное, загаженное
место‟ (тематический тег – литературное слово) и краснопѐрый „мусора, которые зону
охраняют‟ (тег-синоним – сленгизм).
Таким образом, процесс тегирования (присвоения тегов-меток словарным единицам) в
онлайн-словарях, осуществляемый носителями русского языка – пользователями Интернета,
имеет как недостатки, так и положительные стороны. К первым отнесем некоторую
путаницу в использовании лингвистических терминов (быдло-сленг), несоответствие
грамматической формы тега и главного слова толкуемого фразеологизма, расплывчатость
при фиксации синонимических тегов. Однако положительных моментов в описываемом
процессе, на наш взгляд, гораздо больше. Разнообразие тегов-дескрипторов, их
многофункциональный характер, их большое количество при одном и том же слове, их
привязка к различным областям знания, как лингвистического, так и
экстралингвистического, – все эти черты свидетельствуют о том, что авторы словаря, в
целом владея основами классификации и категоризации, пытаются (хотя не без ошибок)
создать некий новый продукт, которым можно будет в определенных пределах пользоваться
всем желающим, в том числе и лингвистам.
Перспективы исследования данной проблемы видятся в анализе сочетаемости тегов
между собой (при их значительном числе) и, главное, в выявлении степени адекватности
тегов, прежде всего лингвистических, соответствующему языковому материалу.
Литература
Бойко 2010 – Б. Л. Бойко. Самодеятельный онлайновый словарь современной лексики,
жаргона и сленга «Словоново» как форма общения в Интернете / Б. Л. Бойко // Вопр.
психолингвистики. 2010. № 2 (12). С. 64–70.
124
Караулов 1981 – Ю. Н. Караулов. Лингвистическое конструирование и тезаурус
литературного языка / Ю. Н. Караулов. М.: Наука, 1981.
Лукашанец 2011 – Е. Г. Лукашанец. Интернет и язык: народная лексикография /
Е. Г. Лукашанец // Вестник Нижегород. гос. ун-та, 2011. №6. ч. 2. С. 378–381.
Шумарина 2014 – М. Р. Шумарина. Народная лексикография – феномен современной
российской лингвокультуры // Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск,
2014. № 3. С. 291–293.
125
Е. В. Маринова
НОВЫЕ НЕСКЛОНЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ИХ ОТНОШЕНИИ
К ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА
В статье рассматриваются новые несклоняемые имена существительные иноязычного
происхождения (далее – НИС), пополнившие русский язык за последние 30 лет. Среди них
выделяются НИС, оканчивающиеся на гласный и составляющие ядро группы несклоняемых
субстантивов в современном русском языке, и НИС, оканчивающиеся на согласный
(периферия группы).
Прежде чем определить особенности «присвоения» рода словам каждой группы, а
также отметить специфику отражения родовой принадлежности и тех и других в словарях,
укажем источники исследования (оно ведется с 1990-х гг.): 1) «Электронный корпус русских
газет конца ХХ – начала XXI вв.» (проект Лаборатории общей и компьютерной
лексикологии и лексикографии МГУ им. М. В. Ломоносова) (ЭКГ); 2) текстовая база
русскоязычной периодики информационного агентства «Интегрум» (подробнее см. [Integrum
2006]); 3) «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ); 4) интернет-поисковые
материалы (ИПМ); 5) материалы письменного языка городского пространства (вывески,
наружная реклама и т. п.); 6) записи устной речи.
1. Несклоняемые иноязычные существительные, оканчивающиеся на гласный.
Необходимость вновь обратиться к традиционному вопросу о грамматическом роде
несклоняемых неодушевленных нарицательных существительных на гласный типа евро
объясняется тем, что начиная с 1990-х гг. в речи, в том числе кодифицированной,
наблюдается заметный разнобой в присваивании рода таким существительным. Так, в одних
вполне официальных названиях несклоняемое существительное биеннале используется как
существительное ж. р.: «Венецианская биеннале», а в других – как существительное ср. р.:
«Волжское биеннале». Наряду с женским и средним родом, в качестве нормативного
некоторые словари, например РОС, фиксируют еще и мужской род (нам, однако,
употребление слова биеннале как существительного мужского рода не встретилось).
Словарные рекомендации в отношении этого слова в целом расходятся, см.: ж. и ср. р. [БТС;
БАС-3]; ж. р. [АЛ; КНС]; неправ. Очередное биеннале [КНС]; ср. р. [ТСИС]; м. и ж. р.
[СНИС]; ж. (выставка) и м. р. (фестиваль) [РОС]. Лексикографический разнобой
подтверждает актуальность проблемы: на сегодняшний день механизм присваивания
грамматического рода новому несклоняемому существительному до конца не ясен. Можно
ли в такой ситуации рядовому носителю языка в выборе рода нового слова опираться на
рекомендации словарей?
Ранее этот вопрос так остро не стоял, поскольку, благодаря действию известного со
школьной скамьи правила, средний род доминировал в этой группе существительных, что
позволило акад. В. В. Виноградову назвать его «складом для заимствованных слов, которые
по своему звуковому или морфологическому облику не соответствуют типическим формам
русских существительных» [Виноградов 1986: 76].
В настоящее время можно констатировать ослабление позиции среднего рода на этом
участке языка, которое проявляется в том, что среди новых заимствований, пополнивших
данный класс (всего более 230 единиц), около 50% слов не относятся к существительным
среднего рода или же варьируются: наряду с грамматическим значением среднего рода
употребляются и в каком-либо другом родовом значении, как, например, биеннале или евро.
Об ослаблении позиции среднего рода свидетельствует и то, что он может и не
проявляться вовсе у НИС (ауди, вольво, субару и др. – м. или ж. р.). Присваивается средний
род в основном существительным, оканчивающимся на -о – по аналогии с исконными
существительными среднего рода и старыми заимствованиями: Например: видео, айкидо,
бунгало, лечо, парео, сумо и др. – ср. р. Но и среди существительных на -о есть такие,
которые употребляются в речи как существительные мужского рода: американский камаро
126
„спортивный автомобиль‟, любимый амаретто, один евро, серебристый вольво – или
женского рода: бронированная вольво.
Та же ситуация среди существительных, оканчивающихся на другие гласные,
например, оканчивающиеся на -и: ср. р. татами, м. р. гран-при, дьюти-фри, ж. р. джакузи;
на -у: ср. р. ушу, м. р. тофу „вид сыра‟, женский род тату; на -е(э): ср. р. дефиле, м. р.
латте, ж. р. биеннале; на -а: ср. р. фуа-гра, м. р. спа, ж. р. гохуа „вид китайской живописи‟,
фейхоа и т. п.
Следует отметить, что у НИС, которые «отказываются» от среднего рода или же имеют
родовые варианты, обнаруживается общая черта. Такие существительные, приобретая
признаки мужского или женского рода, чаще всего «ориентируются» на род их русских
параллелей (аналогов, эквивалентов). Так можно объяснить, например, женский род слов
биеннале (по роду слова выставка); джакузи (ср. ванна); пати (ср. вечеринка); лав-стори
(ср. история); кароси „смерть от перенапряжения‟ [НСЗ-90] (ср. смерть); секьюрити (ср.
охрана) и др. Подобным образом, по-видимому, сформировался и мужской род
существительных евро (ср. доллар, рубль); дьюти-фри (ср. магазин); васаби (ср. соус); гала
(ср. праздник); аджилити „вид кинологического спорта – преодоление собакой препятствий‟
(ср. спорт) [НСЗ-90]; буги-вуги (ср. танец); дохѐ/дохио „помост для игры в сумо‟ [НСЗ-90];
тофу (ср. сыр); багги (ср. гоночный автомобиль, карт); карго (ср. груз); гран-при (ср. приз);
сити (ср. район, город); экстази (ср. психоделик). См. также обозначения разновидностей
кофейных напитков – классический американо, горячий капучино, горький ристретто,
двойной эспрессо, зерновой макиато, карамельный латте, греческий фраппе и даже вкусный,
восхитительный глясе, несмотря на то, что глясе – старое заимствование среднего, согласно
всем словарям, рода. В современной речи, однако, ему присвоен мужской род.
Таким образом, все чаще род НИС оформляется под действием смысловой аналогии.
Это хорошо заметно также и по такому явлению: если слово многозначно, род присваивается
каждому лексико-семантическому варианту (ЛСВ) свой. Например: фрисби – м. р., если речь
идет о виде спорта (пляжный фрисби), и ж. р., если имеется в виду сам предмет –
специальная пластмассовая тарелка для этой игры (новая фрисби, красненькая фрисби).
Аналогичные примеры отражают и словари (см. ниже).
В то же время в этой группе слов продолжает действовать и грамматическое правило о
среднем роде, что приводит к варьированию слова по роду (один евро и разг. одно евро).
Такое варьирование новых НИС становится почти нормой. Наблюдения показывают, что
новое слово нередко используется как существительное, относящееся к двум и даже к трем
грамматическим родам. Например, слово хэндс-фри „устройство, предназначенное для
«громкой связи» по мобильному телефону‟ используется как существительное всех трех
родов. См.: Подскажите плиз, работает ли какой хэндсфри с панасоником? – из речи
посетителя форума; Есть штатная хэндс-фри – из объявления; Хэндс-фри новое –
объявление о продаже; Спешите приобрести замечательное хэндс-фри (реклама). Можно
отметить также пример рефлексии говорящего по поводу рода этого техницизма, см.: Кто
знает: можно ли в Москве найти такой проводок и подойдет ли эта (этот) хэндс-фри к
gsm аппарату? (из речи посетителя форума). В 1990-е гг. три родовых варианта отмечались
и у слова евро (евро падала [НСЗ-90], евро вырос, одно евро), у слова барбекю [НСЗ-90].
Большинство вариативных слов выступают все же в двух родовых формах. К этой
группе можно отнести и новое слово XXI в. селфи (сэлфи) „самофотографирование;
фотография, сделанная таким образом‟. Селфи используется как существительное среднего
рода (последнее селфи), но и мужской род возможен: Хотите сделать неотразимый селфи?;
Просто было интересно посмотреть, как я выгляжу», – так астронавт Базз Олдрин
прокомментировал «первый космический сэлфи», сделанный им в далеком 1966 году;
Исторический сэлфи; Эротический сэлфи; Британский подросток чуть не умер от
истощения в попытке сделать удачный снимок самого себя – так называемый селфи
(ИПМ). Мужской род слова селфи, вероятно, объясняется действием все того же принципа –
127
принципа смысловой аналогии (ср. в последнем текстовом примере синонимию снимок
самого себя – селфи).
По всей вероятности, можно говорить о том, что формируется новая норма, которая,
тем не менее, не противоречит тому, что уже есть в языке, а именно присваиванию рода
аббревиатурным словам, когда аббревиатура получает род опорного слова производящего
словосочетания (бывшая ГДР), и присваиванию рода несклоняемым неодушевленным
именам собственным по роду слова-гиперонима (современный Токио, широкая Миссисипи).
Наши наблюдения позволяют предположить, что в современной языковой ситуации для
несклоняемых неодушевленных нарицательных существительных начинает действовать тот
же принцип, что и у названных выше категорий слов. Иными словами, сфера действия этого
правила, в основе которого лежит не только формальная характеристика слова (отсутствие
склонения), но и содержательная (место слова в системе языка), расширилась, и в настоящее
время под его влияние попадают и некоторые нарицательные, не аббревиатурные слова.
2. Несклоняемые иноязычные существительные, оканчивающиеся на согласный.
Как уже было отмечено выше, НИС на согласный являются периферией класса
несклоняемых субстантивов в современном русском языке. Примерно до середины ХХ в.
несклоняемые имена существительные с консонантным исходом (не считая имен
собственных и некоторых аббревиатур) представляли собой только одушевленные
существительные – экзотические наименования лиц женского пола, служащие также
обращением к ним, см.: мадам, мисс, миссис, фрейлейн, фрекен. К концу ХХ в. в русском
языке сформировался еще один ряд экзотизмов, оставшихся в русском языке без
словоизменения. Это существительные, оканчивающиеся на -с(-з) (испанского или
английского происхождения): коммандос, гѐрлс, праймериз, ультрас и под.
С конца ХХ в. несклоняемые существительные с согласным на конце уже не экзотика.
Вот несколько иллюстраций из повседневной речи: подключиться к интернет; сидеть в
твиттер; девушка на ресепшн сказала…; отказаться от олинклюзив; школа бонсай
(название курсов); «Искусство фэншуй» (название книги); «Выгода от трейд-ин» (наружная
реклама) и т. д. Замечено, что со временем такие существительные могут стать
склоняемыми, но на первой стадии освоения иноязычного неологизма может происходить
задержка словоизменения (реже – отсутствие склоняемости становится нормой, как в случае
с плей-офф).
Что же касается отношения НИС, оканчивающихся на согласный, к грамматической
категории рода, то здесь также наблюдаются отклонения от языковой нормы, хотя в этой
группе, казалось бы, их не должно быть, поскольку в русском языке неодушевленные
склоняемые существительные с финальным твердым согласным относятся к мужскому роду.
Однако в реальной речевой практике картина иная. Несмотря на сильное структурное
ограничение – твердый согласный на конце слова, ряд существительных оформляется как
существительные женского рода (правда, их немного). Вот несколько иллюстраций:
немецкая грин-кард; пятидесятиминутная демо-тайп; демо-тейп легла на стол (демо-
тейп – „пробная запись новых песен‟ [НСЗ-90]); очень важно, чтобы Ваша ресепшн
оставила у клиента <…> наилучшее впечатление (реклама); все для вашей ресепшн; нам
пока не удалось завоевать ни одной поул-позишн (поул-позишн – „стартовая позиция,
которую гонщик имеет право выбрать при условии победы в квалификационном заезде‟);
добиться очередной поул-позишн; на своей мерс пострадавший быстро догнал обидчиков;
новейшую Windows.10 уже можно скачать бесплатно. Такие употребления являются
новыми для современного русского языка. Можно предположить, что женский род НИС,
оканчивающихся на согласный, вместо ожидаемого мужского поддерживается отсутствием
словоизменения у этих существительных. В случае с «нормальным» грамматическим
поведением этих и подобных слов они используются в речи в мужском роде (см.: обогнал
шестисотого мерса на повороте).
К сожалению, словари непоследовательно отражают подобные случаи (присваивание
рода, вариантность по роду, наличие/отсутствие словоизменения), в особенности у нового
128
слова, и не все словарные пометы подтверждаются фактами речи. Так, РОС отмечает
средний род, наряду с вариантным мужским, несклоняемого существительного фэншуй
„древнее китайское искусство гармоничной организации жизненного пространства‟, однако,
по нашим данным, слово употребляется как существительное мужского рода, см., к примеру:
фэншуй как наука появился в Древнем Китае более двух тысяч лет назад [НКРЯ]; весь
фэншуй построен на взаимодействии всего трех принципов [ИПМ]. Тот же источник
отмечает женский и средний род несклоняемого существительного от-кутюр „высокая мода‟
[РОС]. Наши материалы эти данные не подтверждают. Примеров, выявляющих род слова
от-кутюр, крайне мало, но во всех этих редких употреблениях род слова – мужской:
ювелирный от-кутюр; Вам понравится наш от-кутюр [реклама]. Аналогичная ситуация
наблюдается и со словом фьюжн „электроджаз‟: СНИС фиксирует его как несклоняемое
существительное ж. и ср. рода, тогда как слово используется как существительное м. р.
(модный фьюжн и под.).
3. Отражение принадлежности несклоняемых существительных к
грамматическому роду в словарях. Проблема лексикографического отражения
грамматических свойств новых слов, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения.
Нередко именно в этой части словарной статьи намечается (или проявляется) конфликт
между кодификацией (как правило, в том случае если она была преждевременна) и реальной
речевой практикой говорящих (узусом). В то же время заметно стремление современных
словарей (толковых, ортологических, неологических) отразить вариантность слова, тем
самым добиваясь объективности в подаче языковых фактов. Покажем это на примерах:
амаретто (ликер) – ср. и м. р. [НСЗ-90];
бэккантри / беккантри (экстремальный вид спорта: подъем на гору без подъемника со
спуском по неподготовленным трассам на лыжах, сноуборде) – м. и ср. р. [КНС];
джамбори (слет скаутов) – м. и ср. р. [НСЗ-90];
камаро (спортивный автомобиль) – м. и ср. р. [НСЗ-90];
помело (фрукт) – м. и ср. р. [РОС];
сити (деловой район города) – м. и ср. р. [РОС];
биеннале – ж. и ср. р. [БТС; БАС-3] и др.
В ряде случаев словари отражают вариантность по роду между ЛСВ многозначного
слова. См., например:
карго – м. р. (о грузе) и ср. р. (о фасоне одежды) [КНС];
кенгуру (фасон рюкзака) – м. р. (небольшой кенгуру) и кенгуру (фасон куртки) – ж. р.
(молодѐжная кенгуру) [КНС];
якудза нескл. (японская мафия) – ж. р. и якудза (мафиозо) – м. р. [РОС].
В то же время в отношении некоторых НИС словари избирают один какой-либо род,
несмотря на то, что род этих слов варьируется. В итоге каждый словарь дает свою версию
грамматического значения слова. Например:
ауди (автомобиль) – м. р. [РОС; НСЗ-90]; ж. р. [ТСРЯ];
вольво (автомобиль) – м. р. [РОС]; ж. р. [ТСРЯ];
джакузи (ванна) – ср. р. [РОС; БТС; ТСИС; БАС-3]; ж. р. [НСЗ-90]; ж. р. и ср. р. [АЛ];
тату – ср. р. [РОС; ТСИС]; ж. р. [АЛ; БТС]);
тофу (пищевой продукт из соевых бобов) – ср. р. [РОС]; м. р. [БТС; ТСИС];
фрисби (вид спорта; диск) – ж. р. [БТС]; м. р. [КНС] и др.
Ср. также грамматические пометы несклоняемого существительного вамп: м. р.
[ТСИС] и м. и ср. р. [БТС]. Мы особо выделили это слово, поскольку данные словарей никак
не подтвердились реальными употреблениями слова. Судя по материалам «Интегрума», ЭКГ
и НКРЯ, вамп употребляется в подавляющем большинстве случаев как существительное
женского рода. Примеры: В результате было создано несколькоэскизов, эмоциональных
набросков к портрету героини: может быть, бестрепетная вамп; может быть,
недопетая лебединая песня; может быть, первое, но позднее грехопадение [ЭКГ];
Александров переименовал ее в Марион Диксон, очевидно адресуя образ заграничной
129
акробатки к Марлен Дитрих, искусительнице Лоле-Лоле из «Голубого ангела» и главной
«вамп» Голливуда 30-х (Моск. пр. 06.09.96); см. также это слово в сочетании с
определениями: демоническая, роковая, прирождѐнная, провинциальная, грациозная,
томная, совершеннейшая, эффектная, великолепная, загадочная, экзистенциально-
психоделическая, безжалостная, подмосковная, польская, реактивная, шизофреническая,
американская, голландская, русская вамп и др.
Следует отметить еще одно расхождение между кодификацией и узусом: иноязычное
несклоняемое существительное дается с указанием на тот или иной род, но в живой речевой
практике слово используется как существительное pluraliatantum. Это наблюдение касается
слова суши: РОС отмечает средний род этого слова; СНИС – женский. Однако в речи суши
преимущественно используется «вне рода» – как существительное pluraliatantum: японские,
вкусные, аппетитные, свежие суши; «Суши едут» (название компании) и др. И лишь
единичный пример в наших материалах: Вторая суши бесплатно [объявление в ресторане].
Таким образом, грамматика языка по-своему реагирует на приток заимствований. При
их анализе выявляются некоторые наиболее подвижные, неустоявшиеся участки и
механизмы языка, подверженные изменениям. Тот факт, что в ряде случаев окончательный
родовой вариант иноязычного существительного еще не утвердился в реальной речевой
практике, означает, что такой языковой механизм, как норма, еще не сработал. По-видимому,
в словаре следует фиксировать конкурирующие варианты (как это делается, например, в
НСЗ-90). Кодификация же только одного грамматического варианта, очевидно,
преждевременна.
Словари
АЛ – Толковый словарь русского языка начала XXI в. Актуальная лексика / Под ред.
Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2006.
БАС-3 – Большой академический словарь русского языка. Тт. 1-15. М.; СПб.: Наука,
2004-2011 (издание продолжается).
БТС – Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб.:
Норинт, 1998.
КНС – Комментарий к Федеральному закону «О государственном языке Российской
Федерации». Ч. 2: Нормы современного русского литературного языка как государственного
(Комплексный нормативный словарь современного русского языка) / Под общ. ред.
Г. Н. Скляревской, Е. Ю. Ваулиной. СПб., 2011.
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века. В 3-х тт. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), и
Е. А. Левашова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009-2014.
РОС – Русский орфографический словарь. Изд-е 4-е / Под ред. В. В. Лопатина. М.,
2012.
СНИС – Е. Н. Шагалова. Словарь новейших иностранных слов. М., 2010.
ТСИС – Л. П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов. 3-е изд. М., 2006.
ТСРЯ – Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под ред.
Г. Н. Скляревской. СПб.: Норинт, 1998.
Литература
Виноградов 1986 – В. В. Виноградов. Русский язык (Грамматическое учение о слове):
Учеб. пособие для вузов / Отв. ред. Г. А. Золотова. 3-е изд., испр. М., 1986.
Integrum: точные методы и гуманитарные науки / Ред.-сост. Г. Никипорец-Танигава.
М.: Летний сад, 2006.
130
Е. О. Матвеева
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ
В последние десятилетия внимание отечественных лингвистов привлечено к изучению
языка средств массовой информации. Рассматривая медиатексты с точки зрения активных
процессов, характеризующих современный этап развития русского языка, можно отметить,
что все чаще для усиления эмоционального воздействия на адресата (читателя, слушателя,
зрителя) используются окказионализмы. Эта тенденция особенно характерна для различного
рода рекламных посланий.
Активное функционирование окказионализмов в медиатекстах, их влияние на
формирование языковой личности и лингвистической культуры подтверждают идею о
взаимосвязи языка и культуры, о неизбежном, хотя и не всегда позитивном, изменении языка
под влиянием актуальных социальных событий. По-прежнему актуально звучит суждение
Вильгельма фон Гумбольдта о творческом характере развития языка: «По своей
действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный
момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой далеко не
совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи.
Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то,
чтобы сделать артикулированный звук пригодным для выражения мысли. В подлинном и
действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов
речевой деятельности. По разрозненным элементам нельзя познать то, что есть высшего и
тончайшего в языке; это можно постичь и уловить только в связной речи». [Гумбольдт 1984:
70]. Идеи немецкого лингвиста о непрерывном творческом процессе развития языка значимы
для понимания природы, характера и особенностей окказионализмов, создающих
художественную выразительность медиатекста, в том числе рекламного послания.
Термин «окказионализм» имеет в лингвистических исследованиях ряд синонимов:
«неологизм контекста», «слово-самоделка», «поэтический неологизм», «одноразовый
неологизм», «слово-экспромт». Однако, придерживаясь разных терминологических
подходов, ученые, рассматривающие особенности данного явления (Н. И. Фельдман,
В. В. Лопатин, Е. А. Земская, А. Г. Лыков, С. В. Ильясова, Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова),
сходятся во мнении, утверждая: окказионализм – слово, образованное по непродуктивной
модели, используемое в условиях конкретного контекста, относящееся к пассивному составу
языка.
Рассматривая контекстуальную обусловленность окказионализмов, В. В. Лопатин
подчеркивал: «Не следует думать, что окказионализмы – это какие-то неполноценные или
ущербные слова. Нет, это слова настоящие, и даже более нужные в определенном контексте,
более насыщенные, чем обычные, общеупотребительные слова. Но специфика их
заключается в том, что обслуживая определенный контекст, данный частный случай, данную
речевую ситуацию, они не претендуют на то, чтобы закрепиться в языке, войти в общее
употребление» [Лопатин 1973: 65].
Контекстуальная обусловленность окказионализмов наиболее заметна в рекламных
текстах, срок существования которых в языковом пространстве и культуре ограничен
рамками рекламной кампании.
Интерес к окказиональным образованиям в рекламных обращениях вполне логичен и
закономерен, поскольку окказиональные инновации становятся источником экспрессии для
языка рекламы. Помимо сугубо лингвистического аспекта бытования окказионализмов в
рекламе необходимо, на наш взгляд, обратить внимание и на лингвокультурологический
аспект этого явления, связанный, с одной стороны, с определенным влиянием культуры,
характеризующей данный этап развития социума, на процесс возникновения слов-
однодневок, а с другой – с обратным влиянием окказионализмов на речевую культуру наших
современников.
131
Лингвокультурологический аспект рекламных окказионализмов интересен и с позиции
изучения возможностей словотворчества. Так, Е. А. Земская в исследовании
«Словообразование как деятельность» отмечала: «Окказионализмы характеризуют
совершенно особый аспект изучения языка – творческий, индивидуальный, эстетический:
они реализуют индивидуальную, творческую компетенцию говорящего, будь то поэт,
ребенок или обычный человек. Они ориентированы на правила, общие для всех носителей
языка. Окказионализмы показывают, на что способен язык при порождении новых слов,
каковы его творческие потенции, глубинные силы. Ведь любой самый индивидуальный
окказионализм должен быть понятен другим» [Земская 1982: 180].
Часто рекламные окказионализмы возникают по одной словообразовательной модели с
заимствованными словами. В возникновении таких контекстуально обусловленных слов-
однодневок большую роль играет аналогия. Например, вместе с заимствованным словом
шопинг в рекламных текстах стали появляться окказионализмы покупинг, подаринг,
товаринг. Как мы видим, данные окказионализмы созданы по модели «производящая основа
+ суффикс -инг». С лингвистической точки зрения, такой подход допустим, однако возникает
вопрос о соответствии подобных инноваций традициям языковой культуры российского
общества и задаче сохранения русского языка, о которой должны задумываться журналисты
и создатели рекламных текстов.
С нашей точки зрения, особенно неуместно смотрятся несколько окказионализмов
такого рода в одном рекламном тексте: Два дня неповторимого шопинга в торговом центре
«Гранд каньон». Под одной крышей самые известные бренды со всего света. Приходите и
убедитесь: биг товаринг, лайт покупинг, гуд подаринг.
Обратим внимание на еще одну интересную деталь: в этом тексте окказионализмы
покупинг, товаринг, подаринг употребляются с английскими словами light, big, good в
кириллическом написании. Итак, расшифровав послание, мы начинаем понимать смысл
текста: авторы хотели сказать, что в магазине легко и приятно совершать разнообразные
покупки и выбирать хорошие подарки. Приведенный пример свидетельствует об усилении
влияния английского языка и интернационализации общения. Эта тенденция отмечается
многими современными исследователями. Достаточно назвать работы
Т. Г. Добросклонской, С. В. Ильясовой, Н. А. Кузьминой. Тем не менее этот текст нельзя
признать удачным уже потому, что в нем слишком много однотипных окказиональных
инноваций, а значит, эффект языковой игры снижается, сменяясь в лучшем случае
недоумением, раздражением или иронией.
Окказиональные образования в текстах современной российской рекламы могут быть
не только существительными, как в предыдущем примере, но и прилагательными:
кириешнутые советы, пельменистые пельмени. Популярны в рекламных текстах
окказиональные наречия: по-скелетонски, хрустно, освежительно. Среди окказиональных
глаголов необходимо выделить известный призыв «Сникерсни!». Этот окказионализм в
повелительном наклонении постепенно приживается в русском языке, а его смысл
расширяется. Теперь часть реципиентов рекламного послания воспринимает его как призыв
перекусить, весело провести время с друзьями.
Разновидностью окказионального словообразования в рекламных текстах является
контаминация, усиливающая экспрессию послания, создающая возможности для языковой
игры с реципиентом. Например, счастливочный вкус (счастливый + сливочный), настоящий
музыкайф (музыка + кайф), бифиформула здоровья (усечение термина бифидобактерии +
формула), элвистильные скидки (усеченное имя собственное Элвис Пресли + стильные).
Однако, на наш взгляд, использование подобных окказионализмов возможно лишь в тех
случаях, когда целевой аудитории понятны обе части нового слова, а сам окказионализм не
вызывает психологического отторжения. К примеру, вряд ли, можно признать удачным
окказионализм шапкозакидательные, поскольку он соотносится с прецедентным
выражением, имеющим негативную культурную коннотацию, ведь устойчивая фраза
«закидать шапками» означает самонадеянность, пустое бахвальство, самоуверенность.
132
Рекламный текст, обещающий «шапкозакидательные скидки, которые не позволят никому
уйти без новой шапки», вызывает ощущение, что авторы послания переоценивают
возможности продавцов.
Рассмотрение лингвистических особенностей окказиональных инноваций в рекламе
неотделимо от анализа их функций в такого рода текстах. Это направление
исследовательской деятельности актуализирует важнейшие вопросы лингвистики,
обозначенные в статье В. М. Алпатова «Что и как изучает лингвистика». Автор
подчеркивает: «Сильно огрубляя и схематизируя круг проблем лингвистики, можно их
свести к трем главным вопросам. Это вопросы: "Как устроен язык?", "Как функционирует
язык?" и "Как развивается язык?"» [Алпатов 2015: 17].
Далее остановимся на лингвокультурологическом обосновании этих функций, для
описания которых определяющее значение имеет научная концепция Н. З. Котеловой, в
работах которой делается особый акцент на общественном значении изменения лексики.
Рассматривая процесс неологизации, Н. З. Котелова писала: «Появление в языке новых слов,
новых значений слов и выражений отражает изменения в бесконечно разнообразном мире
вещей и явлений, общественную деятельность человека, работу человеческого сознания,
результаты бесконечного познавательного процесса. Возникновение новых номинаций как
ответ на социальный запрос, как результат познавательно-профессионального освоения мира
– главная движущая сила неологизации во всех языках и на всех этапах их развития»
[Котелова 1982: 4]. Лингвистическая концепция Н. З. Котеловой отражает специфику
появления и бытования окказионализмов в языках для специальных целей, в том числе в
языке рекламы, где прагматические, суггестивные цели воздействия на реципиента
оказываются самодовлеющими. Суггестивный, внушающий характер рекламной
коммуникации, определяет основные функции окказионализмов в текстах рекламных
посланий.
Первая и важнейшая функция окказионализмов в рекламе – это психологическая
подстройка под целевую аудиторию, усиливающая суггестивный эффект взаимодействия
автора и адресата. У реципиента, читающего, смотрящего или слушающего рекламу, должно
возникнуть впечатление, что персонажи, от лица которых ведется повествование, говорят с
ним на одном языке, а значит, понимают его проблемы и предлагают их результативное
решение. Снимая защитные барьеры подсознания, психологическая подстройка вызывает у
адресата доверие к рекламной информации. Отсюда становится понятным значительное
количество окказионализмов в рекламных текстах, адресованных молодежной целевой
аудитории, ведь юношество – наименее консервативная социальная группа, которая открыта
новому, склонна к созданию субкультуры, собственного языка, понятного лишь ровесникам.
Вот некоторые примеры: «Не тормози – сникерсни», «Приколись по-скелетонски!»,
«Крашные апельсины», «Решительно! Освежительно!», «Пепсиний день календаря».
Молодежь, стремящаяся противопоставить себя миру взрослых, использует для этого
языковую игру, включает необычные окказионализмы в повседневную речь.
Современные рекламные продукты находятся в отношениях острой конкуренции, и.
перед их создателями неизбежно и очевидно встает проблема акцентирования внимания
целевой аудитории именно на данном послании, выделения его из десятков и сотен
аналогичных предложений. Окказиональные инновации, удивляя, эпатируя, иногда даже
шокируя, помогают привлечь внимание реципиента, часто неосознанно запоминающего
оригинальные слова. Окказионализмы в рекламе повышают эмоциональный градус
сообщения, активизируют ассоциативное мышление и воображение потребителя. Отметим
отдельные инновации: «Ощути музыкайф!», «Спациальное предложение», «Помогаем
электроматериально», «Элитарии всех стран! Развлекайтесь!».
Е. В. Бабенко справедливо отмечает: «Занимая сильную позицию в тексте,
окказионализмы обладают большой силой воздействия прежде всего благодаря своей
экспрессивности... Экспрессивность как основная стилевая черта окказионализма
достигается столкновением нового, необычного со стандартным. Благодаря своей
133
экспрессивности окказионализм обостряет отношения в тексте, являясь точкой напряжения
формальных и смысловых связей. Обострение отношений происходит между элементами
композиции всего текста, поэтому окказионализм часто занимает центральное положение:
относительно него может быть выстроен весь текст». [Бабенко 2003: 12].
Стратегия позиционирования, будучи отличительной чертой рекламной коммуникации,
порождает еще одну функцию окказионализмов. Речь идет об обращении к особой целевой
аудитории, выделяющейся не только традиционными социально-психологическими
характеристиками (возраст, пол, материальное положение), но и особыми свойствами. Такая
стратегия прослеживается в названиях товаров: «Фрутоняня», «Скоромама», «Негрустин»,
«Кофемания».
С выделением особой целевой аудитории связана следующая функция
окказионализмов в рекламных текстах, которые предназначены специфической группе
потребителей. Они актуализируют уникальное торговое предложение, заставляющее
реципиента обратить особое внимание на данный текст. Копирайтерам хорошо известно:
языковая игра – действенный способ управления поведением адресата, если окказионализм
воспринимается как некое уникальное предложение, изюминка, присущая лишь данному
товару, отличающая его от конкурентов. Окказионализмы в словосочетаниях обезъятельные
скидки, охрюненные подарки, фрутостический вкус могут порождать различные эмоции, но
в любом случае они интригуют, вызывают желание понять, что же скрывается за новым,
пусть иногда раздражающим словом.
Лингвистическая стратегия борьбы за потребителя, необходимость создания новых
целевых аудиторий и выделения уникального торгового предложения вызывает к жизни
значительное количество рекламных посланий, написанных в псевдонаучном стиле и щедро
сдобренных окказионализмами, призванными, вероятно, актуализировать связь рекламного
предложения с последними достижениями науки. Например, один из текстов российской
рекламы оптимистически заверяет: «Каждый наноэффектор несет клеткам от двухсот до
трехсот различных полезных растений».
Наконец, не стоит забывать, что окказиональные слова создаются также и для
развлечения, забавы потребителя. Психологически здесь важен момент возрастной
репрессии, когда человек, включаясь в языковую игру, возвращается к детскому восприятию
мира, а значит, его критическое отношение к транслируемой информации снижается.
Окказионализмы в рекламных текстах, безусловно, неоднозначное явление, имеющее и
позитивные, и негативные аспекты. С одной стороны, окказионализмы усиливают
эмоциональность текста и его экспрессивные возможности, привносят в рекламу элемент
языковой игры. С другой – неудачные окказиональные инновации вульгаризируют язык,
отрицательно влияя на лингвистическую культуру современного российского общества.
Литература
Алпатов 2015 – В. М. Алпатов. Что изучает языкознание // Вопросы языкознания. №3.
2015. С. 7-21.
Бабенко 2003 – Е. В. Бабенко. Стереотипное и окказиональное в лексике современной
немецкой рекламы: Диссертация канд. филологических наук. М., 2003.
Гумболдт 1984 – В. фон Гумболдт. О различия строения человеческих языков и его
влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М:
Прогресс, 1984. С. 37-298.
Земская 1982 – Е. А. Земская. Словообразование как деятельность. М.: Наука, 1982.
Котелова 1982 – Н. З. Котелова. Проект словаря новых слов русского языка. М.: Наука,
1982.
Лопатин 1973 – В. В. Лопатин. Рождение слова. М.: Наука, 1973.
134
В. М. Мокиенко
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОЛОГИКА 1990-х гг.:
НОВОЕ И СТАРОЕ
1990-е гг. справедливо считаются столь же переломным этапом в истории русского
языка, как эпоха Петра Первого и послереволюционный советский период. Распад СССР,
коренная ломка социалистических устоев общества и резкая смена экономических,
политических и идеологических ориентиров, возвращение и активизация религиозных
догматов стали импульсом к созданию нового общественного дискурса и полной
переориентации языка средств массовой информации. Освободившись от цензуры, пресса,
радио и телевидение заговорили новым, раскованным русским языком, а появление
Интернета привело к стиранию границ между устной и письменной сферами общения. В
СМИ стали популярны жанры, дотоле не известные нашему обществу: ток-шоу,
дискуссионный обмен мнениями, интервью, социальные опросы в эфире, прямые диалоги
радио- и телеведущих со слушателями и зрителями, бесцеремонный прорыв рекламы в масс-
медиальное пространство и т. п. Естественно, что русский язык отражает все эти изменения –
изменения эпохи, которую народная молва не без основания назвала «лихие девяностые».
Эти изменения и закрепляются в неологике, представленной в фундаментальном трехтомном
словаре-справочнике «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века» (далее НСЗ-90) под редакцией Т. Н. Буцевой и
Е. А. Левашова, являющемся языковой летописью России этого периода.
Выход в свет этой неологической энциклопедии дает обильный материал для
разноаспектных наблюдений за отечественной неологикой. Сохранив дух и букву
академической неографии, составители творчески использовали выработанные ранее
принципы лексикографирования и доказали их актуальность на гораздо большем конкретном
материале. При этом было сохранено определение термина неологизм, сформулированное
Н. З. Котеловой: «Неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в
определенный период в каком-либо языке или использованные один раз (окказионализмы) в
каком-либо тексте или акте речи. Принадлежность слов к неологизмам (например,
приватизация, чѐрный ящик, луноход) является свойством относительным и историчным»
[РЯЭ 1997: 262-263].
Известно, что словари русской неологики, издаваемые в Институте лингвистических
исследований РАН, исходят из прагматического подхода: слово или фразеологическая
единица (ФЕ), не зарегистрированные в предыдущих словарях (особенно толковых),
считаются новыми [Котелова 1978]. Именно такое диалектическое понимание неологизмов
как особой категории лексики и фразеологии, маркированных конкретным хронологическим
периодом, стало основой формирования словника НСЗ-90. В предисловии к нему редакторы
отмечают, чем этот трехтомник отличается от предшествующих изданий русской неологики,
а более развернуто опытом работы над этим словарем и некоторыми модификациями
принципов его составления поделилась Т. Н. Буцева в специальной статье [Буцева 2012].
Естественно, что его основные принципы, структура и лексикографические параметры во
многом следуют в русле предыдущих трех «десятилетников», охватывающих неологизмы
60-х, 70-х и 80-х гг. прошлого века. Уже в самом названии последнего «десятилетника»
подчеркивается такая преемственность.
К языковым единицам, которые вошли в русский язык в 1990-е гг. и закрепились в нем,
авторами словаря отнесено 10 категорий лексики, 3 из которых включают в себя
фразеологизмы в широком смысле слова: 1) «забытые» слова и словосочетания, вернувшиеся
в употребление в результате актуализации (биржа труда, звонильная); 2) неразложимые
фразеологические сочетания слов (богатый Буратино (буратино), ножки Буша, с
тараканами в голове) и 3) устойчивые в употреблении сочетания слов свободного,
135
нефразеологического характера (ближнее зарубежье, гуманитарная помощь, тайский
массаж).
Не все такие устойчивые словосочетания, как видим, вошли в ядро фразеологии –
идиоматику, но уже сам неологический их статус подталкивает некоторые из них к
идиоматизации. Так, шутливое словосочетание ножки Буша в принципе является
обозначением довольно прозаической реалии – дешевых куриных окорочков, поступавших в
Россию преимущественно из США [Shlyakhov, Adler 1995; Максимов 2002; НСЗ-90]. Но
уменьшительная форма компонента-соматизма в сочетании с фамилией бывшего
американского президента обладает такой экспрессивной силой, что это выражение уже
можно назвать если не идиомой, то полуидиомой или полуперифразой. Об этом
свидетельствуют контексты его употребления в СМИ. Вот несколько из них:
Интервенция импортных «ножек Буша» сильно подорвала российский птицепром в
целом и бройлерные производства в частности: «ножки» вытеснили с российского
продовольственного рынка отечественное диетическое мясо птицы <...>. Ежегодно
фабрика могла бы «выдавать» более 13 тысяч тонн мяса бройлеров. Могла бы... Но даже
на проектную мощность вывести птицефабрику не удалось: все карты перепутали
аграрные «реформы», топот «ножек Буша» и беспомощность прежнего руководства.
[Т. Марьина Цыпленок в... «сейфе» (СПбВ 20.03.97)]. – Надо прежде всего исключить из
рациона мясные продукты и, в первую очередь, «ножки Буша», аккумулирующие в себе
массу аллергенов, – считает врач. СПбВ 30.07.96.
Как видим, негативная стилистика, заложенная уже в самом каламбурном образе этого
словосочетания, подкрепляется и путем такого контекстуального обыгрывания внутренней
формы, как топот «ножек Буша», что оправдывает его фразеологический статус. Вот почему
выделение составителями словаря НСЗ-90 устойчивых словосочетаний и в случаях, когда
описываемые ими слова (особенно публицистически маркированные) становятся
стержневыми и порождают обильные фразеологические ряды, кажется вполне оправданным.
Ждут своего включения в толковые и фразеологические словари, например,
перифрастические обороты с компонентом леди: железная леди „о решительной, волевой,
уверенной в себе женщине-политике или руководителе‟; Леди Ди „о Диане, принцессе
Уэльской (1961–1997)‟; Леди Плюс (Леди-Плюс) ‗о полной женщине (52-62 размера)‟; Леди
Ю „об украинском политическом и государственном деятеле Юлии Тимошенко‟; Первая
леди: 1. чего. „О жене высшего лица СССР, РФ, государств, из числа бывших республик
СССР, главы региона, города‟; 2. [какая, чего]. „О женщине, относящейся к
привилегированным слоям общества или связанной с какой-л. сферой деятельности,
работающей где-л. и достигшей высоких результатов, широкой известности‟. Понятно, что
их популярность, частотность и необходимость включения в такие словари будет зависеть от
экстралингвистических обстоятельств. Не все приведенные сочетания с компонентом леди,
наверное, войдут в идиоматическое ядро нашего языка. Но, прослеживая судьбу некоторых
из них, легко выделить такие, которые во фразеологическом корпусе русского языка уже
нашли свое стабильное место. К ним относятся обороты железная леди и первая леди,
активно употребляющиеся в СМИ и отраженные в Национальном корпусе русского языка.
Первое выражение употреблялось с 1989 г. обычно о M. Тэтчер – премьер-министре
Великобритании, но постепенно круг известных женщин, которые удостаивались такой
характеристики, расширялся: Думаю, что для миллионов советских людей последнее
открытие Маргарет Тэтчер, которую в прессе называют «железной леди», состоялось во
время знаменитой телевизионной встречи британского премьера с двумя известными
советскими журналистами-международниками. КПр 07.06.90. На чемпионате континента
блестящие результаты показали и мой старый товарищ итальянец Бальдини, и голландка
ван Дийк, которая три дня подряд стартовала на всех трех дистанциях и дважды стала
чемпионкой. Нован Дийк – исключение, железная леди. Изв 07.31.02.
Ср. контексты к выражению первая леди, являющемуся калькой с англ. first lady:
136
Сегодня мы публикуем интервью с Фридой Браун (Австралия), которую без особого
преувеличения можно назвать «первой леди планеты», – она с 1975 года возглавляет
крупнейшую общественную организацию женщин – Международную демократическую
федерацию женщин. КПр 24.08.79. Глава государства и первая леди приветствовали
гостей на ступеньках северного портала [Белого дома]. СР 17.2.83. Быть первой леди –
дело многотрудное и весьма непростое, тем более в такой стране, как США. Постоянно в
центре внимания. ЛГ, 1989, 10. «На дипломатическом паркете» Людмила Путина – «первая
леди» России – чувствует себя еще не совсем уверенно: она старается не «высовываться»,
отказывается давать интервью. Шанс, окт., 2000.
Массив устойчивых словосочетаний, нашедших место в неологическом трехтомнике
1990-х годов, столь же впечатляет, как и объем его словника. Во многом такое богатство
обусловлено диалектическим единством «нового и старого», вытекающим из уже
цитированной «фиксационной» дефиниции неологизма, выработанной Н. З. Котеловой. Вот
почему в корпус фразеологических неологизмов вошло и немало оборотов, первая фиксация
которых в специализированных источниках может быть документирована.
Некоторая квота таких оборотов употреблялась в публицистических текстах с разной
частотностью уже в 1980-е гг., например: запасной аэродром, встреча без галстуков, разбор
(разборка) полѐтов, раскачивание [государственной] лодки (корабля), ехать с ярмарки и
т. п. Они имеют различные источники – от античной «корабельной» метафорики, прошедшей
через американоязычный дискурс и речи М. С. Горбачева (в одной лодке) до русских
диалектизмов (ехать с ярмарки).
Так, знаковое для эпохи перестройки выражение в одной лодке („о взаимной
зависимости судеб людей; об общности судьбы людей на Земле, несмотря на их
политические, национальные и т. п. особенности‟), которое в 1980-е гг. было лансировано в
наш публицистический дискурс именно «архитектором перестройки», имеет длительную
предысторию в европейских языках [Mokienko 1997]. Первые его фиксации были отмечены
неологическим выпуском 1986 г.: Наше новое мышление, как мы его понимаем, базируется
на реальностях нынешнего века. Мы все оказались в одной лодке. Ядерно-космический век
поставил перед всеми нами, а не только перед какими-то отдельными странами, проблему
сохранения, выживания человечества. Интервью М. С. Горбачева индийским журналистам
(Изв 24.11).
Включение же диалектизма ехать с ярмарки в НСЗ-90 оправдано его новой семантикой
– „утрачивать свою былую активность, дееспособность, приходить в упадок‟: Подсказал
кабмину, что пора заняться банками РТ, «ряд из которых уже едет с ярмарки», и
подстраховать их вкладчиков. Вечерняя Казань 7.12.95. Работа на уровне зампредседателя
ГД, а затем лидера пусть и «едущей с ярмарки» партии, закалили В. Р. [В. А. Рыжков]. Не
случайно он вошел в список 100 лучших молодых политиков мира. РегИ 17.11.99.
Составители трехтомника верно указывают, что это «продвинутое» переносное
значение образовано от более старого ехать с ярмарки „достигать зрелого возраста, стареть
(о человеке)‟. И действительно, в разговорной речи и диалектах это выражение давно
известно. В псковских говорах, например, иронически окрашенный оборот ехать с ярмарки
означает „быть в преклонном возрасте‟ [СПП 2001], а разговорное шутливо-ироническое
пора с ярмарки кому характеризует престарелого, близкого к смерти человека [Зимин,
Спирин 1996]. Предлагая ему более детализированное толкование: „Достигать зрелого
возраста, апогея своей жизни, а потом доживать свои дни и готовиться к смерти. Возраст
ярмарки – «за 40-50 лет»‟, – мы иллюстрируем его многочисленными контекстами,
подчеркивающими его частотность [Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000, 2008]: Пришла
пора, как в шутку говорят, уезжать с ярмарки. С. Бабаевский. Белый свет. – Война, война,
мать ее так... Чего она только ни придумывает, чтобы человека жизни решить, уму не
поддается! Другой, как я, уже с ярмарки едет, и все ничего, никакой леший его не берет... А
тут человек в полном расцвете своих сил – и на тебе – осколком за пять верст достали!
К. Симонов. Последнее лето. – Есть выражение, что до сорока человек едет на ярмарку, а
137
после сорока – возвращается с ярмарки... – Я везу с ярмарки большую семью, в которой я
сам шестнадцатый. Правда, в это число я включаю и троих зятьѐв и невестку, а вообще у
нас с женой четверо детей и шестеро внуков. Так что я на ярмарке времени даром не
терял. Беседа журналиста Н. Новиковой с писателем В. Дудинцевым (УГ 15.05.87).
Некоторые писатели и публицисты полагают, что это выражение имеет конкретного
автора, а именно – Шолом-Алейхема: Шолом-Алейхему принадлежит горестно-улыбчивое
определение двух половин человеческой жизни: до определѐнного возраста человек как бы
едет «на ярмарку», а потом – «с ярмарки». В новой книге стихов известный еврейский поэт
Давид Бромберг неоднократно признается, что «едет с ярмарки...». Ст. Золотцев, Коротко о
книгах: Давид Бромберг. Нити годов. Стихи (НМ, 1983, 10).
Как показывает специальное исследование, наше выражение можно действительно
отнести к крылатым, но автором его не был Шолом-Алейхем. Оно, как мы видели по его
фиксации в русских диалектах, было народным, а его литературное употребление связано,
вероятно, с песней на стихи И. С. Никитина «Ухарь-купец» (1858):
Ехал из ярмарки ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец.
Стал он на двор лошадей покормить,
Вздумал деревню гульбой удивить.
В красной рубашке, кудряв и румян,
Вышел на улицу весел и пьян.
Собрал он девок-красавиц в кружок,
Выхватил с звонкой казной кошелѐк.
Потчует старых и малых вином:
―Пей-пропивай! Поживѐм – наживѐм!‖
Первая строка, как свидетельствуют фольклорные записи ХХ в., трансформировалась и
звучит в народном исполнении так: «Ехал на ярмарку ухарь-купец», а последняя строфа
содержит строку: «С ярмарки ехал ухарь-купец…».
При этом популярность обороты ехать на ярмарку и с ярмарки ехать могли
приобрести уже благодаря Шолому-Алейхему, употребившему их в своем
автобиографическом романе «С ярмарки» (1913–1916). Талантливый еврейский писатель,
живший в России, мог опираться на известные представления русского крестьянина,
рабочего, мещанина о ярмарке как празднике жизни. Поездка на ярмарку за покупками была
одновременно и «выходом в свет», возможностью повеселиться, разгуляться, показать свою
силушку, посмотреть народные представления. Здесь же, на ярмарке, можно было спустить
все деньги и возвратиться домой ни с чем. [Шулежкова 2001: 159–170; Шулежкова 2002:
210].
Как видим, во всех приводимых контекстах выражение ехать с ярмарки употребляется
в подчеркнуто традиционном «возрастном» значении. Оно эксплицируется даже в одном из
его вариантов – возраст ярмарки „возраст человека после 40–50 лет, когда основное в жизни
уже должно быть сделано, главное осталось позади‟ [Шулежкова 2003: 52]: А нам с вами за
50 давно – возраст ярмарки! Ю. Бондарев, Слава [из цикла «Мгновения»]. – Да, жизнь
перерабатывает человека годам к тридцати восьми. Андрей Миронов мне об этом говорил:
надо время от времени лечь. Такая какая-то усталость… То ли от бесперспективности. И
потом, это такой возраст, когда уже – с ярмарки. Всѐ уже понятно: что и как будет. Ог,
1993, 17.
Пример фразеологизма ехать с ярмарки показывает, сколь неоднозначна и
неразличима грань между полюсами «новое» и «старое» во фразеологии и какую
филигранную работу приходится проделывать составителям словарей неологики, чтобы
отслаивать один слой семантического палимпсеста за другим для диагностики
неологического статуса некоторых выражений.
Особо велико число неологических фразеологизмов с ретроспективной
«дальнобойностью», естественно, – среди оборотов жаргонного происхождения, например: с
138
[большого] бодуна; проверять / проверить на вшивость; раскатывать / раскатать губу на
что; ловить / словить (поймать) кайф; заворачивать / завернуть, , откидывать / откинуть,
склеивать / склеить) ласты; быть / находиться в [полном] отрубе [каком, от чего] (в
отрубях) [каких, от чего]; гамбургский петух; ставить / поставить на уши кого и под.
Типичен в этом отношении, например, последний фразеологизм – ставить /
поставить на уши кого. В неологическом трехтомнике 1990-х гг. он зафиксирован в двух
значениях, проиллюстрированных убедительными контекстами: 1. „Заставлять активно
действовать, работать‟ (Разве нельзя, например, сделать календарь более гибким, чтобы не
ставить на «уши» главного тренера национальной сборной? РГ 2.6.93. Добросовестный
дежурный РОВД поставил на уши всю тульскую милицию, прочѐсывали город и особенно
улицу, где жила девочка. КПр 4.10.95) и 2. „Устраивать переполох, поднимать тревогу,
проводить кого-л. в состояние крайнего возбуждения‟ (Зачем президенту и его команде
понадобилось в четверг ставить страну, что называется, на уши? Ведь ничего
сверхъестественного <…> не произошло. Пр 12.12.92. Уже через полчаса веселая компания,
как утверждает журнал «Нашнл Инкуайрер», поставила на уши мирно спящий отель. КПр
9.12.98).
Ретроспективная «дальнобойность» этого оборота подтверждается как более ранними
его употреблениями в таких значениях, так и более широкой многозначностью в жаргонном
и разговорном обиходе: разг. „тревожить, волновать кого-л.; производить сильное
впечатление, вызывать сильные эмоции у кого-л.‟ [Вахитов 2003; БСРЖ; Химик 2004]; жарг.
угол., мол. „бить, избивать кого-л.; устраивать нагоняй кому-л.‟ [ТСУЖ; Максимов; Балдаев];
жарг. угол. „грабить, обворовывать кого-л.‟ [Балдаев 1997; ТСУЖ; СТРА]; „грабить кого-л. в
безлюдном месте‟ [ТСУЖ].
Анализ относительно «старого» во фразеологическом корпусе неологического
трехтомника доказывает оправданность включения и описания таких словосочетаний.
Оправданность не только из-за строгого соблюдения составителями сформулированного ими
определения неологизмов и принципов их описания, но и инициированная самой динамикой
оборотов, ранее бытовавших в речи, но лансированных в русский язык и
активизировавшихся в нем именно в «лихие девяностые». Эту динамику сумели тонко
уловить и детально описать составители новейшей энциклопедии русской неологики.
Словари
Балдаев 1997 – Д. С. Балдаев. Словарь блатного воровского жаргона. Феня. В 2 т. М.,
1997.
Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000 – В. П. Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова.
Большой словарь крылатых слов русского языка. М.: Русские словари, Астрель, АСТ, 2000.
Берков, Мокиенко, Шулежкова 2008-2009 – В. П. Берков, В. М. Мокиенко,
С. Г. Шулежкова. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка. В 2-х тт. /
Под ред. С. Г. Шулежковой. 2-е изд., испр. и доп. Магнитогорск: МаГУ; Greifswald: Ernst-
Moritz-Arndt-Universität, 2008–2009.
БСРЖ – В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. Большой словарь русского жаргона. СПб.:
Норинт, 2000.
НРЛ-79 – Новое в русской лексике: Словарные материалы-79 / Под ред.
Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1982.
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века. В 3-х тт. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и
Е. А. Левашова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009-2014.
РЯЭ – Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997.
СПП 2001 – Словарь псковских пословиц и поговорок / сост. В. М. Мокиенко,
Т. Г. Никитина. Научный редактор Л. А. Ивашко. СПб.: Норинт, 2001.
139
М. А. Грачев. Словарь тысячелетнего русского арго. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.
ТСУЖ – Толковый словарь уголовных жаргонов / Под общей ред. Ю. П. Дубягина и
А. Г. Бронникова. М.: Интер-Омнис, Ромос, 1991.
Химик 2004 – В. В. Химик. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи.
СПб.: Норинт, 2004.
Литература
Буцева 2012 – Т. Н. Буцева. «Новые слова и значения. Словарь-справочник по
материалам прессы и литературы 90-х годов ХХ века»: из опыта составления и
редактирования // Acta lingvistica petropolitana. Труды Института лингвистических
исследований РАН /отв. ред. Н. Н. Казанский. Т. VIII. Ч. 3. СПб.: Наука, 2012. С. 242-262.
Вахитов 2003 – С. В. Вахитов Словарь уфимского сленга. 2-е изд., испр. и доп. Уфа:
Изд-во БГПУ, 2003.
Зимин, Спирин 1996 – В. И. Зимин, А. С. Спирин. Пословицы и поговорки русского
народа. М.: Сюита, 1996.
Котелова 1978 – Н. З. Котелова. Первый опыт лексикографического описания русских
неологизмов // Новые слова и словари новых слов. Л.: Наука, 1978.
Максимов – Б. Б. Максимов. Фильтруй базар. Словарь молодежного жаргона города
Магнитогорска. Магнитогорск: МаГУ, 2002.
Шулежкова 2001 – С. Г. Шулежкова. Рассказы Сергеевны, записанные с ее слов в 1960-
1970-е годы. Магнитогорск: МаГУ, 2001.
Шулежкова 2002 – С. Г. Шулежкова. Крылатые выражения русского языка, их
источники и развитие. М.: Азбуковник, 2002.
Шулежкова 2003 – С. Г. Шулежкова. Словарь крылатых выражений из области
искусства. М.: Азбуковник, Русские словари, 2003.
Mokienko 1997 – V. Mokienko. Die russische Geschichte des Amerikanismus, “Wir sitzen
alle in einem Boot“ // Proverbium 1997 (14). S. 231-245.
Shlyakhov, Adler 1995 – V. Shlyakhov, E. Adler. Dictionary of Russian Slang and Colloquial
Expressions. Approximately 4500 words and their popular meanings that you won´t find in standard
Russian-English dictionaries. New York: Barron´s, 1995.
140
Р. Ю. Намитокова, И. А. Нефляшева
НЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС УЧЕНОГО:
Н. И. ФЕЛЬДМАН ОБ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СЛОВАХ И ЛЕКСИКОГРАФИИ
К середине ХХ в. в лингвистической науке в основном были созданы все необходимые
условия для становления неологии – науки о новом в языке (точнее – о неологизации языка и
об инновациях разных типов в языке и речи) и одновременно возникшей в недрах неологии –
неографии (о типах неологических словарей, о теории и практике их составления).
Становлению этих направлений в русистике способствовали весь предшествующий ход
развития российского языкознания и вызовы времени («неологический бум», связанный с
техническим прогрессом), с одной стороны, и, с другой стороны, – целенаправленная работа
с 1965 г. в словарном секторе Ленинградского отделения Института языкознания Академии
наук СССР по собиранию и лексикографическому описанию новых слов, значений и
выражений русского языка, плоды трудов которой в лице первопроходцев и их
продолжателей мы пожинаем сегодня.
Среди многих ученых, внесших свою лепту в актуализацию неологической
проблематики и становление неографии, следует отдать дань признательности и уважения
Н. И. Фельдман – автору статьи, опубликованной в журнале «Вопросы языкознания» в
1957 г. (№ 4) в рубрике «Сообщения и заметки», обычно упоминаемому при использовании
термина окказиональность в неологических исследованиях (то в мужском, то в женском
роде), что свидетельствует о недостаточности сведений об этом ученом и о значимости
данной статьи в целом.
Так, в одной из вышедших в 2014 г. серьезных статей авторы, касаясь «диктата» языка
и «новых слов», ему противостоящих в определенном смысле, справедливо отмечают, что на
окказиональность впервые «как отклонение от узуальных значений слов в индивидуальном
употреблении обратил внимание Г. Пауль в 1880 г., <…> «впоследствии вопрос об
окказиональности в науке о языке практически не поднимался до 1957 г., когда была
опубликована статья Н. И. Фельдмана «Окказиональные слова и лексикография». В ней
Н. И. Фельдман писал об окказиональных лексических единицах, перенося акцент с
содержательной окказиональности на окказиональность формальную. К разряду
окказиональных Н. И. Фельдман относит слова, которые представляют собой результат
необычного сочетания словообразовательных элементов или слова, созданные по
необычным словообразовательным моделям» [Нестерова 2014: 58-59; курсив наш].
На самом деле автором статьи является Наталья Исаевна Фельдман (1903-1975). До
недавних пор было не совсем ясно, при каком стечении обстоятельств Н. И. Фельдман-
Конрад, супруга известного востоковеда акад. Николая Иосифовича Конрада (1891-1970),
основателя школы российской японистики, сама известный ученый-японист, словари и
грамматики которой по японскому и другим восточным языкам и сегодня пользуются
большим спросом, писатель и переводчик, нашла время конструктивно высказаться по столь
необычному казалось бы для ее спецификации вопросу, продемонстрировав, как мы сейчас
бы сказали, высокий неологический дискурс ученого в этой публикации по русскому языку
(в определенной мере поддержавший и наш интерес к словотворчеству шестидесятников – в
частности Евг. Евтушенко в начале 60-х гг. прошлого века).
По сути, в 1957 г. в данной публикации в академическом журнале, впервые целиком
посвященной определению статуса новых слов, постоянно возникающих в живом языке,
были поставлены вопросы о необходимости разграничения разных типов новых слов и
целесообразности издания специальных словарей, их отражающих, почти на 10 лет раньше,
чем началась непосредственная работа по этой проблематике, ставшая базой формирования
неографии – нового научного направления в отечественной лексикографии.
Вопрос об объеме словаря и включении в словари новых слов, появляющихся и
функционирующих в живом языке, всегда волновал лексикографов. Широко известна мысль
141
Л. В. Щербы, высказанная им в 1927 г.: «Совершенно очевидно, что каждый культурный
народ должен следить за изменениями в словаре своего языка. В своей основной и никогда
не прекращающейся части работа эта должна состоять в просмотре всей вновь выходящей
литературы и в выборе из нее всех новых слов и новых словоупотреблений» [Щерба 1974:
75] (курсив наш).
Отставание в регистрации новых слов при издании толковых словарей, с которыми
сталкивались лексикографы (см. [Бабкин 1955; Матвеев 1957] и др.), поиски критериев
разграничения типов новых слов, необходимость изучения с разных сторон проявляющихся
в языке и речи инновационных процессов требовали принципиально новых подходов к
комплексному решению этих задач.
I. Н. И. Фельдман начинает с того, что понятия «архаизм» и «неологизм» относительны
и вовсе не связаны с истинным возрастом слова, ибо «в словарном составе в каждый
определенный момент слова различаются не по реальному возрасту, а по их устарелости или
ощутимой новизне» [Фельдман 1957: 64]
«Ощутимая новизна» свойственна немногим словам («трудно найти объективные
свидетельства о том периоде существования слова, когда современники слышали, как оно
хрустело новизной, точно несмятый бумажный рубль» – курсив наш), явно входящим в
язык вместе с новыми реалиями, их называющими, и многим словам-самоделкам,
«сохраняющим свою новизну независимо от момента» в силу нестандартности образования
и одноразового употребления.
Приведя авторские новообразования из текстов М. Е. Щедрина (со ссылкой на
А. И. Ефимова, 1953), В. В. Маяковского (со ссылкой на Г. Агасова, З. Паперного и других
исследователей его творчества тех лет), Н. И. Фельдман по существу называет некоторые
признаки (критерии) разграничения типов новых слов в следующем определении: «тесная
связь слов-самоделок с контекстом, из которого они вырастают, делает их уместными и
особенно выразительными на своем месте, однако вместе с тем, как правило, препятствует
им оторваться от контекста и обрести жизнь вне его. Вот это основное их свойство позволяет
назвать их, в отличие от неологизмов, т. е. новообразований, вошедших в язык,
окказиональными словами» [Фельдман 1957: 66].
Итак, Н. И. Фельдман, во-первых, новые слова называет новообразованиями, во-
вторых, считает неологизмами новообразования, вошедшие в язык, и, наконец, в-третьих,
предлагает новообразования, не вошедшие в язык, терминировать окказиональными словами.
Такое разграничение представляется нам вполне убедительным и нашедшим своих
сторонников. Таким образом, 1957 г. действительно можно считать годом появления или, по
крайней мере, активизации в русистике термина «окказиональное слово».
II. Н. И. Фельдман отмечает, что, «хотя само наличие окказиональных слов замечено
уже давно, общепринятого наименования им пока не дано». Так, А. И. Смирницкий и
Л. В. Щерба используют термин «потенциальные слова», который кажется Н. И. Фельдман
неудачным, т. к. «создает впечатление, что слова собственно нет, оно только возможно;
между тем окказиональные слова на своем месте существуют вполне реально, что было
показано на цитатах из Маяковского и Щедрина. Нам кажется, что термин «окказиональные»
точнее раскрывает их природу» [Фельдман 1957: 66-67].
III. О глубине ее высказываний и несиюминутности раздумий свидетельствуют
замечания о том, что окказиональное образование имеет широкое распространение в
немецком и японском языках, а также ее научная и литературная компетентность и
эрудиция, интуиция в собственных выборках примеров, «замеченных одним человеком за
два с небольшим года только в прозе делового характера при не слишком внимательном и не
сплошном чтении довольно ограниченного числа органов современной русской прессы»
[Фельдман 1957: 72] литературы и прессы последних лет (1954–1956 гг.) – в статьях,
рецензиях, корреспонденциях, фельетонах, отчетах, выступлениях.
Четыре слова из ее перечня (общесловие, общесловность, планотворец,
переконъюктурились, строчкогон, благополучизм, словоеды, трескословие, пышнословие,
142
доосмысливать, рассвобождение, верняки, малописание (2 повтора), бумаготворчество (4),
гладкопись (8), мелкотемье (2), многотемье, сладкопись, радиозаросли, бумаготворенье,
мероприятчик, космориторика, строчкозакидательство, избумаженные стены,
громобетонные сравнения, убивательные приборы, юбилеила, пустоглазный,
всевозрастные, единошрифтие, румбообразное, бостоноподобное, большеживотый,
батлероподобные, хулиганобоязнь, медленнопроходческая канцелярская машина и
словопроводы, бесконфлитчик, кока-колизм, вспышкопускательство и кинодельцы,
остроконфликтна, шапкозакидательство и мячезакидательство, забюрократизирована,
оскучнять (2), малокартинье и др.)), выделенные нами жирным шрифтом, компьютер
признал узуальными. Они отмечены в словаре А. Н. Тихонова: бумаготворчество (Б576,
Т125), гладкопись (Г267, П478), мелкотемье (М274, Т162), шапкозакидательство (Ш45,
К413). Возможность их узуализации предполагала и сама Н. И. Фельдман.
IV. Н. И. Фельдман пытается ответить и на закономерно возникавший перед читателем
вопрос: должны ли окказиональные слова входить в словари, – и посвящает его разрешению
остальные страницы своей статьи [Фельдман 1957: 67-73].
Ссылаясь на известную работу Л. В. Щербы о задачах словаря-тезауруса, «куда
включаются все слова, какие только кем-либо были употреблены, хотя бы это и имело место
всего один раз», и о задачах нормативного словаря, в котором «должны быть даны все слова,
имеющие безусловное хождение в данном языке» [Щерба 1974: 75], автор видит
единственный выход – в их собирании и изучении, сопровождая это таким «резюме»:
«Нельзя совать в словарь каждое новое слово, как Осип тащит в свое хозяйство каждую
веревочку» [Фельдман 1957: 72].
«Было бы хорошо, если бы соответствующий кабинет лексикографической секции
Института языкознания АН СССР, ведя систематический учет всех новообразований в
художественной литературе и деловой прозе основных органов прессы, выпускал бы
ежегодно словарик-бюллетень новых слов, независимо от степени их употребительности.
Будущее покажет, какие из них останутся в пределах индивидуального употребления, а
какие получат «безусловное хождение». Такие словарики могли бы использоваться в
дальнейшие годы при составлении Thesaurus'a, они послужили бы в будущем драгоценным
материалом для историков языка и, наконец, представили бы непосредственный живой
интерес не только лингвистический: ведь эти новообразования в какой-то мере
характеризуют свое время» [Фельдман 1957: 73]. Статья заканчивается словами:
«Нам думается, что словарь окказиональных слов русских писателей в разных
отношениях – для лексикологии, для истории языка, для стилистики и для
литературоведения – представил бы немалый интерес» [там же, 73]. И блестящие работы в
этой области – области авторской лексикографии, достигнутые самоотверженным трудом
филологов – тому подтверждение (это словари авторских новообразований Маяковского,
Хлебникова, Игоря-Северянина, Асеева, Блока, Евтушенко, Высоцкого и др.).
Таким образом, можно утверждать, что Н. И. Фельдман-Кондрад была в курсе проблем
отечественной лексикографии. Она остро чувствовала и в определенной мере предугадала
постановку и решение тех задач, которые стали реализовываться в 1960-1970-х гг. Группой
словарей новых слов ИЛИ РАН, руководимой с 1965 по 1990 гг. Н. З. Котеловой, что
привело к развитию в отечественной лингвистике неологии и неографии как научного
направления. Представляется, что будущее отечественной академической неографии в
надежных руках профессионалов и связано оно, как свидетельствуют сами неографы, с
переходом на новые методы работы, использованием интернет-ресурсов и задействованием
портала Неология.Ру [Буцева 2015].
143
Литература
Авторская лексикография и история слов: К 50-летию выхода в свет «Словаря языка
Пушкина» / Отв. ред. Л. Л. Шестакова. М.: Азбуковник. 2013.
Бабкин 1955 – А. М. Бабкин. Лексикографические заметки // Вопросы языкознания.
1955. № 2. С. 90-97.
Буцева 2015 – Т. Н. Буцева. Сегодня и завтра академической неографии // Неология и
неография: современное состояние и перспективы. К 50-летию научного направления.
Тезисы Международной научной конференции. СПб.:Нестор-История, 2015. С. 13-15.
Матвеев 1957 – И. И. Матвеев. Об отставании в регистрации новых слов в толковых
словарях русского языка // Лексикографический сборник. Ин-т языкознания АН СССР. Вып.
2. 1957.
Котелова 1978 – Н. З. Котелова. Первый опыт лексикографического описания русских
неологизмов // Новые слова и словари новых слов. М.: Наука, 1978. С. 5-26.
Намитокова, Нефляшева 2009 – Р. Ю. Намитокова, И. А. Нефляшева. Слова поэта.
Опыт словаря авторских новообразований Евгения Евтушенко. Майкоп, 2009.
Намитокова 2015 – Р. Ю. Намитокова. Авторские новообразования: структура и
функционирование. Майкоп, 2015.
Нестерова, Позднеева 2014 – Н. М. Нестерова, Е. В. Позднеева. «Диктат» языка и
«новое слово» // Вестник Челябинского гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. Вып. 92,
№ 23 (352). Челябинск, 2014. С. 55-63.
Попова, Рацибурская, Гугунава 2005 – Т. В. Попова, Л. В. Рацибурская, Д. В. Гугунава.
Неология и неография современного русского языка. Учебное пособие М.: Флинта-Наука,
2005.
Сорокина 1995 – М. Ю. Сорокина. Николай Конрад: жизнь между Западом и Востоком
// Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995.
С. 128-143.
Фельдман 1957 – Н. И. Фельдман. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы
языкознания. М., 1957. № 4. С. 64-73.
Щерба 1974 – Л. В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ Н. И. ФЕЛЬДМАН: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Нам мало известно о жизни и деятельности этого ученого. Осенью 2015 г. удалось
найти в каталоге библиотеки ИЛИ РАН список некоторых ее публикаций и дополнить его
данными из Интернета. Думается, он неполный (см. ниже), но дает некоторое объективное
представление о ней как о творческой личности, ученом-лингвисте широкого профиля.
Безусловно, необходимо знакомство с личным архивом (хранится в Москве в РГАЛИ) и
творческим наследием Н. И. Фельдман-Конрад. Там далеко не одна японистика. Существует
30 филигранных (как свидетельствуют знатоки) переводов с английского и японского языков
(творчество Акутагавы, А. Кристи и др.). По многим из них поставлены фильмы. Все это
позволяет признать в ней высокообразованную и неординарную языковую личность, хорошо
известную в научном мире.
Наталья Исаевна Фельдман (1903, Новомосковск – 1975, Москва) в 1924 г. окончила
факультет общественных наук Ленинградского университета и годом позже – в 1925 г. –
Петроградский институт живых восточных языков, поступив туда на японский разряд в
1922 г. Училась она у блестящего профессора Николая Иосифовича Конрада (1891–1970),
женой которого вскоре стала. С 1935 г. – член СП СССР. Еще в первой половине 1930-х гг.
выступила как талантливейший переводчик японской поэзии и прозы, опубликовав
знаменитый лирический дневник великого поэта XVII в. Мацуо Басѐ «По тропинкам севера».
В 1938 г. Н. И. Конрад, заведовавший японским кабинетом Института востоковедения
АН СССР, был арестован как японский шпион. Ведшие дело Н. И. Конрада систематически
144
избивали его, держали по нескольку часов в «стойке». Конрад дважды отказывался от
данных под пытками показаний. 10 ноября 1939 г. ОСО при НКВД СССР он был приговорен
к 5 годам. В результате хлопот его жены, обратившейся к президенту Академии наук
В. Л. Комарову, Конрад был переведен в закрытое учреждение для заключенных. В начале
войны хлопотать за своего бывшего учителя стал и начальник Военного факультета
Московского института востоковедения, обратившийся в еще более высокие инстанции
(стране угрожала война с Японией и были востребованы японисты). 6 сентября 1941 г.
Н. И. Конрад был освобожден и вернулся к научной деятельности.
Н. И. Конрад прожил большую жизнь в науке: доктор филологических наук,
профессор, член-корреспондент, а затем и действительный член АН СССР, он был
основателем и главой советской школы японистики, автором многочисленных книг и статей,
не обойденных вниманием советской и зарубежной прессы, наконец, лауреатом
Государственной премии СССР. В 1969 г. первым из советских ученых был удостоен
японского ордена Восходящего Солнца II степени. Его супруга, Н. И. Фельдман, была и его
соавтором, и единомышленником, и самостоятельным ученым.
Еще в 1944 г. Н. И. Фельдман-Конрад защитила диссертацию «Послелоги в
современном японском языке» и получила звание кандидата филологических наук. В 1972 г.
успешно защитила и докторскую диссертацию (название ее пока обнаружить не удалось).
Очевидно, навыки лексикографической работы, составление словарей и знание
восточных языков и культуры позволяли ей свободно ориентироваться в теории языка и
лексикографии. Н. И. Фельдман активно участвовала в жизни столичной гуманитарной
интеллигенции, в обсуждении актуальных проблем, особенно по двуязычной лексикографии.
Так, первый выпуск «Лексикографического сборника», начавшего выходить в свет с 1957 г.,
содержал статьи ученых из Москвы (О. С. Ахманова, И. С. Ильинская, Т. С. Коготкова,
К. Е. Майтинская, Н. И. Фельдман), из Ленинграда (А. К. Боровков, Л. С. Ковтун,
Н. З. Котелова, Ф. П. Сороколетов, Ф. П. Филин) и Тбилиси (А. С. Чикобава), отразившие
многообразие проблем и наработок в отечественной лексикографии. Неслучайно здесь
встретились статьи Н. И. Фельдман («Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных
словарях») и Н. З. Котеловой («Указания на синтаксические связи слов в толковом словаре
как средство разграничения смысловых различий»).
Библиография работ Н. И. Фельдман1
1. Об именительном самостоятельном падеже? в современном японском языке //
Труды Военного института иностранных языков. 1945. № 1. С. 47–82.
2. О паратаксисе целого и части в японском языке // Известия АН СССР. Отд. лит. и яз.
1949. Т. 8. № 2. С. 137–152.
3. О специфике небольших двуязычных словарей // Вопросы языкознания. 1952. № 2.
С. 62–84.
4. О реальном и фиктивном склонении предложений в современном японском языке //
Ученые записки Института востоковедения Академии наук СССР. Т. 4. 1952. С. 230–277.
5. Рец. на книгу Федоров А. В. Введение в теорию перевода. М.: Изд-во литературы на
иностранных языках, 1953 // Вопросы языкознания. М., 1954. № 2. С. 117–127.
6. Отыменные послелоги в современном японском языке // Вопросы грамматического
строя / Акад. Наук СССР, Ин-т языкознания; [редкол.: В. В. Виноградов, Н. А. Баскаков,
Н. С. Поспелов]. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. С. 250–298.
1 Составлена по каталогу библиотеки ИЛИ РАН (пп. 1-15) и интернет-источникам (пп. 16-27).
145
7. Японско-русский учебный словарь иероглифов. Около 4 100 иероглифов / Сост.
канд. филол. н. Н. И. Фельдман. С прилож. статьи «Иероглифы в современной японской
письменности». М.: ГИС, 1956; 2-е изд. 1977 г. – 5 000 иероглифов.
8. О работе Государственного исследовательского института родного языка в Токио //
Вопросы языкознания. № 3. 1956. С. 152–156.
9. Японский «Словарь отечественного языкознания» // Вопросы языкознания. № 4.
1956. С. 122 – 126.
10. Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания. №
4. 1957. С. 64-73.
11. Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях //
Лексикографический сборник. Вып. 1. 1957. С. 9 – 35.
12. О границах перевода в иноязычно-русских словарях // Лексикографический
сборник. Институт языкознания АН СССР. Вып. 2. 1957. С. 81–109.
13. Отглагольные послелоги в современном японском языке // Японский
лингвистический сборник. М., 1959. С. 75–86.
14. Японский язык. М.: Изд. вост. лит., 1960.
15. Об одном японском префиксе // Историко-филологические исследования. Сборник
статей к семидесятипятилетию академика Н. И. Конрада. М.: Наука, ГРВЛ, 1967. С. 192–196.
16. Послелоги в современном японском языке / Дисс. канд. филол. н. (1944)
17. Послелоги-аффиксы в современном японском языке // Труды Московского
института востоковедения. Вып. 3. 1946. С. 79–83.
18. В соавторстве с М. Киэда. Грамматика японского языка. Т. 1 М.: Изд-во
иностранной литературы, 1958.
19. В соавторстве с М. Киэда, Б. П. Лавреньевым. Грамматика японского языка. М.:
Изд-во иностранной литературы, 1959.
20. Из истории японского пролетарского литературного движения (Документация) //
Японская литература. Исследования и материалы / Отв. ред. А. Е. Глускина. М.: Изд-во
восточной литературы, 1959.
21. Из истории японского пролетарского литературного движения (Документы) //
Китай. Япония. История и филология. К семидесятилетию академика Николая Иосифовича
Конрада / Ф. С. Быков и др. (ред.). М.: Изд-во восточной литературы, 1961.
22. Японский календарь // Народы Азии и Африки. № 4. 1970.
23. Японские праздники // Советская этнография. № 1.1972.
24. Листок японского календаря // Историко-филологические исследования. Сборник
статей памяти академика Н. И. Конрада. М.: Наука, ГРВЛ, 1974. С. 306-309.
25. О склонении в японском языке // Японское языкознание. М., 1979. С. 81–82.
26. В соавторстве с М. С. Цын. Учебник научно-технического перевода. Японский
язык. М.: Воениздат, 1979; позже под названием «Самоучитель японского языка», книга
была дополнена кратким очерком грамматики японского языка (О. Н. Кун).
27. Вступительная статья к дневнику Мацуо Басѐ «По тропинкам севера» // Мацуо Басѐ.
Великое в малом. СПб.: Кристалл, 2000.
146
И. А. Нефляшева
ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВО – КРЕАТИВ ИЛИ СИМУЛЯКР?
(размышления о природе окказионализма в постмодернистской парадигме)
Сохраняет свою актуальность сложившийся в русской неологии взгляд на специфику
авторских новообразований / окказиональных слов как новых лексических единиц,
противопоставленных неологизмам по следующим девяти признакам: 1) принадлежность к
речи; 2) творимость (невоспроизводимость); 3) словообразовательная производность; 4)
ненормативность; 5) функциональная одноразовость; 6) экспрессивность; 7) номинативная
факультативность; 8) синхронно-диахронная диффузность; 9) индивидуальная
принадлежность [Лыков 2003: 16]. В то же время отдельные наблюдения над спецификой
новых слов современного медийного дискурса (прецедентность, ирония, креолизованность,
нарушение стандарта, семантическая факультативность и т. п.) складываются в целостную
картину при рассмотрении их в парадигме постмодернизма с его концептуальными
суждениями о тексте как интертексте, роли автора в создании и интерпретации текста,
«власти языка» и креативности, авторитете письма, иронии как способе остранения.
Отметим, что идея вписать окказиональное слово в более широкий контекст поэтики
постмодернизма и его мировоззренческих проблем, задающих и одновременно
раскрывающих сущностные характеристики новообразований, высказана О. Г. Ревзиной
[Ревзина 1996] и поддержана Т. В. Поповой [Попова 2009: 173], Н. М. Нестеровой и
Е. В. Поздеевой [Нестерова 2014: 55-63].
Новые лексические единицы, в особенности созданные с нарушением стереотипа, т. е.
языковой нормы, являются отражением креативности. Поскольку для постмодерниста
очевидна власть языка над культурой и субъектом, «в акте творения той единицы, которая
принадлежит языку как его часть, <...> содержится великий акт свободы – высвобождение
человека из-под власти языка». [Ревзина 1996: 306].
Одним из основополагающих постулатов постмодернизма является
интертекстуальность (Ю. Кристева, Ж. Деррида, М. Бахтин и др.). «В постмодернизме свое
слово всегда переживается как чужое: текст для постмодерниста существует только в
отношении к другим текстам. Все они насквозь вторичны, так как состоят из подлинных или
мнимых цитат, аллюзий, реминисценций. Их лоскутное целое легко расползается на части,
из которых вдохновенно комбинируются те или иные интертексты» [Шапир 1995; –
выделено автором].
Медийный дискурс как часть постмодернистского коммуникативного пространства
отличает насыщенность интертекстуальными связями, или прецедентными феноменами: это
«хорошо известные всем представителям национально-лингво-культурного сообщества,
актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане феномены» [Красных
2002: 58].
Совершенно различные по уровню проникновения в когнитивный фонд социума и
наличию горизонтальных и вертикальных связей прецедентные феномены (от пословиц,
поговорок и классических литературных произведений до цитат из кино, популярных песен
и, наконец, интернет-мемов) становятся формально-содержательными матрицами
(моделями) для производства новых окказиональных слов.
Долг платежом оранжев [заголовок]. Уже очевидная победа на украинских выборах
«оранжевой коалиции» вылилась в немедленное обострение отношений с Россией в области
поставок газа (Коммерсант 03.10.07). Ср. долг платежом красен.
Что ПАСЕешь... [заголовок]. Сухой остаток происходящего таков: окончательно
поссориться с Россией в ПАСЕ не хотят (Итоги, 2009, № 41). Ср. что посеешь, то и
пожнешь.
Родился в RUбашке [заголовок]. 7 апреля в Экспоцентре на Красной Пресне отметили
день рождения Рунета – ему стукнуло 15 лет. Именно в этот день 1994 года на свет
147
появился домен RU (Итоги, 2009, № 16). Ср. ◊ В рубашке родился кто-л. О счастливом,
удачливом человеке. (БТС – Большой толковый словарь русского языка под ред.
С. А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998).
Вот уж, что называется, седина в чурковскую бороду, а бес в единороссово ребро!
(АиФ, 2009, № 44). Ср. седина в бороду, бес в ребро.
Победность не порок [заголовок]. Associated Press <…> посмертно реабилитировало
журналиста, который был уволен в 1945 году за то, что сообщил о победе над Германией
(Коммерсант – Власть, 2012, № 19). Ср. бедность не порок.
Союз расширимый [заголовок]. Встреча президентов России, Белоруссии и
Казахстана показала, что в 2015 году Евразийский экономический союз может
пополниться Киргизией и Украиной (Коммерсант-Власть, 2013, № 21). Ср. союз нерушимый
(республик свободных).
Рука Крымля [заголовок]. Вчера президент Владимир Путин встретился с послами
России в странах мира и развернул перед ними новую концепцию национальной безопасности
<…> Президент повторил свои известные тезисы, которые касаются причин
присоединения Крыма (Коммерсант 02.07.14). Ср. рука Кремля.
Другой характерной чертой постмодернистской парадигмы является ирония,
выступающая «в качестве стратегии и модели построения постмодернистской
(симулятивной) культуры» [Коновалова 2005].
Постмодернизм с его утверждением о том, что «ничего не существует вне текста»
(Ж. Деррида), отрицанием роли автора (а значит, и субъекта оценки) и переносом акцента на
читателя текста придает иронии иное, конституирующее значение: «с одной стороны, она
есть высмеивание и в этом отношении профанация некой реальности, основанная на
сомнении в ее истинности <...> с другой же, ирония есть как бы проба этой реальности на
прочность, оставляющая надежду на ее возможность или – при уверенности в обратном –
основанная на сожалении как таковом» [Можейко 2001].
Ирония дает человеку уникальную позицию свободы от реальности через признание ее
несовершенства. Согласно Алану Уайлду, ирония является специфической формой
коррекции по отношению ко всем проявлениям жизни [Ильин 2001: 211].
Окказиональные слова, созданные «на случай» и имеющие особую экспрессивность,
могут нести в себе этот «заряд» иронии. Непрямая, имплицитная оценка, «просвечивающая»
сквозь иронию, является средством преодоления постмодернистской чувствительности.
Специфика иронии окказиональных слов в том, что она создается из
противопоставления формального (деривационного) и содержательного (семантического),
например, в частотной модели наименований официальных организаций и должностей
дополнительные коннотации не затрагивают модель слоговой аббревиации как часть
словообразовательного механизма, ирония же возникает в результате сочетания типичных
компонентов рос..., гос..., ...ком... (комитет), ...пром (промышленность) и т. п. с основой,
семантика которой нехарактерна для такого типа наименований – как, например, сирота в
следующих окказионализмах:
Россиротпром [заголовок]. Дети у нас разбросаны по разным ведомствам: инвалиды
относятся к одному, малыши – к другому, школьники – к третьему. Так их и гоняют из угла
в угол. Все это надо менять в корне <...> Раздаются голоса о необходимости создания
министерства по делам детей <…> – Это тупиковый путь, все убивающий (Итоги, 2010, №
16).
Роскомсирота [заголовок]. Вот и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей, возглавляемый Еленой Мизулиной, одобрив инициативу по учреждению
министерства по делам сирот, окончательно запутал вопрос о том, кто, собственно,
является автором данного проекта. (Итоги, 2013, № 3).
Семантический конфликт в структуре нового слова создает эффект «обманутого
ожидания», ломает стереотип его восприятия и порождает иронию, поскольку «в глубинной
семантике иронии лежат перевернутые (алогичные, противоестественные, часто абсурдные)
148
причинно-следственные отношения» [Ермакова 2005: 41]. Отличительная черта
окказиональной иронии в том, что она теряет энергию «серьезного» (напомним, что ирония
это смешное под видом серьезного) уже на уровне слова, а не контекста или дискурса.
Хотя структурно анализируемые нами слова представляют собой аббревиатуры
слогового типа, с деятельностной точки зрения (по Е. А. Земской) способом их образования
является не аббревиация, а тмезис – один из окказиональных способов деривации,
заключающийся во вставке в узуальное слово сегмента, морфемы, слова или словосочетания
[Намитокова 1986: 138]: словонеохотливый < словоохотливый; еже-почти-минутно
< ежеминутно.
Кто же возглавит борьбу с коррупцией? Неужели Госкомвзятка? (Новая газета 19-
23.03.08).
Росморальнадзор [заголовок]. Протоиерей Всеволод Чаплин обнародовал планы
патриархии по созданию нового общественного органа, который будет следить за
соблюдением предпринимателями норм морали. При этом протоиерей считает, что
создать «Росморальнадзор» должно само предпринимательское сообщество. (Итоги, 2009,
№ 53).
Росбесхоз [заголовок]. В Подмосковье все готово к новым лесным пожарам. (Итоги,
2011, № 7).
Олимпстрах [заголовок]. В условиях, когда никто не знает, где дно кризиса и в каком
финансовом состоянии компании из него выйдут, мало кто рискует загадывать аж до 2014
года, да еще оперировать расчетами в десятки миллионов у.е. (Итоги, 2009, № 5); ср. с
наименованием корпорации по строительству олимпийских объектов ГК Олимпстрой.
Постмодернистская ирония, так же как и прецедентность, становится частью языковой
игры, самоценной, направленной на саму себя и создающей свободное пространство для
интерпретации текста / смысла самим читателем. Само создание нового слова является
языковой игрой.
В постмодернистской парадигме вся реальность объявляется знаковой системой. Язык,
рождая новые смыслы, формирует саму реальность. « <...> все стало мыслиться как текст,
дискурс, повествование: вся человеческая культура – как сумма текстов, или как культурный
текст, т. е. интертекст, сознание как текст, бессознательное как текст, «Я» как текст, – текст,
который можно прочитать по соответствующим правилам грамматики...» [Ильин 2001: 93].
В концепции постмодернизма «слово теряет свою непосредственную связь с
обозначаемым, с референтом <...> Тем самым знак обозначает не столько сам предмет,
сколько его отсутствие..., проблема референции, т. е. соотнесенности языка с внеязыковой
действительностью, подменяется вопросом взаимоотношений на чисто языковом уровне,
или, в терминах Ю. Кристевой, вместо структуралистского «значения» (signification),
фиксирующего отношения между означающим и означаемым, приходит «означивание»
(significance), выводимое из отношений одних означающих» [Ильин 2001: 262].
Ж. Бодрийяр пишет о «замене реального знаками реального» [Бодрийяр], появлении
гиперреального, синтетического продукта, основанного на симуляции. « <...> возникает
особый мир, мир моделей и симулякров, никак не соотносимых с реальностью, но
воспринимаемых гораздо реальнее, чем сама реальность, – этот мир, который основывается
лишь на самом себе, Бодрийяр и называет гиперреальностью» [Ильин 2001: 257].
Являются ли окказиональные слова креативами или симулякрами? Окказиональные
слова творятся ради привлечения внимания, острословия, в результате языковой игры,
самоценной, направленной на саму себя, когда слово создается ради самого факта его
создания. Номинативная составляющая окказиональных слов вторична; при их производстве
задачи номинации и коммуникативной целесообразности сведены к минимуму.
Симулятивная природа окказионального слова проявляется и в однократности его
употребления. Новое слово не создается, лексический состав языка не пополняется: слово
привязано к определенному контексту, отрезку речи и не существует вне его (однократность
и номинативная факультативность, по А. Г. Лыкову). Тесной связью с порождающим
149
контекстом и размытостью семантики окказиональных слов объясняются трудности их
лексикографирования (Н. З. Котелова, Р. Ю. Намитокова, Л. В. Рацибурская и др.).
С другой стороны, для образования инноваций используются те же языковые средства
и механизмы, как и для узуальных, окказиональное слово на основании своего
производящего включается в определенную парадигму (и может создавать ее), а также
входит в определенный словообразовательный тип.
Созданные по образцу окказионализмы являются отражением этого исходного слова-
образца, матрицы, например, богу богово, кесарю – кесарево:
«Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 22, ст. 15–21) приведен ответ Иисуса Христа
людям, посланным от фарисеев. Намереваясь «уловить Его в словах», они спросили Иисуса:
позволительно ли платить налоги кесарю? Иисус, указывая на динарий (римская монета) с
изображением кесаря, спросил их: «Чье этот изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы.
Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Обычно употребляется в
узком, житейском смысле: каждому свое, каждому – по заслугам» (Энциклопедический
словарь крылатых слов и выражений. 2003. http://dic.academic.ru).
читателю – читателево (Огонек, 1992, № 42-43);
писателю – писателево (ЛГ – Досье, 1992, № 1);
медикам – медиково (КП 16.12.92);
кесарю – кесарево, пекарю – пекарево (Северный Кавказ,1994, № 33);
генералам – генералово, царю – царево (Россия, 1995, № 2);
большевику – большевиково (КП 24.11.95);
компьютеру компьютерово (Сегодня 02.04.96);
прозе – прозово, театру – театрово (КП 22.10.97);
мэру – мэрово, губернатору – губернаторово (КП 20.04.99);
В Венеции на фестивале интеллектуалов «Гарпастум» заработал десятиминутные
аплодисменты, а сборы в нашем прокате, увы, не радуют. Герману – германово. (МК
28.12.05);
Премьер Владимир Путин вчера провел прямую линию с населением страны... господин
Путин делал все, чтобы создать впечатление, что премьеру премьерово. И сорвался всего
пару раз (о разделении полномочий между Путиным и Медведевым). Коммерсант 05.12.08);
Шведу – шведово [заголовок]. Похоже, в истории шведской марки Saab начинается
новая глава. Ее нынешний владелец – американский концерн General Motors – договорился о
продаже Saab другому шведскому автопроизводителю, а именно Koenigsegg Automotive AB.
(Итоги, 2009, № 26).
Веллитону – веллитоново [заголовок]. 6 матчей — на столько дисквалифицирован
нападающий «Спартака» Веллитон за жесткое столкновение с вратарем ЦСКА и сборной
России Игорем Акинфеевым. (Итоги, 2011, № 37).
Заимствуя значение притяжательности исходной модели, окказиональное слово
включает в свою семантическую ауру и прецедентное высказывание, и иронию от
столкновения «образца» и нового образования.
Насыщенность производными непродуктивной в узусе модели противоречит
закономерностям словообразования – искажается привычное течение
словопроизводственных процессов, нарушаются традиционные закономерности
сочетаемости словообразовательных средств.
В таком понимании окказиональные слова являются образами, подобиями реально
существующих узуальных слов, то есть симулякрами. Тем не менее О. Г. Ревзина,
предложившая идею рассмотрения окказионализма как феномена постмодернистского
текста, утверждает, что в поэтическом тексте эти слова «никогда не бывают симулякрами,
они не бывают копиями», «становятся носителями центральных художественных смыслов –
ключевыми словами».
Действительно, если в поэтическом тексте новое слово предстает как реализация
творческого восприятия и отражения мира, то в медиадискурсе читателю предлагается
150
суррогат – готовое растиражированное слово-пустышка, симулякр креатива, который
человек потребляет как товар. Ср. окказиональное слово скорбец, созданное
Б. Гребенщиковым, и образованное по той же словообразовательной модели, что и
распространенное в СМИ и в интернете стабилизец.
В песне Гребенщикова «Скорбец» скорбец – это особое состояние русской души,
связанное с печалью, горестью:
<…> Земля лежала, как невеста,
С которой спьяну сняли венец,
Прекрасна и чиста, но
В глазах особый скорбец.
<…> Вначале было плохо,
Потом пришел обычный скорбец.
Я спрашивал у матери, я мучил отца
Вопросом – как мне уйти от моего скорбеца.
Потом меня прижал в углу херувим
Сказал – без скорбеца ты здесь не будешь своим.
Примечательно, что авторская интерпретация слова выявляет иные, глубинные слои
семантики, не вытекающие из анализа его словообразовательной структуры:
– Я как-то встретил американца Фреда, который переводил большинство ваших
текстов на английский язык. Он поведал, что так и не нашел аналога вашей песне
«Скорбец».
– Это слово невозможно перевести. Мы его придумали с моей хорошей знакомой
писательницей Таней Толстой за выпиванием хорошего вина. Сидели и гадали: как слово
«блюз» прозвучало бы по-русски. И пришли к выводу, что в России понятия «блюз» нет и
быть не может. Есть слово, которое выражает похожее русское ощущение, состоящее из
понятного слова «скорбь» и окончания «ец». (Real Video, интервью с БГ к выходу альбома
«Лилит», 6 декабря 1997).
– «Блюз» – понятие не русскоязычное; когда поѐшь его по-русски, становится смешно.
Просто мы сидели с Таней Толстой и, обсуждая разные вещи, генерировали слово «скорбец»
– сочетание двух известных русских слов. Естественно, когда появилось столь
замечательное слово, вышла и песня (Столичные новости, 1999,
http://www.ytime.com.ua/ru/50/1731).
Однажды Гребенщиков с Татьяной Толстой решили подыскать самый верный перевод
американскому слову «блюз». Что такое «блю»? Это, кроме того что «голубой», еще и
«грустный». А неприятное режущее финальное «з» – что-то сродни удару в пах... Сошлись
на том, что в словесном эквиваленте это «скорбь» или «грусть» с окончанием на «ец».
Настоящий русский «блюз. (Огонек, 2002, № 8, http://kommersant.ru/doc/2289986)
Второе слово тоже включает в свою структуру аллюзию на нецензурное слово либо его
эвфемизмы писец и пипец:
Стабилизец (шутл.) от: стабилизация и (груб.) пиздец, «МК» о ситуации в России, в
августе 1998 (Словарь сокращений русского языка. 2014, http://dic.academic.ru).
Если у слова скорбец нет семантического аналога (русское ощущение музыки блюза),
то у второго помимо узуального синонима стабильность согласно Словарю синонимов ASIS
В. Н. Тришина, 2013 (http://dic.academic.ru) есть еще 17 синонимов, в том числе с финалью -
ец (амбец, звездец, капздец, кобздец, конец, копец, крантец, околеванец, песец, трендец,
триндец, трындец). Само слово в частотном сочетании полный стабилизец приобретает
оттенок инвективы.
Получив распространение (36 тыс. ответов на Яндексе, 15.07.15), оно стало словом
года-2008, получило у авторов проекта М. Эпштейна семантизацию как «насмешливое
словечко «стабилизец», говорящее о слишком явном расхождении между официальной
версией стабилизации общества и сегодняшней реальностью» и послужило базой для
производства еще двух подобных образований: модернизец и девальвец.
151
Таким образом, парадигма постмодернизма позволяет рассматривать новое
окказиональное слово как «акт свободы» от диктата языка, сдерживаемый формальными
рамками словообразовательной «механики». Создание нового слова с присущей ему
иронией, также как и интертекстуальностью, является разновидностью языковых игр,
снимающих дистанцию между человеком и человеком, человеком и реальностью, человеком
и языком. Можно предположить, что оба начала – и креативное, и симулятивное –
соответствуют природе окказиональности и превращаются в противопоставленные
характеристики окказионализма, явленного в дискурсе.
Литература
Бодрийяр – Ж. Бодрийяр. Симулякры и симуляция [Электронный ресурс] (Рус.). Режим
доступа: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml (дата обращения 01.02.16)
Ермакова 2001 – О. П. Ермакова. Ирония и ее роль в жизни языка. Калуга, 2005.
Ильин 2001 – И. П. Ильин. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
Коновалова 2011 – О. А. Коновалова. Ирония как атрибут культуры эпохи
постмодерна: философский анализ: Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Кемерово,
2005 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01003250314 (дата обращения
01.02.16).
Красных 2002 – В. В. Красных. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М.,
2002.
Лыков 2003 – А. Г. Лыков. Русское окказиональное слово // Вопросы русистики.
Избранное: В 3-х тт. Т. 2. Лексикология. Краснодар, 2003. С. 7 – 154.
Можейко 2001 – М. А. Можейко. Ирония // Постмодернизм. Энциклопедия / Сост.
А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск, 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.infoliolib.info/philos/postmod/index.html (дата обращения 01.02.16).
Намитокова 1986 – Р. Ю. Намитокова. Авторские неологизмы: словообразовательный
аспект. Ростов-на-Дону, 1986.
Нестерова, Поздеева 2014 – Н. М. Нестерова, Е. В. Поздеева. «Диктат» языка и «новое
слово» // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2014. № 23
(352). С. 55-63.
Попова – Т. В. Попова. Креолизованные дериваты как элемент русской письменной
коммуникации рубежа XX – XXI вв. // Лингвистика креатива. Екатеринбург, 2009. С. 147 –
175.
Ревзина 1996 – О. Г. Ревзина. Поэтика окказионального слова // Язык как творчество.
М., 1996. С. 303-308.
Шапир 1995 – М. И. Шапир. Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм //
Philologica, 1995. Т. 2. № 3/4. С. 136-143. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.rvb.ru/philologica/02/02postmodernism.htm (дата обращения 01.02.16).
152
И. В. Нечаева
ИНОЯЗЫЧНАЯ НЕОЛОГИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ПИСЬМЕННОЙ АДАПТАЦИИ
В условиях повышенной языковой динамики последних десятилетий, в том числе в
области заимствования, процессы орфографической нормализации характеризуются
серьезными осложнениями. Между тем поддержание нормативности литературного языка, в
том числе в письменной сфере, остается профессиональной обязанностью лингвиста.
Охранять статус нормы, защищать ее как от случайных, стихийных наслоений, так и от
навязанных извне умозрительных критериев при нормировании – в этом заключается
ответственность кодификатора. Путь к решению столь сложной задачи лежит через
распознавание и изучение языкового механизма адаптации заимствованного слова в
условиях принимающего языка.
Признаком письменной адаптации можно считать стабилизацию графического
оформления неологизма, установление единого написания. Как мы знаем, в отношении
иноязычных слов это часто представляет проблему, в чем можно убедиться, листая многие
современные словари. Так, в недавно опубликованном трехтомнике [НСЗ-90] вариантные
написания имеют такие, например, слова, как биг-мак / биг мак, бизнес-вумен / бизнесвумен /
бизнес-вумэн, брейн-ринг / брэйн-ринг, гѐрлфренд / гѐрлфрэнд / гѐрл-френд, консумерист /
консьюмерист / консюмерист, легинсы / леггинсы / леггенсы / легенсы, медиафайл / медиа-
файл, наномашина / нано-машина и др. В этом нет ничего удивительного, поскольку для
этого существуют объективные причины. Как пишет Е. В. Маринова, «для подавляющего
большинства иноязычных слов, проникающих в наш язык, русское письмо, с его исконным
кириллическим алфавитом, оказывается чужеродной средой, и потому графическая
адаптация, изменение буквенного состава лексической единицы в русском языке
представляет собой значительный этап в ее освоении» [Маринова 2008: 94].
Данная проблема по своей сути – ортологическая; она восходит к определению понятия
правильного в орфографии и к дискуссии об орфографической норме, которая подразумевает
вопрос о том, какова доля сознательного в процессе орфографического нормирования,
является ли орфографическая норма результатом сознательного выбора или она формируется
стихийно – подобно тому, как это происходит в устном языке [см. Нечаева 2015: 54].
В качестве критериев нормативности обычно признаются: соответствие структуре
языка и тенденциям его развития, массовая и регулярная воспроизводимость языкового
факта в литературных текстах, его позитивная общественная оценка. Обратившись к
письменному языку, мы во многих случаях убеждаемся в недостаточности данных критериев
в условиях расширенной вариантности. Структура русского письма допускает различные
возможности по передаче иноязычной фонетики. Так, например, в слове вестхайленд-уайт-
терьер1 (англ. West Highland White Terrier) – „порода собак‟ – один и тот же звук [w] в
начале и в середине слова передается по-разному, и подобные случаи не так уж редки.
Диагностирование тенденций – дело также неочевидное. Существует точка зрения, согласно
которой двойные согласные не на стыке морфем (внутри корня) подвержены тенденции к
упрощению, однако в современной неологии это не проявляется, скорее наоборот. (Много
примеров как на сильную, так и на слабые позиции по долготе согласного2, напр. аккаунт,
киллер, месседж, пассионарий, шаттл и др.) Считается, что по мере освоения сложного
слова происходит замена дефисных написаний на контактные, однако актуальный материал
это не подтверждает (заметно тяготение к подчеркиванию морфемного шва графическим –
1 Применение дефисного / контактного написания в этом слове также вызывает вопросы; приведенное (с двумя
дефисами) написание представляется оптимальным ввиду сложности состава данного слова и значительной
протяженности графической цепочки. 2 Сильной позицией для долготы согласного считается интервокальная заударная, остальные – слабые.
153
дефисным – способом, а то и с помощью пробела). Примерами могут служить слова на
супер-... (достаточно длинный и быстро пополняющийся ряд): супер(-)машина, супер(-)хит,
супер(-)лайнер, супер(-)марафон, а также фан-клуб, штрих-код, контр-пиар, поп-корн, лайт-
боксинг, масс-культура и даже доку-драма (с первой частью на гласную), весьма часто
встречающаяся с дефисом (имеется в виду узуальная частотность написаний, в отвлечении
от вопроса о форме словарных кодификаций, опережающих становление нормы в узусе).
В области иноязычной неологии неустойчивость орфографических представлений о
том, что такое правильно, проявляется наиболее наглядно, поскольку для данной области
характерно параллельное применение нескольких принципов написания, нечетко
ограничивающих сферу действия друг друга. Это можно проиллюстрировать известными
примерами. Варианты имейл – е-мейл [e-mail] демонстрируют противоречие между
акцентами на произношение либо на структуру этимона, и второе, дефисное, написание не
менее популярно, чем первое; многолетнее наблюдение за употреблением графических
вариантов риелтор / риэлтор позволяет установить, что хотя по правилу (формально-
графическому) следует его писать с буквой «е», при отсутствии йотированного
произношения данный вариант так и не закрепился на письме [см. Нечаева 2012: 332–333];
слова типа фото-арт имеют противоречивые орфографические аналогии – фотография,
фотокамера (слитно) и поп-арт, тату-арт (через дефис). Собственно, возможность
применения разных подходов, два способа рассуждений при определении орфограммы – это
вообще одна из особенностей русской орфографии. Примером тому может служить
небезызвестное слово разыскной / розыскной, в отношении которого допустимо
рассмотрение его как прямого производного от существительного розыск (и тогда нет
оснований менять графический состав производящей основы и следует писать его с буквой
«о»), однако по общему правилу в словах с префиксами раз-/роз- без ударения должно
писаться «а». Наложением данных двух подходов объясняется лингвистический конфликт,
касающийся орфографии этого слова.
Почему данная проблема так актуальна для иноязычий? Во-первых, очевидно, что
действуют внешние дестабилизирующие факторы в виде влияния языка-источника при
активности процессов заимствования. В результате продлевается период колебаний на пути
обретения единого написания, а также появляются орфографические аномалии, например –
раздельные написания композитов различной структуры (супер хит, биг мак, фаст фуд,
комфорт класс), что с точки зрения русской орфографической традиции совершенно
неприемлемо. Здесь очевидным образом проявляется влияние языка-источника, в котором
подобные конструкции представляют собой словосочетание, в отличие от русского языка,
где это одно слово.
Во-вторых, кроме внешних факторов, здесь можно усмотреть и ответственность нашей
кодифицирующей базы, отказ признавать иноязычия (как подсистему) самостоятельным
объектом кодификации. Между тем специфика ее состоит в том, что для заимствований
существует оппозиция внутрисистемных и этимологических факторов письма, и попытка
встроить заимствования в систему правил для исконных слов и подчинить им, не удается.
Конкретные причины разногласий могут быть различны, но дело часто сводится к
антиномии синхронного и несинхронного подходов, т. е. к опоре либо на парадигматические
связи слова в русском языке, либо на его этимологию. В одном случае берется синхронный
срез лексической системы, и решение по написанию принимается путем соотношения
свойств интересующей нас лексической единицы с другими, в данный момент
существующими в языке или одновременно с ней заимствуемыми и в чем-то ей подобными.
Приведем несколько примеров.
1) Англицизмы на ре- типа рерайтер/рирайтер (rewriter), ребойлер/рибойлер (reboiler) и
самое употребительное из них ремейк/римейк (remake). Проблема здесь в том, что по
произношению первый гласный ближе всего соотносится с русским [и], однако первый слог
английского прототипа вычленяется как префикс. Иноязычный по происхождению префикс
ре- с тем же значением описывается во многих словарях русского языка, он возводится к
154
латинскому первоисточнику (через посредничество французского) и пишется с буквой «е»
(реабилитация, реанимация, регенерация, реинкарнация, реорганизация, репатриация и др.).
Мотивированность этимоном предполагает орфографическую запись в соответствии с
английским произношением («ри»); внутриязыковая мотивированность предполагает запись
морфемы аналогично тому, как данная морфема пишется в других словах русского языка
(«ре»). Данный критерий был применен при словарной кодификации этих слов. Между тем
ответ на вопрос о правомерности отождествления выделяемого в данных англицизмах
префикса с заимствованным ранее префиксом ре-, имеющим иное происхождение,
неочевиден. Кроме того, это порождает проблему принципиального различения подобных
слов со словами типа ритейлер (англ. retailer от retail „продавать в розницу‟), членимость
которого сомнительна: неясно, следует ли делить основу соответствующего этимона на
префикс и корень tail „хвост, конечная фаза‟, поскольку семантически они все-таки довольно
далеки. Так или иначе, но чтобы это установить, пишущий должен произвести такую
непростую операцию, как морфемный анализ иноязычного слова. Это представляет собой
реальную орфографическую трудность.
2) Слова блог(г)ер, рэп(п)ер, флеш-моб(б)ер, шоп(п)инг имеют этимологическое
удвоение согласных (blogger, rapper, flash-mobber, shopping) и одновременно –
парадигматические связи в русской лексической системе с однокоренными блог, рэп, флеш-
моб, шоп (blog, rap, flash-mob, shop), хотя на уровне русского языка их не связывают прямые
деривационные отношения. Нет никаких сомнений в том, что данный орфографически
проблемный ряд слов будет пополняться. При решении вопроса о сохранении/упразднении
консонантного удвоения этимологический фактор противоречит внутрисистемному
парадигматическому.
3) Иногда кодификатор находится в плену предыдущих нормативных решений. Так,
написание заимствований офшор и офлайн с одиночным согласным «ф» с точки зрения
внутриязыковой аналогии оправдывается орфографическим прецедентом в виде слова
офсайд (англ. off side), притом что этимология требует отображать консонантное удвоение:
(off-line), (off-shore); наличие орфографического слова бэкхенд „удар закрытой ракеткой по
волану (мячу) при игре в бадминтон или теннис‟, хотя и узкоспециального, породило целую
серию заимствований, в которых употребляется редкая для русской графики буква «э» (бай-
бэк, бэк-вокал, бэк-вокалист, бэкграунд, бэк-офис, бэк-слеш, бэкхенд, фастбэк, флешбэк,
хетчбэк)3; слитно пишущееся слово блицкриг послужило образцом для 16 слов, которые
также зафиксированы в слитном написании (что, безусловно, было ошибочным решением):
блиц(-)анализ, блиц(-)викторина, блиц(-)интервью, блиц(-)опрос, блиц(-)турнир и др., – а
мини(-)вэн (англ. minivan), напротив, было первоначально подчинено правилу о дефисном
написании слов с префиксоидами мини-..., миди-..., макси-... и писалось через дефис, что
тоже оказалось неверным.
Итак, в одном случае – в отношении слов ремейк, блогер, офшор, а также гексаген и др.
– может применяться критерий морфемного уподобления, а в отношении слов мини(-)вэн,
фото-арт, блиц(-)интервью и т. п. – принцип подбора внутриязыковых аналогий. Такой
подход можно назвать синхронно-парадигматическим. В противоположном случае
приоритетом может быть фонетическая и графическая адекватность иноязычному
прототипу, его этимологическим свойствам. Колебание в орфографии приведенных
заимствований объясняется противоречием между этими двумя основаниями написаний.
Таким образом, в конечном итоге стоит вопрос о силе влияний либо иноязычной (в основном
английской), либо русской языковой системы для орфографического оформления нового
слова.
Как мы знаем, для русского правописания характерен принцип синхронной
орфографической проверки с использованием парадигматических связей (применительно к
3 В «Сводном словаре современной русской лексики» 1991 года бэкхенд было единственным словом на бэк... с
такой орфограммой, см. [Рогожникова 1991: 114].
155
словам исконного происхождения). Суть его в том, что если в каком-либо слове можно
выделить морфему, соотносимую с аналогичной морфемой в другом слове, то эти морфемы
должны писаться одинаково. Вопрос состоит в применимости данного принципа к
иноязычным словам (а попытки такого применения делаются постоянно). Казалось бы,
подобный подход мог бы привести к желательному упрощению орфографии заимствований,
однако это только на первый взгляд. И дело не только в том, что при этом иногда нарушается
этимологическая (транскрипционная) корректность передачи лексемы, но и в том, что
данный принцип не проводится последовательно, чему немало примеров.
Так, слово мэтр („учитель, наставник‟) было сознательно выведено из ряда
однокоренных слов типа метрдотель, метресса и помещено в исключения к словам мэр,
пэр, сэр, пленэр, которые в современной орфографии пишутся через «э» (орфография первого
объясняется стремлением к расподоблению с омонимичным метр – „мера длины‟). Как
известно, при наличии слова магнетизм существуют также магнитофон и магнит с тем же
этимологическим значением, но с иной русской орфограммой (и на это никто не обращает
особого внимания); однокоренные хэнд (hand) „английская единица измерения‟ и бэкхенд,
секонд-хенд (second-hand) и хендаут (handout) также избежали орфографической словарной
унификации; инфицировать по этимологическим и структурным причинам пишется иначе,
чем инфекция; различаются написанием инженер и инжиниринг; альфа и алфавит имеют
один греческий источник, но пишутся по-разному.
Обычно производное при написании сохраняет графический облик производящей
основы (за исключением случаев исторических чередований). Особенность же иноязычных
слов состоит в том, что синхронные словообразовательные отношения между словами в
русском языке не всегда означают производность одного от другого (и приведенные
примеры это иллюстрируют). Так, хэви-метал очевидным образом не образовано от металл,
блоггер – от блог, шоппинг от шоп, а гексоген / гексаген – это не сумма частей гекса... + ...ген,
римейк – это не префикс ре... + ...мейк и т. д. Они заимствованы целиком, как готовые слова.
Прежде чем ставить написание какого-либо слова в зависимость от другого, этимологически
однокоренного, следует вспомнить, что в языке есть другие случаи, когда этого не делалось.
Например, подобное не делалось при записи слов контроллинг и контроллер (при наличии
контроль – без удвоения). Данный подход рождает еще одну проблему – проблему
идентификации корней: так, слова зум (англ. zoom „увеличение‟) и зуммер (нем. Summer от
summen „жужжать‟) имеют разное происхождение, что должно быть установлено пишущим
во избежание орфографической ошибки.
Как видим, применение синхронно-парадигматического принципа в орфографии
заимствований характеризует избирательность. Избирательность применения для
орфографического правила – большой недостаток. Если границы употребления той или иной
нормы невозможно четко обозначить, правило становится практически неработающим (в чем
легко можно убедиться на примере орфографии сложных прилагательных)4. Вводя
половинчатое правило, мы не облегчаем, а усложняем задачу орфографического выбора,
говоря, что для одних слов закономерность существует, а для других – нет; при этом
остается неясным, как следует отличать первые от вторых. На наш взгляд, имеет смысл
подумать о выделении подсистемы заимствованных слов в особый отдел орфографических
правил. К нормированию правописания заимствований следует подходить с учетом всей
сложности проблемы, а не исходя из умозрительных построений на синхронном срезе
лексическом системы.
4 В этой области оба критерия – семантико-синтаксический и формально-грамматический (по наличию
суффикса) – имеют нечеткие ограничения в применении, что ведет к разнобою в написании однотипных
единиц, ср. нефте-газовый, но пароводяной, парашютно-десантный, но конноспортивный.
156
Литература
Маринова 2008 – Е. В. Маринова. Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала
XXI вв.: проблемы освоения и функционирования. М., 2008.
Нечаева 2015 – И. В. Нечаева. Современная русская орфография: догма и инновации //
Studia Rossica Gedanensia. 2. Gdańsk, 2015. С. 47–59.
Нечаева 2012 – И. В. Нечаева. Языковые изменения и принципы орфографического
нормирования (на материале иноязычных неологизмов) // Acta Linguistica Petropolitana.
Труды Института лингвистических исследований РАН. Том VIII, часть 3. СПб.: Наука, 2012.
С. 325–336.
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов ХХ века. В 3-х тт. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и
Е. А. Левашова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009–2014.
Рогожникова 1991 – Р. П. Рогожникова. Сводный словарь современной русской
лексики. В 2 т. М.: Русский язык, 1991.
157
О. А. Никитина
НОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв.
И ИХ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
(на материале «Немецко-русского словаря неологизмов»)1
В статье рассматриваются некоторые особенности пополнения словарного состава
немецкого и русского языков на рубеже XX–XXI вв. новыми заимствованиями.
Исследование основывается на материале специального двуязычного «Немецко-русского
словаря неологизмов» [Steffens, Nikitina 2014]. В его основу положен материал первого
одноязычного словаря неологизмов немецкого языка, разработанного в Институте немецкого
языка и опубликованного в двух книгах [Herberg, Kinne, Steffens 2004; Steffens, al-Wadi
2013]. «Немецко-русский словарь неологизмов» содержит новую лексику (около двух тысяч
заголовочных слов), пополнившую немецкий язык с начала 90-х гг. XX в. до конца первого
десятилетия XXI в.
Под неологизмом в словаре понимается новая лексическая единица (слово, устойчивое
сочетание) или новое значение, которые появляются в определенный период языкового
развития в коммуникативном сообществе, распространяются в нем и принимаются в
качестве языковой нормы [Steffens, Nikitina 2014: 12]. Таким образом, в словаре представлены
неологизмы трех типов: новые слова, новые значения и новые устойчивые сочетания слов, в
том числе и новые фразеологизмы. Под лексикографическим эквивалентом в словаре
понимается единица до уровня предложения, обладающая максимально возможным
сходством с единицей входного языка по меньшей мере в семантическом отношении и
соответствующая практике употребления носителей выходного языка, которую можно без
значительных трансформаций поместить в текст перевода. При этом эквиваленты, состоящие
из нескольких слов, не обязательно должны иметь статус лексикализованных единиц в
выходном языке словаря [ср. Wiegand 2002: 103]. Наряду с межъязыковой эквивалентностью
в семантическом отношении учитываются и другие аспекты, прежде всего,
прагмастилистическая и функциональная эквивалентность [Scholze-Stubenrecht 1995]. Особое
значение в двуязычном словаре неологизмов приобретает диахроническая эквивалентность,
нацеленная на то, чтобы по возможности давать к новым лексическим единицам входного
языка эквиваленты в выходном языке, также отличающиеся новизной. При этом следует
помнить, что «словарь – лишь авторитетный наблюдатель, советчик, но не законодатель
языка» [Дубичинский 2002: 49]. Лексикограф должен по возможности избегать
изобретательства и отдавать безусловное предпочтение тем эквивалентам, которые уже
закреплены практикой межъязыковых контактов.
Эквивалентные отношения между немецкими заимствованиями и их русскоязычными
соответствиями выстраиваются в каждом случае по-разному, однако можно выделить
несколько основных типов. В обоих языках наблюдается тенденция к интернационализации
лексики «в призме» ее англизации. Это отражается во множестве прямых заимствований из
английского языка и лишь в малой степени из других языков (итальянского, китайского,
японского) (Couchsurfing – каучсѐрфинг, Flashmob – флешмоб, Smartphone – смартфон,
Ciabatta – чиабатта, Fengshui – фэншуй, umami – умами). Причины массового
заимствования из английского языка разнообразны, для немецкого языка укажем лишь
некоторые из них: ведущая роль англоязычных стран в мировой политике и экономике;
активная языковая политика, направленная на популяризацию английского языка среди
немецкоязычного населения; использование английского языка в качестве официального при
1 Научное исследование проведено в рамках государственного задания Министерства образования и науки
Российской Федерации, проект № 1706.
158
проведении международных мероприятий; зависимость немецкоязычных массмедиа от
англоязычных агентств новостей; интернациональная унификация англоязычной
терминологии в различных сферах науки и техники; общий высокой уровень владения
английским языком; заимствование из английского языка как стереотип социально-
группового поведения (например, в определенных субкультурах) и пр.
В 1990-е гг. доля англонеологизмов составляет примерно 40% новой лексики
немецкого языка, в период нулевых годов – около 30%. Более высокий процент
англоязычных заимствований в 1990-е гг. объясняется, в частности, англо-американским
происхождением тематических областей (прежде всего, «компьютер и Интернет»),
доминировавших в этот хронологический период. Среди неологизмов представлены также
гибридные образования – сложные слова, один из компонентов которых был ранее
заимствован в немецкий язык из английского языка (Nacktscanner) или является собственно
английским (Pop-up-Fenster, Reboard-Sitz). К категории гибридов относятся также
псевдоанглицизмы – лексические единицы, образованные в немецком языке с участием
англоязычных основ или англоязычных словообразовательных элементов, так что по форме
и морфологическому составу они кажутся заимствованными, но в действительности
отсутствуют в английском языке (Beamer, Homejacking, Public Viewing). Заимствования из
других языков в отражаемый период относительно малочисленны (Latte macchiato – итал.,
Sudoku – яп.).
Среди неологизмов-заимствований подавляющее большинство составляют
заимствованные слова (72%), за ними следуют кальки (9.2%) и полукальки (8.8%),
семантические кальки (6%). Псевдоанглицизмы и гибридные образования составляют 4%.
Примечательно, что словообразовательные и семантические кальки имеют в качестве
прототипов исключительно слова из английского языка. Заимствование лексических единиц
из других языков осуществляется только вкупе их формы и содержания. Это характерно и
для русского языка. Неологизмы, заимствованные в немецкий язык из других (помимо
английского) языков, имеют полные эквиваленты в виде заимствований в русском языке.
Например: Kakuro – какуро из яп., Qigong – цигун из кит., Latte macchiato – латте макиато
из итал., Macaron – макарон / макарун из фр.). Как правило, речь идет о словах-реалиях,
называющих объекты материальной и духовной культуры [Влахов, Флорин 2006: 60].
В плане частеречной принадлежности большинство неологизмов-заимствований –
существительные (около 80%), за ними следуют глаголы (около 10%) преимущественно с
простыми основами (bloggen, buzzern, carven, casten, chatten, daten, dissen, handeln, mailen,
mobben, piercen, raften, raven, tapen), далее следуют наречия (около 7%) (indoor, on-demand,
onshore, outdoor), и прилагательные (около 3%) (stylisch, unplugged). Такое соотношение в
типах заимствуемой лексики соответствует присущей современным языкам тенденции к
обмену главным образом словами-наименованиями [ср. Крысин 1968: 59]. Заимствование
немецким языком англоязычных существительных возможно в большинстве случаев без
использования суффиксов (или с минимальным их использованием). Структурные и
словообразовательные аналогии в немецком и английском языках благоприятствуют
процессу лексического заимствования и облегчают вхождение англицизмов в общую
практику употребления.
Можно выделить несколько сфер, особенно интенсивно пополняющихся за счет
иноязычных (прежде всего, англоязычных) слов. Наиболее многочисленная группа
англоязычных заимствований относится к компьютерным и иноформационным
технологиям (Attachment, Browser, Chat, Cybernaut, Emoticon, Headset, Newsgroup, Podcast,
scrollen, Touchscreen, Website). Cложившись на базе английского языка, данная сфера легко
пополняется новыми номинациями англоязычного происхождения. Вторая по
многочисленности тематическая сфера – кино, телевидение, радио и книжное дело (Biopic,
Blockbuster, Casting, Coaching-TV, Daily Soap, Hype, Infotainment, Multiplex, Sequel, Talkradio).
Следующая сфера – спорт и здоровый образ жизни (Aquacycling, Basejumping, Carving,
Dreamteam, Flexibar, inlineskaten, Rafting, Sneaker, wakeboarden, Work-out). Далее следуют
159
сферы экономики и банковского дела (Bad Bank, Downsizing, E-Commerce, Factoryoutlet,
Fundraising, Homebanking, Jobmaschine, Lean Management, Outsourcing, Start-up, Turn-around),
общественной жизни (например, Cocooning, Gendermainstreaming, Girlpower, Homing,
Mobbing, Political Correctness, Teleworking), моды и внешности (Burkini, Catwalk, Clubwear,
Crocs, Extension, Flipflops, Streetwea, stylisch, Tanktop), продуктов питания (Alcopop, Bagel,
Donut, Energydrink, Fingerfood, Muffin, Novel Food), музыки и шоу-бизнеса (Boygroup, Djing,
Event, Girlgroup, IT-Girl), образования (Edutainment, E-Learning, Teleteaching, Webinar),
автомобильного дела и дорожного движения (Carsharing, Quad, Shared Space, SUV, Trike)
и др. Отдельно следует отметить группу экспрессивной заимствованной лексики,
источником происхождения которой является язык молодежи и молодежных субкультур
(chillen, dissen, fett, porno, schwul, sexy).
Что касается неологизмов-полукалек, то они представлены сложными
существительными и глагольными единицами с превербами (приглагольными наречными
частицами), в которых один из компонентов словообразовательной структуры
англоязычного прототипа сохраняется неизменным, а другой подвергается переводу. В
глагольных единицах переводу подвергается только адвербиальный послелог англоязычного
глагола, а глагольная основа непосредственно заимствуется в немецкий язык (abspacen,
auschillen, aufpoppen). Здесь, по-видимому, особую роль играют межъязыковые структурно-
позиционные аналогии: глагольные единицы немецкого языка характеризуются в личных
грамматических формах дистантным положением компонентов, что соответствует
раздельнооформленности английских фразовых глаголов с послелогами. Приглагольные
наречные частицы в немецком языке, даже в тех случаях, когда они занимают контактное
положение по отношению к глаголу, не входят в глагольную основу, а остаются за ее
пределами, ср. [Левковская 1956: 218]. Инвентарь приглагольных наречных частиц в
немецком языке отличается большой устойчивостью к иноязычному влиянию: в
современном немецком языке не существует приглагольных наречных частиц иноязычного
происхождения. Вместе с тем глагольная основа, будучи узловым носителем значения,
непосредственно заимствуется в немецкий язык.
Благодаря конвергенции словообразовательных систем немецкого и английского
языков становится возможным и замена одного из компонентов английского сложного слова
немецкой основой при сохранении второй англоязычной основы без изменений
(Ärztehopping, Patchworkfamilie, Pop-up-Buch, Push-up-BH, Slush-Eis, To-do-Liste). Специфика
семантической связи между обоими компонентами композита при этом сохраняется. Наши
наблюдения над языковым материалом показывают, что в неизмененном виде передается,
как правило, тот англоязычный компонент сложных существительных, который несет в себе
бóльшую семантическую нагрузку. Кроме того, определенную роль играет также и
межъязыковая паронимия (patchwork family – Patchworkfamilie, pop-up book – Pop-up-Buch).
При ее наличии нет необходимости в графемно-фонетической передаче паронимичного
англоязычного компонента средствами заимствующего языка и его последующего
оформления в этом языке определенными грамматическими категориями. При отсутствии
фономорфологических аналогий важную роль играют семантические соответствия между
англоязычной основой и замещающей ее немецкоязычной основой. Чем очевиднее
эквивалент, тем легче прибегнуть к калькированию как к способу инновации.
Большинство калек – лексических единиц, появившихся в результате покомпонентного
воспроизводства словообразовательной структуры английского слова средствами немецкого
языка – также являются сложными существительными (Alleinstellungsmerkmal, Allzeithoch,
Allzeittief, Armutsfalle, Bildschirmschoner, Blutdiamant, Flachbildschirm, Gesichtserkennung,
Identitätsdiebstahl, Kollateralschaden, Masernparty, Schlagwortwolke, Schurkenstaat, Spielkonsole).
Что касается семантических калек, то в этот период появляются новые значения в
основном у лексических единиц англоязычного происхождения, ранее заимствованных в
немецкий язык (Button, Cashe, Date, Hotspot, Multitasking, scannen, Sixpack) или у слов,
обладающих фономорфологическим сходством с англоязычными соответствиями на основе
160
общего этимологического происхождения (Banner, brennen, Domäne, Netz). При отсутствии
фономорфологического подобия важную роль играет, по-видимому, наличие семантических
аналогий и позиционных совпадений в словообразовательных моделях (herausschreiben,
herunterfahren, Heuschrecke).
Как мы отметили выше, собственно заимствованные слова в исследуемый период
значительно преобладают по сравнению с другими видами заимствования. Однако,
примерно в 5% случаев наряду с заимствованным словом появляются семантически
тождественные им кальки и/или полукальки (Tagcloud – Schlagwortwolke, Hot-Stone-Massage –
Warmsteinmassage, Homeoffice – Heimbüro, Global Village – globales Dorf, Couchpotato –
Sofakartoffel – Couchkartoffel, Basejumping – Objektspringen – Basespringen). Преимущество
калек и полукалек по сравнению с заимствованными словами состоит, безусловно, в их
мотивированности и, следовательно, большей понятности и доступности носителям языка.
Подобного рода лексическая вариативность есть неотъемлемый атрибут неологизации,
компромисс между стремлением к обновлению лексики посредством заимствования и
реакцией носителей языка на чужое и немотивированное слово.
Типичным для немецкого языка исследуемого периода является появление так
называемых «пояснительных» сложных слов («verdeutlichende Bildungen») [Fleischer, Barz
2007: 63]. Их возникновение можно объяснить стремлением носителей языка к эксплицитной
мотивации новых заимствований, установлению семантических связей с другими
лексическими единицами. Для этого путем словосложения к основе заимствованного слова
прибавляется основа немецкого слова, имеющего сходные семантические признаки. Так,
наряду с заимствованными словами появляются синонимичные сложные слова. При этом
такое «пояснение» оказывается оправданным с коммуникативно-прагматической точки
зрения, но избыточным с точки зрения семантики всего композита. Отношения между
компонентами можно охарактеризовать как гипо-гиперонимические, поскольку один из
компонентов уже содержит семантические признаки, включенные в семантику основного
компонента и наоборот (Attachmentdatei, Flipchartblock, Multiplexkino, Nudeton, Pay-per-View-
Fernsehen, Post-it-Klebezettel, Rankingliste, Sneakerschuh, Start-up-Unternehmen).
Остановимся на некоторых особенностях русскоязычных эквивалентов немецких
неологизмов, заимствованных прежде всего из английского языка (русский язык
рассматривается здесь только через призму немецкого языка, что позволяет нам отметить
отдельные специфические аспекты заимствования в русском языке, но не дает возможности
говорить о специфике заимствования в русском языке в целом). Несмотря на ведущую роль
одного языка-источника заимствований (английского) в обоих языках, можно отметить
характерные расхождения между немецким и русским языками: в то время как в немецком
языке ввиду тесного родства с английским в большинстве случаев отдается предпочтение
прямому заимствованию, в русском языке часто параллельно появляются кальки /
полукальки или описательные соответствия. Так, только 30% немецких англонеологизмов
имеют в качестве соответствий аналогично заимствованные русские слова (Aquacycling –
аквасайклинг, Blockbuster – блокбастер, Browser – браузер, Flashmob – флэшмоб, Geocashing
– геокэшеинг, Mobbing – мобинг, Outsourcing – аутсорсинг, Smartphone – смартфон), в
других случаях наряду с заимствованием в русском употребляются кальки и полукальки
(Pocketbike – покет(-)байк, карманный мотоцикл; Shoppingmall – шопинг-мол(л), торгово-
развлекательный центр; Snowkiting – сноукайтинг, зимний кайтинг, снежный кайтинг) или
описательные соответствия и независимые образования (Bungeejumping – банджиджампинг,
прыжки с высоты на резинке, разг. тарзанка). В большинстве случаев в качестве
соответствий англонеологизмам в русском языке фигурируют только кальки или
описательные эквиваленты (Blind Date – свидание вслепую, Headset – головная гарнитура,
Laserpointer – лазерная указка, Multitasking – многозадачность, мультизадачность;
Smartshopper – умный покупатель, Touchscreen – сенсорный экран, Waterboarding – пытка
водой, Work-Life-Balance – баланс между работой и личной жизнью).
161
Большинству немецких калек соответствуют русскоязычные кальки, при этом
межъязыковое соответствие мотивирующих основ немецких сложных слов и русских
словосочетаний или составных слов позволяет с большой долей уверенности говорить о
происхождении новых номинаций под влиянием одних и тех же англоязычных прототипов
(Antiterrorkrieg – антитеррористическая война от англ. anti-terror war, Gesichtserkennung –
распознавание лица от англ. face detection, Identitätsdiebstahl – кража идентичности от англ.
identity theft, Kuschelparty – вечеринка нежности от англ. snuggle party, Schurkenstaat –
государство-изгой от англ. rogue state).
Особенность заимствования в немецком языке по сравнению с русским заключается
также в более выраженной словообразовательной интеграции заимствований, с помощью
которой достигается включение заимствованных слов в дальнейшие номинативные процессы
[ср. Ohnheiser 2000: 284]. Так, заимствованные слова зачастую образуют целые
словообразовательные ряды (Rafting, raften, Rafter), в то время как русский язык
ограничивается прямым заимствованием одного ключевого слова либо его калькированием,
за редкими исключениями (Blog – блог, bloggen – жарг. блогить наряду с нейтр. вести блог,
Blogger – блогер). Это, в свою очередь, ведет к тому, что множество новых немецких
глаголов и отглагольных имен деятеля, образованных от основ заимствованных слов,
остаются в русском языке либо вообще без эквивалентов, либо должны переводиться
описательно (nordicwalken – заниматься скандинавской ходьбой, ходить по-скандинавски,
ходить с палками). В иных случаях от основ заимствованных слов все же образуются
глаголы и имена деятеля, однако они функционируют лишь в определенных жаргонах
(chatten – жарг. чатиться, posten – жарг. постить, skypen – жарг. скайпить, twittern – жарг.
твитить и т. п.).
Интересно отметить также еще одну особенность заимствования в немецком языке по
сравнению с русским. Относительно часто причиной заимствования англоязычного слова в
немецкий язык является специализация понятия, уже обозначенного в немецком языке. При
общности основного смысла обоих слов, заимствование содержит в большинстве случаев
новые дифференциальные семантические признаки. При этом англоязычное слово-прототип
употребляется, как правило, в более широком значении. В русском языке в качестве
экивалентов при этом используются уже существующие лексические единицы. Например,
adden „присоединить интернет-пользователя в качестве контактного лица к собственному
профилю в социальной сети‟ – добавить (в друзья), от англ. to add – добавить; Buzzer
„большая звуковая кнопка, нажимая на которую, участник (теле)викторины подает сигнал о
готовности ответить на вопрос‟ – звуковая кнопка, от англ. buzzer – звуковая кнопка,
пищалка; Look-alike „тот, кто внешне очень похож на известную личность и
профессионально копирует ее‟ – (профессиональный) двойник, от англ. look-alike – двойник;
voten „участвовать в (платном) голосовании по телефону, СМС‟ – голосовать, от англ. to vote
– голосовать).
В целом, основываясь на имеющемся в нашем распоряжении материале, можно
отметить, что в отношении заимствований из китайского, японского, гавайского, а также
итальянского и французского языков, носители немецкого и русского языков ведут себя
примерно одинаково – слова заимствуются в звуковой оболочке, приближенной к слову-
оригиналу и в том же значении. В отношении заимствования из английского языка, однако,
можно отметить большую резистентность русского языка по сравнению с немецким . Если в
немецком языке отдается в большинстве случаев абсолютное предпочтение заимствованию
англоязычного слова, то в русском языке чаще встречаются кальки, полукальки и
независимые новообразования. По-видимому, обозначенные в начале статьи внутриязыковые
и экстралингвистические факторы, прежде всего, функциональный билингвизм большей
части современных пользователей немецкого языка, являются стимулом беспереводной
адаптации англоязычных неологизмов, которые подвергаются лишь минимальной
фонетической обработке при практически полном сохранении графического облика.
Преобладание в доступном нам русскоязычном материале калек, полукалек и описательных
162
соответствий говорит, по-видимому, о том, что для носителей русского языка прямые
заимствования из английского языка обладают более выраженными ксеногенными
коннотациями, что влечет за собой стремление к прояснению мотивов номинации
посредством воспроизведения словообразовательной структуры слова-оригинала средствами
родного языка.
Литература
Влахов, Флорин 2006 – С. И. Влахов, С. П. Флорин. Непереводимое в переводе. Изд. 3-е,
испр. и доп. М.: Р. Валент. 2006.
Дубичинский 2002 – В. В. Дубичинский. Значимость лексикографии // Kunzmann-Müller,
Barbara/Zielinski, Monika (Hg.): Sprachwandel und Lexikographie. Beispiele aus slavischen
Sprachen, dem Ungarischen und Albanischen. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang, 2002. S. 47-54.
Крысин 1968 – Л. П. Крысин. Иноязычные слова в современном русском языке. М.:
Просвещение. 1968.
Левковская 1956 – К. А. Левковская. Лексикология немецкого языка. Пособие для
учителей. М.: Учпедгиз. 1956.
Fleischer, Barz 2007 – W. Fleischer, I. Barz. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache /
unter Mitarbeit von Marianne Schröder. 3., unveränd. Aufl. Tübingen: Niemeyer. 2007.
Herberg, Kinne, Steffens 2004 – D. Herberg, M. Kinne, D. Steffens. Neuer Wortschatz.
Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. Unter Mitarbeit von E. Tellenbach und D. al-Wadi.
Berlin, New York: de Gruyter, 2004.
Ohnheiser 2000 – I. Ohnheiser. Сопоставительное изучение активных
словообразовательных процессов в славянских языках // Ohnheiser, Ingeborg (Hg.): Wortbildung:
interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand. Innsbruck: Institut für
Sprachwissenschaft. 2000. S. 279-295.
Scholze-Stubenrecht 1995 – W. Scholze-Stubenrecht. Äquivalenzprobleme im zweisprachigen
Wörterbuch // Wiegand, Herbert Ernst (Hg.): Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch
II. (= Germanistische Linguistik 127-128). Hildesheim u. a.: Olms. 1995. S. 2–16
Steffens, al-Wadi 2013 – D. Steffens, D. al-Wadi Neuer Wortschatz. Neologismen im
Deutschen 2001 – 2010. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2013. 2 Bände. LVII.
Steffens, Nikitina 2014 – D. Steffens, O. Nikitina. Deutsch-russisches Neologismenwörterbuch.
Neuer Wortschatz im Deutschen 1991–2010. Немецко-русский словарь неологизмов. Новая
лексика в немецком языке 1991–2010. 2 Bände. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. 2014.
Wiegand 2002 – H. E. Wiegand. Zur Äquivalenz in der zweisprachigen Lexikographie. Kritik
und Vorschläge // Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch VIII. Hildesheim u. a.:
Olms. 2002. S. 93-110.
163
О. А. Никитина
О СПОСОБАХ ДИСКУРСИВНОЙ ИНДИКАЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ
НА СТАДИИ УЗУАЛИЗАЦИИ
(на материале немецкого языка)1
Понимание языка в соответствии с лингвофилософской теорией В. фон Гумбольдта не
как εργον (произведения, данности), а как νέργεια (энергии, активности), то есть как
свободной и целенаправленной человеческой деятельности, предполагает возможность
языкового творчества и языковой инновации. В таком контексте происхождение любых
лексических новшеств видится, прежде всего, в том, что пользователи языка в ходе
коммуникации всякий раз модифицируют выбор языковых средств, чтобы как можно более
полно и оптимально реализовать свои коммуникативные цели. Если в распоряжении
языковой личности не оказывается привычных, регулярно употребляющихся лексических
средств, удовлетворяющих ее коммуникативным намерениям, то при определенных
условиях она может использовать инновативные возможности языка и прибегнуть к
созданию лексической инновации. Судьба такой инновации зависит от того, насколько
другие языковые личности в той же мере будут ожидать получения коммуникативной
«выгоды» от использования данного новшества. Если вследствие сходных коммуникативных
стратегий лексическая инновация будет многократно повторяться и использоваться другими,
то со временем она перейдет в общее употребление и станет неологизмом. Неологизмы,
таким образом, являются эволюционными, процессуально-динамическими феноменами,
возникающими согласно теории «невидимой руки»2 Р. Келлера [Келлер 1996] как
причинный, но неинтенциональный, ненамеренный кумулятивный эффект
сходнонаправленных коммуникативных действий множества индивидуальных языковых
личностей.
Во время фазы узуализации, то есть распространения лексической инновации, ее
вхождения в общее употребление, любые прогнозы относительно ее дальнейшей судьбы
весьма затруднительны, так как успех или неуспех инновации зависят от ее принятия
языковым сообществом или отвержения им как нежелательного отклонения от нормы.
Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что на данном этапе освоения
лексической инновации продуценты дискурса могут использовать определенные
«дискурсивные индикаторы». Под дискурсивными индикаторами мы понимаем различные
языковые средства, которые выделяют лексическую инновацию in statu nascendi в дискурсе и
способствуют ее распознаванию и правильному толкованию. Дискурсивные индикаторы
имплицируют общие указания по интерпретации инновации и обращают внимание
реципиента на формальные и/или содержательные особенности языкового употребления,
исходя из которых реципиент дискурса может сделать вывод, что речь идет о новой
лексической единице или уже известной лексической единице в новом переносном значении,
и приложить определенные когнитивные усилия для ее интерпретации.
1 Научное исследование проведено в рамках государственного задания Министерства образования и науки
Российской Федерации, проект № 1706. 2 Рассматривая причины языковых изменений, Р. Келлер относит язык к так называемым «феноменам третьего
вида» [Келлер 1996: 116 и дал.]. В отличие от естественных феноменов и артефактов, феномены третьего вида,
как правило, – коллективные явления. Они возникают в результате ненамеренных действий многих
индивидуумов, причем действия, создающие феномен, обнаруживают известную однообразность, которая
своей многократной повторяемостью влечет за собой определенные последствия. Так и языковые изменения
представляют собой, согласно Р. Келлеру, процессы неосознаваемого, почти интуитивного выбора,
направляемого «невидимой рукой». Прибегая к той или иной инновации, индивидуальная языковая личность,
как правило, не имеет цели изменить языковую норму или исказить языковую традицию. Целевым является
только выбор языковой личностью инновационного способа выражения.
164
Далее мы рассмотрим специфические дискурсивные индикаторы лексических
инноваций на стадии узуализации на материале немецких неологизмов нулевых и десятых
годов и выявим их дискурсивную функцию. При этом мы опираемся на лексический
материал печатного словаря «Neuer Wortschatz. Neologismen der Nullerjahre im Deutschen»
[Steffens, al-Wadi 2013] и на материал онлайн-словаря неологизмов немецкого языка,
представленного на лексикографическом портале OWID3 Института немецкого языка.
Первичными источниками для примеров образцов дискурса являются электронные корпусы
текстов DEREKO4.
1. Дискурсивная индикация посредством кавычек и/или иных графических средств
Типичными графическими дискурсивными индикаторами неологизма на стадии
узуализации являются кавычки [ср. Kinne 1998: 81]. Взятый в кавычки неологизм
характеризуется «одновременностью объективно-языковой и метаязыковой информации»
[Klockow 1980: 123, перевод автора – О. Н.]: с одной стороны, языковая личность принимает
лексическую инновацию в свой дискурс, с другой стороны, сигнализирует реципиенту
дискурса, что данная лексическая единица в языковом сообществе (пока) мало известна и что
со стороны реципиента необходимы определенные когнитивные усилия, чтобы достичь
правильной интерпретации высказывания. Несколько сложнее различать функцию кавычек
как дискурсивных индикаторов неологизма и модальную функцию дистанцирования от
используемой инновации, передачи отношения продуцента дискурса к обозначаемому
понятию. Поскольку в фазе узуализации неологизмы еще не являются полноправными
единицами словарного состава, продуцент дискурса может с помощью кавычек давать
понять реципиенту, что новая номинация всего лишь «заимствована» из дискурса другой
языковой личности и (пока) не принимается им безоговорочно. Маркирование неологизма
кавычками может также предварять дальнейшее метаязыковое толкование. Например:
(1) Die „Kampfradler― sind in der deutschen Hauptstadt gefürchtet. […] Sie fahren schneller als
manches Auto, sie halten sich kaum an irgendwelche Verkehrsregeln. Vor allem aber: Man
hört sie als Passant kaum. Und wenn man sie erst einmal sieht, dann ist es in der Regel schon
zu spät. (Nürnberger Nachrichten, 16.04.12)
Помимо кавычек, в качестве дискурсивных индикаторов неологизма могут
использоваться также такие приемы графического выделения, как курсив, разрядка,
написание прописными буквами, жирный шрифт и пр.
2. Дискурсивная индикация посредством прилагательного sogenannt
В случае дискурсивной индикации неологизма посредством прилагательного sogenannt
обозначенный выше имплицитный посыл графического знака кавычек передается
посредством вербализации метаязыковой информации. Например:
(2) Joseph S. Blatter dagegen hat die Plauder-Plattform [Twitter] gerade erst für sich entdeckt.
[…] Mehr als 20000 sogenannte Follower hat der 71-Jährige binnen weniger Tage um sich
geschart. (Nürnberger Zeitung, 16.06.10)
Поскольку оба дискурсивных индикатора – кавычки и прилагательное sogenannt –
выполняют в дискурсе сходные функции, часто они используются совместно. Выбор
прилагательного sogenannt в качестве дискурсивного индикатора свидетельствует о том, что
следующий за ним неологизм знаком, по меньшей мере, части языкового сообщества и уже
находится в употреблении. Вместе с тем, используя дискурсивный индикатор sogenannt,
продуцент дискурса как бы снимает с себя ответственность за данную инновацию, ссылаясь
на уже существующее словоупотребление.
3. Дискурсивная индикация посредством отсылки к практике употребления
инновации в дискурсе другой индивидуальной языковой личности
Дискурсивная индикация неологизма может совершаться с помощью комментирующей
или критической отсылки к другому индивидуальному дискурсу. Продуцентами таких
3 URL: http://www.owid.de/wb/neo/start.html
4 URL: www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora
165
дискурсов являются, как правило, известные личности – социальные лидеры, чьи мысли,
суждения, идеи служат образцом для других (opinion leaders). Дискурсивная индикация
осуществляется чаще всего посредством парентетических вставок типа um es mit den Worten
von X zu sagen, wie X sagt, mit X zu sprechen, wie es X gerne nennt. Например:
(3) Auffällig ist das miserable Abschneiden der Privaten. Nur ein Preisträger (Stefan Raab)
stammt vom „Unterschichtenfernsehen― (so nennt Harald Schmidt seine ehemaligen
Arbeitgeber heute liebevoll), alle anderen Sieger kommen von ARD oder ZDF. (Rhein-
Zeitung, 09.03.05)
Вероятно, наличие авторитетной языковой личности в качестве популяризатора нового
слова можно рассматривать как одну из потенций распространения и закрепления его в
языке.
4. Дискурсивная индикация посредством отсылки к сложившейся практике
употребления инновации в определенном дискурсивном сообществе
Посредством отсылки к практике употребления инновации в определенном
дискурсивном сообществе, где она приобретает статус узуальной единицы, продуцент
дискурса может либо сигнализировать о принадлежности к данной социальной группе, либо
показать, что он знаком с новыми языковыми веяниями в данном дискурсивном сообществе,
однако не идентифицирует себя с ними. Подобная отсылка может осуществляться
посредством таких дискурсивных индикаторов, как um es im Jargon von Xs auszudrücken, wie
die Xs sagen, um in der Sprache von Xs zu sprechen и др. Например:
(4) Wertloses Holz, das wirklich keiner mehr braucht und das irgendwo verrotten sollte, holen
sich Designbegeisterte für teuer Geld in den Wohnraum. „Upcycling― nennen Branchen-
experten diesen Trend. (Mannheimer Morgen, 30.05.12)
Примеры, в которых используется данный вид дискурсивной индикации,
демонстрируют наиболее типичные пути распространения инноваций в языковом
сообществе – от дискурса специалистов к дискурсу неспециалистов, от дискурса
субкультуры к общенародному языку, от простонародного дискурса к дискурсу
интеллигенции, от одного языкового сообщества к другому и т. п.
5. Дискурсивная индикация посредством метаязыковых толкований
Используя инновацию, продуцент дискурса может попытаться объяснить
реципиенту ее смысл или проинтерпретировать тем или иным способом. Так он может
продемонстрировать собственную компетентность и искушенность в вопросах
современного словоупотребления и/или выразить свое отношение к обозначаемому
объекту или явлению и тем самым обеспечить реципиента новой объективной или
субъективно-оценочной информацией. Метаязыковые толкования способствуют прежде
всего пониманию значения инновации. В зависимости от коммуникативной ситуации и
коммуникативной интенции продуцента дискурса метаязыковое толкование выбирается и
конструируется по-разному – на уровне слова, на уровне предложения или на уровне
сверхфразового единства. Например:
(5) Immer häufiger gebe es Überforderung durch „Helikopter-Eltern―, die mit übertriebenem
Ehrgeiz die Kinder überwachten und sie „von einem Förderkurs in den anderen―
schickten. (Braunschweiger Zeitung, 23.06.12)
6. Дискурсивная индикация посредством метаязыковых комментариев
В отличие от метаязыковых толкований, посредством метаязыковых комментариев
продуцент дискурса реализует более глубокое, интерпретирующее понимание инновации и
стоящего за нею мыслительного содержания. Его первичная цель не объяснить смысл
инновации, а выразить собственное ценностное отношение к новой лексической единице
и/или новому концепту. Общее языковое знание пересекается в таких метаязыковых
комментариях с индивидуальными и групповыми установками психологического,
социокультурного, этического и нормирующего характера. Посредством метаязыковых
комментариев продуцент дискурса может оценивать новую лексическую единицу по
критериям адекватности, уместности, удачности, соответствия норме, а также выдвинуть
166
свои предположения о мотивах создания данной инновации, о ее источнике и времени
происхождения, популярности, употребительности, функциональной направленности,
оценочности и пр. Для этого он может прибегать к различным метаоператорам, например, к
таким, как Modewort, Schlagwort, Unwort, ein häufig / viel gebrauchtes / aktuelles Wort,
schwachsinnige / zeitgeistige Bezeichnung и др. При этом продуцент дискурса комментирует
инновацию, как правило, на бытовом ненаучном уровне, демонстрируя обыденное
общенародное языковое сознание. Например:
(6) In den letzten Wochen ist ein Wort in Umlauf gekommen, das ich bisher nicht kannte. Zuerst
begegnete es mir als Singular maskulin: der Russlandversteher. Nun, da es offenbar mehrere
dieser Gattung zu geben scheint, kommt häufig der Plural zur Anwendung: die
Russlandversteher. […] Beim erstmaligen Hören hatte ich geglaubt, Russlandversteher würde
anerkennend gebraucht […]. Was mich überraschte und verwunderte, war der herabsetzende
Sinn, in dem dieses Wort gebraucht wurde. Russlandversteher wird nicht nur kritisch, sondern
abwertend verwendet, mitunter sogar als Schimpfwort. [Süddeutsche Zeitung, 29.03.14].
Из приведенного примера видно, что, анализируя и комментируя инновацию с
языковой точки зрения, пытаясь описать особенности ее употребления, оценить ее языковые
свойства и потенции, продуцент дискурса выступает как наивный лингвист и опирается на
собственный языковой опыт, зависящий от возраста, социального положения,
образованности и прочих характеристик. Кроме того, критика языкового употребления со
стороны продуцента дискурса сопровождается общественно-критической рефлексией,
которую можно рассматривать как показатель тенденций развития общества.
Подведем итоги. На стадии узуализации лексической инновации продуцент дискурса
может использовать разные способы дискурсивной индикации, помогающие ему избежать
коммуникативной неудачи, а реципиенту дискурса – распознать и верно интерпретировать
инновацию. Дискурсивная индикация неологизмов выступает, таким образом, как
адаптационная дискурсивная стратегия, оптимизирующая речевое общение и снижающая
риск непонимания, неэффективности коммуникации [Вепрева 2014: 9]. Необходимость
дискурсивной индикации зависит от коммуникативной ситуации, от предполагаемого
реципиента дискурса и особенно от оценок и намерений продуцента дискурса. Очень часто,
особенно на начальном этапе узуализации неологизма, могут использоваться одновременно
несколько дискурсивных индикаторов, чтобы максимально обеспечить адекватное
понимание инновации и ее интерпретацию.
Дискурсивные индикаторы неологизмов несут в себе большой эвристический
потенциал и помогают неографам фиксировать процессы обновления лексики на начальной
стадии ее узуализации. Посредством анализа дискурсивных индикаторов можно выявить
уникальные особенности вхождения и закрепления неологизма в языковом сообществе, что
особенно ценно для его дальнейшего лексикографического описания. С течением времени
необходимость в специфической дискурсивной индикации новых слов, по-видимому,
отпадает. Отсутствие дискурсивных индикаторов можно рассматривать как симптом
вхождения лексической инновации в общее употребление, ее принятия языковым
сообществом и интеграции в лексико-семантическую систему языка, то есть лексикализации.
Литература
Вепрева 2014 – И. Т. Вепрева. Метаязыковой привкус эпохи. Избранные работы
последнего десятилетия. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014.
Келлер 1997 – Р. Келлер. Языковые изменения. О невидимой руке в языке / пер. с нем.
и вступ. ст. О. А. Костровой. Самара: Издательство СамГПУ, 1997.
Kinne 1998 – M. Kinne. Der lange Weg zum deutschen Neologismenwörterbuch // Teubert,
Wolfgang (Hg.): Neologie und Korpus. Tübingen: Narr, 1998. S. 63-110.
Klockow 1980 – R. Klockow. Linguistik der Gänsefüßchen. Untersuchungen zum Gebrauch
der Anführungszeichen im gegenwärtigen Deutsch. Frankfurt a. M.: Haag und Heerchen, 1980.
167
Steffens, al-Wadi 2013 – D. Steffens, D. al-Wadi. Neuer Wortschatz. Neologismen im
Deutschen 2001 – 2010. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2013. 2 Bände. LVII/577 S.
168
В. В. Никульцева
ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВО ФЕДОРА СОЛОГУБА:
ОПЫТ СЛОВАРЯ НЕОЛОГИЗМОВ
Неолексикон1 Фѐдора Сологуба (далее – Ф. С.), составляющий одну из ярких граней его
поэтического языка, до настоящего времени не был объектом пристального внимания
лексикографов. Наличие полного собрания стихотворений и поэм Ф. С. в 3-х тт. (далее
ПССиП), работа над которым завершается в Пушкинском Доме М. М. Павловой и
Т. В. Мисникевич, устраняет те проблемы, которые представлялись лексикографу
трудноразрешимыми еще 5 лет назад: ограниченная доступность прижизненных изданий,
разрозненный и несистематический характер публикаций отдельных поэтических
произведений, отсутствие датировок в ряде авторских сборников. В настоящее время
сложились условия для создания словаря неологизмов этого талантливейшего поэта
Серебряного века.
В рамках проводимого нами исследования поэтического неолексикона конца
XIX − начала XX вв. предпринята попытка создания еще одного лексикографического труда –
«Словаря неологизмов Фѐдора Сологуба». По своей концепции он идентичен нашему
«Словарю неологизмов Игоря-Северянина» [Никульцева 2008].
Поскольку работа по составлению Словаря началась задолго до выхода в свет ПССиП
Ф. С., нами было осуществлено масштабное текстологическое исследование, в результате
которого изучен значительный корпус текстов: опубликованные при жизни Ф. С.
стихотворения и поэмы, частично включенные автором в собрания сочинений (изд-ва
«Шиповник» в 12-ти тт. и «Сирин» в 20-ти тт.), а также не вошедшие в собрания,
опубликованные в периодических изданиях и альманахах стихи и, помимо этого, доступные
беловые и черновые авторизованные материалы. Основное рукописное наследие Ф. С.
сосредоточено в архивах Санкт-Петербурга и Москвы: ОР ИРЛИ, ф. 289; ОР РНБ, ф. 724;
РГАЛИ, ф. 482; РО РГБ, ф. 371, ф. 746 и др. Изучение архивных материалов, а также
прижизненных изданий стихотворений Ф. С. в московских и петербургских библиотеках
помогло в составлении картотеки его поэтических неологизмов, насчитывающей около 1000
ед.
Ф. С. введены в оборот неологизмы, в большинстве своем отличающиеся
прозрачностью семантики и строения и потому часто незаметные в художественном тексте.
Однако лексико-семантический и деривационный анализ неологизмов показывает, что,
несмотря на эти признаки, они занимают законное место не только в поэтическом языке
Ф. С., но и в языке поэзии Серебряного века.
Как показывают данные статистического анализа, в неолексиконе Ф. С. превалируют
прилагательные и причастия. Преобладание адъективных слов объясняется тем
обстоятельством, что Ф. С. активно использовал сложные составные новообразования типа
утомительно-холодный, не удовлетворяясь подбором обычных для поэтической речи
эпитетов. Прилагательные чисто-серебристый, рубино-алый, обаятельно-лукавый и др.
(около 500 ед., что составляет почти половину от всех новообразований) определяют особый
синкретизм ощущений лирического героя и состояния бытия: Где ты, далекий мой друг?
Изредка бросишь мне бедный цветок, / И улыбаясь уйдешь, нежно-застенчив иль нежно-
жесток. («Ночь, тишина и покой. Что же со мной? Кто же со мной?..», 1913).
Введение сложносоставных образований в поэтический текст − черта, характерная для
языка Серебряного века; так, повышенный интерес к применению синтетических эпитетов
проявляли И. Анненский, В. Иванов, А. Белый, А. Ахматова, М. Цветаева, а также другие
1 Термин неолексикон применяется в наших работах для обозначения совокупности индивидуально-авторских
лексических единиц.
169
поэты, творившие на рубеже веков и вовсе не склонные к словотворчеству.
Из остальных прилагательных значительную по объему группу составляют
сложносуффиксальные образования типа брюхообильный, звездоокий, огнекрылый.
Стилистически они не отличаются от сложносоставных новообразований и нужны автору как
семантически емкое средство передачи психологического и физического состояния человека
и окружающей его среды: Нектара не один фиал, / И всех амброзий там помногу, / И кто б
все это променял / На змеезрачную миногу! («Мирре Лохвицкой», 1900).
На последнем месте по частоте употребления у Ф. С. находятся суффиксальные,
циркумфиксные и префиксальные адъективные новообразования, которые, собственно, и
представляют интерес как уникальные окказиональные слова в неолексиконе Серебряного
века. Это авторские неологизмы типа безгрѐзный и кремный, особо любимые А. Белым и
Игорем-Северянином2 (далее И.-С.), бытийский, горизонтный (встречается также у
В. Каменского), копытастый, лампный, шелестинный / шелестиный (отмечено также у
А. Н. Толстого) и др. Образованные по стандартным моделям, эти слова органично входят в
речевую ткань художественного текста, часто выступают синонимами к узуальным словам,
потому обратимы и взаимозаменяемы: И в звонах ласково-кристальных / Отраву сладкую
тая, / Была милее дев лобзальных / Ты, смерть отрадная моя! («Любовью легкою играя…»,
1901.)
Субстантивные дериваты производятся путем сложения слов и основ, причем как
полных, так и сокращенных (голопляс, всебытие, солнцебог; Шато-Гуляй; комсобранье,
совгражданка, совмать, совслужащий); сложносуффиксальным способом (кратколетник,
босошлѐп, речеводство, тайнодел); суффиксацией (яркоцветность, дискантик, кафриха,
конизм, лошакизм), в том числе нулевой (разул, пох); циркумфиксацией (согодник),
префиксацией (безочарованность); лексико-семантическим способом (облом „побитый
человек‟, аристократ „тот, кто много и долго орет‟).
Особую прелесть художественному тексту придают сложные новообразования,
многопланово и образно характеризующие героев, их характеры, внутренний мир,
отношение к действительности, окружающую обстановку и т. п. В большинстве случаев
окказиональные существительные являются заменителями общепризнанных понятий и
вещей: Малыш, отцу послушный, / Зелѐный шар несет, − / На нитке равнодушной /
Порывный газолет. («Малыш, отцу послушный…», 1913.)
Из глагольных слов в словотворчестве Ф. С. наиболее частотны причастия, за ними
следуют глаголы и деепричастия. Большинство причастий, представляющих собой сложные
слова, образованы путем сращения исходного причастия с наречием образа действия:
безвинно-страдающий, безумно-осмеянный, буйно-кипящий, вечно-цветущий, глухо-
спущенный, нежно-спасающий и мн. др. Остальные слова произведены посредством
суффиксации от реальных или гипотетических производящих основ (закопыченный от
закопытить*, захоженный от заходить* „исходить вдоль и поперек‟, облелеянный от
облелеять* (ср. с диал. „обступить; окружить; разлиться вокруг чего-либо; наползти‟; в том
же значении, что и в языке Ф. С., это слово использует П. Антокольский: любовью
облелеянные мучения). Префиксацией образованы недостижѐнный, неиденный (последнее
также у В. Брюсова и З. Гиппиус), префиксоидным способом – полуисточенный. Наиболее
яркими в словотворческой палитре Ф. С. являются не сложные образования, которые скорее
воспринимаются как случаи нарушения языковой нормы, некие «поэтические вольности и
капризы» автора, а аффиксальные производные, образованные на базе потенциальных
глаголов: Разговор запаужен, но льется быстро. («Тихий свет отбросив вверх, на
потолок…», 1913.)
Окказиональные глаголы Ф. С. не отличаются оригинальностью ни по способам
словопроизводства, ни по моделям, ни по семантическим и стилистическим свойствам. Они
2 Дефисное написание псевдонима выбрано в соответствии с волей поэта; см.: Никульцева В. В. История одного
литературного псевдонима // Русская речь. № 3. 2009. С. 96−98.
170
больше напоминают просторечные, деформированные, ошибочные формы, построенные на
базе префиксации (окадить, просвистнуть), суффиксации (фиолить), суффиксации с
постфиксацией (ближиться), суффиксации с префиксацией и постфиксацией
(обыдиотиться), постфиксации (позавидоваться), редеривации (щенить). Подобные
новообразования классифицируются как авторские с некоторой степенью условности,
поскольку они близки по семантике и стилистическому употреблению к просторечным и
диалектным словам. Однако в редких случаях специфика нового слова ощущается, что
достигается использованием в качестве производящих слов заимствований, а также
вхождением окказионального слова как недостающего элемента в антонимические и
синонимические ряды: Разлетайся, одуванчик, / Ты, фиалочка, фиоль. («Обдувайся,
одуванчик…», 1913.) Данное новообразование явно заимствовано И.-С. у Ф. С. Ср.: Всех
улыбкой малинит, всех глазами фиолит... (И.-С. «Рябиновая поэза», 1916); Так пой же, пой
же нам, фиоль же, / Струи свой ароматный свет! (И.-С. «Сологуб», 1918).
Деепричастия в неолексиконе Ф. С. редки. Например, слово зальдивши образовано на
базе окказионального глагола зальдить*, гипотетического в сологубовском языке, но
присутствующего в неолексиконах И.-С. и Н. Асеева.
Незначительную по численности группу составляют наречия. В основном это
собственно-характеризующие и сравнительно-уподобительные адвербиальные слова,
образованные суффиксацией (алмазно3, апокалиптически, свирельно), сложением (детски-
доверчиво, заразительно-звонко, печально-медленно) и сращением (впереплѐт). Наречные
неологизмы в первую очередь служат средством номинации, лишь в редких случаях
происходит реализация метафоры за счет введения адвербиального слова в состав тропа:
<...> Идет история неспешными стопами, / Печально-медленно свершается прогресс <…>
(«Сонет», 1891.) Ср. с метафорическими конструкциями: У каждого моста / Ручейно
проблещет печаль. («В неоглядную даль», без даты).
Слова категории состояния образуют малочисленную группу на фоне адъективных,
субстантивных и глагольных неологизмов Ф. С. Одни новообразования (бездыханно,
покорно, строго) перешли в этот лексико-грамматический класс из наречий, другие (мѐртво-
бездумно, сладко-покойно) построены на основе сочинительной связи двух наречий.
Необычное употребление наречных слов в качестве предикативов рождает новое звучание
поэтического текста, характеризуя психическое и физическое состояние человека и
окружающего мира: Там прозрачно тучи тают, / Там покорно и мертво…(«Я смотрю в
немую твердь…», без даты).
В процессе моделирования новых слов поэт в первую очередь делает выбор в пользу
имен, что сближает его поэтическое словотворчество с творчеством В. Иванова, В. Брюсова,
Д. Мережковского, М. Волошина, З. Гиппиус, А. Блока и др. поэтов-символистов, которые,
как свидетельствуют данные составляемой нами картотеки неологизмов поэтов конца XIX −
начала XX вв., тоже не отдавали предпочтения глагольным новообразованиям.
При включении сологубовских неологизмов в сводный словник неологизмов поэтов
Серебряного века (на данный момент он включает новообразования 37 авторов и состоит из
более чем 12000 слов) обнаружилось, что ряд словоновшеств, употребляемых Ф.-С.,
встречается в других неолексиконах. Сам факт наличия идентичных неологизмов не является
чем-то уникальным. На это указывал еще Д. Н. Шмелев: «Новообразования могут возникать
независимо у различных авторов (поскольку словообразовательные модели остаются теми
же), но каждый раз они воспринимаются именно как индивидуально-контекстные
новообразования». [Шмелев 1964: 9]. Однако в процессе составления авторских словарей
наибольшие трудности вызывает именно фиксация идентичных неологизмов.
Стоит отметить, что словари языка писателя отражают те языковые средства, которые
использует тот или иной автор. Словари же неологизмов отдельных авторов фактически
3 В Большой словарной картотеке ИЛИ РАН отмечаются только позднейшие случаи использования этого слова,
например, М. Шолоховым.
171
фиксируют употребление индивидуально-авторского слова, а не квалифицируют его как
принадлежащее конкретному писателю. В процессе работы с индивидуально-авторскими
словарями не только у читателя-дилетанта, но и у исследователя-филолога создается
иллюзорное впечатление, что речь идет о слове, придуманном автором (авторами), имя
которого (которых) стоит на обложке словаря или указывается в аннотации. На самом деле
подобная фиксация неологизма всего лишь иллюстрация использования того или иного слова
автором, а не авторского слова.
Столь поверхностное исследование неолексикона того или иного писателя порождает
проблему функционирования идентичных новообразований (дублетов, омонимов,
паронимов, вариантов и т. д.), вторичных (производных, лакунарных) неологизмов, разного
вида заимствований и аллюзий в неолексиконах писателей и их авторства по отношению к
тому или иному слову. С возникновением новых индивидуально-авторских словарей эта
проблема все настойчивее требует внимания лексикографа. По нашему убеждению,
лексикограф нового поколения, обладая не только отличной языковой компетентностью,
литературоведческой подготовкой, но и текстологическими навыками, должен решить
проблему идентификации авторского слова и отражения его в словаре.
Для установления авторской принадлежности неологизма необходимы точные и
обширные сведения, которые дает русистике литературоведение. Эту проблему поможет
решить пока только мыслимый в перспективе, многогранный и емкий «Словарь поэтических
неологизмов Серебряного века». К сожалению, создаваемая в настоящее время
Информационно-поисковая система «Словари русской поэзии Серебряного века» (на основе
электронной версии «Словаря языка русской поэзии ХХ века») не удовлетворяет в должной
мере потребностям современного исследователя неолексиконов поэтов Серебряного века.
Нас в первую очередь интересует составляемый в рамках этого исследования «Словарь
новых слов» Л. И. Колодяжной и Л. Л. Шестаковой. Как отмечают исследователи,
«предлагаемый “Словарь новых слов” представляет собой выборку соответствующей
лексики из “Словаря языка русской поэзии XX века”, источником для которого послужило
творчество десяти поэтов: Анненского, Ахматовой, Блока, Есенина, Кузмина, Мандельштама,
Маяковского, Пастернака, Хлебникова и Цветаевой» [Словарь]. Выбор авторов не случаен.
Произведения представленных в Словаре поэтов в той или иной степени опубликованы как в
научной серии «Библиотека поэта», так и в виде академических и добросовестно
подготовленных неакадемических ПСС. Как видно из представленного в «Словаре новых
слов» перечня, Ф. С. в число приоритетных поэтов, склонных к словотворчеству, не включен.
Игнорирование неолексикона старших символистов значительно обедняет этот важный
лексикографический труд.
Как отмечалось ранее, была предпринята попытка выявить те неологизмы, которые
составляют не только часть неолексикона Ф. С., но и входят в неолексиконы его собратьев по
перу. На данном этапе работы таких идентичных неологизмов насчитывается не менее 50.
Они входят как в символистские неолексиконы, так и в неолексиконы представителей других
направлений и литературных школ. Выявленные идентичные неологизмы можно разделить
на 2 группы: дублеты (абсолютные двойники и омонимы) и слова, находящиеся в
отношениях производности.
К первой группе могут быть отнесены существительные: рдяность у Ф. С. и
А. Белого; смехач у Ф. С., Велимира Хлебникова (далее В. Х.), И.-С.; солнцебог у Ф. С.,
А. Блока, В. Иванова, М. Волошина; янтарность у И.-С., Ф. С.; прилагательные:
безгрѐзный у А. Белого, Ф. С., К. Вагинова, голгофский у Ф. С., Н. Клюева; горизонтный у
Ф. С., В. Каменского; грустно-алый у А. Белого, Ф. С.; звездоокий у Ф. С., С. Городецкого;
зеленоокий у В. Нарбута, С. Городецкого, Ф. С.; лиловато-розовый у М. Волошина, Ф. С.;
мглисто-сырой у Ф. С., И-С.; нежно-жестокий у И.-С., Ф. С.; нерассветный у А. Белого,
Ф. С.; огнекрылый у В. Брюсова, Ф. С., А. Белого, Д. Мережковского, Н. Клюева, Н. Гумилева
и др.; огнеокий у В. Бенедиктова, Ф. С., В. Брюсова, В. Иванова, А. Блока; рыдальный у Ф. С.,
С. Есенина (далее С. Е.), В. Х.; таинственно-нежный у Ф. С., З. Гиппиус; таинственно-
172
тихий у Ф. С., М. Волошина; туманно-голубой у И. Бунина, Ф. С.; ярко-знойный у
П. Вяземского, Ф. С.; глаголы: зальдить у И.-С., Н. Асеева, Ф. С.; фиолить у И.-С., Ф. С.;
причастия: неиденный у Ф. С., В. Брюсова, З. Гиппиус; шелестиный / шелестинный у Ф. С.,
В. Каменского, А. Н. Толстого; наречия: алмазно у М. Волошина, И.-С., Ф. С.; безбольно у
Ф. С., А. Блока, В. Брюсова, Ю. Балтрушайтиса, М. Кузмина, И.-С.; звонно у С. Е., Ф. С.
Помимо дублетов, нами обнаружены пары слов, находящихся в отношениях прямой /
опосредованной производности (безгрезно у И.-С. − безгрѐзный у Ф. С., А. Белого,
К. Вагинова; надмирно у Б. Пастернака − надмирный у Ф. С., В. Брюсова, К. Бальмонта,
М. Горького; облелеев у В. Брюсова − облелеянный у Ф. С., И.-С.; опостенный у Ф. С. −
опостясь у М. Волошина; повелительно-нежно у К. Вагинова − повелительно-нежный у
Ф. С., развороженный у В. Иванова − разворожить у Ф. С., Мамина-Сибиряка, зальдивши у
Ф. С. − зальдить у И.-С., Н. Асеева, зальдевший у А. Блока).
Из-за ограниченного объема статьи мы лишены возможности рассмотреть все эти
словоупотребления в неолексиконах Ф. С. и др. поэтов XIX − XX вв. Приведем лишь один
пример употребления идентичных окказиональных слов.
Прилагательное рыдальный, обладающее значением „рыдающий‟, в «Словаре
неологизмов Велимира Хлебникова» Н. Н. Перцовой подается как слово, созданное поэтом-
будетлянином.4 Поюнности рыдальных склонов, / Знаюнности сияльных звонов / В венок
скрутились / И жалом многожалым / Чело страдальное овили. (В. Х. «Неголи легких дум..»,
1907).5 Однако это прилагательное с тем же значением «рыдающий» встречается у С. Е.:
Равнодушен я стал к лачугам / И очажный огонь мне не мил, / Где в окошко рыдальная
вьюга…(Вариант стихотворения «Неуютная жидкая лунность…», <1925>).6
Помимо этого, необходимо отметить, что слово рыдальный в процессе отбора
окказиональной лексики было нами найдено и в неолексиконе Ф. С.,7 где этому
новообразованию также свойственно значение «рыдающий», в одинаковой мере
проявляющееся в текстах С. Е. и В. Х. Таким образом, перед нами факт употребления
окказиональных дублетов, так называемых слов-«двойников». Ф. С. вводит неологизм в
текст более поздний, чем хлебниковский, но созданный ранее, чем вариант стихотворения
С. Е.: Хорошо огню на свете, / Пусть он даже погребальный, / Пусть его напев рыдальный /
На дороге вьюжной встретит. (Ф. С. «Яркий факел погребальный…», 1913).
Как видим, внешне неологизм первичен в неолексиконе В. Х. и мог быть известен С. Е.,
который отказался от его использования еще на этапе правки первоначального текста. Что же
касается введения этого новообразования в художественное пространство Ф. С., то здесь
допускается мысль о влиянии хлебниковского языка на язык не только футуристов, но и
символистов, сочувствующих футуризму, к каковым можно отнести и Ф. С., который в 1913 г.
отправился в турне по городам России вместе с А. Чеботаревской и своим протеже И.-С.
Результаты анализа идентичных слов, входящих в неолексиконы Ф. С. и современных
ему поэтов (В. Х., С. Е., И.-С., А. Белого и мн. др.), демонстрируют, как правило,
заимствованный характер дублетов в неолексиконах его собратьев по перу, что подтверждает
мысль М. М. Павловой о самобытности «настоянного на времени» языка Ф. С. и, прибавим к
этому, уникальности сологубовской неологии.
Приведем пример словарной статьи в представляемом нами лексикографическом труде.
РЫДÁЛЬНЫЙ, -ого, прил. Рыдающий. Хорошо огню на свете, / Пусть он даже
погребальный, / Пусть его напев рыдальный / На дороге вьюжной встретит. («Яркий факел
погребальный…», 1913; СС-2, т. 17, с. 40; ППСиП, т. II, кн. 2, с. 482.)
4 Перцова Н. Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова / Предисловие Хенрика Барана // Wiener
Slawistischer Almanach. Sonderband 40. Wien – Moskau, 1995. С. 310, 173. 5 Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Литературная автобиография. Стихотворения 1904−1916. М.:
ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 88. 6 Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 тт. (9 кн.). М.: Наука – Голос, 1995–2001. Т. 4. С. 313.
7 Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т. 17. Очарования земли. Стихи 1913 года. СПб.: Сирин, 1914. С. 40.
173
Суф. рыдать.
Ср. [В. Х. 2000, с. 88]: Поюнности рыдальных склонов, / Знаюнности сияльных
звонов / В венок скрутились / И жалом многожалым / Чело страдальное овили. («Неголи
легких дум..», 1907, 1914; ср. [Х. В. 1928–1933, т. II, с. 17, 279: «Нега-неголь», 1907;
«Поюнности рыдальных склонов», вариант, <1906 − 1907>.]
Ср. [С. Е. 1995-2001, т. IV, с. 313]: Равнодушен я стал к лачугам / И очажный огонь
мне не мил, / Где в окошко рыдальная вьюга… (Вариант стихотворения «Неуютная жидкая
лунность…», <1925>.)
Факт наличия идентичных неологизмов в поэтических неолексиконах Ф. С. и его
предшественников и современников свидетельствует не столько о процессах открытого
заимствования удачных слов, сколько о жизнеспособности отдельных неологизмов,
построенных по узуальным моделям, хотя не стоит отрицать и возможность взаимовлияния
поэтических систем, о чем говорили ранее Н. И. Харджиев, К. Г. Петросов, В. П. Григорьев и
др. исследователи поэтического языка Серебряного века и советской эпохи 1920–1930-х гг.
Литература
Никульцева 2008 – В. В. Никульцева. Словарь неологизмов Игоря-Северянина / Ин-т
рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН / Под ред. В. В. Лопатина. М.: Азбуковник. 2008.
Перцова 1995 – Н. Н. Перцова. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова /
Предисловие Хенрика Барана // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 40. Wien–Moskau.
1995.
Словарь – Словарь языка русской поэзии XX века / В. П. Григорьев (отв. ред. I−III
томов), Л. Л. Шестакова и др. // Информационно-поисковая система «Словари русской
поэзии Серебряного века» (на основе электронной версии «Словаря языка русской поэзии
ХХ века») [URL: http://www.lexrus.ru/default.aspx?p=2674].
Сологуб Ф. Полное собрание стихотворений и поэм в трех томах / Сост. и ред.
М. М. Павлова, Т. В. Мисникевич СПб.: Наука, 2012–2015.
Шмелев 1964 – Д. Н. Шмелев. Слово и образ. М., 1964.
174
О. Ю. Пашкина
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
СЛОВАРЯХ
Активным процессом в иноязычной лексике современного русского языка можно
назвать формирование грамматических омонимов. Термином грамматические омонимы мы
обозначаем совпадающие по звучанию и написанию слова разных частей речи, обладающие
близостью лексических значений. Например, новое аналитическое прилагательное анти-
эйдж/anti-age¹ в значении „такой, который продлевает молодость; антивозрастной‟ (анти-
эйдж медицина, анти-эйдж процедура, анти-эйдж клиника, ягоды «антиэйдж») и
существительное анти-эйдж/anti-age², имеющее лексическое значение „антивозрастные
процедуры (или средства)‟ (anti-age для лица и декольте; счастье – лучший анти-эйдж).
Результаты наших наблюдений, которые проводились на материале текстов средств
массовой информации в течение последних четырех лет, показывают, что омонимичное
совпадение иноязычных слов разных частей речи в настоящее время приобретает
регулярный характер. Грамматические омонимы в основном формируются на базе
существительных, аналитических прилагательных и наречий. В связи с этим актуальным
становится вопрос об отражении данного явления в современной лексикографии. Для
анализа нами были выбраны четыре словаря: «Современный словарь иностранных слов»
Л. П. Крысина (ССИС), «Толковый словарь русского языка начала XXI в. Актуальная
лексика» под редакцией Г. Н. Скляревской (АЛ) и «Новые слова и значения: словарь-
справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века» (НСЗ-90), «Словарь
новейших иностранных слов (конец XX – начало XXI вв.)» Е. Н. Шагаловой (СНИС).
Явление грамматической омонимии в различных типах современных словарей
фиксируется, во-первых, частично, во-вторых, различными способами. Прежде всего
необходимо отметить, что словари не отражают самый распространенный тип
грамматической омонимии – омонимию существительного и аналитического
прилагательного в препозиции (например, дисквалифицировать за допинг и допинг-проба;
заплатить за интернет и купить в интернет-магазине; заниматься фитнесом и сеть
фитнес-клубов). Это связано с тем, что в лексикографии аналитическое прилагательное в
препозиции принято трактовать не как самостоятельное слово, а как первую составную часть
сложного слова. В качестве первой составной части сложного слова, омонимичной
соответствующему существительному, в словарях отмечены, например, такие единицы: блог-
, брейк-, веб-, гала-, глэм-, даб-, дайв-, дайвинг-, диско-, интернет-, кантри-, лифтинг-,
мультимедиа-, пиар-, рейв-, ритейл-, рок-, рэп-, соул-, тату-, топ-, [СНИС]; бизнес-,
интернет-, рок-, спарринг-, фитнес-, шоу- [ССИС]; бизнес-, рок- [АЛ]; данс/дэнс-,
интернет-, клип-, мультимедиа-, панк-, хип-хоп-, хит- [НСЗ-90]. Приведем пример из ССИС:
ШÓУ, нескл., с. [< англ. show представление, зрелище]. 1. Яркое эстрадное
представление. Участвовать в шоу. 2. перен., неодобр. Нечто показное, рассчитанное на
шумный внешний эффект. Выборы превратились в политическое шоу.
ШÓУ-... [< англ. – см. шоу]. Первая составная часть сложных слов, имеющих значение
«относящийся к эстраде, пышным эстрадным представлениям», напр.: шоу-бизнес, шоу-
программа.
В лексикографических изданиях можно встретить отступления от данного принципа
подачи. Например, в АЛ существительное брейк-данс/брэйк-данс и неизменяемое
прилагательное брейк-данс/брэйк-данс описаны в разных словарных статьях.
Грамматическую функцию неизменяемого прилагательного в препозиции иллюстрируют
примеры с раздельным написанием: брейк-данс команда, брэйк-данс группа, брейк-данс
школа, брейк-данс шоу и другие. По-видимому, раздельное написание данных сочетаний не
позволяет авторам словаря признать их сложными словами. В этом же словаре
175
грамматическая омонимия слова онлайн представлена в отдельных статьях, в которых оно
описывается как существительное (делать бизнес в онлайне), наречие (банк работает
онлайн), прилагательное (он-лайн библиотека с ежедневным обновлением), начальный
компонент сложных слов (онлайн-доступ к информации, онлайн-анкетирование
посетителей сайта) и опорный (аптека-онлайн, тестирование-онлайн). Иноязычные слова
мультимедиа, хип-хоп толкуются в НСЗ-90 не только как имена существительные и первые
части сложных слов (мультимедиа-аппаратура, мультимедиа-данные; хип-хоп-исполнитель,
хип-хоп-фестиваль), но и как неизменяемые прилагательные (системы мультииедиа,
мультимедиа издание, стиль хип-хоп, мода хип-хоп).
Остановимся на том, как современные словари фиксируют другие (менее
распространенные) типы грамматической омонимии.
1. В разных словарных статьях описываются слова-омонимы, принадлежащие к разным
частям речи. Такой принцип лексикографической подачи представлен в большинстве
словарей (АЛ, СНИС, НСЗ-90), хотя количество иноязычных омонимов, зафиксированных
таким способом, невелико.
В АЛ подобным образом описаны такие омонимические ряды: существительное и
неизменяемое прилагательное брейк-данс/брэйк-данс, как уже упоминалось ранее;
неизменяемое прилагательное и существительное вамп; существительное и неизменяемое
прилагательное карго; наречие, существительное и неизменяемое прилагательное он-
лайн/онлайн; наречие, существительное и неизменяемое прилагательное офф-лайн/оффлайн;
существительное и неизменяемое прилагательное прет-а-порте; наречие и существительное
топлесс и некоторые другие. См. фрагменты словарных статей наречия и существительного
топлесс из АЛ:
Тóплесс¹, нареч. [англ. topless]. С обнаженной грудью. Позировать топлесс. <...>.
Тóплесс², нескл., м. [англ. topless]. Женский купальный костюм без верхней части, не
прикрывающий грудь. Купить топлесс. Модный топлесс. <...>.
В СНИС только 6 рядов грамматических омонимов представлены таким способом:
наречие, неизменяемое прилагательное и существительное нон-стоп; существительное
онлайн/он-лайн и наречие онлайн; существительное и наречие оффлайн/офлайн/офф-лайн;
неизменяемое прилагательное, существительное и наречие секси; существительное и
неизменяемое прилагательное стрейч/стреч/стретч; наречие топлесс/топлес/топ-лесс и
существительное топлесс/топлес. Приведем фрагменты словарных статей существительного
и неизменяемого прилагательного стрейч/стреч/стретч из этого словаря:
1. *СТРЕЙЧ, *СТРЕЧ и СТРЕТЧ, а, м. Сильно тянущийся материал, используемый
для изготовления одежды. Новые эффекты создают кусочки люрекса, блестки, нашитые на
такие «серьезные» ткани как твид, джерси, стреч. <...>.
2. *СТРЕЙЧ, *СТРЕЧ и СТРЕТЧ, неизм. прил. Сделанный из стрейча (см. 1). Носить
такую штуку можно не только летом, но и зимой: запросто надевать с легким пиджаком и
юбкой стрейч. <...>.
Данный способ фиксации омонимов разных частей речи используется и в НСЗ-90. В
этом словаре описаны, например, такие омонимы: неизменяемое прилагательное и
существительное колор-пойнт/колор-поинт; неизменяемое прилагательное и
существительное крейзи/крези/крэйзи; неизменяемое прилагательное, существительное и
наречие он-лайн/онлайн; неизменяемое прилагательное, существительное и наречие оф-
лайн/офлайн/оффлайн, существительное и неизменяемое прилагательное хип-хоп и
некоторые другие. Приведем фрагменты словарных статей неизменяемого прилагательного и
существительного колор-пойнт/колор-поинт из НСЗ-90:
КÓЛОР-ПÓЙНТ и КÓЛОР-ПÓИНТ, неизм. прил. Неравномерный по цвету, с
темными пятнами на морде, хвосте и лапах (об окрасе кошек, выведенных путем
скрещивания персидской и сиамской пород). <…> У него два родовитых перса окраски
176
колор-пойнт. <...>.
КÓЛОР-ПÓЙНТ и КÓЛОР-ПÓИНТ, а, м. и ж. Кот (кошка), выведенный
(выведенная) путем скрещивания сиамской и персидской пород. <…> Было представлено
более 250 кошек: шиншила, колор-пойнт, скотиш-фолд, турецкая ангора, русская голубая.
<...>.
Отметим, что во всех трех словарях зафиксированы ряды грамматических омонимов
онлайн и офлайн, однако в каждом словаре последовательность их подачи различная.
2. Показ использования слова в иной функции внутри словарной статьи с помощью
специальной пометы. Так, в СНИС и в НСЗ-90 словарные статьи некоторых иноязычных
существительных содержат специальную помету «в знач. прил.», указывающую на
возможность функционирования слова в атрибутивной функции в постпозиции. В качестве
примеров таких существительных, зафиксированных в СНИС, можно назвать: годе/годэ;
дьюти-фри; кастоди „услуги, предоставляемые юридическим лицом, осуществляющим
профессиональную деятельность по хранению и учету вверенных ему денежных средств и
ценных бумаг клиентов‟; квилт „современное искусство шитья (в т. ч. лоскутного); о
произведениях такого искусства‟; лаунж „легкая музыка для отдыха и релаксации‟; плей-офф
„система спортивных соревнований, при которой участник выбывает из турнира сразу после
проигрыша‟; фаст-фуд/фастфуд и многие другие. См. ниже фрагмент словарной статьи из
этого словаря:
ФАСТ-ФУД и ФАСТФУД, а, м. 1. Еда быстрого приготовления (горячие бутерброды,
пицца, пельмени и т. п.). <…>. Ежедневно каждый третий москвич покупает себе что-то
из фаст-фуда – пирожок, хот-дог или пиццу по цене от 7 до 200 руб. <…>.
2. Ресторан, кафе, рассчитанные на быстрое обслуживание большого числа
посетителей, где блюдо готовится, как правило, в присутствии посетителя из заранее
заготовленных полуфабрикатов. «Японская лапша» уже была представлена в нашей
рубрике. Сначала это был обычный многопрофильный фаст-фуд, где наряду с русским меню
предлагалось несколько видов японской лапши по очень скромным ценам. <…>. □ В знач.
прил. Обязательное присутствие пластмассовой посуды можно считать одним из главных
признаков заведений «фаст-фуд», наряду с быстротой выполнения заказов,
самообслуживанием и сравнительно невысокими ценами <…>.
На наш взгляд, избыточным можно считать использование пометы «в знач. прил.» в
словарной статье существительного стрейч/стреч/стретч, так как далее следует
самостоятельная статья для неизменяемого прилагательного стрейч/стреч/стретч.
Немалое количество существительных, словарные статьи которых включают помету «в
знач. прил.», имеется и в НСЗ-90, например: барбекю/барбекью; вамп; латте „горячий
кофейный напиток, состоящий из слоев горячего молока, кофе эспрессо и взбитой молочной
пены <...>‟; нон-профит „организация, не преследующая цели извлечения прибыли, не
занимающаяся коммерческой деятельностью‟; пэтчворк/пэчворк/петчворк/пэчворк
„лоскутное шитье; техника такого шитья; текстильное изделие, выполненное в такой
технике‟; экшн/экшен и другие.
Кроме того, в рассматриваемых словарях при описании некоторых прилагательных
используется помета «в знач. сущ.». Например, в словаре СНИС нам встретился единичный
случай использования данной пометы при описании иноязычного неизменяемого
прилагательного бризебл „хорошо пропускающий воздух за счет мембранной структуры или
пропитки (о материале)‟. В НСЗ-90 слово лайт дается как неизменяемое прилагательное со
значением „с пониженной калорийностью, низким содержанием жиров, сахара (о продуктах
питания, напитках), никотина (о сигаретах, сигарах); облегченный; легкий‟. Внутри этой
словарной статьи показывается использование лайт в значении существительного „продукт
питания, напиток такого состава, качества‟.
3. Омонимичные слова разных частей речи могут быть представлены в одной
словарной статье, при этом каждое значение нумеруется и сопровождается соответствующей
177
грамматической пометой. Среди рассматриваемых словарей такой принцип описания
используется в ССИС. Как многозначные единицы, имеющие разные грамматические
значения, в этом словаре представлены: аляфуршет (нареч., неизм. прил., сущ.), ассорти
(неизм. прил., сущ.), барокко (сущ., неизм. прил.), визави (нареч., сущ.), гала (сущ., неизм.
прил.), гофре (сущ., неизм. прил.), клѐш (неизм. прил., сущ.), комильфо (неизм. прил., сущ.),
нон-стоп (нареч., неизм. прил., сущ.), плей-офф (сущ., неизм. прил.), плиссе (сущ., неизм.
прил.), секонд-хенд (сущ., неизм. прил.), соло (сущ., нареч.) и некоторые другие. Примеры
словарных статей из ССИС:
КЛЁШ [< фр. cloche колокол]. 1. прил. неизм. Об особом покрое брюк, юбок: с
широким раструбом внизу. Брюки клѐш. 2. сущ., м. Брюки или юбка такого покроя. Модный
клѐш.
НОН-СТÓП [англ. non-stop]. 1. нареч. Безостановочно, без перерывов (обычно о
музыке, танцах, демонстрации кинофильмов и т. п.). Радиостанция передает музыку нон-
стоп. 2. прил. неизм. Исполняемый, демонстрируемый таким образом. Танцы нон-стоп. 3.
сущ. м., разг. Такая манера передачи, демонстрации чего-н. Музыкальный нон-стоп.
Таким образом, в современной отечественной лексикографии не существует единого
подхода в отражении явления грамматической омонимии. Единый принцип описания
грамматических омонимов может отсутствовать даже в рамках одного словаря, так как
нередко словари сочетают разные способы подачи омонимичных слов разной частеречной
принадлежности. Наиболее последовательно, на наш взгляд, омонимию разных частей речи
отражает АЛ, несмотря на небольшое количество зафиксированных в нем грамматических
омонимов. Однако справедливым будет замечание, что фиксация всех типов грамматических
омонимов в отдельных словарных статьях (включая широко распространенную омонимию
существительного и аналитического прилагательного в препозиции) может значительно
увеличить объем словаря и лишить его компактности. По этой причине нам представляется
возможным предложить иной способ словарного представления иноязычных
грамматических омонимов: в структуру словарной статьи можно ввести какую-либо
специальную помету для обозначения омонима (или омонимов) у иноязычного слова,
например, «грам. омоним» (грамматический омоним). Таким образом, омонимический ряд
будет описан в структуре одной словарной статьи, но при этом будет указано, что
рассматриваемые единицы являются омонимами.
Относительно порядка следования грамматических омонимов при их фиксации в
словаре можно выбрать один из трех подходов, предложенных Е. В. Мариновой:
хронологический, фактический и формальный [Маринова 2014: 47-48]. Так, при
хронологическом подходе необходимо сначала указывать функцию той части речи, «в какой
оно использовалось в “момент” появления в языке, затем указывается другая
морфологическая функция (функции)»; при фактическом подходе морфологические функции
фиксируются от наиболее частотной к менее частотной; при формальном подходе избирается
условная последовательность в подаче грамматических сведений [там же].
На наш взгляд, такая особенность большинства новых иноязычных слов, как
способность иметь грамматические омонимы, должна получать отражение в современной
лексикографии.
Словари
АЛ – Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под ред.
Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2007.
НСЗ-90 – Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века: В 3 т. // Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и Е. А. Левашова;
Ин-т лингвистических исследований РАН. СПб.: Дмитрий Буланин. т. 1. 2009; тт. 2, 3. 2014.
СНИС – Е. Н. Шагалова. Словарь новейших иностранных слов (конец XX – начало
XXI вв.). М.: АСТ, Астрель, 2009.
178
ССИС – Л. П. Крысин. Современный словарь иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2012.
Литература
Маринова 2014 – Е. В. Маринова. Класс полифункциональных слов русского языка в
сфере иноязычной лексики // Rossica Olomucensia LIII. Синкретизм и полифункциональность
в языке. Ladislav Vobořil a kol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. S. 41-49.
179
Р. В. Попов
«БЫТОВЫЕ» СОВЕТИЗМЫ КАК ОБЪЕКТ НЕОГРАФИИ
Советизмами в широком смысле называют слова, значения и фразеологизмы,
возникшие или ставшие употребительными в эпоху СССР и отражающие реалии советской
жизни [Протченко 1975; Шанский 1987]. Дальнейшая судьба таких единиц может быть
различной; часть из них выходит из узуса по причине исчезновения обозначаемых ими
понятий, предметов или явлений. Этот процесс завершился появлением в языке множества
«свежих» историзмов типа партком, партбюро, социалистическое соревнование, ударник
коммунистического труда, касса взаимопомощи и т. д. [Санджи-Гаряева 2009: 244]. Однако
ряд деактуализованных советизмов этого типа через некоторое время возвращается в
речевой оборот, или претерпевая семантические трансформации (ср. партия: „КПСС‟ →
„любая партия‟), или используясь в качестве средства выражения иронии и стеба («как
завещал нам Ильич»).
Чаще всего под советизмами понимают только идеологизированную лексику, так
называемые идеологемы: комсомол, передовик, линия партии, активист, светлое будущее,
народное хозяйство, пятилетний план, битва за урожай, идея, борьба. Но, как справедливо
считает З. С. Санджи-Гаряева, необходимо разграничивать идеологемы и советизмы,
поскольку «большой массив слов, возникших в советское время, не имеет прямой
идеологической окрашенности, т. е. далеко не всякий советизм – идеологема» [Санджи-
Гаряева 2009: 245]1.
Так, на фоне политизированной лексики теряется интереснейший пласт единиц с
семантикой и коннотациями советского быта: андроповка „дешевая водка, выпускавшаяся в
период руководства страной Ю. В. Андроповым‟ (НСЗ-90); варѐнка „джинсовая ткань,
подвергнутая варке для придания ей модного линялого вида‟ (НСЗ-80); дутики „дутые
сапожки, модные в 1980-х гг.‟; мыльницы „туфли, тапочки, штампованные из пластмассы‟
(НСЗ-80); давать, выбрасывать, достать (товар в магазине), отоваривать талоны,
карточки; заказ, стол заказов и т. п. Эти слова не несут идеологической нагрузки, но, как и
идеологемы, служат яркой «лексической приметой эпохи» [Козырев, Черняк 1998],
отражают особенности повседневной социально-бытовой жизни в СССР, передают
специфику восприятия мира советским человеком.
Таким образом, термин «советизм» неоднозначен, и для того, чтобы устранить
терминологическую несогласованность, требуется его атрибутирование. Можно предложить
называть такие советизмы, как варѐнки и достать, «бытовыми», понимая быт в самом
широком смысле. Исходя из этого к ним могут быть отнесены следующие наименования:
менингитка, шапка-петушок (головные уборы); левисы, мальвины, пирамиды, техасы
битловка, лапша, неделька (одежда, белье); «прощай, молодость», румынки, адидасы
(обувь); бабетта, гаврош, химия (прически); двушка, пятнашка, трѐшница, синенькая,
красненькая (монеты, денежные купюры); а также наполеонка – „треугольный картонный
пакет с молоком‟; горбатый, ушастый – „автомобиль «Запорожец»‟; мавзолей – „винный
магазин‟; раиска – „бутылка емкостью 0,33 л.‟; рассыпуха – „разливное вино‟; гнилуха –
„дешевое вино‟; клетка, сковородка – „танцплощадка‟; Вьетнам, Афганистан – „дебош,
драка‟; Пентагон – „женское общежитие‟; Бродвей (Брод) – „центральная улица‟, Гарлем –
„криминальный район‟ и т. д.
1 В общих толковых и фразеологических словарях советизмы и идеологемы, как правило, не
дифференцируются. Под помету «устар.» советизмы не попадают, но в словарных формулировках для них
могут использоваться энциклопедические ремарки типа «в СССР». Исключение составляет ФОС, где впервые
появилась хронологическая помета «сов.» («советское»): железный занавес, высшая мера социальной защиты,
а также дискурсивная помета «совидеол.» («советская идеология»): слуги народа, ум честь и совесть нашей
эпохи. Впрочем, «сферы действия этих помет часто пересекаются» [ФОС: 14].
180
Как видно, немалая часть советских «бытовизмов» содержит экспрессивно-оценочную
характеристику, следовательно, сфера функционирования этих единиц первоначально была
ограничена преимущественно разговорно-обиходной речью, включая ее сниженные,
субстандартные слои2. Используемые в газетной периодике слова типа стиляга, битлы,
шабашник, спекулянт, фарцовщик, голоса и подобные им обозначали негативные (с позиций
советской идеологии) явления советской действительности и имели соответствующие
оценочные коннотации. При этом выделяется другая часть лексем, совершенно нейтральных
в эмоционально-оценочном плане, например: бульонная, булочная-кафе, буфет-автомат,
котлетная, видеосалон, диско-бар. Эти безоценочные советизмы – номенклатурные
наименования – могли использоваться и в обиходной, и официальной речи (например, как
названия заведений общепита).
Таким образом, бытовые советизмы представляют собой разнообразные типы единиц с
довольно пестрым тематическим составом.
Несмотря на частотность употребления в живой речи, многие из «бытовых» советизмов
не попали в советские толковые словари и начали регистрироваться позже – в
постперестроечное время. Показательно, что в 90-х гг. ХХ в. они могли расцениваться как
инновации, хотя их появление в текстах периодики и художественной литературы этого
времени вторично и является уже «отраженным» употреблением. А первая регистрация
такого советизма в словаре и вовсе может произойти спустя десятилетия его реального
бытования в устной речи. Типичный пример – слово чебурашка. Выпуск бутылок емкостью
0,5 л с коротким горлышком (для пива, лимонада) был налажен в 1970-е гг. Видимо, тогда же
появилась эта шутливая номинация (после выхода на экраны известного мультфильма), но
НСЗ-90 отмечает слово чебурашка как неологизм 1990-х гг, так как первые примеры
употребления слова в письменном узусе датируются этим временем3.
Отсутствие подобных «бытовых» советизмов в толковых словарях советской эпохи
объясняется тем, что большие словари, как известно, регистрируют неологизмы с
неизбежным запозданием. Но для новой разговорной и сниженной лексики можно назвать
другую причину ее словарной лакунарности. Такую лексику и не предполагалось включать в
толковые словари. «В советское время попадание слова, например, в словарь проходило
через цензурное сито» [Гусейнов 2003: 23]. С идеологической точки зрения, публикация в
толковых словарях лексем типа фирма „о высококачественном изделии, изготовленном
известным зарубежным предприятием‟ (жарг.), фирмовый „изготовленный известной
зарубежной фирмой‟ (жарг.) (НСЗ-80) означала бы «легализацию» чуждого быта и
западного образа жизни и поэтому была в принципе невозможной.
Фиксации экспрессивно-оценочных «бытовых» советизмов препятствовал также
нормативный характер нашей лексикографии. Толковые словари, как известно,
ориентированы на кодификацию языковой нормы, и состав их источников строго ограничен
текстами художественной литературы. Разумеется, сниженная обиходно-бытовая лексика все
же попадала в словари, но только в тех случаях, когда ее использовали «классики», т. е.
авторитетные писатели и публицисты, да и то не в авторской речи, а в речи персонажей (см.
об этом [Берков 2004: 42; Маркасова 2011: 102]). Примеры словоупотреблений из живой
речи и периодики не привлекались. «Результат предсказуем – целые пласты лексики,
бытующие лишь в устной традиции, оказались в так называемой «мертвой зоне»
[Кожевников 2008: 34]. Сейчас концепция академических словарей пересматривается, в
частности, в БТС впервые введена помета «жарг.».
2 Не все советские по происхождению разговорные и сниженные неологизмы являются «приметой эпохи», так
как многие единицы сейчас нейтрализовались, переросли статус неологизмов, сохранили свои денотаты и
почти неотличимы от лексики иных исторических пластов. 3 Впервые слово чебурашка зарегистрировано в 1994 г. в СМА, где, как и в НСЗ-90, отмечено только одно его
значение – „бутылка емкостью 0,33 л.‟. Однако в НСЗ-90 представлены примеры, из которых видно, что слово
употреблялось и для обозначения пол-литровых бутылок (емкости 0,33 л. для «Пепси-колы» появились
несколько позже). В начале 1990-х гг. в чебурашки стали разливать водку.
181
Таким образом, многие «бытовые» советизмы, употреблявшиеся в разговорной речи
тех лет, хотя и попадали в тексты периодики, но, как уже говорилось, получали возможность
словарной фиксации значительно позже своего фактического появления4. Показательно, что
в современных словарях у этих слов, как правило, нет хронологических помет, и «советский
след» (метафора З. С. Санджи-Гаряевой) в них отражается редко, так что этот пласт
советизмов «рассыпается» по разным нормативным и субстандартным словарям.
С 1970-х гг. началось издание серийных неологических словарей ИЛИ РАН (НСЗ, НРЛ
и СНС), в которых тексты периодики впервые стали использоваться как лексикографическая
база. Как отмечает А. А. Бурыкин, «между толковым словарем общего типа и любым
словарем новых слов всегда будет видна разница в подаче материала и, главное, в
источниках» [Бурыкин 2006: 3]. Неологические словари – это издания с совершенно иной
концепцией выбора источников, которая как раз обосновывает необходимость не только
обрабатывать тексты СМИ (а эта работа велась при создании Большой словарной картотеки),
но и формировать на их основе корпус словаря. Не случайно Н. З. Котелова и Ю. С. Сорокин
в предисловии к НСЗ-60 дважды подчеркнули это существенное отличие десятилетнего
словаря от толкового словаря общего типа: «[в НСЗ] обильно, в отличие от толковых
словарей, цитируются источники прессы и периодики»; «имеющиеся словари не
ориентированы в такой же степени на эти материалы [прессы и периодики]» [Котелова,
Сорокин 1971: 12-13].
Среди выходящей в советское время словарной продукции именно серийные издания
НСЗ, НРЛ и СНС оказались более свободны в плане фиксации в них коллоквиальной
бытовой лексики, включая жаргонную и просторечную, которая не могла быть полноценно
описана ни в других академических, ни тем более в популярных толковых словарях. В
«Предисловии» к НСЗ-70 Н. З. Котеловой пришлось отстаивать возможность
лексикографирования жаргонной лексики. Так, в качестве примеров грубо просторечных
слов и выражений, жаргонизмов, употребление которых «требует чрезвычайной
осторожности», она приводит такие лексемы, как гробануться, лабух, не кисло, опупеть,
откинуть копыта, пенсы, полбанки, отпад, попсовый, прикольный, пшено, распсиховаться,
слинять, шизик. Показательно, что только 6 единиц из 14 далее получили описание на
страницах НСЗ-70: шизик, полбанки, попсовый, гробануться, слинять, откинуть копыта.
Несмотря на эти уступки, словари-«десятилетники» (в особенности «перестроечный»
НСЗ-80) более полно, в отличие от общих толковых словарей тех лет, регистрируют
обиходно-бытовую и разговорно-профессиональную лексику и, на наш взгляд, достаточно
хорошо отражают динамику пополнения фонда лексических инноваций в этой сфере
русского языка советского времени (точнее, в его письменной форме, где используются
разговорно-сниженные единицы). Долгое время (вплоть до выхода БТС, НСЗ-70, НСЗ-80)
ежегодные выпуски НРЛ были, пожалуй, единственными словарными изданиями, где
фиксировались жаргонизмы и экспрессивно-сниженная лексика.
Таким образом, неологические словари ИЛИ РАН являются достоверным источником
для составления словарей разговорной лексики советской эпохи. В частности, они позволяют
очертить «нижнюю» хронологическую границу включенных в них «бытовых» советизмов.
Это дает возможность датировать (с разной степенью точности) появление и
распространение таких единиц, выявляя их специфические, обусловленные временем
4 Подтверждением перехода неологизмов в общесловарный фонд считается фиксация их в толковых словарях
без хронологических помет: «Данный этап свидетельствует о состоявшемся процессе узуализации»
[Плотникова 2006: 129]. Но в отношении неологизмов разговорно-обиходного употребления абсолютизировать
этот критерий нельзя по причине нормативного характера нашей лексикографии. Выводы об узуализации или
деактуализации «бытовых» советизмов, которые отсутствуют в толковых словарях ХХI века, надо делать,
исходя из инкорпорированности этих единиц в современный узус (скажем, последнего десятилетия). Например,
слова брежневка до сих пор нет ни в одном общем словаре (при наличии хрущѐвки), в то время как оно
довольно частотно во многих регионах. В НСЗ-90 брежневка отмечена, соответственно, как неологизм 90-х,
хотя устная традиция употребления этого слова складывается, вероятно, с 1970-х гг.
182
коннотации, содержащиеся в аутентичных иллюстративных примерах, которые являются
«документом эпохи»5. Приведем примеры из НСЗ-80: Ничего себе юбочка, кстати,
«баллон», называется. В таких теперь модные девчонки по Невскому шастают; – Вот за
этими «мыльницами», как их называют, у нас в Ташкенте девчонки сходят с ума; Недавно,
например, о «варенках» и не помышляли. Считалось, пестрые джинсы – явление
исключительно зарубежное.
В этом же десятилетнике описаны впервые появившиеся в периодике и
художественной литературе в 1980-х гг. (или несколько ранее) лексемы, которые входят в
состав исторически изменчивых тематических групп, таких как одежда: аляска, брезентуха,
дутик – куртки; кепка-аэродром; бананы, бермуды – брюки, варѐнки, монтаны – джинсы;
обувь: аляски, дутики, луноходы – сапоги, вельветки, мыльницы – туфли, вибрамы –
ботинки; манная каша – подошва обуви; бытовая аппаратура: двухкассетник, кассетник,
магнит – магнитофон; алкоголь: бескозырка, винт – пробки для бутылок, краснуха,
марганцовка – вино; здания, помещения: кафе-стекляшка, квартира-распашонка, комок –
комиссионный магазин; транспорт: мыльница – автомобиль «Запорожец», канарейка,
луноход – милицейский автомобиль (желтого цвета с голубой полосой) и мн. др.
Не раз отмечалось, что серийные издания НСЗ, НРЛ, и СНС «непредвзято
регистрируют» лексические инновации советского прошлого [Черняк 2006: 171], «без
конъюнктурного осовременивания» [Левашов 1997: 4]. В этом их преимущество перед
появляющимися в последнее время словарями и энциклопедиями, которые нередко
отличаются политизированностью, пейоративной оценочностью по отношению к
описываемому объекту, см. [Беловинский 2015]. Кроме того, большая ценность
неологических словарей заключается в полноте и системности лексикографического показа
советизмов. К примеру, слово несун как «примету эпохи» отмечают все существующие
словари советизмов, но только в НСЗ-80 приводится мотивирующий глагол нести, а также
производные единицы: несунство, несушка.
В 2000-е гг. неографы стали использовать в своей работе интернет-ресурсы и прежде
всего текстовую базу по русской периодике информационного агентства «Интегрум», что
дало новые возможности для более полного и объективного описания неологических
процессов (см. [Буцева 2008]). Словари новых слов ИЛИ РАН являются ценным источником
для разноаспектного изучения советизмов и могут служить базой для составления на их
основе разнообразных словарей языка советской эпохи, в частности, советского быта.
Cловари
БТС – Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.:
Норинт, 1998.
СМА – Елистратов В. С. Словарь московского арго. М.: Русские словари, 1994.
НСЗ-60 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 60-х гг. / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М.: Сов. энциклопедия,
1971.
НСЗ-70 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 70-х гг. / Под ред. Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1984.
НСЗ-80 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 80-х гг. / Под ред. Е. А. Левашова. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.
5 Разумеется, важно обрабатывать и несловарные источники советских неологизмов. В качестве последних
А. А. Бурыкин указывает, например, «расшифровки архивных записей радиопередач, тексты радиопередач из
радийных архивов, архивные письменные документы и др.» [Бурыкин 2005: 3]. Добавим к этому сайты
ностальгического содержания, сетевую литературу, блоги, социальные сети, в которых активно обсуждается
советское прошлое, в том числе слова – «приметы эпохи».
183
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов ХХ века. В 3 т. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.), Е. А. Левашова.
СПб.: Дмитрий Буланин, Т. 1. 2009. Т. 2, 3. 2014.
НРЛ – Новое в русской лексике: Словарные материалы-…[год]. Вып. 1977–1984 гг. М.:
Русский язык, 1979–1989; вып. 1985–1994 гг. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996–2006.
СНС – Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х гг.) / Под
ред. Н. З. Котеловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.
ФОС – Фразеологический объяснительный словарь русского языка / Под ред.
А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского. М.: Эксмо, 2009.
Литература
Беловинский 2015 – Л. В. Беловинский. Энциклопедический словарь истории советской
повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение. 2015.
Берков 2004 – В. П. Берков. Двуязычная лексикография: Учебник. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Астрель; Транзиткнига, 2004.
Бурыкин 2006 – А. А. Бурыкин «Ретроспективная неология»: к изучению отражения
языковых новаций в двуязычных словарях 1920-х–1950-х годов // Русская академическая
лексикография (к 40-летию научного направления): Материалы международной
конференции. СПб.: Лемма, 2006. С. 3–6.
Буцева 2008 – Т. Н. Буцева. Неография в эпоху Интернета // Лексикология.
Лексикография (Русско-славянский цикл): Материалы ХХХVII Международной
филологической конференции, 11–15 марта 2008, Санкт-Петербург / Отв. ред. Л. А. Ивашко,
И. С. Лутовинова. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 3–9.
Гусейнов 2003 – Г. Ч. Гусейнов. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. –
М.: Три квадрата, 2003.
Кожевников 2008 – А. Ю. Кожевников. Жаргонизмы как объект неографии //
Лексикология. Лексикография (Русско-славянский цикл): Материалы ХХХVII
Международной филологической конференции, 11–15 марта 2008, Санкт-Петербург / отв.
ред. Л. А. Ивашко, И. С. Лутовинова. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 34–36.
Козырев, Черняк 1998 – В. А. Козырев, В. Д. Черняк Лексические приметы эпохи в
неологических словарях // Русистика: лингвистическая парадигма конца ХХ века. СПб.:
РГПУ; СПбГУ, 1998. С. 198–209.
Котелова, Сорокин 1971 – Н. 3. Котелова, Ю. А. Сорокин. Предисловие // Новые слова
и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / под ред.
Н. 3. Котеловой и Ю. А. Сорокина. М.: Советская энциклопедия, 1971. С. 5–15.
Котелова 1984 – Н. 3. Котелова. Предисловие // Новые слова и значения. Словарь-
справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов. М.: Русский язык, 1984. С. 3–23.
Левашов 1997 – Е. А. Левашов. От редактора // Новые слова и значения. Словарь-
справочник по материалам прессы и литературы 80-х гг. / Под ред. Е. А. Левашова. СПб.:
Дмитрий Буланин. 1997. С. 3–4.
Маркасова 2011 – Е. В. Маркасова. Проблемы поиска и лексикографического описания
советизмов 1920–30 гг. // Russian Language Journal. № 6. 2011. С. 94–119.
Плотникова 2006 – Л. И. Плотникова. Этап активизации новообразований (на
материале словарей новых слов русского языка) // Русская академическая лексикография (к
40-летию научного направления): Материалы международной конференции. СПб.: Лемма,
2006. С. 129–133.
Протченко 1975 – И. Ф. Протченко. Лексика и словообразование русского языка
советской эпохи. Социолингвистический аспект. М.: Наука, 1975.
Санджи-Гаряева 2009 – З. С. Санджи-Гаряева. Современное состояние советизмов:
словарь, семантические и функционально-стилистические изменения // Советское прошлое и
184
культура настоящего: монография: в 2 т. / Отв. ред. Н. А. Купина, О. А. Михайлова. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. Т. 2. С. 243–253.
Черняк 2006 – В. Д. Черняк. Фрагменты русской языковой картины мира в зеркале
неологических словарей // Русская академическая лексикография (к 40-летию научного
направления): Материалы международной конференции. СПб.: Лемма, 2006. С. 129–133.
Шанский 1987 – Н. М. Шанский. Слова, рожденные Октябрем: книга для учащихся. М.:
Просвещение, 1987.
185
М. Н. Приѐмышева
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. З. КОТЕЛОВОЙ
И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В истории отечественной лингвистики и лексикографии имя Надежды Захаровны
Котеловой занимает особое место. Заметный след она оставила в толковой академической
лексикографии: участвовала в составлении «Инструкции для составления «Словаря
современного русского литературного языка» в 15-ти тт.» [БАС], была одним из его
составителей и редакторов (тт. 9, 16), а также принимала участие в редактировании 1-го тома
«Словаря русского языка» в 4-х тт. [МАС]. Весомый вклад в отечественную лингвистику
Н. З. Котелова внесла целым рядом работ по проблемам общего языкознания, лексической и
синтаксической сочетаемости, но, пожалуй, самое главное дело ее жизни – создание
отечественной неографии. С 1965 по 1990 гг. она руководила Группой словарей новых слов
Словарного отдела ИЛИ РАН, разработала типологию неологических словарей, была
редактором и одним из авторов серийных изданий «Новые слова и значения» [НСЗ-60, НСЗ-
70] и «Новое в русской лексики. Словарные материалы» [НРЛ-77 – НРЛ-87], а также
«Словаря новых слов русского языка сер. 50-х – сер. 80-х годов» [СНС].
Н. З. Котелова была ярким, оригинальным ученым-теоретиком и ученым-практиком.
Отличительными особенностями ее научного наследия являются: высокий теоретический
уровень формулируемых обобщений, перевод рассматриваемых проблем в сферы
формальной логики и философии (работы 1960–1970-х гг.); полемичность большинства ее
работ как в аспекте критического отношения к существующим в современном ей
языкознании взглядам, теориям, концепциям, так и в отношении инициирования новых
научных дискуссий; особое внимание ко всему новому в лингвистической науке, наиболее
актуальному и наиболее сложному.
В свое время на критичность ее мышления обратила внимание научный руководитель
кандидатской диссертации Н. З. Котеловой – чл.-корр. АН СССР Е. С. Истрина. Методичной,
последовательной критике использования формальных методов в семантике, актуальной и
новой в 1960–1970-е гг. проблеме создания «искусственного семантического языка»
посвящены статьи Н. З. Котеловой в журнале «Вопросы языкознания», а также ее
монография «Значение слова и его сочетаемость (к формализации в языкознании)» (1975).
Примером острой полемики является статья Н. З. Котеловой «Словообразование без
образования слов?» [Новые слова 1983: 71-81], являющаяся ее мгновенной реакцией на
помещенную в этом же сборнике работу В. П. Беркова и В. М. Павлова «Новые слова?»
[Новые слова 1983: 58-70], в которой она отстаивает правомерность помещения в словари
новых слов лексики, произведенной по высокопродуктивным моделям.
Мало разработанными в то время были проблемам лексической семантики,
лексической и синтаксической сочетаемости, ее лексикографического описания; теория
терминологии и машинного перевода. Научной целиной было и лексикографическое
описание неологизмов современного русского языка: «С работой над этим словарем было
связано много трудностей теоретического и практического характера. Они объясняются тем,
что процесс образования новых слов и значений, причины и условия их появления и
усвоения еще недостаточно исследованы в языкознании. Отсутствует и надежная,
опирающаяся на объективно фиксируемые признаки классификация новых слов. Более того,
нет вполне четкого и общепринятого понятия лексического неологизма. К обстоятельствам,
весьма затруднявшим работу над справочником, следует отнести также отсутствие
материалов, фиксирующих разные состояния в развитии словарного состава, обусловившее
вынужденную опору на словари при сравнении нового периода с предшествующим,
необходимость сочетания научных и справочных целей издания и др.». [Котелова 2015: 171].
Н. З. Котелова сформулировала понятие неологизма, используемое в русской неографии,
186
создала систему словарей новых слов русского языка, теоретически обосновав их
типологию.
Научные интересы Н. З. Котеловой можно разделить на три основных направления:
1) общее языкознание, 2) лексическая и синтаксическая сочетаемость, 3) теоретическая и
практическая лексикография, в особенности – неография.
Ее работы, посвященные методологии науки, взаимосвязи языка и мышления, логики и
грамматики, оставили заметный след в истории общего языкознания и не утратили свою
актуальность и сегодня: «О логико-грамматическом уровне в языке» (1967), «Об
эвристичности понятия “уровень”» (1969), «Семантика языка и внеязыковые знания (в
аспекте обратных связей)» (1982), «Возможности эвристического использования данных
естественного языка» (1985) и некоторые другие.
В ряде документов и характеристик, хранящихся в личном деле Н. З. Котеловой в
архиве ИЛИ РАН, отмечается особая ее увлеченность философскими аспектами
лингвистики: 13 лет она была руководителем философского семинара «Методы научного
познания» в ИЛИ РАН и являлась участником ряда крупных международных конференций
по теоретическим проблемам языкознания, в частности, – VIII Международного конгресса
по логике, методологии и философии науки (1987), в котором приняли участие около 400
известных философов, математиков и лингвистов со всего мира.
Во взаимоотношениях языка и мышления, как считала Н. З. Котелова, лексическая
семантика играет определяющую роль. В работе «О логико-грамматическом уровне в языке»
она приводит ряд убедительных примеров того, что именно значение слов определяет их
порядок в предложении.
Предвосхищая когнитивный и лингвокультурологический подходы к языку,
Н. З. Котелова в работе «Семантика языка и внеязыковые знания» писала: «Язык
аккумулирует и сохраняет содержания в отчужденном и формализованном виде – в
значениях слов и форм (случаи полисемии слов и форм, как правило, формально
объективируются тем или иным способом) <...> Многолетние наблюдения показывают, что
семантическое описание лексики со знанием той или иной предметной области, может
давать побочный продукт – уточнение неязыковых знаний. С другой стороны,
внелексикографический научный опыт показал, что во многих случаях обращение к данным
языка способствует эффективности решений исследовательской задачи. Все это вызывает
интерес к гносеологическим потенциям языка и к механизму его полезной работы».
[Котелова 2015: 34].
Необходимости использования четкой методологии лингвистических исследований
посвящена статья «Об эвристичности понятия уровень». «Смешение явлений разных
уровней-порядков (например, лексического, морфологического, синтаксического,
фразеологического, логико-грамматического, стилистического и т. д.) при описании языка –
самый обычный дефект лингвистических описаний», – отмечает Н. З. Котелова. Более всего
от неразграничения разноуровневых, разнопорядковых явлений страдает описание
конкретных языковых фактов. По мнению автора, «в морфологии, лексикологии,
фразеологии, синтаксисе чрезвычайно плодотворным могло бы быть привлечение
формализованных свойств изучаемых элементов на логико-грамматическом уровне. Разная
возможность элементов к тому или другому виду актуализации на логико-грамматическом
уровне свидетельствует об их неодинаковых знаковых свойствах, о принадлежности к
разным классам морфем и слов, помогает дифференцировать морфемы и слова,
знаменательные и служебные слова, выявить отождествляемость или неотождествляемость
компонента сочетания со словом и установить его парадигматический ряд (а значит, и
противопоставить объективно идиоматичные и неидиоматичные сочетания, разные типы
неидиоматичных сочетаний, разные сочетания и их варианты и т. д.). Дедуктивный вывод
свойств языковых элементов при наличии формализованных исходных посылок – такой
метод в лингвистике, который трудно переоценить» [Котелова 2015: 22, 24].
187
Среди теоретических вопросов, к которым обращалась Н. З. Котелова, была и проблема
определения дифференциальных, специфических свойств термина. Рассматривая термин как
единицу лексической системы через все свойственные лексике парадигматические и
синтагматические связи, она останавливается на двух самых существенных свойствах
термина, которые выделяют его среди других классов лексических единиц. «Основное,
неповторимое отличие термина – конвенциональность. Термин конвенционален
дважды и по-разному. Во-первых, конвенционально наименование, т. е.
существующему понятию можно дать название по умыслу говорящего, и
конвенционально содержание существующего знака-термина. Во-вторых,
наименование и содержание могут быть конвенционально лишь принятыми
(возникнув, сложившись стихийно), и наименование и содержание могут быть
конвенционально установлены, избраны. Возможность субъективного начала в
употреблении и образовании терминов, договоренности, условленности вырывает
этот языковый участок из объективной стихии языка. Именно эти особенности
изменяют характер существования слова-термина в языке по сравнению с другими
словами <...> Вторая особенность термина – это наличие у него строгой, точной
дефиниции, однозначность его содержания. Но однозначность содержания не в
смысле моносемии <...>, а как наличие у термина (или его значения) тесного смысла,
ср. этимологическое значение слова термина (лат. terminus) „граница, предел‟.
Строгую и точную дефиницию термина следует понимать как строго, точно
оговоренную дефиницию. По своей природе она условна, а не истинна». [Котелова
2015: 27]. Статья «К вопросу о специфике термина» (1970), на которую мы
ссылаемся выше, широко цитируется специалистами.
С самого начала научной деятельности Н. З. Котелову интересовали проблемы
сочетаемости лексических единиц. Тема ее кандидатской диссертации «Характеристика
синтаксических связей слов в толковом словаре» (1954), тема докторской – «Лексическая
сочетаемость слова в современном русском языке» (1977). Эти вопросы Н. З. Котелова
решает с опорой на лексикографию. Более того, из целого ряда ее работ («Указания на
синтаксические связи слов в толковом словаре как средство разграничения смысловых
различий» (1957), «Типология лексической и синтаксической сочетаемости слова и
систематизация приемов ее характеристики в толковом словаре» (1978)) следует, что
множество проблем семантики и синтаксиса не смогли бы попасть в поле зрения лингвистов
без обращения их к словарям. Основой ее концепции является тезис о том, что сочетаемость
слова – свойство его лексического значения, а ее функция, объективированная в словаре, –
показ смысловых различий слова.
Новаторским подходом к изучению проблем сочетаемости слов является концепция
словаря синтаксической сочетаемости, нашедшая отражение в ее статьях «О словаре
синтаксической сочетаемости слов» (1983), «Словарь синтаксической сочетаемости» (1984) и
предвосхитившая идею такого типа словаря в целом, которая на современном этапе стала
широко реализовываться.
Важное место в научном наследии Н. З. Котеловой занимают работы по теории и
практике лексикографии: «Система и системность в словаре» (1974), «Текстовые лексико-
фразеологические материалы как лингвистический источник» (1986) и др.
Мало кто из лингвистов так высоко оценивал данные практической лексикографии и ее
значение в постановке ряда уникальных теоретических проблем языкознания, которые «вне
лексикографии отсутствовали»: «Успехи внелексикографических описаний [семантики], ее
систематизации и теоретического осмысления, будучи обусловлены прогрессом
языкознания, логики, семиотики, философии, всегда будут зависеть и от степени освоения
данных лексикографии, – и потому, что лексикография представляет результаты изучения
больших материалов, и потому, что она охватывает весь словарный состав, и потому, что
лексикографическое описание предполагает одновременный учет разных свойств слова.
188
Эксперимент такого большого размаха не может быть повторен вне лексикографии».
[Котелова 2015: 57].
Нельзя не согласиться с утверждением ученого о высоком теоретическом потенциале
словаря: «Принято считать, что в словарях каждое слово – отдельная проблема. Между тем
словарь не может дать ни одной характеристики слова без учета его системных свойств на
лексическом, семантическом, морфологическом, синтаксической, стилистическом уровнях.
Кроме того, словарь собирает эти равные свойства в один фокус, отражая их межуровневые
связи. В экспликации свойств слова в точке их пересечения и состоит ЛО
(лексикографическое описание), именно поэтому являющееся уникальным способом
лингвистического описания. Лексикография содержит немало примеров первопрохождения в
установлении пересекающихся свойств (ср. вскрывающее связь лексики и синтаксиса,
лексики и фразеологии, описание синтагматических свойств слова, отсутствующее вне
лексикографии)». [Котелова 2015: 30].
Важнейшее значение для лексикографии, по мнению Н. З. Котеловой, имеет
эмпирический материал: «Возможность эмпирических наблюдений обеспечивается
текстами, презентирующими объект лингвистики. Ни один источник лингвистического
знания не может заменить собрания текстов <...> Полезным методом является эксперимент –
продуцирование фраз и их модификации. Но личный эксперимент всегда субъективен,
лишен непринужденности, функциональной подлинности, а массовый – имеет те же
недостатки или фактически представляет собой инвентарь единиц, наличие которых
документировано картотекой. Одним из видов эксперимента является сочинение,
придумывание лексикографами так называемых речений, которые страдают всеми
недостатками эксперимента и неполнотой информации о реальном употреблении, нередко
дезориентируя пользующегося словарем». [Котелова 2015: 76]. Поэтому, по мнению
исследовательницы, для профессиональной лексикографии необходимы картотеки,
создающиеся длительное время, не зависящие от установок отдельных словарей и
отвечающие главному научному требованию – объективности. В таких картотеках должны
быть представлены статистически убедительные факты, позволяющие создавать картину
системных регулярных семантических, синтаксических и стилистических потенций слова.
Только регулярные контексты, взятые из исторически и жанрово различных источников,
могут дать объективную основу для семантики: «На онтологическом уровне жесткая связь
слова и контекста имеет место лишь в <...> случае, когда значение слова является лексико-
фразеологически связанным или конструктивно обусловленным. Однако на
гносеологическом уровне контекст – едва ли не единственный источник установления
значения слова. При этом важен не только микро-, макро-, вертикальный контекст, но и
прагматика, о которой дает информацию также контекст. Только в контексте узнается
определенное значение полисемичного слова» [там же: 78]. Такой картотекой, по мнению
Н. З. Котеловой, по праву может считаться Большая словарная картотека ИЛИ РАН.
Машинные фонды, несмотря на количественную избыточность материала, повышают
статистическую надежность выявления системных фактов и могут способствовать
оптимизации эмпирического фонда в целом. Более того, такие полные «картотеки лексико-
фразеологических материалов имеют большие эвристические потенции в аспектах
внелингвистических» [там же: 81].
Особое место в наследии Н. З. Котеловой занимают работы по русской неографии. В
предисловиях к словарям «Новые слова и значения» 60-х гг. и 70-х гг. ХХ в., «Новое в
русской лексике. Словарные материалы-1977» и «Словарю новых слов русского языка сер.
50 – сер. 80-х гг.» разрабатываются теоретические проблемы лексикографического описания
новых слов, типология словарей новых слов современного русского языка. Эти же проблемы
рассматриваются в «Проекте словаря новых слов русского языка» (1982) и ряде статей
(например, «Банк русских неологизмов» (1983)).
До сих пор актуальна работа Н. З. Котеловой «Первый опыт лексикографического
описания русских неологизмов» (1978), где она рассматривает природу нового слова,
189
критикует односторонность существующих подходов при определении неологизма и дает
ему свое определение: «Лексические новшества <...> – это слова, значения слов, идиомы,
узуально существующие в определенный период в определенном языке, подъязыке,
языковой сфере и не существовавшие в определенным образом ограниченный
предшествующий период в том же языке, подъязыке, языковой сфере». [Котелова 2015: 196].
В статье «Теоретические аспекты лексикографического описания неологизмов» (1988)
подводятся итоги более чем 20-летней работы Н. З. Котеловой и ее коллектива по сбору и
лексикографическому описанию неологизмов русского языка (к этому времени подготовлено
«более десяти разнообразных изданий по русской неологии»), определяются задачи четырех
реализованных типов неологических изданий (десятилетник, ежегодник, нормативный
словарь протяженного периода, Банк неологизмов), делаются выводы о значимости
неографической работы: «Неология имеет прямые выходы не только в разнообразные
конкретные области лингвистики, но и в проблематику общей теории языка, предоставляя
новый языковой материал и выдвигая актуальные при его описании вопросы для обсуждения
проблем социальной обусловленности языка, природы и типов номинации, статики и
динамики языка, соотношения языка и речи, системы и узуса, изучения проблемы
производных языковых единиц, терминологии и терминотворчества, исследования языковых
функций, понятия литературного языка и мн. др. Очевидно и экстралингвистическое ее
значение. Информационная содержательность неологических словарей, представление в них
освоенных обществом новых номинаций обусловливает значимость их как материала
исследования для социологов, историков, психологов, для представителей конкретных
областей знания». [Котелова 2015: 265]. «Описание большого массива неологизмов с
привлечением словарно-картотечных материалов разных периодов позволяет отметить
главные тенденции в словообразовании, обнаружить не описанные до сих пор форманты,
модели и даже способы образования слов.. Стало возможным обратить внимание на такой
параметр описания разных языковых единиц и их разрядов, как дериватогенность,
обосновать понимание словообразования как исторического процесса, а не как соотношения
единиц языка в синхронии». [Котелова 2015: 263].
В качестве главной общетеоретической проблемы, связанной со словарями новых слов,
Н. З. Котелова называет проблему развития, историзма: «С одной стороны, язык
представляет собой синхронную систему, где все стабильно, равновесно, соотносительно,
как бы однолинейно и находится в одной точке. Эти свойства являются условием
выполнения языком своих функций. С другой стороны, он – движение, изменение и не
тождествен сам себе в разные моменты времени». [Котелова 2015: 263].
В заключение еще раз подчеркнем, что научное наследие Н. З. Котеловой отличается
высокой теоретичностью, актуальностью и научной перспективностью, а отечественная
неография возникла под руководством этого ученого как четкий осознанный научный метод
изучения истории не только словарного состава, но и русского языка в целом.
Словари
БАС – Словарь современного русского литературного языка в 17-ти тт. М.–Л., 1948–
1965.
МАС – Словарь русского языка. В 4 т. 1-е изд. М., 1957–1961.
НСЗ-60 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М.: Сов. Энциклопедия,
1971.
НСЗ-70 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1984.
НРЛ – Новое в русской лексики. Словарные материалы-77...– -87 / Под ред.
Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, СПб.: Дмитрий Буланин, 1980–1996.
190
СНС – Словаря новых слов русского языка сер. 50-х – сер. 80-х годов / Под ред.
Н. З. Котеловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.
Литература
Котелова 2015 – Н. З. Котелова. Избранные работы. СПб.: Нестор-История, 2015.
Новые слова 1983 – Новые слова и словари новых слов / Отв. ред. Н. З. Котелова. Л.:
Наука, 1983.
191
Л .В. Рацибурская
ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО СЛОВОТВОРЧЕСТВА
Усиление личностного начала в современных СМИ обусловливает высокую плотность
оценочной тональности медийного текста. Основные оценочные доминанты определяются
объективными социально-политическими и экономическими процессами.
Социально обусловленная активизация деривационных процессов в последние
десятилетия привела к появлению большого количества новообразований, обладающих
ингерентной экспрессивностью. Многообразные лексико-словообразовательные инновации
отражают различные стороны жизни социума, являются инструментом распространения
массовой культуры и идеологического воздействия на сознание носителей языка. В
современных СМИ, отражающих актуальные социально-политические реалии, события, на
первом плане оказывается не столько информативно-номинативная, сколько экспрессивно-
оценочная, а порой и манипулятивная функция новообразований. Информационные войны,
использование манипулятивных технологий – неотъемлемые черты современных СМИ.
Информационный глобализм определяет информационную политику масс-медиа, которые
используют сходный набор средств манипуляции. Унификация даже в оппозиционных
изданиях может проявляться не только в отборе и подаче информации, но и в лингво-
стилистическом оформлении текста.
Действенным средством выражения оценки в новообразованиях обычно выступают
аффиксы определенной семантико-стилистической характеристики, в частности суффикс -
щин(а) с оттенком неодобрения: Какие требования выдвигала «майданщина» вначале?
(Завтра 28.01.14); От майданщины к антимайданщине. Украина стремительно теряет
остатки государственности (Свободная пресса 03.02.15); …долой лимоновщину, то есть
неуступчивость (Независимая газета 17.12.12); Здесь нет даже шарашек – только
продолжение той самой андроповщины, которая похоронила сначала разрядку, а потом и
советский проект в целом (Собеседник, 2014, № 48); …экономическая беда, в которую нас
загнали гайдаровщина и кудринщина (телеканал «Россия 1» 05.1.15); В культовой для нашей
диссидентщины книге Александра Солженицына «В круге первом» дипломат Володин
звонит в американское посольство, чтобы разоблачить советского агента (Культура 06-
12.02.15); Тяга людей ко всякой потусторонщине сегодня едва ли не активней, чем во
времена Толстого… (ЛГ, 2015, 11).
В последнее время в медийных текстах активно функционируют новообразования с
размерно-оценочными суффиксами, которые присоединяются как к субстантивным, так и к
адъективным основам и выражают различные семантические оттенки. При этом
новообразования имеют не столько позитивную оценку, сколько экспрессию пренебрежения,
презрения, уничижительности: Даже в моем скромном бложике появился специальный тег
eiw для англоязычных материалов... (Завтра 15.07.14); Вы не замечали, что те, кому дали
отставку, кто остался не у дел, много и неистово хорохорятся? И только дай им шансок –
изображают из себя многозначительных персонажей (Собеседник, 2012, № 3); Заемный
«бумчик» <…> По сведениям зампреда Банка России Алексея Симановского, в целом за 2011
год портфель кредитов нефинансовым организациям вырос на 26%, займов физическим
лицам – на 35,9%.«Не назову это бумом, но это бумчик», – охарактеризовал он такую
динамику (Новые известия 23.01.12); <…> вот какое-то кинцо – и вся страна рыдает
(Комсомольская правда 30.01.07); Такая достойная дама <…> срамилась с жалким
миллиардишком (Завтра, 2008, № 12); Нельзя уподобляться тем людям, которым дали
какую-то властишку, и они решили, что на них Боженька заснул (радио «Бизнес FM»
03.10.13); В штрафной майданчик никто не войдет (Советский спорт 27.02.15); С большой
вероятностью можно ожидать разные майданы, майданчики (Россия 1 24.05.15); В офис
«Мемориала» пришла прокуратурка (Труд 13.03.13); Нужна элита, а не элитка. Наша
192
политическая, а особенно управленческая элита сейчас недееспособна и
деквалифицированна (Комсомольская правда 21.11.14).
Диминутивы становятся в ряде случаев эффективным средством манипулирования,
воздействия на массовое общественное сознание: Это катастрофка небольшая, социальная
(радио «Коммерсант FM» 16.10.14).
Социально ориентированы и наименования лиц-диминутивов с уничижительной
окраской: Ничего не понявший атеистишка решил поглумиться над вечными ценностями
(Экспресс газета 17.11.11); Вы не патриот вовсе, а так, мелочный и меркантильный
патриотишка, не видящий дальше собственного носа (Ежедневный журнал 05.11.05);
Либералишки несчастные (Московский Комсомолец 06.04.15); При всей девиантности
человеческого поведения наши псевдозвезды знают только две категории: «Я» и «Я и
другие». Даже наши желторотые артистишки этим грешат (Собеседник, 2014, № 44);
Передаст такой депутатик свою карточку для голосования кому-нибудь из своей фракции
и гуляет себе или бизнесом занимается (Экспресс газета 24.10.08).
В последнее время активизировалось создание прилагательных, наречий, слов
категории состояния с суффиксом -еньк-: Вел себя адекватно, только затхленько
(Комсомольская правда 08.11.11); Толерантненько. Факт давно общеизвестный: те, кто
громче всех кричит о необходимости свободы слова, требуют этой свободы слова не для
всех, а только лишь исключительно для себя (Завтра 13.09.12); Все равно возвращение
Долматова перекрыла другая тема – свадьба Ксении Собчак. И гламурненько, и
оппозиционненько (Российская газета 05.02.13); Грешновато, но православненько
(Московские новости 07.11.14); У нас в Питере все пряменько, перпендикулярненько,
параллельненько (Россия 1 17.05.15).
Использование подобных экспрессивно-оценочных модификатов особенно усиливается
в периоды серьезных социальных противостояний и потрясений. По словам В. В. Химика,
субъективно-оценочные модификаты «оказываются сильными экспрессивными средствами
коммуникации, обладающими значительным потенциалом самовыражения и воздействия»
(Химик 2010: 287-288).
Социальные пристрастия и антипатии выражаются в новообразованиях с компонентами
-мания, -фобия: Зачастую основными предметами шопоголизма становятся одежда, обувь,
различные аксессуары, а также продукты. Есть также и особые формы этой болезни,
которые развились вместе с рекламой. Например, сейломания, признаки которой время от
времени может обнаружить у себя каждый: к их числу относится магическое воздействие
на человека слова «скидка», провоцирующее совершать импульсивные, бесполезные или вовсе
ненужные покупки. Именно поэтому сейломанию называют еще и манией распродаж и
скидок. Недалеко от нее ушли брендомания – навязчивое желание приобретать изделия или
услуги конкретных брендов… (Экстра-Н 27.10-02.11.14); Штрафомания и штрафофобия.
Наша власть увлеченно вводит все больше различных штрафов и наказаний (Литературная
газета, 2014, № 49).
Помимо маркированных аффиксов в экспрессивно-оценочной функции выступают и
некоторые другие аффиксы. Явной иронией и негативной окраской обладают многие
новообразования абстрактной семантики с книжным суффиксом -(из)аци(я), который
присоединяется к именным основам: Гламуризация всей страны (Московский комсомолец
10.04.10); Вместе с тем такая «дагестанизация» конфликта в состоянии сыграть с
федеральной властью злую шутку (Независимая газета 26.11.10); Какая уж тут
модернизация с «наноизацией» плюс айфонизация всей страны (Открытая газета 15-
22.09.10); Плюс китаизация всей страны (Коммерсантъ 01.02.10); Дженифер Лопес и
Ксения Собчак как диалог индустриализации и таджикизации (Русский обозреватель
10.10.13); Великая французская депардьезация (Новая газета 09.01.13); Азиатизация <…>
Рывок к современной западной цивилизации, под знаком которого прошли 80-е и 90-е годы,
обернулся все сильнее набирающей ход «азиатчиной», проникающей и в наш быт, и в
193
систему политических институтов, и в общий нравственный климат нашего общества
(Литературная газета 13-19.03.13).
В отражении социального противостояния активно участвуют и некоторые префиксы, в
частности префиксы анти- со значением отрицания, псевдо- с семантикой неистинности,
ложности, раз-, мега-, супер-, недо- с размерно-оценочной семантикой: Такая стена
выстроилась между Майданом и антиМайданом (как его уже успели назвать) (телеканал
НТВ 14.12.13); …состоится так называемый антипарад в центре Донецка (радио «Бизнес
FM» 24.08.14); Фильм <…> снят в другую эпоху, когда шведское кино еще не было брендом,
а было антибрендом («Радио России» 31.10.14); У нас нет народа, по отношению к
которому были бы антинастроения (телеканал «Россия 1» 19.11.15); антидобрые и
антилюбовные поступки (Дочки-матери 19.06.07); В 2013 – 2014 годах на Украине
происходила, по одним оценкам, антиянуковичская, по другим – антиолигархическая
революция (Ленинская смена 11.09.14); страны антиигиловской коалиции (радио «Бизнес
FM» 07.10.15); Это была антицензурная сверхцензурная история («Радио России»,
08.09.15); <…> они с нацистским рвением стали городить моноэтническое,
моношароварное псевдообразование (Литературная газета 10-16.09.14); <…> Порошенко
назвал минские соглашения псевдоперемирием (радио «Бизнес FM» 14.05.15); Киев намерен
сделать все, чтобы не допустить этих псевдовыборов (радио «Бизнес FM» 22.09.15); Не
дай бог никому попасть в такую ситуацию, как тот псевдоматч в Черногории (радио
«Бизнес FM» 17.06.15); Может быть, тогда добродетелей, псевдоблаготворителей
станет меньше («Радио России» 26.08.15); Активисты начали друг друга называть
«псевдолевыми», а либералов – «либеральной шушерой» (Новая газета 12.03.14); Не будет
проплаченных псевдошахтерских митингов (1-й телеканал 31.01.15); Если б возникла
диктатура и пришел бы Порошенко или кто-то другой, пусть самый разукраинский
националист… (телеканал «Россия 1» 18.02.15); Мы все, конечно, знаем, что избавившись от
мегакоррумпированного тирана, Украина ввергла себя в пучину бедствий (Московский
Комсомолец 26.11 – 03.12.14); Шуба в то время была просто мегадостаток (1-й канал
12.09.15); Российская мегаракета потрясла мир (1-й канал 11.10.15); …развивается
супертемпами (радио «Бизнес-FM» 31.08.2014); Мы не гранды мирового футбола,
суперожидания нельзя делать (телеканал «Россия 1» 06.06.15); Я стал ректором в эпоху
супердемократии (Собеседник, 2015, № 4); Это была суперигра, и у нас был суперитог
(телеканал «Россия 1» 16.05.15); Супер-аферист или зиц-председатель? (Ленинская смена
19.03.15); суперснисходительное отношение к беженцам (ТВЦ 16.01.16); На минувшей
неделе один из таких «недополитиков» охотно и с удовольствием рассказал журналисту
«Премьера» свое видение ситуации… (Премьер 02.09.08); Составить странную историю из
недофактов… (Комсомольская правда 19.08.15); Для страны «уникальной» и
«исключительной», с «богоизбранным народом», как видят себя США, все человеки –
«недочеловеки», а государства – «недогосударства». Что особенного может произойти за
какие-то 70 лет в этих «недостранах»? (Литературная газета, 2015, № 2); Недомирие. С 15
февраля вступило в силу перемирие между Украиной и самопровозглашенными
республиками Донбасса (Литературная газета, 2015, № 7).
В большинстве новообразований с подобными аффиксами оценка имеет негативный
характер.
Экспрессивно-стилистическая окраска новообразований может быть связана не только
со словообразовательным средством, но и с мотивирующей основой, а также с контекстом в
целом: Новая постмайданная власть за полгода умудрилась набрать долгов больше, чем все
предыдущие правительства за 10 лет! (АиФ, 2014, № 47), постмайданный хаос (телеканал
НТВ 21.06.15); Украина всей своей сохранившейся территорией, при поддержке все тех же
заинтересованных сил становится макси-майданом, плацдармом Запада
(http://ruskline.ru/monitoring_smi/2015/03/06/tretij_vitok_peremiriya_ukraina_kak_maksimajdan/)
; Требования бандеровцев Порошенко сейчас выполняет. Они ему как бы единокровные,
евромайдановские, да и западные спонсоры велят (http://politikus.ru/articles/22655-zic-
194
prezident.html (Виктор Янукович) предал и миллионы своих избирателей, и миллионы тех,
кто не желал превращения Украины в неонацистский «бандерастан» <...> (Завтра, 2014,
№ 49); Спрашиваем, где можно найти Матвея: в конце августа, когда дэнээровцы только
вошли в Старобешево, он был назначен командиром поселка (НГ 05.11.14); Также
распространена еще одна формулировка: 300 стрелковцев – стальные русские с известным
билбордом, выдержанным в стиле фильма «300 спартанцев» (http://iamruss.ru/300-iron-
russians); 22 февраля майданщики добились своего: Янукович бежит из страны
(http://msk.kp.ru/daily/26310/3188722/); Считать их всех фашистами, «рашистами»,
имперцами, террористами и прочими «колорадами» контрпродуктивно
(http://www.echo.msk.ru/blog/antilux/1377846-echo/). В качестве исходных слов в подобных
случаях выступают номинации социально-политических организаций и структур, имена
ключевых общественных фигур, а также ключевые слова текущего момента.
В сложных новообразованиях негативная оценка создается семантикой мотивирующих
основ в сочетании с контекстным окружением: Американо-бандеровская хунта
уничтожает инфраструктуру Донбасса (http://poznavatelnoe.tv/node/2980); И так выглядит
подавляющее большинство хохлозомби этого возраста (http://alexander-
rogers.livejournal.com/161034.html); Путинская Россия терпела януковичскую Украину, но не
хочет более терпеть прозападную, ющенко-порошенковскую (Ленинская смена 11.09.14).
Негативная оценка может усиливаться и семантикой словообразовательной модели:
переобамить, домайданились.
В большинстве случаев экспрессивно-оценочные медийные новообразования
создаются по существующим в языке моделям узуальными способами словообразования. В
то же время в рамках информационно-агитационного пространства реализуются и новые
возможности словопроизводства: многие новообразования создаются с отклонениями от
словообразовательных норм, неузуальными способами: «На рубеже XX – XXI вв. особую
активность проявляет неузуальное словообразование. Оно связано с раскрепощением языка,
ослаблением границ между разными сферами языка. Неузуальное словообразование
характерно для всех сфер языка <…>, но наиболее интенсивно оно живет в СМИ…»
[Земская 2010: 249].
Наибольшей экспрессивностью обладают новообразования нестандартной
словообразовательной структуры, созданные по неузуальным словообразовательным
моделям, неузуальными способами. В медийном словотворчестве широко представлены
гибридные новообразования, созданные путем контаминации (с возможными формальными
видоизменениями): Снегодяи. Кто бы мог подумать, что этот прекрасный белый снег
станет так раздражать <…> Но когда же снег начнут нормально, качественно убирать с
городских дорог и из дворов? (Патриоты Нижнего, 2015, № 5) (снег + негодяи); Майдауны
громят кладбища (Экспресс газета 04.04.2014) (майдан + дауны); Крыминальное чтиво. В
школьных и домашних библиотеках крымских татар ищут подрывную литературу (Новые
Известия 11.01.14) (Крым + Криминальное чтиво „название кинофильма‟); Выброкадабра.
Уже сегодня можно сказать, что прошедшие 26 октября на Украине внеочередные выборы
в Верховную раду стали блестящей победой украинской демократии. А точнее –
дипломатии, спецслужб и политтехнологов США, которые эту самую «демократию» из
криминально-олигархической диктатуры создали и всячески пользуют (Завтра, 2014, № 44)
(выборы + абракадабра); Интервру (Аргументы и факты 15-21.04.15) (интервью + вру);
ПерельМальчик. Достойный наследник всемирно известного Григория Перельмана (решил
«проблему тысячелетия» – гипотезу Пуанкре) учится в школе № 564 и занимается в
Лаборатории непрерывного математического образования (Комсомольская правда, 2015,
№ 55) (Перельман + мальчик); Мы видели, как Запад приносит ДЕМОНкратию
(Комсомольская правда 25.02.15) (Демон + демократия); Алиментарно, папа <…> Около 17
тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов было окончено судебными
приставами региона в минувшем году (Нижегородский рабочий 25.02.15) (алименты +
элементарно).
195
Социально-политические события в современном российском обществе высвечивают
все увеличивающуюся роль словообразовательных средств во всех типах коммуникации.
Так, «в обществе продолжается борьба различных мнений об актуальных событиях на
Украине, и это противоборство ярко отражается в СМИ, которые не только выражают
общественное мнение, но и формируют его» [Жданова, Рацибурская 2015: 49]. В желании
воздействовать на массовое сознание СМИ могут пренебрегать достоверностью
информации, тенденциозно ее подавать, нарушать этические нормы, используя
манипулятивные приемы и прибегая к вербальной агрессии. Орудием воздействия нередко
служат новообразования, используемые с целью навешивания ярлыков, под которым
понимается обычно не персонализованная «неаргументированная оценка лица или его
деятельности, чаще всего негативная, порой переходящая в прямые оскорбления, речевую
агрессию» [Кормилицына 2013: 20]: майдауны, евробандерасы, крымнашисты, колорады и
др.
Некоторые новообразования СМИ становятся даже модными словами, воздействуя на
сознание и речь граждан. Медийные новообразования тем самым являются «важнейшим
оружием политических баталий», они «фиксируют и суть происходящих в обществе
разногласий, и накал противостояния политических сражений» [Милехина 2013: 26]. Отсюда
высокая степень негативной оценочности новообразований, которые активно используются
различными по социально-политической направленности СМИ. По словам
О. Б. Сиротининой, «современная коммуникативная практика» реализует «не столько
свободу мнений, сколько свободу самовыражения» [Сиротинина 2014: 305].
Таким образом, отражение и оценка актуальных политических событий в медийном
словотворчестве осуществляется с помощью разнообразных по семантике и оценочности
словообразовательных средств при реализации различных способов словообразования.
Степень экспрессивности новообразований выше у тех, которые созданы неузуальными
способами, с нарушением словообразовательных норм. Моделируя игровую составляющую
современного медиатекста, журналисты в пылу полемики и в конкурентной борьбе нередко
нарушают не только словообразовательные, но и этические нормы. Освещая болезненные
для социума темы, журналист должен быть особенно осторожным как в обращении с
узуальными словами, так и в своих словообразовательных экспериментах.
Литература
Жданова, Рацибурская 2015 – Е. А. Жданова, Л. В. Рацибурская, Медийные
новообразования как средство отражения современной украинской действительности //
Филология и культура. 2015. № 2 (40). С. 46–52.
Земская 2010 – Е. А. Земская. Литературная норма и неузуальное словообразование //
Современный русский язык: Система – норма – узус. М.: Языки славянских культур. 2010.
С. 207–253.
Кормилицына 2013 – М. А. Кормилицына. Риски применения демагогических приемов
в политическом дискурсе // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 2013. С. 14–24.
Милехина 2013 – Т. А. Милехина. Эпическая некомпетентность журналистов как
фактор возникновения социальных рисков // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб.
науч. тр. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2013. С. 25–39.
Сиротинина 2014 – О. Б. Сиротинина. Современная коммуникативная практика и
судьба русского языка. Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 2. С. 293–307.
Химик 2010 – В. В. Химик. Экспрессивно-оценочный потенциал русского
модифицированного словообразования // Новые явления в славянском словообразовании:
система и функционирование. М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. С. 376–389.
196
Ю. С. Ридецкая
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ С ОПОРНЫМ КОМПОНЕНТОМ …МАНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI вв.
Объектом наших наблюдений являются лексические инновации с опорным
компонентом …мания, зафиксированные в словарях новых слов серий «Новые слова и
значения» и «Новое в русской лексике. Словарные материалы», а также в электронной
картотеке неологизмов Словарного отдела ИЛИ РАН и в личной картотеке автора данной
статьи (всего более 1000 единиц). Сложные слова с опорным компонентом …мания не раз
попадали в поле зрения исследователей, занимающихся изучением актуальных процессов в
русском языке. В основном это были неузуальньные лексические единицы. В совокупности
эта лексика еще не была предметом всестороннего исследования.
Первые слова с опорным компонентом …мания пришли в русский язык в ХVIII в.
путем заимствования из французского. На русской почве подобные лексемы начинают
образовываться в ХIХ в. Рост количества сложных слов с этим компонентом характерен для
середины ХХ в., когда стали массово появляться химические зависимости, связанные с
употреблением психоактивных веществ (героиномания, никотиномания, барбитуромания).
Последние три десятилетия характеризуются распространением поведенческих зависимостей
от компьютера и интернета (виртомания, нетомания), технических средств (гаджетомания,
джипомания), а также пищевых пристрастий (шоколадомания, сыромания, йогуртомания) и
др.
Для композитов с данным опорным компонентом характерно использование их в
заголовках (Дефолтомания, или Денежное выражение страха. Известия 17.08.05), в
рекламе, а также в качестве имен собственных (в 2014 г. портал Грамота.ру стал лауреатом
национальной премии «Радиомания»). В текстах эти слова часто сопровождаются
подробными разъяснениями, раскрывающими их значение: Гаджет-аддикция, или
гаджетомания, – это навязчивая потребность к приобретению электронных устройств,
большая часть из которых человеку на самом деле не сильно нужна. Частная жизнь 10.09.06.
Неолексемы, оканчивающиеся на …мания, нередко соседствуют с другими, сходными по
способу образования, неузуальными единицами: Вполне безобидная грибофилия переходит
в опасную грибоманию. Невское время 29.08.13; Татумания повсеместно сменилась на
чебурашкоманию [в Китае]. Sostav.Ru 20.02.04.
Критериями вхождения такой лексики в язык и основанием для ее лексикографической
фиксации являются достаточно высокая употребительность в текстах, наличие
словообразовательных производных (сериаломанить, сериаломанство), возникновение
соотносительной (коррелятивной) пары (сериаломания – сериаломан) и вхождение в
синонимические и антонимические ряды.
Лексические единицы с опорным компонентом …мания легко образуются по
требованию контекста, также они заимствуются из других языков как кальки,
траслитерированные кальки. Опорный компонент …мания находится в системных
отношениях с большим числом опорных компонентов, равных суффиксоиду или целому
слову (…филия, …любие, …голия, …голизм, зависимость, аддикция; …фобия, боязнь),
создает пространные синонимические (работомания – работоголизм – трудозависимость –
трудоголизм – воркоголизм – трудоголия – трудофилия) и антонимические ряды
(интернетомания – интернетобоязнь, интернетофобия).
При формировании рабочей картотеки нами учитывались следующие параметры:
временной (новизна), количественный (показатель употребительности) и качественный
(семантические сдвиги, контекстуальные значения, омонимия (киномания „увлечение
творчеством группы «Кино»‟ и „страстное увлечение киноискусством‟)). Собранный по
указанным источникам материал дополнительно был проверен на предмет новизны. Для
этого использовались такие базы данных, как Интегрум, Google.books, НКРЯ, а также
197
толковые, орфографические и специальные словари. Некоторые слова, зафиксированные в
словарях неологизмов, оказались образованиями ХIХ в.: тюльпаномания (НРЛ-79),
бумагомания (НРЛ-79, НСЗ-80), фармакомания (НСЗ-70, СНС), демономания (НРЛ-86),
русомания (НРЛ-85). Например, слово бумагомания появилось в названии драматического
произведения Н. И. Куликова «Бумагомания, или Страсть к тяжбам» (1864 г.). В НСЗ-80 это
слово дается с пометой неодобр.: „склонность к составлению многочисленных деловых
бумаг‟, в БТС – неодобр. „страстное увлечение составлением деловых бумаг‟. С пометой
разг. оно попало в словарь Т. Ф. Ефремовой [Ефремова 2000], в котором толкуется как
„чрезмерное внимание к деловым, официальным бумагам‟. Слово включено в РОС издания
2005 г., хотя, по данным информационно-электронной базы Интегрума, на данный момент
оно встречается в интернет-источниках1 только эпизодически.
«Обратный словарь» [Зализняк 1974] и «Грамматический словарь русского языка.
Словоизменение» А. А. Зализняка [Зализняк 2008] содержат чуть более 20 единиц с опорным
компонентом …мания. Словари неологизмов и актуальной лексики продолжают фиксировать
лексические единицы с данным опорным компонентом: ежегодники НРЛ-77–НРЛ-94
содержат 56 ед., НСЗ-70 – 4 ед., НСЗ-80 – 16 ед., СНС – 3 ед., НСЗ-90 – 14 ед.; ТССРЯ – 6 ед.
При этом показатель употребительности может колебаться от единиц до тысяч
словоупотреблений (например, слово починомания „склонность к надуманным, нежизненным
инициативам‟ в базе «Интегрума» встретилось 4 раза, а игромания, токсикомания,
ретромания имеют до 40 000 употреблений каждое). В картотеку неологизмов Словарного
отдела ИЛИ РАН при обследовании текстов периодики за 2001–2014 гг. отобрано 62 слова,
оканчивающихся на ...мания. Все они – претенденты на пополнение словаря неологизмов
первого десятилетия ХХI в.
Примеры неолексем данной структуры находим в монографии «Словообразование как
деятельность» (звездомания, конкурсомания, блокомания, шпиономания, справкомания)
[Земская 1992: 47], в книге «Неология и неография современного русского языка»
(лозунгомания, карлсономания, бригадомания) [Попова 2005: 99], в статьях
Л. В. Рацибурской и Е. И. Коряковцевой (обамамания, гусомания, барбимания,
бродскомания, пиаромания) [Рацибурская 2010: 377–378; Коряковцева 2014: 382–389].
Слова с этим опорным компонентом попали в группу «окказионально-потенциальной»
лексики или «потенциализмов» в диссертационной работе А. Г. Новоселовой, посвященной
«публицистическим» новообразованиям [Новоселова 1986]. Их специфика, по мнению
автора, «заключается в том, что они должны быть «сконструированы» с привлечением
продуктивных в данном языке и на данном этапе его развития средств, чтобы быть
понятными и доступными…» [Новоселова 1986: 22].
Исследователи языка рекламы также не обошли вниманием сложения с компонентом
…мания, например в статье Э. С. Денисовой отмечается продуктивность узуального способа
словообразования – сложение основ, примером которого дискомания [Денисова 2010: 364–
365]; в качестве актуального материала типичной словообразовательной структуры слова на
…мания используются для обучения русскому языку как иностранному, где один из этапов
освоения новой лексики – это семантизация иноязычных неологизмов, например,
определение значений слов с общим компонентом, учитывая его эмоциональную окраску
[Канова 1996: 267–271].
Вот что пишет Е. А. Земская о словосложениях с этим опорным компонентом:
«Неузуальные сложные слова разнообразны. Среди них есть и слова с
широкоупотребительными частями типа -любие, -мания, -вед. Неузуальность заключена в
первом компоненте, вернее, самом факте соединения обычного с необычным:
компьютеромания; китаемания, буддомания <…>». [Земская 1996: 134]. Исследователи
1 С 1999 г. до настоящего момента там отмечается 12 употреблений. Другое значение слова – „интерес к
созданию поделок из бумаги‟.
198
называют такой способ словообразования «деривацией по конкретному образцу» или
«заменительной деривацией» [Попова 2005: 103].
А. В. Петров наблюдал за сочетаемостным потенциалом компонента …мания на основе
материалов НСЗ-70 и НРЛ-80 – НРЛ-88: «Анализ композитов показал, что в качестве первых
компонентов выступают основы а) имен существительных, б) существительные принадлежат
к лексико-грамматическим разрядам имен нарицательных и неодушевленных. Однако
наблюдается тенденция к расширению сочетаемости второго компонента а) с основами имен
собственных (Галлея / Рэмбомания) и б) с аббревиатурами КГБ-мания». [Петров 2004: 125].
При обследовании нами начальных компонентов обнаружилось расширение круга
производящих основ за счет: имен собственных – адидасомания (18%); компонентов в
иноязычной графике – iPod-мания (13%); многокомпонентных сложений –
эротографомания, библиоклептомания (3%); аббревиатур (НАТО-мания) (1,4%) и
нетипичной внутренней валентности (1%), т. е. примеров собственно неузуального
словообразования – трѐхсотмания „повышенное общественное внимание к празднованию
трехсотлетия Санкт-Петербурга‟, беломания „название коллекции одежды, доминантным в
которой является белый цвет‟, надоеломания „поведение, позволяющее освободиться от
большого количества рутинных дел‟ (опорный компонент …мания присоединяется к
числительному, прилагательному, глаголу).
Актуальной проблемой является описание в словарях значений единиц этой структуры
и их функционально-стилистических особенностей, унификация их толкований, уточнение
семантики компонента ...мания. И. Б. Дягилева, анализируя неологизмы ХIХ в. с опорным
компонентом …мания, выделяет среди них три лексико-семантические группы: 1)
медицинские термины; 2) слова, обозначающие сильную увлеченность, страсть к какому-л.
предмету; 3) слова, определяющие пристрастие к культуре, образу жизни, традициям и т. п.
какой-либо страны [Дягилева 2003: 38–42], или «слова, первая часть которых включает
этноним» [Дягилева 2010: 41–5].
В семантическом словаре Н. Ю. Шведовой [Шведова 2003] у лексемы мания
зафиксировано четыре разных значения: 1. Общее название болезненных психических
состояний, характеризующихся повышенной психической активностью, возбуждением
(спец.). [Шведова 2003: 133]. 2. Исключительная сосредоточенность сознания на какой-н.
одной идее, отрешенность от всего другого. М. преследования (болезненная
подозрительность, страх за себя, недоверие к людям). М. величия (убежденность в своем
превосходстве над всеми другими людьми). [Шведова 2003: 212]. 3. Пристальное внимание к
чему-н., одержимость какой-н. идеей, целью. Чистота и порядок в доме превратились в
манию у кого-н. [Шведова 2003: 217]. 4. Сильное, почти болезненное влечение, пристрастие к
чему-н. М. писать стихи. Коллекционирование антиквариата превратилось в манию у кого-
н. [Шведова 2003: 234].
В этом же словаре лексемы с опорным компонентом …мания помещены в следующие
семантические группы:
1. Состояния организма, заболевания, болезни (эротомания, графомания,
клептомания; токсикомания [Шведова 2003: 141; 131, 132, 136]).
2. Любительские занятия, увлечения (балетомания, киномания, меломания [Шведова
2003: 553].
3. Национальные пристрастия (англомания, галломания [Шведова 2003: 478, 479]).
Последняя лексико-семантические группа, активно пополнившаяся в период ХIХ в., на
данный момент, по нашим наблюдениям, оказалась самой малочисленной, в нее входят,
например: чеченомания, венгромания, португаломания. В группу «болезни» попадают как
термины, зафиксированные в специальных словарях, так и нетерминологизированные
номинации (интернетомания). Очень разнородна группа «увлечения», в нее входят хобби и
общественные (экономические, политические), социально-психологические явления, это так
называемые «Бытийные ситуации. Имена существительные с абстрактным значением:
сложные, запутанные, беспорядочные, неприятные ситуации, странные, комические,
199
неожиданные положения вещей» [Шведова 2003: схема 3.13], т. е. номинации,
синонимичные лексемам ажиотаж, бум, истерия, лихорадка, эпидемия (например,
нефтемания, абортомания, горбимания, шпиономания). Исследователи называют такие
образования «пейоративные nomina abstracta» [Рацибурская 2015: 15] и отмечают, что
формант …мания несет в себе негативную коннотацию [Шаталова 2006: 297]. Однако не
только пейоративность характерна для композитов с финалью …мания, иначе бы эти слова
не использовались в качестве названий магазинов или в рекламе: такие сложения вызывают у
определенного круга реципиентов ощущение сопричастности, сообщности, а также полноты
выбора (ассортимента, услуг и т. п.), ср. свадьба-мания, мехамания, букетомания.
Достаточно удачные, но неполные дефиниции дают «Большой толковый словарь»
[БТС] и «Толковый словарь иноязычных слов» Л. П. Крысина [СИС]: «Вторая часть
сложных слов. 1. Вносит зн.: страстное увлечение, пристрастие к тому, что выражено в
первой части слова. 2. Вносит зн.: болезненная склонность к тому, что выражено в первой
части слова» [БТС] и «конечная составная часть сложных слов, обозначающих: 1. Сильное
влечение, пристрастие к чему-н.; ср. …филия (в 1-м знач.); 2. Болезненную склонность к
чему-н.; ср. …патия» [СИС]. На страницах неологических словарей в разделе
словообразовательной справки мы находим 21 вариант истолкования опорного компонента
…мания, отчасти такое разнообразие объясняется поиском дополнительного нюанса
значения. Наиболее частые среди толкований – „увлечение чем-л., приверженность к чему-
л.‟, „увлечение, пристрастие‟, „сильное увлечение чем-л.‟.
Семантическая неоднородность, семантические сдвиги и нюансы этой лексики
зафиксированы в НСЗ-90, где кроме основного значения нередко дается и его оттенок:
НАТОМАНИЯ. Сильное стремление, желание вступить в НАТО (публ., неодобр.).
Расширение НАТО – это не прихоть, не приступ натомании, а процесс, отвечающий
значимым внешнеполитическим интересам.. стран-претендентов. НГ 17.7.96. □
Н а т о м а н и я кого, какая. Натомания нетерпеливых кандидатов на присоединение к
альянсу, да и само партнерство, если его осуществлять под аккомпанемент
антироссийской истерии, может привести лишь к укреплению позиции Жириновского и иже
с ним. РГ 11.3.94. // Идеология, поддерживающая расширение блока НАТО. Натомания –
концепция, служащая формированию отдельного направления в политической науке<..>
Уже сейчас можно отметить, что как наука «натомания» не состоялась, потому что так
и не смогла дать ответы на множество вопросов. НГ 20.03.96; СЕКСОМАНИЯ.
Одержимость сексом, патологическая зависимость от него; сексоголизм. Сам Дуглас
считает, что болен сексоманией, и даже лечился от этого. Тр 31.10.96. Впрочем, случаев
рецидива пока не было, ни один пациент еще не лечился от сексомании дважды. Ком-D
29.7.99. // Чрезмерный интерес к сексу. Со страниц журналов и газет, экрана телевизора
сексомания перекочевала на театральные подмостки. Тр 24.12.99.
В текстах современной публицистики отражаются процессы развития многозначности
и расширения сферы употребления данной лексики. Например, новообразование ХIХ в.
дачемания „о массовом выезде на дачи за пределы Санкт-Петербурга в летнее время года‟
[Андреевский 1849] со временем расширило свою семантику. У данного слова встретились и
другие значения: „о чрезмерной работе на своем земельном участке‟ (Медики даже
поговаривают о так называемой «дачемании», когда вместо отдыха люди вкалывают без
меры. Комс. правда 04.06.04), „о постройке дач чиновниками за счет государственных денег‟
(С. Нейвин <...> раскритиковал руководство металлургического комбината за новую
болезнь – дачеманию, <...> назвал имена и должности чиновников, по вине которых
тагильчане мерзли в своих квартирах, терпели перебои с освещением, не могли купить
нужные продукты в магазинах. Тагильский рабочий 05.05.09).
Слово пиромания в качестве термина „психическое заболевание, характеризующееся
пристрастием к огню‟ используется с ХIХ в., а с 1970-х гг. в публицистике и
художественных текстах оно (часто в сочетании с определениями) начинает обозначать
разновидность определенного хулиганства: лифтовая пиромания, дверная пиромания,
200
маркетинговая пиромания (окказиональное значение „поджог с целью привлечения
покупательского интереса‟). На основе достаточно большого количества словоупотреблений
можно выделить и другое актуальное значение этого слова: „склонность к использованию
пиротехнических изделий‟ (Тотальная новогодняя пиромания; фейерверочное
помешательство прогрессирует в нашей стране из года в год. Власть, 2006, 2).
В то же время обнаруживаем слова такой структуры в словарях, фиксирующих лексику
ограниченной сферы употребления: ЗЕППЕЛИНОМАНИЯ. Мол., муз. Увлечение музыкой
рок-группы «Лед Зеппелин» (Led Zeppelin). [БСЖ]. СЕКСОМАНИЯ. Cильное пристрастие
отдельных СМИ к публикации откровенных материалов на сексуальную тему. [Кесарийский
2002: 242]. Примером нового термина может служить слово ониомания (ср.
нетерминологизированные синонимы – шопингомания, шопинголизм), которое в 2000 г.
вошло в «Большой медицинский словарь» и другие специальные словари. Отметим тот факт,
что в современных текстах встречаются псевдотермины, представляющие собой сложения,
состоящие из траслитерированной кальки греческой основы и опорного компонента …мания
(айлюромания (ailuros – „кошка‟), каиномания (kainos – „новый‟)).
Таким образом, мы рассмотрели некоторые лексико-семантические,
словообразовательные особенности и парадигматические связи лексических инноваций с
опорным компонентом …мания, обозначили аспекты функционирования этой лексики в
русском языке новейшего периода (с учетом сфер употребления, а также эмоционально-
стилистической окраски). Представляется перспективным исследование роли данной группы
слов в механизме русского словообразования, способности этой лексики (соотносительной
пары на …мания – …ман) к производности.
Словари
БСЖ – Большой словарь русского жаргона / Под ред. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина.
СПб.: Норинт, 2000.
БТС – Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб.:
Норинт, 1998.
Ефремова 2000 – Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.
Кессарийский 2002 – Э. П. Кесарийский. Журналистский словарь. Н. Новогород, 2002.
Зализняк 1974 – Обратный словарь русского языка / Науч. конс. А. А. Зализняк,
Р. В. Бахтурина, Е. М. Сморгунова. М.: Советская Энциклопедия, 1974.
Зализняк 2008 – А. А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка.
Словоизменение. М.: АСТ-Пресс книга, 2008.
НКРЯ – информационно-справочная система «Национальный корпус русского языка».
НРЛ-79 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-79 / Под ред.
Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1982.
НРЛ-85 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-85 / Под ред.
Н. З. Котеловой, Ю. Ф. Денисенко. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996.
НРЛ-86 – Новое в русской лексике. Словарные материалы-86 / Под ред.
Н. З. Котеловой; С. И. Алаторцевой, Т. Н. Буцевой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996.
НСЗ-70 – Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. М.: Русский язык, 1984.
НСЗ-80 – Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.
НСЗ-90 – Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х гг. XX века. В 3 т. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и Е. А. Левашова.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2008, 2014.
РОС – Русский орфографический словарь / Отв. ред. В. В. Лопатин. М., 2005.
СИС – Толковый словарь иноязычных слов / Под ред. Л. П. Крысина. М.: Эксмо, 2009.
201
СНС – Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов) / Под
ред. Н. З. Котеловой. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.
ТССРЯ – Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца
ХХ столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Астрель, АСТ, 2001.
Шведова 2003 – Русский семантический словарь. Толковый словарь,
систематизированный по классам слов и значений / Под общей ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 3.
М.: РАН. Ин-т рус. яз. 2003.
Литература
Андреевский 1849 – Д. Андреевский. Дачемания или Разве мы хуже других? //
Драматическая картина современных нравов. 1849.
Денисова 2010 – Э. С. Денисова. Активные процессы словотворчества в современном
русском языке (на материале языка рекламы) // IV Международный конгресс исследователей
русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность». Филологич.
факультет. МГУ. М., 2010. С. 364–365.
Дягилева 2003 – И. Б. Дягилева. Образования с -ман, -мания в русском языке ХIХ в. //
Словарь русского языка ХIХ в. Проблемы. Исследования. Перспективы. СПб.: Наука, 2003.
С. 38–42.
Дягилева 2010 – И. Б Дягилева. Сколько шагов от любви до ненависти? (К истории
образования сложных слов в русском языке ХIХ века) // Мир русского слова, 2010, 1. С. 41–
50.
Земская 1992 – Е. А. Земская. Словообразование как деятельность. М.: Наука, 1992.
Земская 1996 – Е. А. Земская. Активные процессы современного словопроизводства //
Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М.: Языки русской
культуры, 1996. С. 129–132.
Канова 1996 – Е. Канова. Работа над неологизмами в процессе обучения чтению на
материале актуальной публицистики // Studia Rossica Posnaniensia, Том 27. Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, 1996. С. 267–271.
Новоселова 1986 – А. Г. Новоселова Окказиональные и потенциальные слова в
советской публицистике: (На материале произведений 1965-1985 годов): автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Киев, 1986.
Петров 2004 – А. В. Петров. Расширение сочетаемостного потенциала основ в
продуктивных словообразовательных моделях // Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. 631: Сер. Філологія. Вип. 41. 2004. С. 122–126.
Попова 2005 – Т. В. Попова, Л. В. Рацибурская, Д. В. Гугунава. Неология и неография
современного русского языка. М.: Флинта. Наука, 2005.
Рацибурская 2015 – Новые тенденции в русском языке начала ХХI века / Под ред.
Л. В. Рацибурской. М.: Флинта. Наука, 2015.
Шаталова 2006 – Ю. Н. Шаталова. Отражение современной жизни российского
общества в новом слове (на материале газетной периодики) // Журналистика и
медиаобразование в XXI веке. Сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конференции.
Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. С. 295–298
202
Н. А. Самыличева (Бакич)
СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ АВТОРСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТРИЛОГИИ ЮРИЯ ПОЛЯКОВА «ГИПСОВЫЙ ТРУБАЧ»)
Словообразовательные способы и приемы создания авторских окказионализмов сами
по себе достаточно ярким образом «высвечивают» новообразования, однако «действенность
любого приема может быть усилена за счет использования разнообразных средств
актуализации» [Ильясова 2008: 90].
Так, М. А. Петриченко, исследуя поэтические тексты А. А. Вознесенского и
Е. А. Евтушенко, выделила опорные слова, так называемые актуализаторы деривационной
структуры авторских новообразований [Петриченко 1981]. Р. Ю. Намитокова предложила
различать 3 типа актуализации семантики авторского новообразования:
лексическую (актуализация лексическими единицами), при которой выделяются два
типа актуализаторов: корневой (когда в микротексте присутствуют однокоренные с
окказионализмом слова) и структурный (когда в микротексте функционируют слова,
структурно идентичные окказионализму);
текстовую (актуализация содержанием текста); в данном случае контекст
непосредственно указывает на структуру окказионализма разъяснением или графически;
затекстовую (актуализация фоновыми знаниями читателя), когда восприятие и
понимание окказионализма «зависит от фоновых знаний читателя, его культурной памяти»
[Намитокова 1989: 227].
Исходя из указанных типов актуализации семантики окказионализмов, можно
классифицировать и сами новообразования.
Окказиональные слова концентрируют в себе разнообразные ассоциации, так
называемые «фоновые знания», например, ассоциации, связанные с множеством
предыдущих употреблений слов (или основ слов), входящих в состав окказионализма.
Ассоциации могут возникнуть и в связи со словообразовательной моделью, по которой был
создан данный окказионализм. В зависимости от того, обеспечивает ли интерпретацию
окказионализма исключительно имеющийся языковой материал в качестве его составных
частей или необходимо использование контекстуального материала и фоновых знаний,
окказионализмы можно разделить по способу их толкования.
С классификацией, предложенной Р. Ю. Намитоковой, соотносится классификация
И. Р. Красниковой, которая подразделяет уже сами окказионализмы (вслед за
М. Н. Эпштейном используя термин прагмема) по степени семантической и прагматической
информативности на прагмалексемы, контекстуальные прагмемы и культуремы.
Прагмалексемы – прагмемы, автономность которых в коммуникативном плане
очевидна. В данном случае «прагматическая интенция диктует автору пути наиболее точного
выражения его мысли или эмоционального состояния» [Красникова 2004: 44-45]).
«Прагмалексемы – это окказиональные образования, не требующие контекста для
своей актуализации в силу смысловой и прагматической информативности корневой и
служебной морфемы» [Красникова 2004: 48].
Контекстуальные прагмемы – прагмемы, семантическая и прагматическая значимость
которых выводится из контекста.
Культуремы – прагмемы, интерпретируемые на базе внеязыкового, фонового знания.
Отметим, что в классификации И. Р. Красниковой отсутствует такой вид
актуализированных новообразований, как лексический, вместо него появляются
прагмалексемы. По-видимому, следует объединить параметры двух классификаций, чтобы
получить целостную картину функционирования окказионализмов в тексте.
В нашем исследовании к первой группе прагмем – прагмалексемам – можно отнести
окказионализмы, выводимость семантики которых следует из семантики их частей при
минимальном участии контекста, без дополнительных знаний. Как правило, будучи
203
стандартными новообразованиями, они понимаются и интерпретируются независимо от
контекста, т.к. их составные части содержат полную информацию о семантическом
содержании.
Однако при кажущейся простоте «дешифровки» подобных новообразований можно
отметить, что трактовка семантики окказионального слова, изъятого из контекста, может
существенно отличаться от его значения в тексте. Так, семантика новообразования
экстражулик не связана с семантикой узуальной лексемы экстрасенс. Однако в контексте
последняя является производящей и напрямую мотивирует окказионализм: «Ха-ха-ха! Нет,
вы не экстрасенс. Вы экстражулик!» Данные наблюдения еще раз подтверждают такое
свойство окказионализмов, как контекстуальная зависимость: «В окказиональном слове,
взятом вне контекста <…>, лексическое значение носит вероятностный характер и
конкретизируется контекстом» [Лыков 1976: 19]. Таким образом, выделение прагмем, на наш
взгляд, представляется затруднительным вследствие их несоответствия одному из основных
свойств окказионализмов.
Поскольку в классификации И. Р. Красниковой отсутствует такая разновидность
семантической актуализации новообразований, как лексическая, считаем целесообразным
обозначить данную разновидность прагмем как лексические прагмемы, семантическая и
прагматическая значимость которых формируется отдельными лексическими единицами
(ср. «лексическая актуализация» в классификации Р. Ю. Намитоковой).
В текстах Ю. Полякова самым распространенным приемом лексической актуализации
окказионализмов является использование производящего слова или словосочетания. Данный
прием представлен преимущественно в рамках такого словообразовательного способа, как
сложение. Так, в трилогии встречается окказионализм очепение: «– Одно плохо! – скорбно
заметил Скурятин. – Не люблю я это слово нерусское «клип». Будто «кляп» или «клоп»
какой выходит…– А если «очепение»? – вдруг предложил Жарынин <...>. – Какое еще
«очепение»? – брезгливо переспросил Эдуард Степанович. – Пение для очей! – неловко
разъяснил режиссер». Если рассматривать лексему вне контекста, то смысл может быть
определен неверно, даже не сразу становится понятно, посредством сложения каких
лексических единиц образовано данное сложное существительное. Ведь вместо привычного
нам слова «глаза» автор использует устаревшее «очи». Однако в послетексте (термин
Р. Ю. Намитоковой) используется актуализирующее словосочетание «пение для очей»,
которое конкретизирует выражение мысли, обуславливает выбор мотивирующих слов. К
подобным примерам можно отнести и окказионализм мыслевопль: «И тут случилось чудо: из
этого мысленного вопля, точнее сказать, «мыслевопля», вдруг мгновенно <…> выскочила
вся история убийства Бориса до последних мелочей». Семантика данного слова
представляется более прозрачной и понятной, но, несмотря на это, автор дает в предтексте
исходное сочетание «мысленный вопль».
Иногда сложный окказионализм создается из двух отдельных слов, дистантно
расположенных в тексте: «По традиции каждому пришкольному животному давали имя, а
поскольку юное пресмыкающееся больше походило на змейку, чем на ящерку (ножки были
едва заметны), его назвали Змеюрик, в честь Юры Шмакова». Интересным представляется
то, что данное существо является пародией на Чебурашку – героя популярного произведение
Эдуарда Успенского. Ю. Поляков заимствует идею о неизвестном зверьке и трансформирует
ее, вуалирует комичным описанием. Более того, далее в тексте можно обнаружить
производное от данного окказионализма – змеюриковщина: «Едва Гелий Захарович в
четвертый раз двинулся к Веронике с танцевальными намерениями, раздался
пронзительный клич «долой змеюриковщину!» – и случилась добрая литературная драка…».
Второе новообразование описывает повсеместное и раздражающее окружающих
тиражирование персонажа: изображения печатают на посуде, одежде, белье, канцтоварах, а
автор книги только наживается на этом и постоянно отстаивает свои права на созданный
образ. Создание такой словообразовательной пары позволяет Ю. Полякову максимально
иронично описать ситуацию и выразить свое отношение к объекту пародии.
204
По конкретному образцу, так же как, и окказионализм экстражулик, создано
новообразование соактор: «Вот и благотворите один! Я вам – соавтор, а не… а не…не
соактор!». Новое слово актуализируется созвучным словом «соавтор» в предтексте и
образовано по его образцу. Возникает антитеза с ироническим подтекстом, сфера духовного
и творческого противопоставляется физическому, плотскому. В словах возмущенного
Кокотова, оправдывающегося перед Жарыниным, проскальзывает насмешка над коллегой и
его демократичными взглядами относительно личных отношений. Вместе с этим дается
характеристика Кокотова как человека творческого, который способен в данный момент
подобрать нужные слова. Не зря после этой реплики Жарынин произносит: «Как вы сказали?
– Режиссер даже замер от неожиданности. – Соактор? Неплохо! Я в вас не ошибся.
Человек вы способный, но характер у вас, знаете ли…». Интересным представляется пример
с двумя окказионализмами, образованными по одному узуальному образцу: « – Покупая
книгу, необходимо знать, какое будет от нее послевкусие. Может, от этого послевкусия
потом жить не захочется! Зачем тогда читать? Правда? – Скорее уж тогда последумие
или послечувствие…». Происходит актуализация двух новообразований за счет
употребления слова «послевкусие» в предтексте. При этом автор подчеркивает неточность,
неадекватность узуального слова маркером «скорее уж тогда». Делается акцент на том, что
говорится о сфере духовного, и поэтому мотивирующее слово «вкус» заменяется
существительным «чувство» и глаголом «думать». Так по аналогии рождаются два новых
слова, точно и емко описывающих данные явления.
Следует отметить, что при наличии в пределах одного контекста производящего
узуального слова и производного окказионализма создается иллюзия причастности читателя
к рождению нового слова, появляется так называемый «эффект активного присутствия»
(термин Э. И. Хан-Пиры), который усиливает экспрессию изображаемых явлений.
Ю. Поляков обращается и к такому приему, как использование в одном тексте ряда
одноструктурных образований от разных основ: «Обсмотритесь и обтомитесь!». В данном
случае автор актуализирует семантику окказионализма обтомитесь за счет однородного
сказуемого «обсмотритесь» с такой же структурой и схожей звуковой оболочкой. Узуальное
слово находится в препозиции и помогает выстроить причинно-следственную связь,
подчеркнуть чрезмерность и интенсивность действия.
Также Ю. Поляков использует такой прием актуализации, как создание ряда
однокоренных окказиональных слов. Выше была рассмотрена словообразовательная пара
змеюрик – змеюриковщина, когда два окказионализма употреблялись обособленно, между
ними был большой текстовый разрыв. Рассмотрим пример, когда однокоренные
новообразования находятся в непосредственной текстовой близости: «– Вот она, ваша
труполечебница! – затормозив, объявил режиссер. – Почему труполечебница? –
заиндевело спросил Кокотов. – Как сказал Афанасий Великий, все мы трупоносцы, пока не
уверовали». Автор создает два коррелирующих друг с другом слова, причем одно из них –
трупоносец – объясняет значение второго – труполечебница. В данном случае можно
говорить и о текстовой актуализации: словосочетание «пока не уверовали» опосредованно
способствует семантизации окказионализма трупоносец. Благодаря функционированию в
диалогической речи новые слова воспринимаются легче и естественнее, читатель словно
следит за ходом мыслей героев. Интересно, что во внутренней форме слова
«труполечебница» заложено противоречие: сочетание семантики слова труп с семантикой
слова лечебница само по себе является парадоксом. То же можно сказать и о слове
«трупоносцы». С помощью двух подобных лексем, употребленных на таком коротком
отрезке текста, автор в ироническом ключе рассматривает проблему духовности,
внутреннего настроя человека.
Аналогичными примерами являются контекстуальные антонимы наградовручатель и
наградополучатель: «Андрей Львович повидал немало таких вот парадных снимков и давно
заметил одну странную особенность: наградовручатель всегда почему-то выглядит
немного смущенным, а наградополучатель, напротив, гордым и значительным».
205
В одном из текстов трилогии («Гипсовый трубач: Дубль два») можно встретить прием
словообразовательной игры с метафорическим названием «словообразовательный куст» –
включение в текст целого «каскада» неузуальных слов [Земская 1992: 196]. Так, с помощью
одного корня образуется целая группа слов, связанных смыслом и контекстом: «А
кинематограф? Как он называл кинематограф? – Его он, кажется, никак не называл, –
засомневался писатель <…>. – А если «лучезрелище»? – воскликнул режиссер с нетрезвым
восторгом. – Нет, «лучигрище»! Как? Давайте с этого дня называть кинематограф
«лучигрищем». Договорились? – Я подумаю. А как будет в таком случае «режиссер»? – Ну,
если актер у Велемирки – «игрец», режиссер будет «игродум». – Нет, игродум – это скорее
теоретик театра, вроде Станиславского, – не согласился Кокотов. – Приемлю. А как будет
критик, какой-нибудь мерзавец, вроде Мишки Засланского, который хвалит только за
деньги? – Критик? – натягивая брюки, задумался писатель. – Критик… Игроруб! –
Отлично, коллега! А режиссер? – Игровод! – Великолепно, мой гениальный соавтор <…> А
сценарист, как будет сценарист? – тяжело озаботился, качнувшись к косяку, игровод. – Не
знаю. Надо подумать. – Думайте! Если «пьеса» – «деюга», тогда… может, деюгопис? –
Плохо звучит. – Верно… – огорчился Жарынин <…>. – А этот ваш Розенблюменко – он все-
таки режиссер или сценарист?. – Он… он… Он – игрохап. – Кто-о? – Продюсер. –
Смешно!».
Контекстуальные прагмемы встречаются у Ю. Полякова намного реже. Возможно, это
связано с тем, что воспринимать их труднее, необходимо ориентироваться не на отдельные
слова и словосочетания, а на содержание контекста, смысл. При подобной актуализации
окказионализмов контекст либо указывает непосредственно на структуру нового слова, либо
опосредованно (тематически) способствует его семантизации [Намитокова 2007: 40]: «Есть
и еще одна странность: суицидальный «Макаров» оказался почему-то в правой руке
самоубийцы, а Мостолыгин был левшой и, если поправел в последнее время, то лишь в том
смысле, что окончательно разочаровался в реформах Ельцина». В данном случае у слова
поправел актуализируются сразу два смысла – прямой и переносный, благодаря чему
возникает комический эффект. С одной стороны, автор использует окказионализм для
описания превращения левши в правшу – это можно понять из содержания начальной части
предложения. Однако конечная часть предложения выступает в роли смысловой антитезы –
превращение отрицается, а окказионализм, благодаря переносному значению, описывает
изменение политических взглядов человека. Интересно то, что в данном случае
подключается и затекстовая информация – для распознавания переносного смысла читатель
должен опираться на свои культурно-исторические знания о политике того времени, иначе
актуализация не удастся.
К контекстуальным прагмемам можно отнести и окказионализм мячегон: «Даль
называл футбол ―мячегонным ристалищем‖. А самих футболистов – ―мячегонами”. – А
разве во времена Даля был футбол? – Футбол, коллега, был всегда!». Данный пример
свидетельствует о системности окказионального словообразования. Текстовая актуализация
наслаивается на лексическую Можно говорить о том, что новообразование мячегоны
является производящим, а мячегонный производным. Внутренняя форма этих слов
прозрачна, однако следует заметить, что своим звуковым составом слово «мячегонное»
максимально приближенно к слову «мочегонное» – автор не обходится без насмешки и в
данном случае, что можно воспринимать по-разному: как отношение автора к данному
спорту и спортсменам и как комментарий по поводу состояния футбола в наши дни.
Примером затекстовой актуализации окказионализма может служить микроконтекст с
новообразованием побумзумить: «Я тихонечко захожу на него. Лагг от худого уходит
вправо. Худой – вверх, думает, он выше всех. Разворачивается на бум-зум. ―Щас я тебе
побумзумлю!‖. Как из головной вмазал. А головная-то у кобры – 37 миллиметров! От
мессера только пыль осталась…». Ю. Поляков описывает глазами второстепенного героя
компьютерную игру, в которой необходимо управлять самолетами, а слово бум-зум
используется для специального обозначения – это быстрая атака врага сверху с
206
последующим уходом на высоту. Взяв за основу это редкое слово, автор образует от него
глагол. Следует заметить, насколько важную роль играют окказиональные слова в авторском
стиле, если читатель «слышит» их даже из уст второстепенных и маловажных персонажей.
К культуремам относится и окказионализм беспостелье: «– Конечно, шокирующий
эротизм Грешко, могучий трагизм ее бесстыдства, перерастающий в манифест
«желающей машины», – все это уходит корнями в семейную драму, пережитую автором. Я
говорю о разрыве с мужем, нашедшим в сенях стихи своей откровенной жены. Вспомним
Софью Андреевну, отыскавшую за обивкой кресла рукопись «Дьявола», что в конечном
счете и заставило Толстого бежать из Ясной Поляны! Но в нашем случае бежал от жены
и двух детей оператор машинного доения Николай Александров. Знаю, Ангелина, вы
закончили недавно новый цикл, навеянный этой трагедией. Как он называется?–
«Беспостелье». – Ах, как точно, как вкусно: «Беспостелье»… «Бес постелья». Ах, какая
лукавая инвариантность! Как тонко, как звонко! Пожалуйста, что-нибудь из
«Беспостелья»! Порадуйте, матушка!».
С одной стороны, окказионализм беспостелье, который является названием сборника
стихов известной поэтессы, уточняется с помощью словосочетания бес постелья,
находящегося в послетексте. В таком случае, значение новообразования актуализируется
лексической единицей. Но, с другой стороны, приведенное словосочетание в отрыве от
контекста не дает нам никакой информации о происхождении окказионализма или его
семантике. Понять актуализованное значение можно только в случае обращения к реальной
истории из жизни Л. Н. Толстого. Ю. Поляков упоминает события, связанные с рукописью
«Дьявола» Л. Н. Толстого (которую обнаружила его супруга), но поворачивает историю в
другую сторону и соотносит со своими персонажами. Сборник «Беспостелье» посвящен
личной трагедии героини-поэтессы – от жены ушел муж, нашедший в сенях ее откровенные
стихи. Отталкиваясь от мистического названия рукописи Л. Н. Толстого с похожей историей,
Ю. Поляков подбирает синоним бес и включает его в актуализирующее словосочетание. Так
автору удается создать комический эффект и иронический настрой.
В текстах трилогии Ю. Полякова преобладают случаи лексической актуализации.
Самым частотным приемом является использование производящих слов или словосочетаний,
так как подобная актуализация позволяет максимально точно определить лексическое
значение окказионализма, указывает непосредственно на производящую базу. Второе место
по частотности занимает такой прием, как создание ряда однокоренных окказиональных
слов – встречаются как словообразовательные пары, так и просто коррелирующие слова.
Также в одном из текстов можно обнаружить «словообразовательный куст», употребленный
в микроконтексте, посвященном театрально-кинематографической тематике.
Случаи текстовой и затекстовой актуализации встречаются в трилогии редко, однако
представляются крайне интересными. Ю. Поляков играет с внутренней формой слов,
актуализирует сразу несколько смыслов одной лексической единицы и буквально
подстраивает контекст под окказионализмы для определенного воздействия на читателя.
Следует отметить, что такая актуализация не всегда может быть понятна.
Так, с помощью средств актуализации окказиональных образований Ю. Поляков
привлекает читателя к пониманию заложенного в тексте смысла, то есть к сотворчеству и
сопереживанию.
Источники
Поляков Ю. Гипсовый трубач, или Конец фильма. М.: Астрель: АСТ, 2009.
Поляков Ю. Гипсовый трубач: Дубль два. М.: Астрель: АСТ, 2010.
Поляков Ю. Конец фильма, или Гипсовый трубач. М.: Астрель: АСТ, 2012.
Литература
Земская 1992 – Е. А. Земская. Словообразование как деятельность. М.: Наука, 1992.
207
Ильясова – С. В. Ильясова. Приемы словообразовательной игры в языке СМИ начала
XXI века // Активные процессы в современном русском языке: Сборник научных трудов,
посвященный 80-летию со дня рождения профессора В. Н. Немченко. Н Новгород: Издатель
Ю. А. Николаев, 2008. С. 86-91.
Красникова 2004 – И. Р. Красникова. Прагматика окказиональных антрополексем в
современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
Лыков 1976 – А. Г. Лыков. Современная русская лексикология (русское окказиональное
слово) / А. Г. Лыков. М.: Высшая школа, 1976.
Намитокова 1989 – Р. Ю. Намитокова. Авторские новообразования: структура и
функционирование (на материале современной поэзии): Дис. ... д-ра филол. наук. Майкоп,
1989.
Намитокова 2007 – Р. Ю. Намитокова. Актуализаторы авторских новообразований в
тексте и авторские новообразования как актуализаторы текста (на материале авторских
новообразований Евгения Евтушенко) // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. № 2. 2007. С. 37-41.
Петриченко 1981 – М. А. Петриченко. Деривационная структура и стилистические
функции речевых новообразований в современной русской поэзии (на материале поэзии
А. Вознесенского и Е. Евтушенко): дис. … канд. филол. наук. Алма-Ата, 1981.
208
И. О. Ткачѐва
ЯЗЫКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ
«СОВРЕМЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ЛЕКСИКА»
В статье речь пойдет о новом толковом словаре «Современная спортивная лексика»
[Ткачева, Дурнева 2014], работа над которым велась в Лаборатории компьютерной
лексикографии Института филологических исследований Санкт-Петербургского
государственного университета. Это словарь карманного формата, один из трех в серии
«Слова, которые следует знать». В нем описывается наиболее актуальная спортивная лексика
современного русского языка – 1600 слов и словосочетаний; общий объем словаря – 10
авторских листов.
Необходимость в создании такого словаря была обусловлена актуализацией сферы
спорта в связи с проведением крупнейших международных спортивных соревнований в
нашей стране, среди которых наиболее значительными являются зимние Олимпийские и
Паралимпийские игры в Сочи 2014 г.
Можно назвать несколько основных факторов, которые повлияли на развитие данной
лексической группы в последние десятилетия: 1) появление новых видов спорта и
дисциплин, многие из которых с недавнего времени включены в программу Олимпийских
игр и чемпионатов мира; 2) рост популярности спорта среди людей с ограниченными
физическими возможностями; 3) пропаганда оздоровительного спорта и развитие фитнес-
индустрии. Под влиянием этих факторов данная лексика пополняется новыми
заимствованиями, как первичными, так и вторичными, в пределах группы формируются
новые словообразовательные гнезда и синонимические ряды, у ранее вошедших в русский
язык слов появляются новые значения. В том виде, в котором спортивная лексика сложилась
к настоящему времени, она еще не получила полного лексикографического описания, хотя
многие ее фрагменты отражены в некоторых толковых словарях последнего десятилетия
[ТСРЯ, ТСИС, СЛ, КНС], в том числе и в НСЗ-90, опубликованном практически
одновременно со словарем «Современная спортивная лексика».
Среди новейших заимствований можно выделить следующие: 1) наименования видов
спорта и дисциплин (даунхилл – скоростной спуск с горы на велосипеде; паркур –
„экстремальный вид спорта, состоящий в максимально быстром преодолении встречающихся
на маршруте препятствий с использованием элементов гимнастики, акробатики,
скалолазания‟; скайсерфинг – „разновидность парашютного спорта: прыжки со специальной
доской, прикрепленной к ногам, сопровождающиеся выполнением различных фигур в
свободном падении‟; хай-дайвинг – „прыжки в воду со сверхбольших высот‟; комбайн –
„заключительный этап соревнований в современном пятиборье, включающий бег в
сочетании со стрельбой из пистолета)‟; 2) наименования спортсменов, занимающихся
определенным видом спорта: даунхиллер, скайсерфер, хай-дайвер, фрираннер;
3) наименования оздоровительных систем упражнений и танцевальных направлений:
беллиданс – „женский восточный танец, основанный на пластичных плавных движениях
мышцами живота и бедер‟; пилатес – „система упражнений для укрепления мышц пресса и
спины, развития гибкости, улучшения осанки и координации движений‟; стретчинг –
„комплекс упражнений, направленный на растяжку мышц, развитие эластичности связок и
подвижности суставов)‟; 4) наименования спортивных снарядов и сооружений: биг-эйр –
„трамплин для прыжков в горнолыжном спорте‟; пилон – „спортивный снаряд в виде
вертикально расположенного шеста‟; скит – „площадка для проведения соревнований по
стендовой стрельбе в форме полукруга‟. От многих подобных номинаций (хотя и не от всех)
с помощью определенных продуктивных суффиксов образовались относительные
прилагательные, а от наименований видов спорта – также и наименования спортсменов, и
таким образом сформировалось значительное число новых словообразовательных гнезд:
даунхилл, даунхильщик, даунхильный; скайсерфинг, скайсерфингист; хай-дайвинг, хай-
209
дайвинговый; паркур, паркурщик, паркурист, паркурный; пилатес, пилатесный; стретчинг,
стретчинговый; пилон, пилонный. Наряду с этим можно отметить и появление новых
синонимических рядов, включающих заимствованную и незаимствованную номинацию:
пасьют – гонка преследования; стипль-чез – бег с препятствиями; беллиданс – танец
живота; трап – траншейный стенд; скит – круглый стенд; даунхиллер – даунхильщик,
скайсерфер – скайсерфингист.
В ряде случаев слова заимствуются в нескольких значениях: биг-эйр – „прыжки со
специального трамплина на горных лыжах или сноуборде с выполнением различных трюков,
а также сам трамплин для таких прыжков‟; офпист – „спуск на лыжах или сноуборде по
склону вне подготовленных трасс, а также сам такой склон‟, а у некоторых ранее
заимствованных слов появляются и актуализируются новые значения, которые еще не были
зафиксированы словарями: фитнес в значении „соревновательный вид спорта‟ в сочетаниях
соревнования по фитнесу, кубок России по фитнесу; аэробный в значении „направленный на
развитие выносливости‟ в сочетаниях аэробная тренировка, аэробные нагрузки.
Особую группу слов составляют новые заимствования, сохраняющие иноязычное
написание: BMХ, FMX, belly-dance, pole-dance, after ski, а также так называемые слова-
«кентавры» (термин введен Л. П. Крысиным) [Крысин 2010: 575], состоящие из двух частей,
первая из которых представлена в написании латиницей, а вторая – кириллицей: scuba-
дайвинг, x-трим. Отметим, что такие слова могут и не иметь соответствующего аналога в
написании кириллицей (ср., например, BMХ, FMX, after ski, употребляющиеся только в такой
форме, и варианты belly-dance – беллиданс, pole-dance – поул дэнс, scuba-дайвинг – скуба-
дайвинг, x-трим – экстрим).
Иноязычные слова приходят в русский язык преимущественно из английского языка
(что характерно не только для спортивной лексики). При этом наблюдаются и случаи
заимствования из других языков: кейрин – из японского („трековая гонка, в которой
велосипедисты следуют за лидером, едущим на веломопеде и покидающим трассу по
сигналу судьи‟); микст – из французского (mixte – буквально «смешанный», „вид игры в
теннис или бадминтон между смешанными парами спортсменов (мужчина – женщина)‟;
après-ski [апрэски] – из французского (буквально «после лыж» – „отдых после катания на
лыжах, включающий различные увеселения, развлечения и т. п.‟).
Из новых для русского языка явлений наблюдается выделение словообразовательного
форманта -инг, который возник, очевидно, вследствие заимствования в русский язык
значительного числа слов, однотипных по форме (в данном случае наименований видов
спорта, таких как хай-дайвинг, джиппинг, роупджампинг, дайвинг, кайтинг и многих
других). Как оказалось, данный формант может присоединяться к русской
(незаимствованной) основе, примером реализации такой словообразовательной модели в
сфере спортивной лексики является слово снегоступинг – „гонки на снегоступах –
специальных приспособлениях, прикрепляемых к ногам и не скользящих, в отличие от лыж‟.
Эту модель пока нельзя считать продуктивной, поскольку нам встретился только один
подобный пример, но уже можно говорить о выходе ее за пределы окказионального и
жаргонного словообразования, что описано в научной литературе [Маринова 2014: 69, 99,
141]. Однако примеров, относящихся к литературному языку, сфере терминологии и
официальных номинаций, пока зафиксировано не было.
Среди довольно обширного массива слов, словосочетаний и новых значений, которые
описываются в словаре впервые, важное место занимает лексика так называемого
параспорта („спорт для людей с ограниченными физическими возможностями‟). В
последние годы появилось много информации о таких видах спорта и соревнованиях, эта
сфера стала более открытой (уже ведутся полные трансляции Паралимпийских игр на
центральных телевизионных каналах, в прессе появилось множество публикаций о таких
видах спорта и спортсменах). Развитие параспорта имеет большое социальное значение, и
поэтому описание этой группы лексики в словаре представляется нам весьма актуальным.
210
В состав этой группы входят: 1) наименования видов спорта: голбол – ‗игра с мячом
для слепых и слабовидящих‟; бочча – ‗игра с мячами разных цветов, цель которой – бросить
мяч на наиболее близкое расстояние к стартовому мячу‟; следж-хоккей – „хоккей на
специальных санях для людей с поражением нижних конечностей‟; 2) наименования
спортсменов: голболист, следж-хоккеист; 3) наименования соревнований:
Паралимпиада, Сурдлимпиада или Дефлимпиада – „Олимпиада для спортсменов с
нарушениями слуха‟, Специальная Олимпиада – „Олимпиада для спортсменов с
нарушениями интеллекта‟; 4) наименования специальных приспособлений: гоночная
коляска, баскетбольная коляска, аутригеры – „специальные лыжные палки с небольшими
лыжами на концах, используемые спортсменами с поражением опорно-двигательного
аппарата при занятиях горнолыжным спортом‟; 5) наименования помощников, которые
участвуют в соревнованиях вместе со спортсменами: поводырь – „помощник слепого или
слабовидящего спортсмена, бегущий вместе с ним и направляющий его‟; тапер – „помощник
слепого или слабовидящего пловца, стоящий у бортика бассейна и дотрагивающийся до
спортсмена мягким мячом, прикрепленным к специальному шесту, с целью предупредить
его о приближении к бортику‟; гид, лидер или ведущий – „в биатлоне, лыжных гонках и
горнолыжном спорте: помощник слепого или слабовидящего спортсмена, сопровождающий
его на дистанции и дающий ему команды голосом‟.
По приведенным примерам видно, что те языковые процессы, о которых мы писали
ранее (появление первичных и вторичных заимствований, формирование новых
словообразовательных гнезд и синонимических рядов, развитие новых значений),
характерны также и для лексики параспорта.
Особенностью этой лексики является то, что официальные наименования большинства
адаптивных видов спорта совпадают с соответствующими наименованиями обычных видов
спорта: биатлон, плавание, академическая гребля, легкая атлетика, либо отличаются от них
только наличием уточняющих слов: волейбол сидя, баскетбол на колясках, футбол лиц с
заболеванием ДЦП. Такие номинации, такая семантика и такая сочетаемость также нашли
отражение в словаре в типовых толкованиях „подобный вид спорта, адаптированный для
людей с ограниченными физическими возможностями‟ и в соответствующих
иллюстративных примерах:
биатл’он
Олимпийский вид спорта: лыжные гонки на различные дистанции со стрельбой по
мишеням из мелкокалиберной винтовки на специальных огневых рубежах; подобный вид
спорта, адаптированный для людей с ограниченными физическими возможностями. Оружие
для биатлона. В биатлоне используется коньковый стиль передвижения на лыжах.
Стрельба в биатлоне осуществляется из положения лежа и стоя. Соревнования по
биатлону среди слепых и слабовидящих спортсменов. Состязания по биатлону в классе сидя.
волейб’ол
Олимпийский вид спорта: командная игра с мячом, который участники перебрасывают
через высокую сетку, стараясь, чтобы он коснулся пола площадки соперников; подобный вид
спорта, адаптированный для людей с ограниченными физическими возможностями.
Оборудование для волейбола. Техника нападающего удара в волейболе. Расстановка игроков
в волейболе. Турнир по волейболу. Волейбол сидя (для спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата). Чемпионат России по волейболу среди глухих и слабослышащих
спортсменов.
Что касается словообразовательных особенностей, для лексики параспорта характерно
регулярное образование номинаций с префиксом пара... в значении «паралимпийский»
(парабиатлон, парабиатлонист, парасноуборд, парасноубордист, парабаскетбол,
парабаскетболист, паратеннис, паратеннисист). В общей сложности нами было
зафиксировано 28 слов, образованных по этой модели, а следовательно, можно говорить о
том, что этот префикс в настоящее время становится продуктивным.
211
Особую сложность при работе над словарем представляла проблема орфографической
кодификации новейших заимствований. Эта проблема связана с современной языковой
ситуацией и с отсутствием единых правил, которые можно было бы использовать при
выборе допустимых орфографических вариантов (см. об этом [Нечаева 2009: 223–224]).
Следствием этого являются расхождения в написании слов, зафиксированных в разных
словарных изданиях, а в ряде случаев даже противоречие словарной фиксации реальному
языковому употреблению. При работе над словарем «Современная спортивная лексика» мы
ориентировались на рекомендации 4-го издания «Русского орфографического словаря» [РОС
2012], хотя не во всех случаях могли им строго следовать и приводили дополнительные
варианты, если они оказывались более употребительными, чем зафиксированные в этом
словаре. Так, наряду с рекомендуемыми «Русским орфографическим словарем» вариантами
бочче, лякросс, параолимпийский и параолимпиец, в словарь «Современная спортивная
лексика» включены не менее употребительные бочча, лакросс, паралимпийский и
паралимпиец.
Итак, мы попытались представить в обобщенном виде и охарактеризовать
многообразные языковые изменения, которые затронули группу спортивной лексики в
последние годы и которые нашли отражение в словаре «Современная спортивная лексика».
Словари
КНС – Комментарий к федеральному закону «О государственном языке Российской
Федерации». Часть 2. Нормы современного русского литературного языка как
государственного (Комплексный нормативный словарь современного русского языка). В
2 кн. СПб.: СПбГУ, 2012.
НСЗ-90 – Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX века. В 3 т. / Под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и Е. А. Левашова.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.
РОС – Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой.
Изд. 4-е, испр. и доп. М.: АСТ-Пресс Книга, 2012.
СЛ – Ткачева И. О. , Дурнев А. А. Давайте говорить правильно! Спортивная лексика в
современном русском языке. Краткий словарь-справочник. СПб.: Филологический факультет
СПбГУ, 2007.
Ткачева, Дурнева 2014 – И. О. Ткачева, А. А. Дурнева. Современная спортивная
лексика: краткий словарь. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014.
ТСИС – Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2006.
ТСРЯ – Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под
ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2006.
Литература
Крысин 2010 – Л. П. Крысин. О некоторых новых типах слов в русском языке: слова-
«кентавры» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4(2).
С. 575–579.
Маринова 2014 –Маринова Е. В. . Освоение новых заимствований и сопутствующие
процессы в русском языке начала XXI в. // Русский язык начала XXI века: лексика,
словообразование, грамматика, текст. Коллективная монография. Н. Новгород: Издательство
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014. С. 65–149.
Нечаева 2009 –Нечаева И. В. . Проблемы орфографической кодификации иноязычных
заимствований // Лингвистические основы кодификации русской орфографии: теория и
практика / Под ред. В. В. Лопатина. М.: Азбуковник, 2009. С. 213–239.
212
В. Е. Федонюк
ИСПАНИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ
Характерной чертой развития литературного чешского языка является его интенсивное
обогащение иноязычными единицами. Среди заимствований, которыми пополнялся чешский
лексикон в разные исторические эпохи, встречаем немало слов испанского происхождения.
Несмотря на неоднократное обращение к изучению испанизмов в чешском языке в трудах
отечественных и зарубежных славистов, в богемистике до сих пор отсутствует их
комплексное исследование [Havránek 1960; Holub 1978; Ježišková 2000; Kapesní… 1982].
В словарном составе современного чешского языка немало испанизмов, обозначающих
предметы и явления быта: названия жилищ, мебели, одежды и обуви, еды и напитков,
посуды, кухонной утвари, орудий хозяйственной деятельности, домашних животных и птиц,
сельскохозяйственных растений, трудовых процессов и операций, обычаев, обрядов,
развлечений. В данной статье определяется роль бытовых лексем испанского происхождения
в развитии словарного состава чешского языка.
Многочисленные испанские заимствования в обыденной речи чехов стали результатом
прямых или опосредованных контактов носителей чешского и испанского языков. Особенно
много испанских заимствований в лексике, связанной с номинаций продуктов питания.
Несмотря на то, что доступные нам лексикографические издания не в полной мере отражают
реальную ситуацию с употреблением чехами испанизмов, можно с уверенностью
утверждать, что связь с испанским языком (материковым или латиноамериканским) имеют
многие слова этой сферы. К ним среди прочих относятся следующие: cigárko „длинная
тонкая колбаса длительного хранения‟, tortilla „мексиканская плоская лепешка из кукурузной
и пшеничной муки‟, majolka „распространенный вид майонеза‟, nacho „популярный в
Мексике пирожок с овощами‟, vanilin „ванильный сахар‟, piment „душистый перец‟, mulato
„горький жгучий стручковый перец‟, manzanilla [-sanylja] „испанское натуральное вино
марки хереса‟, mistela „крепкое десертное вино‟, malaga „крепкое сладкое вино‟ (от названия
одноименного испанского города).
В последнее время под влиянием внеязыковых факторов в чешском языке заметно
активизировалось использование старых и новых испанских заимствований. На страницы
бумажных СМИ, в рекламу и Интернет-издания попали paella [-lja] „маленький рогалик с
рисом, шафраном и оливковым маслом‟, gaspacho [gaspačo] „густой холодный суп из
протертых помидоров, перца, огурцов, чеснока, лука толченых сухарей, лимона‟, bacalao [-
ka-] „сухая вяленая треска; блюда из нее‟, bacadillo [-ka-ljo] „бутерброд из белого багета с
приправами‟, churros „поджаренный в растительном масле продолговатый пончик в
шоколаде‟, flan „пирожок из песочного теста с желе‟, turron „традиционные испанские
рождественские сладости в виде пасты с миндалем или орехами с медом, корицей и
пиниевыми орешками‟, tapas „маленькие пикантные бутерброды к алкогольным напиткам,
напоминающие закарпатские канапки‟, charcuteria [čar-] „продукты из вяленого свиного
мяса‟, pescado, mariscos „рыба и рыбопродукты из Испании‟, horchata [orča-], granizado
„сладкий освежающий напиток с кусочками льда и вкусом лимона‟, sangria „напиток из
красного вина с фруктами‟, cava „шипучее вино, шампанское из Каталонии‟.
В процессе приспособления испанизмов к чешскому языку у некоторых из старых
заимствований произошло дальнейшее развитие семантической структуры: ее сужение или
расширение. Это относится, например, к слову víno, которое раньше было названием для
вина независимо от его сорта. Теперь же эту лексему (с позитивной или негативной
коннотацией в зависимости от ситуации) используют в качестве номинации определенного
вида алкогольного напитка: дешевого столового вина vino de mesa, элитного вина,
производимого в северной испанской провинции la Rioja – DOC, а также вина более низкого
качества из того же региона – DO.
213
Аналогичные сдвиги обнаружены нами и в семантике лексемы káva (непрямого
заимствования из арабского языка), которая первоначально в чешском языке обозначала
„любой ароматный напиток из поджаренных плодов кофейного дерева‟, а также в составе
словосочетаний называла разные его национальные или региональные варианты. Ср.: černí k.
„черный кофе‟, bílá k. „кофе с молоком‟, instantní k. „растворимый кофе‟, překapovaná k. или
americká k. „фильтрованный кофе‟, videnská k. „кофе со сливками‟, mexická k. „кофе с
корицей‟, arabská k. или turecká k. „кофе с кардамоном‟, mražená k. „кофе с мороженым‘, ср.,
русск. кофе-глясе. В последнее время под влиянием новых контактов с носителями
испанского языка в чешской среде эту же лексическую единицу начали использовать со
значением „очень крепкий черный кофе‟ или „кофе с большим количеством молока,
подаваемого в отдельной большой емкости‟, то есть с семантикой, соответствующей cafe con
leche.
Давнее испанское заимствование čokolada „шоколад, продукт питания из какао с
различными добавками, продаваемый в плитках‟ (mléčná č. „молочный шоколад‟, oříšková č.
„ореховый шоколад‟), превратилось заодно и в название блюд, приготовленных из шоколада,
например: „густой напиток из растопленного плиточного шоколада с сахаром, молоком или
сливками‟, который часто называют горячий шоколад. Контакты с испанским языком
спровоцировали в чешском семантические сдвиги и у лексемы kon ak (от фр. cognac). Слово,
обозначавшее ранее „крепкий алкогольный напиток из белых сортов винограда‟, начало
использоваться вследствие этого и в значении „напиток типа бренди‟, то есть
„высокоградусный фруктово-ягодный напиток с запахом ванили, фиалки и лепестков роз,
полученный путем перегонки виноградных вин и забродивших виноградных соков‟.
Испанским влиянием можно объяснить наличие в словарном составе чешского языка
номинации knastr, kanastr „мягкий табак для трубок, перевозившийся в корзинках‟ (от
canastro „тростниковая корзина для табака‟). Не получив широкого распространения, эта
лексема (возможно, под действием немецкого языка) приобрела в чешской разговорной речи
иное, переносное, с негативным оттенком значение „дешевый, без запаха табак‟ [Slovník
2006: 186], ср., нем.: Knaster „плохой табак‟, хотя первоначально относилась лишь к нежным
и дорогим его сортам. В конце XIX – начале XX вв. в Моравии испанским словом trabuko
„короткая крепкая кубинская сигара‟ начали называть продукцию местных табачных фабрик.
В чешскую бытовую лексику вошли и некоторые слова, обозначающие строения в
испаноязычных странах. Как и испанизмы из других лексико-тематических групп, эти
единицы часто приобретают новую, не характерную для языка-донора семантику. Такие
изменения мы, в частности, заметили у лексемы hacienda со значением „большая
сельскохозяйственная усадьба, представляющая собой участок земли с жилым домом и
подворьем‟. Познакомившись с фазендой лишь в конце ХХ в. (при демонстрации
бразильского сериала «Рабыня Изаура»), чешские граждане тут же перенесли полюбившееся
им испанское название на свои местные оздоровительные сооружения, независимо от уровня
их комфортности и сезона возможного использования (дачные домики обычных горожан,
охотничьи домики, коттеджи, роскошные виллы), ср.: Štrouhalová lovecká hacienda
v Kolodějích je na prodej; Svou hиaciendu si postavil na eurodotace; Pan rektor se navrátal
z haciendy letního pobytu; v českých zemích staví rozhledné haciendy. С течением времени эта
номинация начала использоваться и как имя собственное в названиях различных
общественных заведений, например: kavárna Hacienda, studio Hacienda.
Испанское происхождение имеет и слово barák. В языке жителей Пиренейского
полуострова оно существовало с ХІІ в., где означало „роскошный мавританский дворец‟. Во
французском языке испанское заимствование baraque своей семантикой близко русскому
халупа. Во время Тридцатилетней войны эта лексема попала в немецкий, где превратилась в
Barracke и приобрела значение „временное жилище военнослужащих‟. Попутешествовав по
Европе, она вошла в словарный состав чешского языка. Его носители вначале использовали
лексему как название „деревянных строений для коллективного временного проживания
представителей разных профессий (строителей, монтажников, наладчиков и т. д.), у которых
214
работа связана с частыми переездами‟. Скромные условия, обеспечиваемые такими
помещениями, побудили носителей чешского языка использовать barák в переносном
смысле по отношению к любому неблагоустроенному жилью: обветшалым сельским домам,
многоэтажным, в основном панельного типа зданиям периода строительства социализма. Так
у этого слова появилось оценночное значение „плохое жилище‟. Это привело к расширению
семантической структуры, создав предпосылки для сближения единицы с наиболее
нейтральным чешским наименованием dům, ср.: Slovo «dům» existuje leda v řeči vybrané, jinak
zajistě každý řekne barák nebo bouda. По нашим наблюдениям, в СМИ и рекламных текстах
начала XXI в. уже встречаются случаи употребления этого слова с позитивной коннотацией
в значениях: „одноквартирный семейный дом‟, „особняк‟, „жилье фермера‟ и даже
„служебное помещение‟: To je však úplně stejné, jako byste si nechal postavit barák od mladého
člověka po škole; spíš klasický barák se zahrádkou, stádo oveček a jezírko s něčím, možná
slepičárnou; v baráke plném policajtů už i nemám kam utéct; Je to mega barák s kuchyní a dvema
pokoji v přízemí a třema pokoji patře.
С несколько иным, чем в донорском (латиноамериканском испанском) языке значением
„деревня индейцев в США, Северной Америке и Аргентине‟, слово pueblo закрепилось в
современном чешском языке. В материковом испанском языке эта лексема имеет несколько
значений: „народ‟, „населенный пункт‟, „поселок‟, „село‟, „город‟, причем независимо от
региона нахождения. В испанском языке латиноамериканского континента pueblos (форма
мн. числа) стало общепринятым названием коренного населения – индейцев. В обеих
разновидностях испанского языка pueblo имеет однокоренные единицы: puebla „селение‟,
pueblecillo/pueblecito „сельцо‟, pueble „бригада шахтеров‟ – в материковом испанском и
pueblano/puebleno/ puebleril/puebrino/ pueblero „деревенский‟, pueblad „столпотворение‟ – в
его южноамериканском варианте. В современном английском языке испанское pueblo
относится как к самим коренным жителям, так и к их самобытным селениям, где новые
жилища строятся на крышах старых домов. Из-за внешней схожести с индейскими домами-
деревнями комплексы многоэтажных современных построек на Юге США жители этих мест
также называют pueblos. Расширение контактов с представителями североамериканского
континента способствовало проникновению в чешский язык этого испанизма в данном
значении.
Особенности жизни испаноязычных народов находят отражение и в других группах
бытовой лексики: названиях одежды и обуви (bolero „короткий женский жилет‟, sombrero
„мужская шляпа с широкими полями‟), посуды и кухонной утвари (majolika „нежная
керамика, украшенная цветной глазурью, фаянс‟), домашних животных и птиц (merino „овца
с мягкой шерстью‟, nutrie „нутрия‟), орудий и средств труда (mačeta „нож для работы на
плантациях‟, sedule „оснастка удочки‟, pilar „столбик для привязывания лошадей в
конюшне‟, muleta „валик‟), традиционных развлечений и игр (kanastra „разновидность
карточной игры‟, karambol „элемент игры в бильярд‟, rodeo „праздничное состязание ковбоев
в умении укротить дикую лошадь‟, korrida „коррида‟, banderillo „короткая палочка с
крючком тореадора‟, espadon „шпага, меч‟). Закреплению этих номинаций в чешском
лексиконе способствовали культурно-национальная специфика обозначаемых ими реалий и
интернациональный статус этих лексических единиц.
Бытовая лексика испанского происхождения попадала в чешский язык не только в
результате непосредственных чешско-испанских контактов. Постоянным источником
пополнения его испанизмами были и остаются языки стран, которые занимали влиятельную
позицию в мире в разные исторические эпохи. В качестве примера единицы, заимствованной
чешским языком относительно недавно благодаря контактам с американским вариантом
английского языка (про его особенную роль в развитии славянских языков часто пишут
лингвисты), приведем лексему šery/sherry „крепкое сладкое вино золотисто-коричневого
цвета‟. Заметим при этом, что для современных чехов рассматриваемое слово утратило связь
с названием испанского города Jeres de la Frontera (родина этого алкогольного напитка), от
которого оно было образовано.
215
Следует отметить, что многие давние испанские заимствования уже не ассоциируются
в сознании носителей чешского языка ни с языком их происхождения, ни с языком-
посредником, как это произошло со словом karamela „карамель‟, ошибочно относимым к
галлицизмам. Чтобы убедиться в справедливости нашего мнения, обратимся к истории
проникновения в чешский язык испанской лексемы toka, используемой ныне с семантикой
„женская шляпка без полей или плоский берет‟ [Nový 2006: 805]. Согласно данным
различных источников, в том числе и лексикографических, давнее значение слова „шляпа с
пером‟ (продолжает жить в геральдике), было заимствовано чехами во времена правления
Рудольфа II (XVII в.), когда в Праге господствовала испанская мода. Во времена
Тридцатилетней войны этот мужской головной убор приобрел в Европе настолько большую
популярность, что украшенные перьями шляпы из поярка начали носить и дамы. Тем не
менее значение „женская шляпа‟, присущее этому слову в современном чешском языке,
появилось у него значительно позже – в начале ХХ в. и уже под влиянием французского
языка.
Попадая в чешский лексикон, большинство испанизмов в процессе приспособления к
новой языковой системе претерпевают заметные изменения, иногда это происходит спустя
довольно значительный промежуток времени после их заимствования. Так,
интернационализм sombrero „соломенная шляпа с широкими полями‟ в чешской разговорной
речи встречается и в качестве шутливого обозначения любого слишком большого головного
убора.
Лексема gala в связи с ее высокой деривационной активностью, не присущей в целом
бытовым испанским заимствованиям в чешском языке, заслуживает отдельного внимания.
Первоначально она обозначала „пышное придворное торжество‟, а позже – „парадную
придворную одежду‟ и „соответствующие испанскому этикету украшения‟. В современном
чешском языке эта единица функционирует не только в качестве существительного с
семантикой „праздничный наряд‟, но и прилагательного – „парадный, праздничный‟, а также
наречия – „торжественно, празднично‟, ср.: gala představení (праздничный спектакль); dnes
přišel v gala (он пришел в праздничной одежде). На основе gala (по аналогии с англицизмом
galaparty „праздничный вечер с развлечениями и фуршетом‟ и германизмом galakoncert
„большой праздничный вечер‟) в чешском языке образовались гибриды galavečer
„торжественный вечер‟, galaples „праздничный бал‟.
Благодаря многовековым культурно-языковым контактам чешская бытовая лексика
пополнилась множеством адаптированных испанским языком заимствований арабского,
африканского и индейского происхождения. Ограничимся примерами из лексико-
тематической группы «продукты питания»: banánek (уменьш. форма от banán, исп. banana)
„кондитерское изделие – печение, конфета, формой похожие на банан‟, panáda „начинка для
фарширования некоторых блюд‟, batáty „сладкий картофель, батат‟, tomaty/tomata
„помидоры‟, kasava „корнеплоды тропического растения маниок, употребляемые в пищу в
вареном виде‟, kakao „порошок для приготовленного сладкого напитка с таким же
названием‟, maizena „коммерческое название кукурузной муки‟, papája „плоды древесного
растения (дынного дерева) папайя‟. Функцию посредника, адаптера иноязычных слов в
отношении чешского лексикона при заимствовании им единиц не только из редких, но и
большинства развитых европейских языков испанский язык исполняет уже не одно столетие.
В условиях возрастающей глобализации мира роль испанского языка в пополнении чешского
языка новыми единицами и смыслами, похоже, обещает снова усилиться.
Литература
Havránek, Jedlička 1960 – B. Havránek, A. Jedlička. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1960.
Holub, Lyer 1978 – J. Holub, S. Lyer. Stručný etimologický slovník českého jazyka se
zvláštním zřetelem k slovům kultirním a cizím. Praha: SPN, 1978.
216
Ježková – S. Ježková. Embargo, torpédo a další hispanismy v češtině// NŘ. R. 83. Č. 3. 2000.
S. 152-157.
Kapesní… 1982 – Kapesní slovník novinářský – v němž se nachazejí zvláště slova z cizích
jazyků. Sestavil J. Rank. Praha: Knihkupectví L. L. Kober, 1982.
Kubišta, Rejman 1959 – J. Kubišta, L. Rejman/ Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1959.
Machek 1959 – V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1968.
Nový akademický slovník cizích slov. Kolektiv autorů pod vedením J. Krause. Praha
Academia, 2006.
Slovník nespisocné češtiny. 2. rozšířené vydání. Praha: MAXDORF, 2006.
217
А. Д. Шмелѐв
НОВОЕ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ: ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ1
Существуют три представления о том, что можно считать н о в ы м явлением в языке
(и, в частности, в лексике) с точки зрения кодификации языковых норм. С одной стороны,
н о в ы м можно считать любое явление, которое ранее не фиксировалось в нормативных
словарях и справочниках; с другой – н о в ы м является только то, что ранее не встречалось в
речи. Наконец, н о в ы м может считаться то, что воспринимается как таковое носителями
языка, в то время как это – хорошо забытое (или даже не вполне забытое) старое.
В соответствии со сказанным возможны три разных подхода к неологии, которые
можно условно обозначить как исторический, лексикографический и нормативный.
Историческому подходу свойственен интерес к новым словам и значениям с точки
зрения их фиксации как новых единиц языка. В этом случае предметом неологии
оказываются слова и значения, вошедшие в язык и в XVIII, и в XIX, и в XX вв., независимо
от того, закрепились ли они в языке: не будучи новыми сейчас, они когда-то были новыми.
Главное – как можно более точно установить время первого появления слова или значения в
речи. При этом непрерывно ведущиеся изыскания часто позволяют уточнить эти данные.
Именно исторический подход лежит в основе изложения темы «Неологизмы» в
большинстве пособий по русской лексикологии: в качестве примеров неологизмов там
нередко приводятся советизмы, появившиеся в русском языке в 1920-е гг. (многие из них с
тех пор успели устареть и превратиться в историзмы).
При лексикографическом подходе предметом неологии является все то, что ранее не
фиксировалось в словарях и справочниках и поэтому может рассматриваться как новое.
Часто бывает, что некоторое языковое выражение характеризуется как новое, поскольку оно
не было отражено в прежних описаниях языка. Так, иногда утверждают, что слова
толерантный и ментальный являются новыми заимствованиями, пришедшими в русский
язык относительно недавно. Показательно, что они включены в словарь [Крысин 2009], в
аннотации к которому сказано: «В этой книге собраны наиболее употребительные
иноязычные слова, заимствованные русским языком во второй половине XX – начале XXI
века». Такая оценка времени их вхождения в русский язык не случайна: они долгое время
отсутствовали в большинстве словарей русского языка, в частности их нет в «Малом
академическом словаре» (правда, в толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова слово
толерантный имеется; но слова ментальный нет и там). Однако на самом деле оба
указанных слова вошли в язык в тех же значениях значительно раньше: слово ментальный
активно использовалось в первой половине XX в., а слово толерантный – еще в XIX в.
Вообще говоря, случаи такого рода точнее было бы характеризовать не как новое
явление, а как лакуны в имеющихся описаниях. С этой точки зрения, к подлинно новым
явлениям следовало бы относить только то, что связано с появлением новых слов, ранее не
встречавшихся в речи, а также новых значений у уже существующих лексем, изменение их
сочетаемости, стилистической характеристики и т. п.2
Так, в связи с изменениями в общественной системе ценностей и принятием установки
на достижение у с п е х а в речи стали использоваться прежде невозможные сочетания
успешный человек, эффективный менеджер, яркий индивидуалист, позитивный эгоист;
целый ряд слов утратил значение отрицательной оценки (напр., коммерсант, бизнесмен,
1 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований
«Изменения узуса и кодификация норм русского литературного языка», проект № 15-04-00488. 2 Подход, принятый в серии словарей, открывшейся словарем НСЗ-60], комбинировал исторический и
лексикографический подходы. С одной стороны, в словари включалось только то, что ранее не получило
лексикографической фиксации; с другой, как сказано в предисловии к словарю [НСЗ-60], – туда не включались
«слова, давно вошедшие в литературный язык, но не попавшие в толковые словари по разным причинам
(случайные пропуски, ограничения инструкцией и т. п.)».
218
амбициозный, карьера). Изменения такого рода являются подлинными языковыми
изменениями и непременно должны найти отражение в лексикографическом описании
языка. В то же время ощущение непривычности большинства таких употреблений
сохраняется в сознании многих носителей языка. Представляется, что нормативный словарь
не должен игнорировать возникающие новации, но в нем должно посредством специальных
помет отмечаться, что словоупотребление, ориентированное на новую систему ценностей,
воспринимается многими носителями языка (особенно старшего поколения) как
«неправильное». Именно это представление лежит в основе н о р м а т и в н о г о подхода к
неологии: н о в ы м является то, что воспринимается как новое и часто как «неправильное».
Различия между названными подходами можно проследить на примере истории слова
хохма в русском языке. Это слово было включено в [НСЗ-60], что представляется
совершенно естественным, поскольку оно стало активно употребляться в середине 1960-х
гг., его включение в точности соответствует хронологическим рамкам словаря (в
предисловии к словарю это слово упоминалось как заимствованное из арго)3.
Однако более подробное описание истории этого слова представляется весьма
поучительным.
Как известно, слово хохма исторически восходит к древнееврейскому слову со
значением „мудрость‟. Соответствующее понятие под церковнославянским наименованием
премудрость или же греческим именем Софии (σοφία) стало одним из ключевых концептов
русской религиозной философии (исходное слово хохма при этом обычно не упоминается).
По-видимому, слово хохма было заимствовано в русский язык через посредство языка
идиш, в котором, вероятно, уже была заложена возможность семантического перехода от
смысла „мудрость‟ к смыслу „шутка‟. Типологически переход от смысла „мудрость‟ к смыслу
„смешное‟ не представляет собою чего-то необычного: так, русское остроумие
первоначально означало просто „острота ума‟. Ср. также немецкое Witz „шутка, остроумие‟,
которое раньше имело значение „знание‟ (от глагола wissen „знать‟), или английское wit,
которое может означать и „ум‟, и „остроумие‟ и родственно слову wise „мудрый‟. Впрочем, в
идиш указанный переход, возможно, был связан с сарказмом, как в известном анекдоте, в
котором об Эйнштейне говорится: «И что, с этой хохмой он собирается выступать у нас в
Одессе?».
Функционирование слова хохма в русском языке, по-видимому, связано с тем, что
народной этимологией слово хохма было возведено к глаголу хохотать или
существительному хохот (хохма – это нечто такое, что заставляет людей смеяться). Его
производные хохмочка, хохмить и хохмач уже никоим образом не ассоциируются (и, по-
видимому, никогда не ассоциировались) с мудростью.
В «Национальном корпусе русского языка» (НКРЯ) первое употребление слова хохма
зафиксировано в странном с точки зрения современного языкового сознания выражении
взять на хохму, используемом в романе «Гарпагониана» Константина Вагинова (1934) по
отношению к перекупщику Анфертьеву и означающем обман при купле-продаже. Кроме
того, теперь в корпус включено стихотворение Марка Тарловского, из которого к нашей теме
относится четверостишие: Он в роли ярмарочного медведя, / Взметая шерсть враждебных
щетке лохм, / Здесь в распрокрасившемся холстоеде / Найдет коллегу, жадного до хохм.
Вплоть до конца 1950-х гг. других примеров в НКРЯ практически нет. Впрочем, есть
пример из юношеского дневника Ромэна Назирова (1951): …далай-ламе преподнесли дары
от Центрального Консультативного Совета Китая, сказали речь, затем далай-лама
выразил благодарность и пожелал доброго здоровья председателю Мао Цзе-дуну. Ну, хохма!
3 История слова хохма и особенности его употребления в современном русском языке были описаны в статье
[Шмелев 2012]. Здесь в описание истории слова вносятся некоторые дополнения и уточнения; при этом
опускаются многочисленные примеры, приведенные в указанной статье и характеризующие его употребление в
современном языке.
219
Это рукопожатие седой древности и юной современности: многовековой тибетский
ламаизм и двухлетняя китайская республика.
За пределами НКРЯ до 1950-х гг. мы обнаруживаем несколько примеров употребления
слова хохма в качестве каббалистического термина, в транскрибированном названии
талмудических трактатов, а также единичные примеры отсылок к еврейскому слову в
философских сочинениях. В 1920–1930-х гг. есть два-три примера использования в печатных
изданиях слова хохма по отношению к специфическому «одесскому юмору».
По-видимому, едва ли не самый ранний пример употребления слова, соотносимого с
новым значением слова хохма в русском языке, обнаруживается в письме Дмитрия Богрова
своему приятелю, написанном 1 декабря 1910 г. (оно было опубликовано в книге: А. Мушин.
Дмитрий Богров и убийство Столыпина. Париж, 1914). В этом письме Богров замечает, что
его «репутация “веселого малого”, “хохмача” еще не окончательно подорвана».
Показательно, что хохмач здесь стоит в одном ряду с выражением веселый малый.
Существенно, что столь ранняя письменная фиксация полностью обусловлена тем, что
частные письма Дмитрия Богрова – убийцы Столыпина – представили общественный
интерес и были опубликованы. В противном случае мы бы вынуждены были отнести время
вхождения слова хохма и его производных в русский язык (в интересующем нас значении) к
1930-м или в крайнем случае к 1920-м гг.4.
В 1940-х и особенно в конце 1950-х гг. слово хохма и его производные начинают
использоваться в текстах разных жанров, хотя поначалу и не очень активно. Так, в записях
советского журналиста Л. Огнева (Лазаря Бронтмана) времен советско-германской войны о
поэте Евг. Долматовском говорится, что он по обыкновению «немилосердно хохмил».
Приведем примеры из поэтических текстов: Ежели что говорилось от сердца – / Хохма
жаргонная шла вместо перца (Борис Слуцкий); здесь слово хохма еще ощущается как
жаргонное). Мы добываем, торжествуя / и глядя времени в лицо, / не «мо», не хохму
продувную, / а просто красное словцо (Ярослав Смеляков); примечательно, что слово «мо»
поставлено автором в кавычки, а хохма уже фигурирует как вполне обычное слово, не
нуждающееся в эскорте кавычек).
Почти общеупотребительным слово хохма и его производные стали в 1960-х гг.,
причем еврейское происхождение слова хохма многими носителями русского языка
перестало ощущаться5, хотя иногда о нем вспоминали (чаще всего люди, знакомые с
еврейской традицией, напр. Борис Слуцкий в стихотворении «Гебраизмы»). В скандальном
романе Ивана Шевцова «Тля» отрицательный герой, Борис Маркович Юлин, еврей,
неоднократно употребляет слово хохма, и положительный герой Владимир по этому поводу
говорит: «Люсенька, возьмите, пожалуйста, толковый словарь Даля и докажите Борису, что
слово “хохма” имеет такое же родство с русским языком, как я, скажем, с американским
президентом». Разумеется, апелляция к словарю Даля смехотворна и свидетельствует о
невежестве как автора романа, так и его героя; однако заметим, что слово хохма
отсутствовало и в академических словарях русского языка, и это не было случайной лакуной.
Очевидно, вплоть до начала 1960-х гг. ощущалась стилистическая маркированность слова
хохма, его жаргонный характер. В этом отношении включение слова хохма в словарь [НСЗ-
60] было вполне оправданно и с исторической, и с лексикографической, и с нормативной
точки зрения. С исторической – потому, что общеупотребительным оно стало именно в 1960-
е гг., хотя изредка использовалось и раньше; с лексикографической – потому, что таким
образом восполнялась возникшая словарная лакуна; с нормативной – потому, что ряд
носителей языка еще ощущал его «чужеродность», так что его нельзя было признать
4 В воспоминаниях Константина Паустовского «Время больших ожиданий» (1958) цитируются слова поэта
Якова Ядова (автора слов знаменитой песни «Купите бублики / <…> Гоните рублики / Вы поскорей»),
сказанные при встрече с автором воспоминаний в ресторане в Батуме в 1922 г.: Если говорить всерьез, так я
посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот
не вышло. Вышел хохмач. 5 Так, оно стало нередко встречаться в авторской речи так называемых писателей-деревенщиков.
220
нейтральным. Кроме того, для многих носителей языка оно приобрело отчетливую
отрицательную окраску, характеризуя юмор сомнительного свойства; та же оценка
относится и к хохмачам, и к действию хохмить; она ярко проявляется в уменьшительном
хохмочка (такая отрицательная оценка хохм было свойственна, например, Юрию
Домбровскому).
Достигнув максимума к 2005 г., в дальнейшем употребительность слова хохма стала
снижаться. Тем не менее оно сохраняет широкий семантический потенциал. В современном
русском языке слово хохма может использоваться в качестве названия речевого жанра
(например, в сочетании рассказать хохму) и в качестве обозначения остроумного действия
или веселого розыгрыша, который может быть осуществлен и в неречевой форме – отметим
использование этого слова в романе Александра Солженицына «В круге первом» (первый
вариант романа был написан в 1959 г.); в некоторых изданиях соответствующая глава так и
называлась «Хохма». Это свойство присуще и ряду аналогичных слов; например, шутка –
название речевого жанра, но сыграть шутку – неречевое событие (глагол пошутить
соотносится с «речевым» пониманием, а подшутить – с «неречевым»).
Язык позволяет выделить различные виды хохм: это может быть смешное событие
(Вчера приключилась хохма); речевое действие, направленное на то, чтобы рассмешить
слушателей (глагол хохмить чаще всего обозначает осуществление таких речевых действий);
действия (возможно, и неречевые), направленные на то, чтобы вызвать смех (учинить хохму;
отмочить хохму); смешная составляющая некоего события или высказывания (хохма
заключалась в том, что…).
Часто слово хохма указывает на забавный розыгрыш, ставящий своей целью подшутить
над кем-то и посмеяться над человеком, попавшим в ловушку: человеку сообщают
заведомую небылицу, но аранжируют ее таким образом, что человек попадается и верит ей (в
довольно близком значении иногда используется слово покупка – производное от имеющего
это значение глагола купиться). Такого рода хохмы любят устраивать по отношению к
новичкам их более опытные товарищи в армии, на флоте, а также в разнообразных
экспедициях: археологических, геологических, спелеологических.
В повседневной городской жизни такого рода розыгрыши, как правило,
осуществляются лишь раз в году – первого апреля. Отсюда клишированное выражение
первоапрельская хохма. Сущность первоапрельской хохмы опять-таки заключается в том,
чтобы преподнести небылицу таким образом, чтобы адресат речи в нее поверил, и
посмеяться над его излишней доверчивостью. Когда нечто представляется столь
неправдоподобным, что наблюдатели не могут в это поверить, приходится специально
предупреждать, что это не хохма. Когда идея обмана выходит на первый план, смысл,
связанный с шуткой и смехом, оказывается устраненным (взять на хохму). Злые розыгрыши
иногда тоже называют хохмами (цель в том, чтобы позлить человека, оказавшегося ее
мишенью, или сделать его объектом насмешек).
Хохмами называют также забавные происшествия, заставляющие людей посмеяться, и
рассказы о таких происшествиях. В отличие от веселых розыгрышей, они случаются
независимо от воли их участников и не связаны с желанием позабавить или позабавиться
(случилась хохма, получилась хохма, вот хохма была). Если ожидается смешное (хотя, скорее
всего, не очень приятное для участников) происшествие, об этом часто говорят: будет хохма
(нередко слово используется иронически, с некоторым сдвигом).
Если нечто стало хохмой, то это значит, что это вызывает смех. Отсюда выражения для
хохмы, ради хохмы, в качестве хохмы, в порядке хохмы „для смеха‟.
Хохма как речевое произведение – это то, что говорится не всерьез, может быть
выдумкой, не соответствовать действительности. Поэтому возможен вопрос: Это хохма или
на самом деле было?
В отличие от слова хохма, слово остроумие сохраняет в русском языке двойственность:
оно может указывать как на остроту ума или житейскую хитрость, так и на умение сказать
нечто смешное. Об Исааке Кагане из романа «В круге первом» (который, кстати, и приставал
221
к Рубину с требованием новой хохмы) в той же самой главе говорится, что он «попал на
шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию» (т.е. хитрости), но там же
упоминается и остроумие Рубина, состоящее как раз в способности к хохмам.
Для современного языка слово хохма и его производные уже давно не являются
новыми. Однако интерес для неологии они продолжают сохранять. С позиции
исторического подхода важно уточнить время вхождения этих слов в язык (установлено, что
в некоторые разновидности языка они вошли уже в начале XX в., а в общелитературный
язык – в начале 1960-х гг.). Хотя эти слова уже включаются в словари, в рамках
лексикографического подхода следовало бы более точно охарактеризовать особенности их
речевого употребления, потенциальный оценочный компонент (некоторые неточности
связаны с недостаточно продолжительной историей их лексикографического описания).
Наконец, с точки зрения нормативного подхода важно было бы выявить отношение к этим
словам образованных носителей языка и дать рекомендации касательно допустимой сферы
их употребления.
Литература
Крысин 2009 – Л. П. Крысин. 1000 новых иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2009.
НСЗ-60 – Новые слова и значения. Словарь справочник по материалам прессы и
литературы 60-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. М.: Сов. энциклопедия,
1971.
Шмелев 2012 –Шмелев А. Д. Хохма. Еврейская мудрость и русская шутка // Die Welt
der Slaven, 2012, 57 (2). S. 306-321.
222
Doris Steffens
DAS ONLINE-NEOLOGISMENWÖRTERBUCH
FÜR DEN NEUEN WORTSCHATZ IM DEUTSCHEN
1. Einführung
Der vorliegende Beitrag stellt die Onlinefassung des Neologismenwörterbuches vor, das am
IDS in Mannheim (Deutschland) im Projekt „Lexikalische Innovationen“ erarbeitet und im IDS-
Wörterbuchportal OWID unter http://www.owid.de/wb/neo/start.html passwortfrei und kostenlos
präsentiert wird.
Abb. 1 zeigt die Startseite des Neologismenwörterbuches. In der rechten Spalte sind weitere
Projektergebnisse der Abteilung Lexik aufgeführt. „Die Stärke von OWID ist der integrierte,
vereinheitlichte Zugriff auf unterschiedliche Wörterbücher zum Deutschen, die alle
wissenschaftlich fundiert sind und korpusbasiert erarbeitet wurden.“ [Müller-Spitzer 2014: 355].
Abb. 1
Das Neologismenwörterbuch beschreibt korpusbasiert den neuen Wortschatz im Deutschen,
der in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts sowie in den Nuller- und Zehnerjahren des 21.
Jahrhunderts in den allgemeinsprachlichen Teil des Wortschatzes der deutschen Standardsprache
eingegangen ist.
Das Wörterbuch richtet sich an sprachinteressierte Laien, an Schüler und Studenten, an
Deutschlernende sowie an Berufsgruppen, für die möglichst genaue Kenntnisse über Inhalt, Form
und Gebrauchsbedingungen neuer, noch wenig bekannter Lexik dringend notwendig ist, denkt man
beispielsweise an Lehrer, Journalisten, Übersetzer, Dolmetscher, Germanisten oder Lexikografen
allgemeiner ein- und zweisprachiger Wörterbücher.
2. Vom Print- zum Onlinewörterbuch
Die konzeptionellen Grundlagen für das erste genuine, auf Prinzipien der wissenschaftlichen
Lexikografie basierende Neologismenwörterbuch für das Deutsche wurden am IDS Ende der 90er
Jahre gelegt.
Folgende Neologismusdefinition liegt zugrunde: Ein Neologismus ist eine neue lexikalische
Einheit bzw. die neue Bedeutung einer etablierten lexikalischen Einheit, die in einem bestimmten
Abschnitt der Sprachentwicklung in einer Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich ausbreitet
und als sprachliche Norm allgemein akzeptiert wird.
223
„Neu“ sind solche lexikalischen Einheiten, die dem Sprachsystem am Beginn des
Erfassungszeitraumes (der, mit den 90er Jahren beginnend, jeweils auf ein Jahrzehnt bezogen ist)
noch nicht angehört haben, an seinem Ende jedoch – mehr oder weniger – allgemein akzeptierte
Bestandteile des Sprachsystems geworden sind. Sie sind aus der Masse der ursprünglich in einer
speziellen Kommunikationssituation geprägten Einmalbildungen herausgetreten und haben
Verbreitung gefunden, weil sie einen allgemeineren kommunikativen Bedarf befriedigen (zur
Ermittlung der Neologismenstichwörter vgl. [Steffens 2010: 3ff.]).
Das Projekt „Neologismenforschung“, heute „Lexikalische Innovationen“, das 1997 unter
Leitung von Dieter Herberg begonnen hatte, das Neologismenwörterbuch zu konzipieren [vgl.
Herberg 2004], ließ den ursprünglichen Plan, ein Printwörterbuch zu erarbeiten, in den Hintergrund
treten, als das Angebot kam, in dem gerade im IDS aufgebauten lexikalisch-lexikologischen
korpusbasierten Informationssystem „Wissen über Wörter“ als erstes Teilprojekt mit Pilotfunktion
zu fungieren [vgl. Haß-Zumkehr 2000: 2].
Diese Entscheidung bedeutete Gewinn für beide Seiten: Für das Neologismenprojekt, weil
damit die Möglichkeit eröffnet war, aufgrund des Platzangebots im Internet diverse neue
Datentypen, d.h. Typen lexikografischer Informationen, zu realisieren, die Informationen
umfassend darzustellen und jederzeit zu ändern und die Stichwörter schnell freizuschalten. Für das
Informationssystem, weil im Zuge der Erarbeitung der Neologismen-Wortartikel die DTD erprobt
und in verschiedenen Punkten optimiert werden konnte.
Ergebnisformen sind – außer der Onlinefassung – zwei Printwörterbücher für den neuen
Wortschatz der 90er Jahre [Herberg, Kinne, Steffens 2004] bzw. den der Nullerjahre [Steffens, al-
Wadi 2013]. Erschienen ist darüber hinaus ein zweisprachiges deutsch-russisches
Neologismenwörterbuch für den Zeitraum 1991-2010, das in Kooperation zwischen dem IDS und
der Staatlichen Pädagogischen Leo-Tolstoi-Universität Tula entstanden ist [Steffens, Nikitina
2014]; s. Abb. 1; [vgl. Nikitina, Steffens, im Druck].
Die Onlineversion des Neologismenwörterbuches wurde 2006 unter dem Namen
„Neologismen der 90er Jahre“ freigeschaltet. Sie umfasste ursprünglich knapp 700 Wortartikel.
Inzwischen sind es – mit dem neuen Wortschatz der Nuller- und Zehnerjahre sowie den Nachträgen
für die 90er Jahre – fast 1800.
3. Zum Mehrwert des Onlinewörterbuches
Der Mehrwert des Onlinewörterbuches gegenüber dem Printwörterbuch zeigt sich
in der Aktualität: Neue Wortartikel können schnell freigeschaltet, Daten jederzeit
problemlos ergänzt und aktualisiert werden,
im Platzangebot: Belege und Kommentare können in größerer Zahl als im Buch eingebracht
werden. Illustrationen bzw. Links auf andere Internetquellen sind möglich,
im Zugriff auf die Daten: Die Daten können mithilfe eines großen Repertoires von
Angaben, Merkmalen gleich, ausgezeichnet werden, so dass systematisch nach Stichwörtern mit
gemeinsamen Merkmalen gesucht werden kann (z. B. nach Lehnübersetzungen, nach nur im
Singular gebrauchten Substantiven). Diese Angebote richten sich besonders an fachlich
spezialisierte Benutzer (vgl. Abschnitt 6.).
4. Zum Aufbau der Wortartikel
Da die Neologismen nur einen relativ kleinen Teil des Gesamtwortschatzes ausmachen,
können die Wortartikel umfangreicher sein als gemeinhin üblich. Das Neologismenwörterbuch,
auch das gedruckte ein- und zweisprachige, enthält im Vergleich zu den aus ein- und
zweisprachigen Gesamtwörterbüchern bekannten Datentypen – wie Worttrennung, Betonung,
Aussprache, Grammatik, Herkunft, pragmatische und stilistische Angaben, Bedeutungserklärung,
typische Verwendungen, Beleg, Äquivalent – diverse neue Datentypen, was auch dem erhöhten
Informationsbedarf in Bezug auf neuen Wortschatz entgegenkommt. Dazu gehören Angaben zu
orthografischer und morphologischer Varianz, zu Wortbildung, Wortbildungsproduktivität, zu
Neologismen im Wörterverzeichnis, die zum Stichwort in paradigmatischer und thematischer
Beziehung stehen, sowie Informationen sprachlichen und sachlichen, auch landeskundlichen
Inhalts.
224
Neologismusspezifisch sind Datentypen, die Typ und Aufkommen des Neologismus sowie
seine Buchung in anderen Wörterbüchern des jeweiligen Erfassungszeitraums betreffen. Auch die
Zeitverlaufsgrafik gehört hierher.
Die Abb. 2.1 und 2.2 zeigen die erste Seite des Neologismen-Wortartikels Fanmeile. In der
linken Spalte von Abb. 2.1 finden sich in alphabetischer Ordnung die umgebenden Neologismen-
Stichwörter:
Abb. 2.1
[…]
Abb. 2.2
Zu den präsentierten Daten der Reihe nach: Unter Stichwort und Lesart (zur knappen
Identifizierung der Bedeutung) steht das Jahrzehnt, dem das Stichwort zuzurechnen ist.
Der Link rechts führt zu den ausführlichen Benutzerhinweisen.
Es folgt die Zeitverlaufsgrafik, die Aufkommen und Verbreitung des jeweiligen Stichwortes
anhand der IDS-Textkorpora „DEUTSCHES REFERENZKORPUS“ (DEREKO)1 illustriert. Auf der
horizontalen Achse sind die Jahre markiert, auf der vertikalen Achse die relative
Gebrauchshäufigkeit in den IDS-Textkorpora.
Eine Zeitverlaufsgrafik ist grau gefärbt, wenn in den Korpustexten ältere gleichlautende
Zeichenketten mit anderer Bedeutung belegt sind, so dass zum Vorkommen des Neologismus selbst
keine Aussage gemacht werden kann. Das betrifft vor allem Neubedeutungen, z. B. abhängen für
„entspannen‟:
1 www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora
225
Abb. 3
„Neubedeutung“ ist neben „Neulexem“ eine Kategorie des obligatorisch angegebenen
Neologismentyps. „Neulexem“ bezieht sich auf neue Wörter und neue feste Wortverbindungen
(Letztere sind als „Neulexem [Phraseologismus]“ spezifiziert), die im Deutschen im Zeitraum der
90er- bis Zehnerjahre neu gebildet oder aus anderen Sprachen neu entlehnt worden sind.
„Neubedeutung“ bezieht sich auf die neue Bedeutung einer im Deutschen etablierten lexikalischen
Einheit, die zu den vorhandenen Bedeutungen hinzutritt.
Auf den Neologismentyp folgen gegebenenfalls Angaben zur Abkürzungsauflösung (für die
Langform entlehnter Kurzwörter, die Stichwort sind, z. B. International Bank Account Number für
IBAN), zu Formvarianten, zu Schreibung, Worttrennung und Aussprache (s. Abb. 2.1), zur
Wortbildung und – wiederum obligatorisch und neologismusspezifisch – zum Aufkommen
innerhalb des oben angegebenen Jahrzehnts. Als benutzerfreundliche Zusatzinformation sind die
Angaben zu Schreibung, Aussprache und Wortbildung auch bei den Neubedeutungen aufgeführt
(s. Abb. 3).
Die Übersicht mit den drei Reitern „Bedeutung und Verwendung“, „Grammatik“ und
„Weitere Informationen“ schließt sich an. Die Seite mit dem ersten Reiter ist standardmäßig
geöffnet.
4.1. Zum Reiter „Bedeutung und Verwendung“
Hier finden sich die Bedeutungsangabe oder ein Kommentar zum Gebrauch, bei
Neubedeutungen ein Hinweis auf die ältere Bedeutung, gegebenenfalls auf die Lehnbedeutung
(s. Abb. 3). Der Belegblock enthält meist 10 Belege, die Vorkommen und Gebrauch des
Stichwortes im Erfassungszeitraum illustrieren, in der Regel gefolgt von „Typischen
Verwendungen“ mit häufig belegten Verbindungen des Stichwortes. Fakultativ sind Angaben zu
Wertungsaspekt (s. Abb. 3), Kommunikationssituation (z. B. meist mündlich), Gruppensprache
226
(z. B. Jugendsprache), Textspezifik (z. B. „besonders in Reiseprospekten“), Stil (z. B. spöttisch)
sowie sinnverwandten Ausdrücken (s. Abb. 2.2).
Bei Stichwörtern mit zwei im selben Jahrzehnt aufgekommenen Lesarten, z. B. Hüftgold,
öffnet sich die Reiterübersicht erst mit dem Klick auf die gewünschte Lesart. Hier die Seite mit der
Lesart „Hüftspeck‟ (samt Link auf weitere Lesarten; gerahmt):
Abb. 4
4.2. Zum Reiter „Grammatik“
Hier finden sich die grammatischen Angaben, gegebenenfalls auch Restriktionen (bei
Substantiven z. B. „meist Plural“, bei Verben z. B. „meist im Partizip Perfekt“). Daneben sind hier
auch Angaben zur Wortbildungsproduktivität des Stichwortes gemacht, d.h. zu dessen Potenzial,
Ableitungen, Kurzwörter, Präverbfügungen und (als erster oder zweiter Bestandteil) Zusammen-
setzungen zu bilden.
Ein Beispiel: Erst in den Zehnerjahren aufgekommen, ist Fracking („Verfahren zur
Gewinnung von Erdgas- und Erdölvorkommen‟) den IDS-Textkorpora zufolge schon sehr gut in
Zusammensetzungen belegt:
Abb. 5
227
4.3. Zum Reiter „Weitere Informationen“
Einen Einblick in die unter „Weitere Informationen“ angebotenen Daten vermitteln die Abb. 6.1
und 6.2 von googeln:
Abb. 6.1
[…]
Abb. 6.2
Hier finden sich gegebenenfalls Angaben zu Entlehnungsprozessen (s. Herkunft), zu
sachlichen Bezügen (s. Enzyklopädisches) und zu sprachlichen (s. Sprachreflexives). Unter
„Enzyklopädisches“ können Links auf andere elektronische Nachschlagewerke und auf Google-
Bilder eingefügt sein. Unter „Sprachreflexives“ sind beispielsweise Informationen zur
Wortgeschichte oder Analogiebildung gegeben, zu einer Person, der die Erstverwendung des
Wortes zugeschrieben wird, zur Nennung als „Wort des Jahres“ (vgl. Abb. 6.2), zur
228
Benennungsmotivation eines Stichwortes, häufig eines Phraseologismus, sowie zur Zugehörigkeit
zu einer thematischen Gruppe (s. Abb. 6.2, gerahmt; vgl. 5.2.).
Das Vorkommen in Wörterbüchern (s. Abb. 6.2) ist – wie gesagt – ein
neologismusspezifischer Datentyp. Hier ist die Buchung in Wörterbüchern registriert, die zu einem
Kanon von Wörterbüchern gehören, die im jeweiligen Erfassungszeitraum erschienen sind. Die
Buchung wird als Indiz für das Angekommensein des Neologismus in der Allgemeinsprache
gesehen.
Neben den vielen Klickmöglichkeiten innerhalb der Wortartikel hält das Wörterbuch noch
viel mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten bereit. In Abschnitt 5. und 6. werden die
verschiedenen Angebote vorgestellt.
5. Zugriffsmöglichkeiten auf die Stichwörter mithilfe von Listen
5.1. Alphabetische Listen
Die Stichwörter sind im Menüpunkt „Wortartikel“ (s. Abb. 1 rechte Spalte) in diversen
alphabetischen Wortlisten zu finden:
Abb. 7
Die beiden letzten Listen betreffen besondere Fälle. Die erste (Strichlemmata) enthält die
Stichwörter, die reihenbildend in gebundener Bedeutung (z. B. […]alarm „große, medial inszenierte
Aufregung‟) oder als Konfix (z. B. Cyber/cyber[…] „virtuell, im Internet‟) auftreten. Die zweite
(Verdeckte neue Wörter) enthält die innerhalb der Wortartikel vorkommenden Nichtstichwörter
samt Angabe ihrer Position im Wortartikel (z. B. steht Vorabendsoap unter
„Wortbildungsproduktivität“ im Wortartikel Soap; [vgl. al-Wadi 2013]).
Die Suche nach Stichwörtern und Nichtstichwörtern kann auch gezielt über das OWID-
Suchfeld erfolgen. Stichwörter können zudem im „Gehe zu“-Feld eingegeben werden:
Abb. 8
5.2. Nach inhaltlichen Gesichtspunkten aufgebaute Listen
Mit der inhaltlichen Erschließung der Stichwörter nach Fach- und Sachgebieten, die ebenfalls
im Menüpunkt „Wortartikel“ angesiedelt sind, wird das alphabetische Gliederungsprinzip des
Wörterbuches durchbrochen. Die meisten Stichwörter sind einem von ca. 20 Fach- und
Sachgebieten zugewiesen, z. B. „Ernährung“. Innerhalb jeder Gruppe sind sie jeweils alphabetisch
und nach Jahrzehnt geordnet:
229
Abb. 9
Die Fach- und Sachgebiete bringen zum Ausdruck, dass Neologismen bestimmte politisch-
gesellschaftliche und wirtschaftlich-technische Entwicklungen widerspiegeln, die sich, abhängig
von der gesellschaftlichen Gesamtsituation, seit den 90er Jahren vollzogen haben und vollziehen.
Von speziellerer Art, aber letztlich dem gleichen Prinzip verpflichtet, ist die thematische
Zusammenfassung von Neologismen zu einem relevanten Thema in ca. 40 Gruppen, die jeweils in
den betreffenden Wortartikeln platziert sind, hier im Wortartikel Caffè Latte (vgl. Abb. 6.2):
Abb. 10
6. Recherche zur Ermittlung von Stichwörtern mit gemeinsamen Merkmalen
Der eigentliche Mehrwert des Onlinewörterbuches besteht – wie gesagt – darin, dass dank der
XML-Datenmodellierung ein großes Repertoire von Angaben zur Verfügung steht, mit denen die
Daten in den Wortartikeln ausgezeichnet werden können. Die Angaben kommen Merkmalen gleich,
die die Stichwörter unter bestimmten Aspekten näher charakterisieren. Mit dem Angaben-Angebot,
das dem Nutzer für die Recherche im Menüpunkt „Erweiterte Suche“ (s. Abb. 1) zur Verfügung
steht, kann er systematisch und schnell nach Stichwörtern mit bestimmten gemeinsamen
Merkmalen suchen. Diese Suchfunktion, die benutzerdifferenzierten Bedürfnissen dient, dürfte vor
allem Fachleute und speziell Interessierte ansprechen.
Das neue, wesentlich erweiterte Rechercheangebot geht 2016 in der zweiten Jahreshälfte
online, stand also zum Redaktionsschluss noch nicht für eine Präsentation bereit. Deshalb wird in
das derzeitige Angebot eingeführt und das künftige nur skizziert.
230
In Abb. 1 ist die Suchmöglichkeit nach Zeichenketten am Anfang, in der Mitte oder – im
Beispiel – am Ende eines Neologismen-Stichwortes gezeigt. Diese Suchmöglichkeit ist durchaus
zielführend, aber keine Merkmalsrecherche im hier gemeinten Sinne. Eine Kombination mit den
Angaben darunter, z. B. der Wortart Adjektiv, ist derzeit nicht intendiert.
Abb. 11
In Abb. 12 ist eine kombinierte Recherchemöglichkeit nach Merkmalen dargestellt. Gesucht
wurden Adjektive, die durch Ableitung entstanden sind:
Abb. 12
Mit dem derzeitigen Angebot sind die zahlreichen Möglichkeiten, die die dem Neologismen-
wörterbuch zugrunde liegende DTD bietet, bei Weitem nicht ausgeschöpft: Viele Datentypen sind
im derzeitigen Rechercheangebot nicht berücksichtigt oder unvollständig. So kann nach Wörtern
gesucht werden, aber nicht nach Phraseologismen, nach Wörtern, die Wortbildungsprodukte sind,
aber nicht nach solchen, die entlehnt wurden. Viele andere Datentypen, die z. B. den
Bedeutungswandel von Stichwörtern (z. B. Metaphorisierung, Generalisierung), die pragmatischen
Informationen (z. B. Fachjargon, scherzhaft) oder die sinnverwandten Ausdrücke (z. B. Synonymie,
Hyperonymie) betreffen, sind ebenfalls noch nicht recherchierbar.
Um dies zu gewährleisten, ist das Angebot für die erweiterte Suche, das bald in OWID zur
Verfügung steht, grundlegend neu gefasst worden.
231
Zwischen den Merkmalen wird es in Zukunft viele aus fachlicher Sicht sinnvolle
Kombinationsmöglichkeiten geben. Wesentlich erleichtert wird der Zugriff auf die Daten dadurch,
dass die Ergebnistreffer – anders als bisher – bei jedem Klick, ohne Betätigung eines Buttons, sofort
erscheinen. So lässt sich die Ergebnisliste jederzeit nachvollziehen. Auf ein nicht gewünschtes
Ergebnis bzw. eines mit null Treffern kann deshalb unmittelbar, beispielsweise durch
Rückgängigmachen des letzten Klicks, reagiert werden.
Die Rechercheangebote richten sich v.a. an den fachlich spezialisierten Nutzer, der für eine
bestimmte Fragestellung das entsprechende Wortmaterial geliefert bekommt.
Folgende Fragestellungen sind beispielhaft genannt:
Welche Homonyme gibt es?
Welche Stichwörter haben mehrere Genera?
Welche Verben, welche Verbalphrasen bilden das Perfekt mit „sein“?
Welche Stichwörter sind Lehnbedeutungen?
Welche Zusammensetzungen haben ein Konfix als zweiten Bestandteil?
Aber auch der sprachlich interessierte Laie wird beim Klicken durch das Angebot
Informationen finden, die ihn zu weiteren Suchen anregen und auch spielerischen Ambitionen
Rechnung tragen.
Hier ebenfalls einige Fragestellungen:
Welche Stichwörter sind in den Zehnerjahren aufgekommen, also erst seit Kurzem in
Gebrauch?
Welche Stichwörter sind Kurzzeitwörter, also relativ schnell wieder aus der
Allgemeinsprache verschwunden?
Welche Stichwörter sind Pseudoanglizismen, also im Deutschen mit englischem Material
gebildet?
Welche Stichwörter sind stilistisch markiert, werden also beispielsweise scherzhaft oder
derb gebraucht?
Bei welchen Stichwörtern ist ein Wort„erfinder“ angegeben, also eine namentlich bekannte
Person, der die Bildung des Wortes zugeschrieben wird?
7. Schlussbemerkung
Angesichts der Präsentation des Online-Neologismenwörterbuches im IDS-Wörterbuchportal
OWID soll eine nunmehr zwanzig Jahre alte These auf den Prüfstand gestellt werden: „Selbst in
einem vergleichsweise reichen Land wie der BRD reichen die lexikographischen Ressourcen nicht
aus, um z. B. ein Neologismenwörterbuch zu erarbeiten, das auch in einer elektronischen Version
verfügbar ist und laufend gepflegt wird.“ [Wiegand 1995: 212].
Aus der Sicht des Projekts „Lexikalische Innovationen“ (Steffens [Leitung], al-Wadi) lässt
sich ein rundum positives Fazit ziehen:
Mehr als 1000 Neologismen-Stichwörter sind seit dem Start des Onlineauftritts 2006
umfassend bearbeitet und eingecheckt worden, neuer und neuester Wortschatz wird kontinuierlich
ergänzt. Die Daten in den Wortartikeln werden permanent erweitert, miteinander verknüpft, auch
korrigiert. Zudem wird großer Wert darauf gelegt, dem Nutzer zur umfassenden Erschließung des
Materials verschiedenartige Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Nicht zuletzt gehören
in diesen Kontext auch all die der wissenschaftlichen wie öffentlichen Wahrnehmung des Projekts
dienenden Arbeiten wie Publikationen, Vorträge, Interviews sowie die Beantwortung von Anfragen.
Verwendete Abkürzungen
DeReKo – Deutsches Referenzkorpus
DTD – Dokument-Typ-Definition
IDS – Institut für Deutsche Sprache
OWID – Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch
232
Literatur
al-Wadi D. Zwergentechnologie, Alphamädchen, zurückleaken. Verdeckte neue Wörter des
Neologismenwörterbuchs besser zugänglich machen // Sprachreport 3, 2013. S. 16-24.
Haß-Zumkehr U. Wortschatz ist mehr als „viele Wörter“. Die Aufgaben der Abteilung Lexik
des IDS // Sprachreport 2, 2000. S. 2-7.
Herberg D. Der lange Weg zur Stichwortliste. Aspekte der Stichwortselektion für ein
allgemeinsprachliches Neologismenwörterbuch // Haß-Zumkehr, Ulrike u.a. (Hg.): Ansichten der
deutschen Sprache. Tübingen: Narr, 2002. S. 237-250. (Studien zur deutschen Sprache 25).
Herberg D. Das Projekt «Neologismen der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts» // Scharnhorst,
Jürgen (Hg.): Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von
Wörterbüchern. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Lang, 2004.
S. 331-353. (Sprache – System und Tätigkeit 50).
Herberg D., Kinne M., Steffens D. Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im
Deutschen. Unter Mitarbeit von E. Tellenbach und D. al-Wadi. Berlin, New York: de Gruyter,
2004. XXXIX/393 S. (Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 11).
Müller-Spitzer C. Das Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch – OWID // Ansichten
und Einsichten. 50 Jahre Institut für Deutsche Sprache. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache,
2014. S. 347-359.
Nikitina O, Steffens D. Der neue Wortschatz im Deutschen für russischsprachige
Deutschlerner – das Deutsch-Russische Neologismenwörterbuch // Deutsch als Fremdsprache (im
Druck).
Steffens D. Tigerentenkoalition – schon gehört? Zum neuen Wortschatz im Deutschen //
Sprachreport 1, 2010. S. 2-8.
Steffens D., al-Wadi D. Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 2001 – 2010.
Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2013. 2 Bände. LVII/577 S.
Steffens D., Nikitina O. Deutsch-russisches Neologismenwörterbuch. Neuer Wortschatz im
Deutschen 1991–2010. Немецко-русский словарь неологизмов. Новая лексика в немецком языке
1991–2010. 2 Bände. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2014. 598 S.
Wiegand H. E. Der kulturelle Beitrag der Lexikographie zur Umgestaltung Osteuropas //
Lexicographica 11, 1995. S. 210-218.
233
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АКСАРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. филол. наук, доцент
Тюменского государственного университета. [email protected]
БАРАНОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА – канд. филол. наук, доцент кафедры русского
языка Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» – Медицинская
академия имени С.И. Георгиевского». [email protected]
БЕЛЕНЧИКОВА РЕНАТЕ – доктор филол. наук, профессор, замдекана
Гуманитарного факультета Магдебургского университета им. Отто фон Герике.
БЛАГОЕВА ДИАНА ГЕОРГИЕВА – канд. филол. наук, профессор Института
болгарского языка Болгарской академии наук (София). [email protected]
БУРЫКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – доктор филол. наук, доктор истор. наук,
ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
БУЦЕВА ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА – канд. филол. наук, ведущий научный
сотрудник, руководитель Группы словарей новых слов ИЛИ РАН. [email protected]
ВАУЛИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА – канд. филол. наук, старший научный
сотрудник Лаборатории компьютерной лексикографии ИФИ СПбГУ. [email protected]
ГЕККИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – канд. филол. наук, старший научный
сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
ГУДИЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА – канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка и методики его преподавания Ульяновского государственного университета.
ДУБИЧИНСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор филол. наук,
профессор, завкафедрой украинского, русского языков и прикладной лингвистики
Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
ДЯГИЛЕВА ИРИНА БОРИСОВНА – канд. филол. наук, старший научный
сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
ЖДАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – ассистент кафедры современного
русского языка и общего языкознания Нижегородского государственного университета им.
Н. И. Лобачевского. [email protected]
ЗАХАРОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ – канд. филол. наук, доцент СПбГУ, ведущий
научный сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]; [email protected]
ЗЕЛЕНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – Phd (Doctor of Philosophy in Linguistics),
лектор кафедры «Русский язык, культура и переводоведение», Института современных
языков, переводоведения и литературоведения. Университет Тампере, Финляндия.
ИЗОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ – доктор филол. наук, профессор кафедры
журналистики и связей с общественностью Орловского государственного университета.
КАЛИНОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – канд. филол. наук, ведущий
научный сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
КОЗЛОВСКАЯ НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА – канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, старший научный сотрудник ИЛИ РАН.
КОЗЫРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – доктор педагог. наук, профессор
кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена. [email protected]
КОЛКОВСКА СИЯ БОРИСОВА – канд. филол. наук, профессор Института
болгарского языка Болгарской академии наук (София)[email protected]
234
ЛЕВИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА – канд. филол. наук, старший научный
сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
ЛИТВИННИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА – доктор филол. наук, профессор
Каменец-Подольского национального университета им. Ивана Огиенко. [email protected]
ЛУКАШАНЕЦ ЕЛЕНА ГЛЕБОВНА – канд. филол. наук, профессор кафедры
общего языкознания Минского государственного лингвистического университета (Беларусь).
МАКАРОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – магистрант Ульяновского государственного
университета. [email protected]
МАРИНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – доктор филол. наук, профессор ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. [email protected]
МАТВЕЕВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА – канд. педагог. наук, профессор кафедры
рекламы и связей с общественностью Московского государственного института культуры.
МОКИЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – доктор филол. наук, профессор
СПбГУ. [email protected]
НАМИТОКОВА РОЗА ЮСУФОВНА – доктор филол. наук, профессор
Адыгейского государственного университета (Майкоп). [email protected]
НЕФЛЯШЕВА ИНДИРА АМИНОВНА – канд. филол. наук, доцент, АРОО
Ассоциация лингвистов- экспертов «Аргумент» (Майкоп). [email protected]
НЕЧАЕВА ИЯ ВЕНИАМИНОВНА – канд. филол. наук, старший научный
сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова. [email protected]
НИКИТИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА – канд. филол. наук, доцент кафедры
немецкого языка Тульского государственного педагогического университета
им. Л. Н. Толстого. [email protected]
НИКУЛЬЦЕВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка как иностранного и культуры речи Московского государственного
областного университета. [email protected]
ПАШКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – аспирант кафедры современного русского языка
и общего языкознания ННГУ им. Н. И. Лобачевского. [email protected]
ПОПОВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ – канд. филол. наук, доцент кафедры литературы
и русского языка гуманитарного института Северного Арктического федерального
университета им. М. В. Ломоносова (филиал в г. Северодвинске). [email protected]
ПРИЁМЫШЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА – доктор филол. наук, ведущий
научный сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
РАЦИБУРСКАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА – доктор филол. наук, профессор,
завкафедрой современного русского языка и общего языкознания ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. [email protected]
РИДЕЦКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – научный сотрудник ИЛИ РАН.
САМЫЛИЧЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА – канд. филол. наук, доцент
кафедры современного русского языка и общего языкознания филологического факультета,
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. [email protected]
ТКАЧЁВА ИРИНА ОЛЕГОВНА – канд. филол. наук, старший научный сотрудник
Лаборатории компьютерной лексикографии ИФИ СПбГУ [email protected]
ФЕДОНЮК ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА – канд. филол. наук, научный сотрудник
отдела западно- и южнославянских языков Института языковедения им. А. А. Потебни НАН
Украины. [email protected]
ЧЕРНЯК ВАЛЕНТИНА ДАНИИЛОВНА – доктор филол. наук, профессор,
завкафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена. [email protected]
235
ШМЕЛЁВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – доктор филол. наук, профессор кафедры
русского языка Московского педагогического государственного университета, завотделом
культуры русской речи ИРЯ им. В. В. Виноградова. [email protected]
ЭЗЕРИНЯ СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА – канд. филол. наук, старший научный
сотрудник ИЛИ РАН. [email protected]
STEFFENS DORIS (ШТЕФФЕНС ДОРИС) – доктор филол. наук, руководитель
проекта «Лексические инновации», Институт немецкого языка, отдел «Лексика» (Мангейм,
Германия). [email protected]
Научное издание
НеОЛОгИя И НеОгРАфИя:СОВРеМеННОе СОСТОяНИе И ПеРСПеКТИВы
(К 50-ЛеТИю НАУчНОгО НАПРАВЛеНИя)
Утверждено к печатиУченым советом Института лингвистических исследований РАН
Подписано в печать 07.12.2016. формат 6090/16Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 14,75Тираж 500 экз. Заказ № 773
Издательство «Нестор-История»197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7
Тел. (812)235-15-86e-mail: [email protected]
www.nestorbook.ru
Отпечатано с готового оригинал-макетав типографии издательства «Нестор-История»
Тел. (812)622-01-23По вопросам приобретения книг издательства «Нестор-История» звоните по тел. +7 965 048 04 28