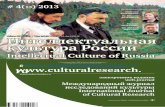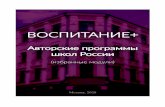Мельник А. Г. Успенский собор Троице-Сергиева...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Мельник А. Г. Успенский собор Троице-Сергиева...
Мельник А. Г.
Успенский собор Троице-Сергиева монастыря
Успенский собор (1559-1585 гг.) Троице-Сергиева монастыря принадлежит
к числу широко известных, можно даже сказать, хрестоматийных памятников
древнерусского зодчества. Краткие его характеристики присутствуют в
многочисленных специальных и популярных изданиях1. Общепризнано, что
он является «копией» московского Успенского собора. Вместе с тем не раз
указывалось на некоторые отличия этих двух зданий2. Однако по сию пору
детальному анализу названный монастырский собор так и не был подвергнут.
А без подобного анализа невозможно ответить на вопрос — каковы истоки
основных его форм, и в конечном итоге уяснить, в чем состоит своеобразие
данного храма. Настоящая работа представляет собой попытку решения этих
вопросов.
Рассматриваемый памятник дошел до нас с некоторыми существенными
изменениями своего первоначального облика. Исследователями установлено
следующее. В позднее время центральный барабан храма был значительно
увеличен по высоте, а все главы вместо шлемовидной получили луковичную
форму. Первоначальная сводчатая паперть или галерея, располагавшаяся
вдоль всего западного фасада храма, в конце XVIII в. оказалась разобранной, а
у западного портала возникло крыльцо, меньшее в плане, чем упомянутая
галерея. Крыльца у боковых порталов также позднего происхождения,
первоначально их не существовало. Часть окон четверика нижнего света и
одно окно верхнего света западного фасада растесаны. Сильно искажен
наружный цоколь памятника, в позднее время подверглось искажению и
первоначальное позакомарное покрытие храма, но в наше время оно было
восстановлено. В интерьере вместо древнего в конце XVII в. возник новый
иконостас, а в 1684 г. на стенах появилась роспись, прежде не
существовавшая3. Однако в целом, несмотря на все эти изменения, памятник
обладает относительно неплохой сохранностью.
Следует напомнить, что рассматриваемый храм был задуман не как
Успенский, а как новый Троицкий собор монастыря. О его за-
с. 94
кладке, состоявшейся 19 мая 1559 г., до нас дошло следующее известие в
«Кратком летописце Святотроицкия Сергеевы Лавры»: «Того же лета... царь и
великий князь Иван Васильевич всеа Русии был у Живоначалныя Троицы в
Сергиеве монастыря на празник в неделю пятдесятную, и велел основати
церковь во имя Живоначалныя Троицы; а на основании был сам царь государь
и великий князь, и з своею царицею великою княгинею Анастасьею и з своими
детьми: с царевичем со князем Иваном и с царевичем со князем Феодором, и з
своим братом с князем Георгием Васильевичем, и с царем Александром
Казанским. Да на основании же был владыка Резанской Гурей, преж был
игумен у Живоначалныя Троицы; а при Троицком Сергиева монастыря
игумене Иоасафе и при келаре старце Андреяне Ангелове»4.
Из данного текста определенно следует, что царь Иван IV придавал какое-то
совершенно особое значение строительству рассматриваемого храма. Видимо,
недаром ему были приданы размеры большие, чем у главного храма страны —
московского Успенского собора (см. ниже) — случай единственный в XVI в.
К сожалению, дальнейшая история создания памятника плохо освещена
письменными источниками. Известно только, что его строительство сильно
затянулось, и он был освящен лишь при царе Федоре Иоанновиче 15 августа
1585 г. как Успенский храм5.
Рассматриваемый собор представляет собой сложенное из кирпича
шестистолпное пятиапсидное пятиглавое здание. Его наибольшие размеры в
плане составляют 42,3x29,2 м6. Но следует учесть, что утраченная западная
галерея, согласно приблизительным расчетам на основании ее чертежа 1745
г. 7 , имела по оси восток-запад размер, близкий к 10 м. Таким образом,
первоначальная длина собора с упомянутой галереей была близка к 52,3 м.
Крестчатые столпы собора размещены так, что средний продольный неф и
трансепт обладают несколько большей шириной, чем остальные нефы (рис. 1).
Согласно обмерному чертежу храма 1946 г. 8 восточный поперечный неф
имеет ширину 6 м, трансепт — 7,5 м, третий с востока поперечный неф — 6,2
м, и западный неф — 6,1 м. В интерьере на стенах столпам отвечают слабо
выступающие пилястры. Западные углы четверика также оформлены
подобными пилястрами.
с. 95
Пять световых барабанов собора располагаются вполне обычно:
центральный — над пересечением главных нефов, боковые — над
ближайшими к нему диагонально расположенными компартиментами.
Причем центральный барабан имеет несколько большую ширину, чем
расположенное под ним пространство. Остальные компартименты четверика
перекрыты крестовыми сводами без выявленных в интерьере подпружных
арок. Все эти своды расположены на одном уровне, плавно перетекая друг в
друга, и поэтому верно сказано, что они образуют как бы сплошной потолок9.
Апсиды перекрыты конхами (рис. 2).
По линии восточной пары столпов располагается кирпичная алтарная
преграда, достигающая по высоте от современного уровня солеи около 3 м.
Восточный поперечный неф, принадлежащий алтарной части, в соответствии
с апсидами разгорожен продольными стенами на пять помещений —
собственно алтарь, жертвенник и приделы. Но указанные стены имеют высоту
меньшую, чем внутреннее пространство храма. В северном помещении
алтарной части расположен примыкающий к северной стене собора объем
лестницы, ведущей на своды.
Все шесть столпов в завершении имеют импосты высотой около 30 см с
профилем, начиная снизу, в виде четвертного вала, полки, узкой полочки,
четвертного вала и узкой полочки. Аналогичным профилем обладают
импосты настенных пилястр. Основания тех же пилястр оформлены
невысокими профилированными цоколями, составленными, сверху вниз, из
полочки, валика, узкой западающей панели, скоса и широкой плоской панели
(рис. 3). Столпы в настоящее время не имеют никакого декора в своих
основаниях. Но четыре западных столпа у самых своих оснований из
крестчатых превращаются в квадратные в плане, причем поверхности этих
нижних квадратных частей не вертикальные, а пирамидально слегка
расширяющиеся книзу. По-видимому, все это свидетельствует, что указанные
столпы первоначально имели невысокие профилированные цоколи,
возможно, близкие цоколям настенных лопаток. Но во время росписи собора
конца XVII в. цоколи столпов были стесаны. Те же западные столпы на
каждой из своих сторон имеют по одной неглубокой нише, в которые в
настоящее время помещены большие иконы. Однако какие-либо признаки
«огромных постаментов с карнизами», о которых упомянуто недавно10,
с. 96
у этих столпов отсутствуют. Основания всех пяти барабанов украшены
карнизами в виде валика. Карнизы под скуфьями барабанов в настоящее время
отсутствуют.
Своеобразной чертой рассматриваемого интерьера являются
прямоугольные выступы, выделяющие северный и южный входы в храм.
Собор освещается довольно высоко расположенными окнами четверика,
которые в боковых стенах устроены в два яруса, а в западной стене имеются
только на уровне верхнего яруса боковых стен. Причем окна верхнего света
частично входят в зоны люнетов под сводами храма. Свет в здание попадает
также через окна барабанов и апсид.
В солнечный день интерьер собора просто насыщен светом, что отмечалось
неоднократно. Однако в настоящее время большая часть света проникает в
храм через сильно растесанные окна нижнего яруса четверика. Первоначально
же эти окна были примерно в два раза уже, чем теперь. Следовательно,
внутреннее пространство собора изначально было более сумрачным. При
этом, как и у большинства шестистолпных пятиглавых храмов XVI в., верхняя
зона его интерьера тогда была освещена лучше, чем нижняя. Следует
добавить, что окна помещены в очень глубокие ниши, выявляющие большую
толщину стен храма.
В целом интерьер Успенского собора производит сильное, но двойственное
впечатление. С одной стороны — необыкновенно большие размеры
внутреннего пространства и своды, расположенные на одном уровне,
призваны вызывать ощущение цельности, даже почти зальности данного
интерьера, а с другой стороны — слишком массивные столпы явно ослабляют
эту цельность. Двойственный характер рассматриваемого интерьера
позволяет относить его к палатному типу, весьма характерному для России
XVI в.11
Описанный выше декор имеет ордерные черты. Посредством его хоть и не
вполне последовательно, но все же достаточно ясно отражены основные
членения пространственной структуры данного интерьера. По-видимому,
изначально, когда росписи в храме не существовало, указанный декор
воспринимался более отчетливо, чем в настоящее время.
с. 97
Разумеется, значительную роль в первоначальном образе рассматриваемого
интерьера играл главный иконостас. К сожалению, он не дошел до нашего
времени. Теперь хотя бы отчасти представить, как он выглядел, позволяет
самая ранняя опись Троице-Сергиева монастыря 1641 г. (далее — Опись 1641
г.). В данном источнике иконостас Успенского собора зафиксирован
следующим образом: «А в церкве двери ц[а]рские сень и столбы и верхняя
полка и дуги обложены образцами литыми золочены сусальным золотом на
слюде с розными краски на резное дело. Вверху на сени в киоте образов:
живоначальные Тр[о]ицы, по сторонам вечеряние Г[о]с[по]дне в кругах на
дверях Благовещение пречистые Б[огороди]цы да четыре Евангелисты да на
сторонних столбцах образ Сп[а]сов да пречистые Б[огороди]цы да херувимы
да девять св[я]тых писаны на золоте в киотах резных киоты со кресты и з
главами.
Деисус болшой дватцать один образ. У Спасова образа и пре[чи]стые
Б[огороди]цы и у Иванна Пр[ед]т[е]чи венцы резные золочены месты
обложены серебром басмою.
Над Деисусом праздников дватцать шесть образов обложены серебром
басмою у тех икон венцы резные.
Пророков четырнатцать образов обложены серебром басмою золочены
посреди их образ пречистые Б[огороди]цы воплощение обложена серебром
басмою и золочены, подписи у всех на серебре.
Праотцов дватцать один образ писаны на празелени над праотцы херувимы
резные золочены сусалным золотом и серебром меж праотцов под херувимы
столбцы посеребряны сусальным серебром яблока покрыты празеленью»12.
Далее в Описи 1641 г. зафиксированы иконы местного ряда данного
иконостаса, большинство из которых было богато оформлено басменными
окладами, пеленами и другими дорогими украшениями. Кроме того, на
нижнем тябле иконостаса тогда существовал пядничный ряд, состоявший из
многочисленных небольших икон13.
В своей основе данный иконостас возник, очевидно, либо около, либо
вскоре после освящения Успенского собора в 1585 г. Но, конечно, за
протекшее до составления Описи 1641 г. время он претерпел некоторые
изменения. Так, в частности, согласно «Краткому летописцу», в 7133 (1624/25)
г., «при архимарите Дионисие и
с. 98
келаре старце Александре и казначеи старце Спиридоне, во обители
Живоначалныя Троица и чюдотворца Сергия обложен в велицей церкви
Пречистыя Богородица Честняго ея Успения деисус и праз[дники] и пророки
сребром и позлащен»14.
Обращает на себя внимание отсутствие в приведенном свидетельстве
«Краткого летописца» упоминания о праотеческих иконах рассматриваемого
иконостаса. А согласно цитированной выше Описи 1641 г., те же праотеческие
иконы явно отличались по оформлению от икон располагавшихся ниже чинов.
Если деисусные, праздничные и пророческие образы иконостаса тогда были
украшены, кроме прочего, серебряной басмой, появившейся в 1624/25 г., то
праотеческие иконы вообще не имели никаких украшений (см. выше).
Объяснить это можно двояко: либо монастырские власти по каким-то
причинам не хотели украшать существовавшие изначально упомянутые
иконы праотцев, либо эти иконы появились в иконостасе после 1624/25 г.
Последнее, мне кажется, более вероятно. Так или иначе, но можно не
сомневаться, что данный иконостас был сомасштабен интерьеру собора и,
следовательно, представлял собой огромную живописную стену,
располагавшуюся по линии западных граней восточных столпов. Теперь
можно лишь мысленно представить, какое сильное впечатление производил
изначально этот живописный ансамбль в лишенном росписей белостенном
интерьере.
Снаружи собор выглядит необыкновенно масштабным, можно сказать,
тяжеловесно-монументальным, причем первоначально эти черты
воспринимались более отчетливо. Дело в том, что после надстройки
центрального барабана и устройства больших луковичных глав облик храма
существенно видоизменился, в нем появилась тенденция к вертикально
ориентированному движению масс. Изначально же центральный барабан
лишь незначительно возвышался над боковыми барабанами (рис. 4). К тому
же эти последние наделены такими большими диаметрами, что, с одной
стороны, частично перекрывают центральный барабан, а с другой —
сближают общую ширину пятиглавия с шириной собора. Первоначальные
шлемовидные главы мало способствовали ступенчато-пирамидальному
нарастанию масс данного пятиглавия, столь свойственному завершениям ряда
других храмов XVI в. Все это вместе взятое объясняет, почему
рассматриваемое пятиглавие выглядит столь грузным и определяет во многом
впечатление от храма в целом.
с. 99
Фасады четверика собора расчленены на одинаковые по ширине прясла
сильно выступающими из стен на 75-77 см пилястрами. Каждое из этих прясел
увенчано одинаковой полуциркульной закомарой. Сразу следует подчеркнуть
характернейшую особенность данной декоративной системы. Она не вполне
соответствует внутренней структуре здания. В самом деле, как мы помним,
главные продольный и поперечные нефы собора более чем на метр шире
остальных нефов. И если бы зодчие строго следовали данной конструкции, то
наружные прясла, соответствующие упомянутым главным нефам, были бы
шире остальных прясел. Соответственно и закомары, расположенные над
более широкими пряслами, оказались бы больше соседних закомар. Но, как
видим, создатели собор отступили от данной конструктивной логики и
сделали это явно намеренно. Тем самым они как бы замаскировали истинный
характер внутренней конструкции.
Несколько пониженные апсиды собора с юга и севера частично прикрыты
массивными пилонами — контрфорсами. По вертикали апсиды расчленены
полуколоннами.
Первоначальный профилированный цоколь собора дошел до нас в
искаженном виде. Указывалось, что полностью профиль цоколя сохранился в
пределах западной паперти15, но описан он не был. Данный профиль состоит
из следующих элементов (сверху вниз): полочки, второй полочки, вала, узкой
западающей панели, скоса плоской панели, вала, узкой западающей панели,
скоса и плоской панели (рис. 3). Профиль существующего ныне цоколя собора
совпадает с верхней частью описанного профиля до первого сверху скоса
включительно. Установленное сходство свидетельствует, что дошедший до
нас цоколь храма сохранил верхнюю часть своего первоначального профиля.
Нижняя же часть этого профиля утрачена.
Основания пилястр фасадов и полуколонн апсид первоначально были
оформлены базами, профилированными подобно упомянутому цоколю. Те же
пилястры завершены следующими элементами, составляющими в
совокупности подобие тосканской капители (снизу вверх): валик, плоский
фриз, полочка, четвертной валик, полочка, четвертной валик и полочка. Со
столь мелкой профилировкой несколько контрастируют массивные формы
архивольтов сильно выступающих закомар, наружный профиль которых
состо-
с. 100
ит из (снизу вверх) вала, выкружки и полки. Апсиды завершены
многоуступчатым мелкопрофилированным карнизом, который
раскреповывает и верха упомянутых полуколонн этих апсид.
На середине высоты стены основного объема имеют уступ, выше которого
стены становятся несколько тоньше, а пилястры, соответственно, уже. Выше
данного уступа на боковых фасадах и апсидах проходит узкий карниз в виде
валика. Ниже того же уступа на южном и северном фасадах, в простенках
между пилястрами, располагаются аркатурно-колончатые фризы, наделенные
кубоватыми капителями с декоративными розетками, консолями в основании
и профилированными перехватами в средней части колонок.
Достаточно узкие окна нижнего света помещены в средних промежутках
описанных аркатурно-колончатых фризов, то есть эти окна обрамлены их
колонками и арочками как наличниками. Только окна восточного прясла
северного фасада смещены от оси к востоку из-за расположенной в интерьере
и стене лестницы. Окна апсид, расположенные на том же уровне, украшены
наличниками, являющимися как бы фрагментами названных
аркатурно-колончатых поясов.
Столь же узкие арочные окна верхнего света, расположенные с южной,
западной и северной сторон четверика, лишены наличников. Только углы
оконных откосов оформлены скромным валиком.
Характерной чертой наружных частей всех оконных проемов собора
является то, что их откосы неглубоки и перпендикулярны поверхности
фасадов. Поэтому эти проемы почти совершенно не выявляют толщину стен
храма, а наоборот — подчеркивают их плоскость.
Особую роль в первоначальном образе собора играли его порталы. По
сторонам дверного проема западного портала перспективно расположены по
три колонки, которые чередуются с прямоугольными откосами. Полукруглые
архивольты портала имеют соответствующий профиль. Основания колонок и
откосов оформлены профилированными базами, а завершения —
профилированными же капителями. В средней части колонок помещены
дыньки, разделенные на вертикальные дольки и стянутые сверху и снизу
парными жгутами. Как видим, данный портал выглядит вполне традиционно
для того времени.
с. 101
Совсем иной характер имеют сходные между собой боковые порталы
собора. Ныне они скрыты поздними крыльцами и, видимо, поэтому мало
привлекали внимание исследователей. Рассмотрим подробнее южный портал,
более доступный для обследования в настоящее время. Справа и слева от его
дверного проема расположено по одной очень массивной полуколонне около
60 см в поперечнике. Они опираются на сильно расширяющиеся книзу мелко
профилированные базы и завершены мелкопрофилированными капителями,
на которые опирается один полукруглый аналогичного профиля столь же
массивный архивольт. Кроме того, каждая из полуколонн имеет по два
расположенных одно под другим огромных, до 80 см в поперечнике,
дыневидных гладких утолщения; стянутых сверху и снизу одинарными
валиками. Промежуток между описанными полуколоннами и проемом
оформлен своеобразной тягой волютообразного профиля. При всей своей
необычности данные порталы своей массивностью вполне согласуются с
общим художественным строем данного памятника.
Завершая описание собора, обратимся к убранству его барабанов. Легко
видеть, что оно отличается подчеркнутой строгостью. Верха всех барабанов
украшены скромными трехчастными карнизами. Углы откосов узких окон
боковых барабанов оформлены валиком. Окна же центрального барабана
обрамляют наличники в виде валиковой тяги с профилированными
перехватами на середине их боковых частей.
Теперь перейдем к выявлению истоков описанных выше
архитектурно-художественных форм Успенского собора Троице-Сергиева
монастыря. Причем следует особо подчеркнуть следующее. Поскольку,
согласно общему мнению, образцом для данного сооружения послужил
московский Успенский собор, то в дальнейшем необходимо максимально
точно разграничить все черты сходства и отличия этих двух памятников.
Легко видеть, что непосредственно от московского Успенского собора
интерьер рассматриваемого памятника получил такие свои черты, как общая
конфигурация плана; квадратная форма пространства для молящихся;
разделенное на пять частей столбами и продольными стенами алтарное
пространство; пять апсид; каменная алтарная преграда; настенные пилястры,
отвечающие четырем западным столпам и западные угловые пилястры;
палатный тип16
с. 102
перекрытия расположенными на одном уровне крестовыми сводами;
местоположение и форма большей части окон четверика и апсид с
характерными глубокими нишами; местоположение барабанов и окон в них;
превосходящий диаметром размеры подкупольного квадрата центральный
барабан.
Хотя мы не знаем реальных форм утраченного первоначального иконостаса
монастырского собора, но со значительной долей уверенности можно
предполагать, что и он был создан по образцу также не дошедшего до наших
дней древнего иконостаса московского Успенского собора. Об этом
свидетельствует значительное сходство описаний того и другого иконостасов
в письменных источниках. В самом деле, согласно цитированной выше Описи
1641 г., иконостас рассматриваемого храма имел 21 деисусную икону, 26
праздников, 14 пророков с пятнадцатой иконой Богоматери в центре и 21
икону в праотеческом ряду. А упомянутый московский иконостас в первые
десятилетия XVII в. включал в свои деисусный, пророческий и праотеческий
чины точно такое же количество икон, и только в его праздничном ряду было
25 образов17, то есть на одну икону меньше, чем в соответствующем ряду
иконостаса Успенского собора Троице-Сергиева монастыря.
Но можно ли рассматриваемый интерьер считать в полном смысле слова
копией интерьера указанного столичного образца? Конечно, нет.
Ведь уже многократно отмечалось, что, в отличие от круглых стройных
столпов этого последнего, монастырский храм обладает массивными
крестчатыми столпами. Более того, и размещены они несколько по-иному. Как
известно, план московского Успенского собора построен на основании сетки
из двенадцати одинаковых квадратов. Поэтому расстояния между его
столпами, а также между ними и стенами почти одинаковы. Точнее, средний
продольный неф незначительно уступает по ширине боковым нефам. А у
рассматриваемого собора средний продольный неф и трансепт слегка
расширены за счет боковых нефов. Таким образом, важнейшая особенность
храма Фиораванти, заключающаяся в равномерном расположении внутренних
опор, не была повторена в исследуемом здании.
Не нашли повторения в нем и такие черты того же прототипа, как
усложненная внутренняя форма боковых апсид18; восточные
с. 103
угловые пилястры; карниз под конхой центральной апсиды; карнизы под
скуфьями барабанов (если только все эти карнизы не были сбиты во время
росписи храма в конце XVII в.). Отличается рассматриваемый интерьер от
названного образца местоположением (у северной стены) лестницы 19 ,
ведущей на своды; выступами, обрамляющими боковые входы; большей
толщиной стен и вследствие этого — большей глубиной оконных ниш.
Да и в целом, в отличие от стройного, легко обозримого, зального
внутреннего пространства московского Успенского собора, интерьер
монастырского храма поражает размахом и тяжеловесной массивностью
своих форм.
Наличие многочисленных черт собора Фиораванти в наружном облике
монастырского Успенского собора более чем очевидно. К таким чертам
следует отнести его общее композиционное решение, расчленение
пилястрами фасадов вопреки внутренней конструкции на равные по ширине
прясла, увенчанные полукруглыми закомарами; полуколонны апсид; пилоны,
фланкирующие апсиды; аркатурно-колончатые фризы; формы окон; основные
формы, исключая мелкие детали западного портала; декор барабанов. Даже
формы профилированного цоколя, при всех отличиях в деталях,
ориентированы на тот же образец20.
К наиболее заметным отличиям, как не раз отмечалось, принадлежат
утраченная ныне западная паперть; боковые порталы и большие
горизонтальные размеры — монастырский храм примерно на 2 с лишним
метра шире и длиннее московского Успенского собора. К числу
существенных отличий необходимо отнести и композицию пятиглавия
рассматриваемого памятника. У собора Фиораванти боковые барабаны
достигают лишь середины высоты центрального барабана, а у монастырского
храма тот ж барабан лишь незначительно возвышается над боковыми. К менее
заметным отличиям относятся валиковый карниз, расположенный над
аркатурно-колончатым поясом (его нет у московского собора), и устроенные
несколько ниже, чем у образца, окна верхнего света.
Как будто можно предположить, что расширенные главные нефы,
крестчатая форма столпов и западная паперть монастырского храма восходят
к московскому Архангельскому собору. Действительно, указанная паперть
представляла собой как бы западный отрезок его галереи. Однако столпы
рассматриваемого памятника, кроме этой крестчатости, не имеют ни одной
другой черты, присущей столпам Архангельского собора. Преобладающие по
ширине главные нефы характерны для всех шестистолпных соборов
домонгольской Руси. А по моим наблюдениям, она присуща и всем
щестистолпным пятиглавым соборам России XVI в. Значит, система
равномерного расположения внутренних опор собора Фиораванти так ни разу
и не была повторена в этом столетии. Следовательно, указанное расширение
главных нефов монастырского храма возникло не только под влиянием
Архангельского собора, но в русле общего течения русской архитектуры XVI
в. Обычным явлением в этом столетии была крестчатая форма столпов.
У подавляющего большинства пятиглавых и трехглавых храмов последней
трети XV — первой трети XVI вв. высота малых барабанов примерно равна
середине высоты центрального барабана. К таким храмам относятся
московский Успенский собор (1475-1479 гг.), московский Благовещенский
собор (1489 г.), московский Архангельский собор (1505-1508 гг.), ростовский
Успенский собор (1508-1512 гг.), Покровский собор (1510-1513 гг.)
суздальского Покровского монастыря, Преображенский собор (1515 г.)
новгородского Хутынского монастыря, суздальский Рождественский собор
(1528-1529 гг.), новгородская Борисоглебская церковь в Плотниках (1536 г.) и
др. Данное соотношение высот центрального и боковых барабанов в то время
было господствующим. Судя по сохранившимся памятникам, оно
преобладало и в дальнейшем, вплоть до конца XVI в. Однако примерно в
середине этого столетия сформировалась другая тенденция. Тогда начинают
появляться пятиглавые и трехглавые храмы с боковыми барабанами, высота
которых заметно превосходит середину высоты центрального барабана.
Таковы Ризоположенский собор третьей четверти XVI в. суздальского
Ризоположенского монастыря и вологодский Софийский собор (1568-1570
гг.). Как видим, в рамках этой тенденции и сформировалось пятиглавие
рассматриваемого памятника.
Отсутствие упомянутых восточных угловых лопаток, полукруглая форма
апсид как будто объясняются некоторым упрощением архитектуры
монастырского храма по сравнению с названным образцом.
Однако в рассматриваемом памятнике есть элементы, появление которых
нельзя полностью объяснить ни влиянием какого-либо
с. 105
российского образца, ни общими тенденциями в русской архитектуре XVI в.
Речь идет о внутреннем и наружном оформлении боковых входов в собор.
Если прием размещения не одного, как обычно, а двух дынеобразных
утолщений на каждой из полуколонн боковых порталов не был нов для
русской архитектуры середины XVI в.21 , то гипертрофированные, как бы
вспухающие формы этих порталов уникальны для России того времени. Глядя
на эти порталы, невозможно отделаться от мысли, что их мог создать лишь
мастер, обладавший барочным мышлением. Но, как мы знаем, в то время во
всей Европе был только один центр — Рим — в котором Микеланджело и
другие архитекторы закладывали основы стиля барокко22.
Из данного наблюдения следует, что к строительству Успенского собора
Троице-Сергиева монастыря был причастен итальянский архитектор,
возможно, сформировавшийся в Риме в эпоху Микеланджело. Данное
предположение подтверждают и такие менее выразительные, но не менее
красноречивые элементы, как плоские прямоугольные выступы,
обрамляющие боковые входы в рассматриваемый собор со стороны
интерьера. Эти выступы явно не имеют функционального назначения.
Неизвестно и их прямых аналогов в русском зодчестве. Напротив, в
архитектуре Италии середины XVI в. подобные выступы применялись для
украшения арочных дверных проемов23. Следовательно, описанные выступы
Успенского собора могли выйти из-под руки только итальянского мастера.
Более того, цельный характер рассматриваемого здания свидетельствует, что
деятельность названного мастера не ограничивалась отделкой боковых входов
в храм, а заключалась и в общем руководстве его строительством. Если только
принять это предположение, то находят объяснение все характернейшие
черты монастырского собора, отличающие его от храма Фиораванти.
Как известно, для складывавшегося раннего барокко середины XVI в. был
характерен переход от легких, стройных, уравновешенных, гармонично
расчлененных масс архитектуры Ренессанса к большей масштабности,
тяжелой массивности, живописности форм. Для достижения такого
впечатления мастера барокко, кроме всего прочего, часто верхние части
зданий делали зрительно более тяжелыми, чем нижние, отказывались от
колонн в пользу пилястр крестчатых столбов, трактовали стену как
однообразную цельную
с. 106
массу, сознательно создавали диссонансы во внутренних и наружных частях
здания24.
Замечательно, что именно в таком ключе при создании рассматриваемого
храма и был переосмыслен его образец — собор Фиораванти. По сравнению с
ним монастырский храм, будучи ненамного больше, производит впечатление
гораздо большей масштабности и массивности. От гармоничности указанного
прототипа в нем не осталось и следа. Более массивными и зрительно
тяжелыми сделаны и почти все отдельные его элементы: стены, крестчатые
столпы, барабаны, пилоны, фланкирующие апсиды и боковые порталы.
Все это неопровержимо свидетельствует, что данный памятник был
практически целиком построен по единому замыслу, под руководством
одного архитектора, который, как теперь становится ясно, сформировался в
русле традиции раннего итальянского барокко. Очевидно, он являлся
представителем той новой волны европейских мастеров, которые появились в
России середины XVI в. по приглашению царя Ивана IV. Все они, и в том
числе автор рассматриваемого собора, в первую очередь исполняли царские
заказы, то есть являлись придворными мастерами. Деятельность этих
мастеров в России пока еще слабо изучена. Однако, суммируя отдельные
догадки предшествовавших исследователей и собственные наблюдения,
можно сказать, что эти архитекторы создали целый ряд выдающихся
памятников середины XVI в. Назову лишь самые значительные из них — это
собор Покрова на Рву (1555-1561 гг.), церковь Иоанна Предтечи в Дьякове
(середина XVI в.), собор Бориса и Глеба (1558-1561 гг.) в Старице,
Смоленский собор (середины XVI в.) Новодевичьего монастыря и Троицкая
шатровая церковь (около 1570-1571 гг.) в Александровой слободе. Причем
раннебарочный характер рассматриваемого собора не выглядит совершенно
изолированным явлением на фоне данных сооружений. У многих из них мы
видим сходную трактовку форм. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь
такие явно раннебарочные детали собора Покрова на Рву, как заглубленные в
стены полуколонны в его интерьере25.
Итак, детальный анализ Успенского собора Троице-Сергиева монастыря
показал следующее. Действительно, его образцом является Успенский собор
Московского Кремля. Несомненно, этот образец был указан зодчему
заказчиком царем Иваном Грозным.
с. 107
Очевидно, он же санкционировал наиболее значимые отступления от образца
— такие, как большие общие размеры, крестчатые столпы, расширенные
главные нефы, боковые порталы. Итальянский же мастер трактовал по-своему
как эти, так и почти все остальные элементы прототипа, используя иногда
формы, характерные одновременно и для Древней Руси, и для раннего
барокко (крестчатые столпы). В результате возник храм, который нельзя без
явных натяжек называть «копией» собора Фиораванти. В сущности,
своеобразие рассмотренного здания можно теперь определить следующим
образом. Это как бы московский Успенской собор, увиденный через
раннебарочное мироощущение.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. 1890. С. 24-26;
Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная Троицкая лавра. Сергиев
посад, 1892. С. 182-188; Грабарь И. История русского искусства. М., б.г. Т. 2. С. 101;
История русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 464; Трофимов И. В. Памятники архитектуры
Троице-Сергиевой лавры. М., 1961. С. 76-80; Балдин В. И. Архитектура // Троице-Сергиева
лавра. Художественные памятники. М., 1967. С. 30-31; Он же. Загорск. М., 1984. С. 123-130;
Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993. С. 175, 177; Кавельмахер В. В. К
вопросу о первоначальном облике Успенского собора Московского Кремля //
Архитектурное наследство. М., 1995. № 38. С. 217-221. 2 См., напр.: Голубинский Е. Указ. соч. С. 182; Балдин В. И. Архитектура. С. 30-31;
Кавельмахер В. В. Указ. соч. С. 217-220. 3 Трофимов И. В. Указ. соч. С. 76-80; Балдин В. И. Архитектура. С. 30-31. 4 Горский А. В. Указ. соч. С. 179. 5 Голубинский Е. Указ. соч. С. 182. 6 Балдин В. И. Архитектура. С. 30. 7 Этот чертеж до последнего времени экспонировался в Сергиево-Посадском
Государственном историко-художественном музее-заповеднике (СПГИХМЗ). 8 Чертеж экспонируется в СПГИХМЗ. 9 Балдин В. И. Архитектура. С. 31. 10 Кавельмахер В. В. Указ. соч. С. 220. 11 См.: Мельник А. Г. Интерьер московского Успенского собора как одна важнейших
парадигм в русском храмовом зодчестве XVI в. // История и культура Ростовской земли.
1994. Ростов-Ярославль, 1995. С. 124-133. 12 Опись Троице-Сергиева монастыря 1641 г. // СПГИХМЗ. Инв. № 187 рук. Копия XIX в.
Л. 174 об. — 175. 13 Там же. Л. 175-195 об. 14 Горский А. В. Указ. соч. С. 181. 15 Кавельмахер В. В. Указ. соч. С. 223. 16 Мельник А. Г. Указ. соч. С. 128. 17 Описи московского Успенского собора, от начала XVII века по 1701 год включительно //
Русская историческая библиотека. СПб., 1876. Т. 3. Ст. 308.
с. 108
18 Кавельмахер В. В. Указ. соч. С. 220. 19 Там же. С. 220. 20 Ср.: Там же. Рис. 4 а. 21 Мельник А. Г. Интерьеры Успенской церкви с трапезной Соловецкого монастыря //
Макариевские чтения. Вехи русской истории в памятниках культуры. Можайск, 1998. С.
447. 22 См.: Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913. С. 1-2. 23 См.: Всеобщая история архитектуры в 12 томах. М., 1967. Т. 5. С. 213, 246, 248. 24 Вельфлин Г. Указ. соч. С. 1-68. 25 Там же. С. 49.
с. 109
Рис. 1. План Успенского собора Троице-Сергиева монастыря.
Рис. 2. Продольный разрез Успенского собора Троице-Сергиева монастыря. По обмеру И.
Трофимова и Ф. Комарова. Реконструкция первоначальных оконных проемов А. Г.
Мельника.
с. 110