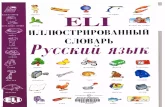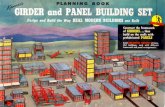A Gaelic Eschatological Folktale, Celtic Cosmology and Dumézil’s “Three Realms”
Eschatological myth by Evgeny Rutsky (Russian)
Transcript of Eschatological myth by Evgeny Rutsky (Russian)
УДК 316 (72,75)
ББК 71
Рецензент:
П. В. Терешкович, канд. истор. наук, проф. (ЕГУ)
Рекомендовано к изданию Выпускной Комиссией Европейского гуманитарного университета (Протокол № 49-6-24 от 28 июня 2013 г.)
Руцкий Е.А.
Р 91 Эсхатологический миф и его репрезентации в авраамических традициях / Е.А.
Руцкий. – Вильнюс, 2013. – 89 с.
В работе дается общая характеристика эсхатологического мифа, анализируются
его структурно-содержательные и историко-эволюционные аспекты. Подробно
исследуется генезис эсхатологических идей западной цивилизации, становление
эсхатологии как направления исследований и как теории, а также содержание и
трансформация эсхатологического мифа в рамках авраамической традиционной
парадигмы.
Исследование представляет интерес для историков, культурных антропологов,
психологов, философов, религиоведов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся эсхатологической проблематикой.
УДК 316 (72,75)
ББК 71
© Руцкий Е.А., 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5
1. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .............................................. 8
1.1. Истоки и генезис эсхатологических идей западной цивилизации .............. 8
1.2. Становление эсхатологии как репрезентации мифолого-религиозных представлений: историко-культурный аспект ................................................... 14
1.3 Эсхатология как современное направление исследований ........................ 18
2. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО МИФА ....................................................................... 23
2.1. Эсхатологический миф в индивидуальном и универсальном аспекте ...... 23
2.2. Морфология эсхатологического мифа ........................................................ 31
3. ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО МИФА В РАМКАХ АВРААМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ........................................................................................................ 41
3.1. Становление репрезентации эсхатологического мифа в контексте иудейской традиции ............................................................................................ 41
3.2. Построение репрезентации христианского эсхатологического мифа ....... 52
3.3. Специфика эсхатологической картины в исламской традиции ................. 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 71
Eschatological myth and its representations in the Abrahamic traditions .................. 75
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................... 77
4
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении всей истории тема конечности существования вызывала у
человека состояние беспокойства и тревоги. Данная проблема весьма обширна
и имеет под собой множество оснований. В разрезе человека она по-своему
отражается на уровнях инстинктивного поведения, ощущений, эмоций и
коллективных представлений. Несмотря на то, что проблематика конечности
существования опирается на непосредственно воспринимаемую
действительность, человеческие способности к представлению, воображению и
интуитивному постижению позволили трансформировать ее в пестрый и
многогранный культурный конструкт – эсхатологический миф.
Этот миф, повествующий о конечных судьбах человека и мира, начал
формироваться ещё в глубокой древности и стал важной составляющей
развитых религиозных традиций. Он генерирует в себе специфические типы
социального реагирования и историко-культурный опыт. Из поколения в
поколение представления о конечности существования транслировались как
нечто ценное и почитаемое, что позволяет рассматривать эсхатологию как
духовную компоненту культурного наследия человечества.
По своей экзистенциальной заряженности эсхатологический миф выходит
далеко за рамки религиозного мироощущения – он кодирует в себе
специфические паттерны, которые на протяжении истории воспроизводились в
социокультурных программах деятельности, в философских системах и в
политических идеологиях. Даже в современном секуляризированном мире
эсхатологические представления не теряют своей значимости, поскольку
интенсивно изменяющиеся условия формируют у части общества ощущение
нестабильности, что делает востребованным обращение к исторически
устойчивым мифолого-религиозным основам.
5
Соответственно, эсхатологический миф отображает культурное наследие,
которое характеризуется уникальной жизнеспособностью и кодирует в себе
выработанные исторически типы реагирования на ситуации катастрофического
порядка. Анализ эсхатологического мифа актуален, поскольку дает
возможность продемонстрировать сложившийся спектр возможностей
интерпретации и понимания катастрофического, что имеет значение для
выработки оптимальных решений при оценке критических ситуаций в
настоящем и в будущем времени.
В данной работе детальное рассмотрение эсхатологического мифа в
историко-эволюционной перспективе ограничено рамками авраамических
традиций. Во-первых, они играют существенную роль в контексте западной
цивилизации. Во-вторых, эти традиции базируются на письменных источниках
разного времени, что делает возможным их исторический анализ.
В работе предпринимается попытка исследования структурно-
содержательных и историко-эволюционных характеристик эсхатологического
мифа как понятия и как совокупности мифолого-религиозных представлений о
конечности существования.
Основной целью исследования является определение сущности и
специфики эсхатологического мифа, а также его компаративистское изучение в
рамках авраамических традиций. Чтобы достичь цели, мы дадим общую
характеристику эсхатологического мифа, определим его структурно-
содержательные составляющие, а также выявим историко-эволюционную
специфику эсхатологии авраамических традиций.
Спектр исследуемых вопросов можно свести к следующим: какие истоки
у эсхатологического мифа; в чем заключается специфика генезиса
эсхатологических идей в западной цивилизации; какие представления входят в
современное понятие эсхатологического мифа и как изменялось его понимание
в историческом времени; что представляет собой современная эсхатология как
направление исследований; как соотносятся между собой индивидуальная и
универсальная эсхатологии; есть ли общая структура у эсхатологического 6
мифа; какие у него бывают вариации и типы реагирования в разных вариациях;
какое психосоциальное значение эсхатологического мифа; какие представления
репрезентируют эсхатологию авраамических традиций; в чем заключается
историко-культурная трансформация авраамического эсхатологического мифа.
Основная гипотеза работы состоит в том, что эсхатологический миф
является сложным культурным конструктом, в котором кодируются
определенные типы социального реагирования, отношения и оценки. Эти типы
обусловлены спецификой интерпретации и способны трансформироваться на
разных этапах исторического развития.
Методология исследования базируется на применении различных
концепций истории, культурной антропологии, религиоведения, психологии,
фольклористики и социологии. Существенное значение для работы
представляют идеи и концепции Ф. Боаса, Ж. Ле Гоффа, Л. Леви-Брюля, К.
Леви-Стросса, В. Проппа, Э.Б. Тайлора, Дж.Дж. Фрезера, О.М. Фрейденберг,
М. Элиаде и др. В работе используются: историко-генетический метод, метод
компаративного анализа, метод деконструкции, диахронический и
синхронический методы, психологический метод, моделирование и др.
Научная значимость работы заключается в разработке модельного
эсхатологического мифа, морфологическая структура которого соответствует
эсхатологическим мифам подавляющего большинства различных культур.
Кроме того, в работе выявляется историко-эволюционная специфика
трансформации эсхатологического мифа в авраамических традициях – от
«эсхатологии амбиции» к «эсхатологии ожидания» и к «эсхатологии
воздаяния».
Практическая значимость работы состоит в том, что структурно-
содержательные и историко-эволюционные аспекты эсхатологического мифа
имеет смысл учитывать при разработке психологических и социокультурных
мер, направленных на адаптацию общества в критических условиях. В более
широком смысле представленные в работе идеи и концепции могут находить
применение при анализе и интерпретации мифолого-религиозного наследия. 7
1. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Истоки и генезис эсхатологических идей западной цивилизации
Проблематика конечности существования, о которой человек начал
задумываться еще в глубокой древности, по сей день остается неисчерпаемой.
Она подобна открытому вопросу, который при жизни невозможно закрыть
никаким достоверно проверяемым способом. Осознание конца упирается в
неизвестность, а потому вызывает беспокойство и тревогу.
В разные времена общество характеризуется стремлением разрешить
проблему конечности с помощью тех или иных представлений. Вместе с тем,
их изначально гипотетическая сущность неизбежно приводит к возникновению
потенциально бесконечного множества альтернативных представлений,
которые, в зависимости от историко-культурных обстоятельств, принимаются
или не принимаются во внимание.
Фактически, генезис эсхатологических идей западной цивилизации сводится
к историческому процессу конструирования новых представлений, которые
призваны закрывать лакуны угрожающей неизвестности, обусловленной
осознанием конца существования.
Поскольку эсхатологическая проблематика затрагивает всех и каждого, ее
формирование, бытование и развитие многогранно отражается на всех
исторических этапах социального развития. Вместе с тем, этот процесс нельзя
понимать как всецело универсальный – исторически сам культурный диалог не
мог носить всеобщий характер, поскольку многие общества долгое время
существовали изолированно друг от друга. Кроме того, далеко не во всех
культурах акцентируется эсхатологическая проблематика, а потому не всегда
возможно обосновать наличие в них эсхатологического мифа.
8
Об истории эсхатологических идей более или менее справедливо говорить
применительно к западной цивилизации. Это обусловлено глубокой
разработанностью темы, письменной фиксацией эсхатологических
представлений, а также культурным диалогом. Именно культурная
преемственность, обеспечившая уникальное переплетение целого ряда
традиций, положенных в основу западной картины мира, позволяет
воспринимать генезис эсхатологических идей как целостный процесс. Это тем
более справедливо, поскольку эсхатологические представления выступают
краеугольным камнем европейской религиозной традиции.
Важно отметить, что картина генезиса эсхатологических идей в западном
мире является предельно пестрой. Ее составляют представления разнообразных
доктрин, которые на протяжении истории транслировались поэтами и
философами, пророками, мистиками, религиозными деятелями и пр.
Колыбелью западной цивилизации является античная культура. Период ее
существования отмечается многогранным осмыслением темы конца человека и
мира. Судя по дошедшим до нас источникам, эсхатология в античную эпоху не
носила систематический характер и не имела общепризнанной концепции. В
общих чертах ее можно свести к представлениям о смерти, о существовании
после смерти и о конце мироздания.
Древнегреческий поэт Гесиод считал смерть, наряду со сном и печалью,
явлениями, происходящими из ночи [26, c. 33]. Героическая смерть за родную
землю виделась достойной участью в глазах Тиртея [115, c. 234]. У Каллина
смерть связана с мифом – ее прядут мойры [47, c. 231]. У Эпикура она
предстает как несущественный факт, с которым человек не пересекается: пока
он жив – смерти нет, а когда она есть – нет человека [69].
От Гомера [27] до Вергилия [16] тянется шлейф языческих верований в
продолжение существования в мире мертвых. Настоящий паноптикум
посмертных идей можно встретить у Платона, который в своих произведениях
сообщает много разных версий – от суда [96], исход которого определяет
характер прожитой жизни, до циклических перерождений души [98]. 9
Конец мироздания Платон видел как цикл разрушения огнем гор, а водой –
городов [97]. Сенека связывал завершение дней со всесожжением [109].
Цицерон воспринимал мир вечным или, по меньшей мере, очень длительным
[125].
Параллельно с античными представлениями развивалась иудейская
эсхатология. Она представлена более сильным взаимовлиянием доктрин.
Апокалиптическая литература того времени имеет этическую направленность и
содержит мессианские идеи. К иудейской апокалиптике относятся: «Книга
Даниила» [53], 2 и 3 «Книги Еноха» [18, 51], «Апокалипсис Варуха» [89],
«Завещание Авраама» [42], «Житие Адама и Евы» [41], «Завет Иова» [9] и пр.
Иудейские эсхатологические элементы присутствуют в сочинениях Иосифа
Флавия [118, 119]. В частности, им поднимаются вопросы ожидания прихода
мессии, проблемы «узнавания» мессии, характеристики лжемессии и пр.
Стоит отметить, что в начале нашей эры иудейская и раннехристианская
эсхатология были тесно переплетены между собой. Иногда между ними и вовсе
невозможно провести грань, примером чему является доктрина кумранской
общины [108].
Во время раннего средневековья развитие получает христианская
апокалиптика, на которую повлияли как иудейские, так и античные идеи.
Эсхатологическую проблематику поднимает апокрифическая литература:
«Апокалипсис Петра» [7], оракулы Сивиллы [146], «Вознесение Исайи» [17] и
пр. Также сохранились тексты т.н. «апостольских мужей» – ряда авторов
раннехристианских писаний второй половины I и II века, таких как «Второе
послание Климента» [21], «Пастырь» [25] и пр.
Эсхатологические идеи проявляются в рамках гностических течений. Симон
Волхв имеет амбицию быть мессией и спасителем; Василид финалом
космической драмы видит апокатастасис или «восстановление всего»;
катастрофический характер имеет гностическая доктрина выпадения человека
из первоначального идеального мира Плеромы, следствием чего является
негативная оценка существования и отношение к материальному миру как к 10
чужеродному феномену, который должен быть исправлен в эсхатологическом
акте познания запредельного этому миру божества [46].
В рамках церковной полемики вопросы эсхатологии поднимают Ипполит
[45], Тертуллиан [148], Ориген [88] и др., что ведет к формированию
ортодоксии. Дальнейшее развитие эсхатологических представлений становится
обусловлено выраженной христианской доминантой (Лактанций [143], Василий
Великий [15], Августин [1], Григорий Нисский [29], Иоанн Дамаскин [44],
Григорий Великий [28] и пр.).
В IV-VI века эсхатологические идеи возникают в связи с развитием
аскетическо-апокалиптической эсхатологии («Апокалипсис Павла» [6],
«Апокалипсис Фомы» [8] и пр.), толкованиями Апокалипсиса (Викторин из
Петтау [150], Афраат [135], Ефрем Сирин [40] и др.) и осмыслением
антихристологии (Сульпиций Север [111] и др.). В дальнейшем традицию
толкования Апокалипсиса продолжит Бонавентура [137], а тема Антихриста
будет разрабатываться Адсо [133], Ипполитом Римским [45] и пр.
В рамках христианской эсхатологии средневековья особое место занимает
доктрина милленаризма – она основана на фрагменте из Откровения, в котором
сообщается о наступлении тысячелетнего царства бога на земле в конце
истории. Эту идею по-разному осмысливали Тиконий [149], Августин [1], И.
Флорский [137] и др. Некоторые понимали ее вполне исторично. В частности,
Иоахим Флорский интерпретирует историю как процесс последовательного
одухотворения, кульминирующего в наступлении эры господства монашества
[141].
Эсхатологическое разнообразие средневековья иллюстрируют работы
Хильдегарды. Ее видения продолжают визионерскую традицию Иезекеииля и
Иоанна. Они дополняют эсхатологическую картину Откровения и вносят
некоторые новые элементы. Например, вместо двух зверей Апокалипсиса, в ее
видениях предстают пять чудовищ разного цвета (пылающий пес, желтый лев,
бледная лошадь, черная свинья и серый волк), пасти которых привязаны
11
канатами к пяти вершинам горы на Западе [142], семантика которого имеет
коннотации с местом гибели света.
Особое внимание средневековое воображение уделяет конструированию
картин потустороннего мира. Наиболее яркие примеры – «Божественная
комедия» Данте, апокриф «Хождение Богородицы по мукам» [124] и др.
На протяжении всего средневековья происходила бурная полемика
христианских апологетов с ересями, с иудеями и с язычниками, в которой
складывались христианские эсхатологические взгляды. Полемические темы
простирались от посмертного суда и чистилища до воскресения тел, царства
Антихриста и всеобщего спасения.
Несколько изолированно от средневековой полемики эсхатологическая
проблематика разрабатывается в рамках иудейской каббалистики. Она
представлена эсхатологическим мистицизмом Зогар, идеями Аврахама
Абулафии [126], Исаака Лурии [36] и др. Тематически каббалистическая
эсхатология простирается от вопросов мистической смерти как акта
богопознания и посмертных метаморфоз души до мессианизма и доктрины
космических циклов творения-разрушения.
В эпоху Возрождения эсхатологические идеи испытали влияние античности,
тогда как интерес от глобального и всеобщего конца перешел к концу
индивидуальному. В частности, П. Помпонацци под влиянием Аристотеля
трактует душу как смертную форму тела [99]. М. Фичино считает душу
бессмертной, но пытается объединить античное и христианское видение души в
аспекте познания божественного света [117]. Пико делла Мирандола, опираясь
на античный натурализм, рассматривает смерть как возникающую с рождением
примесь жизни, которую оживляет душа, тогда как люди впервые перестают
«умирать в тот момент, когда смерть тела освобождает нас от этой смертной
плоти» [95]. Н. Кузанский принимает христианскую идею духовного
бессмертия [65, c. 299], но в эпикурейской манере смотрит на смерть как на
разложение состава на части: «гибнет лишь способность существовать таким-то
и таким-то образом, так что нет места смерти» [66, c. 138]. 12
В рамках христианско-религиозного мировоззрения Возрождения
выдержаны эсхатологические идеи Э. Роттердамского и М. Лютера. Э.
Роттердамский, отталкиваясь от морального нечестия, обосновывает идею
смерти души как предела несчастий [104, с. 143], призывая бороться со
страстями. М. Лютер затрагивает широкий спектр вопросов: от соотношения
чистилища с институтом церкви, наказанием и спасением [78] до идей об
обновлении и исправлении мира, который призван стать изобильным [32, с.
172], залогом чего является труд [79].
Кроме того, Возрождение заложило основы секуляризации, получившей
широкое распространение в эпоху модерна. Как следствие, эсхатологические
идеи стали развиваться как в религиозно-философском, так и в светском
направлении. Уже у Т. Мора представлены идеалы бесклассового общества и
отсутствия частной собственности [85], которые можно понимать как отголосок
религиозного милленаризма.
От эпохи просвещения до современности конструирование религиозно-
эсхатологических идей сменяется их интерпретацией в философском,
религиозно-философском и социально-политическом аспектах. В целом, за этот
отрезок времени едва ли возможно найти гуманитарного мыслителя, который
обходит стороной проблему конечности бытия, поэтому мы остановимся на
наиболее значимых фигурах.
И. Кант понимает проблему конца всего сущего в моральном и
трансцендентальном смысле, рассматривая соотношение данного концепта с
чувствами, поведением, временем, конечной целью сущего [48]. Г.В.Ф. Гегель
осмысливает конечность как высочайшее достижение человечества и
кульминацию истории: «…определением духовного мира и конечною целью
мира было признано сознание духом его свободы» [23, c.72].
Эсхатологическая драма по-своему разыгрывается у двух гегелевских
последователей – К. Маркса и С. Кьеркегора. К. Маркс провозглашает идеи
оперативного преобразования мира посредством уничтожения частной
собственности [83]. Его идея всеобщей справедливости, которая должна 13
восторжествовать в будущем, перекликается с милленаризмом, тогда как
пролетариату в этом преобразовании мира отводится поистине мессианская
роль.
Тогда как К. Маркс де-факто опирается на мессианско-милленаристский
комплекс эсхатологических идей, призванных к воплощению во внешней
реальности, С. Кьеркегора интересует преимущественно христианский
апокалиптизм, его осмысление и переживание на внутреннем плане. В
частности, он разрабатывает апокалиптическое по сути понятие отчаяния,
которое есть «смертельная болезнь», но «бесконечным преимуществом
является то, что мы можем отчаиваться», поскольку через отчаяние человек
обретает исцеление [67]. Эсхатологические идеи этих двух фигур оказались
тесно переплетающимися и знаковыми для европейской истории XX вв., в
которой социальные побуждения к идеальному устройству мира неоднократно
оборачивались опытом отчаяния.
Изложенное показывает, что древнейшие эсхатологические идеи строились
на традиционных представлениях и философских предположениях, которые в
эпоху средневековья сплелись в богатой традиции конструирования
религиозного космоса. После того, как этот космос сформировался и
догматизировался, сложилась традиция уже не конструирования, а
интерпретации эсхатологических представлений в религиозной, философской,
политической и иных сферах. Эта традиция привела к тому, что в ХХ в.
эсхатологические идеи вышли далеко за рамки как мифолого-религиозной
парадигмы, так и философской традиции мысли, претерпев многочисленные
метаморфозы в социальном контексте.
1.2. Становление эсхатологии как репрезентации мифолого-религиозных представлений: историко-культурный аспект
Несмотря на то, что исторический генезис эсхатологических идей западной
цивилизации имеет длительную и насыщенную историю, современное 14
понимание эсхатологии еще шире и объемнее. Эсхатология сегодня
репрезентирует совокупность связанных с проблематикой конечности
существования представлений всего мира, а также соответствующее
направление исследований. Как эволюция этой репрезентации, так и
становление исследовательского направления имеют свою немаловажную для
понимания эсхатологии историческую специфику.
Эсхатология как спектр представлений о конце существования обычно
начинается со времени возникновения этих представлений. В таком разрезе
историко-культурная перспектива становления эсхатологии базируется на
хронологическом упорядочении представлений и простирается от
древнеегипетских, древнешумерских, древнееврейских и древнегреческих
представлений, затрагивает как народные верования, так и всю традицию
религиозного и философского осмысления конечности существования, доходя
до современных научно-эсхатологических мифов.
Данная перспектива справедлива относительно порядка возникновения
представлений о конечности существования. Вместе с тем, она ничего не
сообщает об эволюции эсхатологии как сложной репрезентации определенной
совокупности доктрин. Это «означаемое» эсхатологии формировалось по мере
знакомства западной аудитории с соответствующими представлениями, что
существенно для понимания развития эсхатологии как исследовательского
направления. С такой точки зрения историко-культурная перспектива
привязана ко времени появления или распространения соответствующих
источников.
До эпохи модерна проблематика конечности существования в западном мире
сводилась к представлениям античного и, в первую очередь, иудейско-
христианского происхождения. Дополнением к ним стал германо-
скандинавский эддический эпос, получивший распространение с середины
XVII века [110]. О представлениях эсхатологического характера, содержащихся
в древних религиях Египта и Востока, западное сообщество начало узнавать в
период с середины XIX по первую половину ХХ века, что связано с появлением 15
переводов на европейские языки Эпоса о Гильгамеше [131], Тибетской книги
мертвых [114], Индусской книги смерти (Гаруда-пурана) [43], Египетской
книги мертвых [35], Упанишад [116] и пр. Кроме того, в середине ХХ века
были найдены Кумранские рукописи [5] и Библиотека Наг-Хаммади [12],
которые дополнили корпус древних иудейско-христианских и гностических
источников эсхатологии.
Вместе с тем, со второй половины ХIX века начался интенсивный сбор и
систематизация широкого пласта в том числе эсхатологических представлений
со стороны этнографов и антропологов (Э. Б. Тайлор [112, с. 150-175, 205-250],
Дж. Дж. Фрезер [121] и др.). Первоначально это изучение сводилось к работе в
библиотечных и архивных фондах. Впоследствии широкое распространение
получили полевые культурно-антропологические исследования обществ
первобытного типа, что привело к открытию и фиксации новых
эсхатологических представлений (Б. Малиновский [80, 81], К. Леви-Стросс [74]
и др.).
Данная динамика свидетельствует об исторически-детерминированном
расширении и углублении понимания эсхатологии как репрезентации
мифологических и религиозных представлений в соответствии с появлением
новых данных. Фактически, корпус представлений, который на современном
этапе репрезентирует эсхатологический миф, содержит:
- эсхатологические представления, зафиксированные в древних иудейско-
христианских и античных источниках, которые на протяжении всей
европейской истории осмысливались и интерпретировались религиозными
группами, теологами и философами;
- эсхатологические представления народных традиций, которые
специфическим образом преломляют религиозные доктрины, по-своему
модифицируя их;
- эсхатологические представления германо-скандинавской мифологии;
- эсхатологические представления восточных религий;
- древнеегипетские эсхатологические представления; 16
- эсхатологические представления обществ первобытного типа
(американские индейцы, австралийские аборигены и пр.), которые активно
исследовались в ХХ в. культурными антропологами;
- научные эсхатологические воззрения;
- иные эсхатологические представления различных культур и направлений.
Как следствие, содержательно современная эсхатология отображает широкое
разнообразие исторически-сложившихся повествований о конечных судьбах
человека и мира. Как правило, многие из них входят в состав тех или иных
традиций, тесно перекликаются с их контекстом и в большинстве своем
зафиксированы в источниках, которые являются культурным наследием всего
человечества.
Такое разнообразие порождает определенные исследовательские трудности.
С одной стороны, эсхатология по-прежнему репрезентирует древние иудейско-
христианские мифы, которые глубоко интегрировались в культуру западной
цивилизации и имеют богатую традицию религиозного и философского
осмысления. С другой стороны, в рамки эсхатологии оказались включены
мифы всех иных культур, независимо от их происхождения, времени
возникновения, места распространения и т.д.
В одном понятии исключительно по содержательному признаку
объединились мифы, базирующиеся на древних письменных источниках, и
мифы исторически размытых устных традиций, зафиксированные относительно
недавно. Эсхатология свела в одну категорию: мифы развитых цивилизаций и
мифы малых племенных общностей; мифы полностью изолированных друг от
друга культур и мифы, которые претерпевали сложные трансформации
вследствие историко-культурных трансляций и межкультурных диалогов.
Из-за расширения своего содержательного диапазона эсхатология лишилась
определенной конкретики. Несоразмерные друг другу по многим критериям
эсхатологические представления не позволяют говорить об их общей историко-
культурной эволюции. Как следствие, взятая в целом, эсхатология предельно
абстрактна и не имеет ни единой истории, ни общепризнанной теории. 17
Изложенное свидетельствует о том, что эсхатология как репрезентация
исторически расширяющейся совокупности мифологических и религиозных
представлений предельно содержательна, в то время как эсхатология как
исследовательское направление в своем общем виде достаточно абстрактна и
скудна, поскольку сталкивается с энтропией, вызываемой большим
разнообразием представлений.
1.3 Эсхатология как современное направление исследований
Несмотря на то, что эсхатологические представления мифолого-религиозных
традиций известны с архаического времени, само понятие «эсхатология»
выделилось относительно поздно. Еще позднее оно обрело свое современное
значение.
В XVII в. понятие «эсхатология» впервые возникло в рамках теологии и
применялось для обозначения традиционных христианских догматических
трактатов, содержащих сведения о конечных событиях «последних дней» [145].
Такая специфика сохранялась вплоть до конца XIX-начала XX вв. –
эсхатология оставалась преимущественно теологическим понятием, не
выходящим за рамки иудейско-христианского контекста [136, 139]. Многие
исследователи мифолого-религиозного наследия того времени вообще не
использовали данное понятие, хотя де-факто систематизировали, описывали и
анализировали большой пласт представлений эсхатологического порядка.
Лишь к середине XX в. в академической среде закрепилось понимание
эсхатологии как совокупности представлений о смерти и бессмертии
фактически в любом мифологическом и религиозном контексте. Вместе с тем,
эсхатология начала отображать направление, связанное с изучением этих
представлений в широком смысле.
18
Одной из существенных причин расширения эсхатологических границ стала
проблема смерти, значение которой обнажилось в философии жизни,
философии экзистенциализма и религиозной метафизике.
Переход в конце XIX-начале XX вв. к индустриальному обществу вызвал
социальные потрясения и породил интерес к эсхатологической метафизике (С.
Кьеркегор [68], Н. Бердяев [11], П. Флоренский [120] и пр.). В свою очередь, эта
метафизика по своему содержанию оказалась близка к экзистенциальной
философии, базирующейся на идеях о достижении подлинной экзистенции в
пограничных состояниях (К. Ясперс [140]), о смерти как способе
трансценденции (М. Хайдеггер [123, c. 270-274], Ж.-П. Сартр [107]) и пр.
Такие пересечения вызвали к жизни попытки переформулировать
религиозную эсхатологию, вложив в нее смыслы современной философии. В
1947 г. Я. Таубес публикует монографию «Западная эсхатология» [147], в
которой показывает эволюцию эсхатологии от первобытных авраамических
представлений до философии эпохи модерна. В 1957 г. Р. Бультман в
монографии «История и эсхатология. Присутствие вечности» [14], написанной
на стыке теологии, философии истории, экзистенциализма и герменевтики,
стремится проинтерпретировать христианство в экзистенциальном русле
философии М. Хайдеггера.
Другой предпосылкой столь обширного понимания эсхатологии могла стать
наметившаяся с конца XIX в. тенденция по сравнительному изучению культур
в глобальном масштабе. Эта тенденция породила представления о
принципиальной схожести различных культур (Л.Г. Морган [96], Э.Б. Тайлор
[112]), единстве их происхождения (Р. Генон [24]), аналогичности их
стадиального развития (О. Шпенглер [127]) и пр. В свете такой тенденции идея
общего характера эсхатологии и возможностей ее широкого изучения была
воспринята как очевидная, что дало толчок к эсхатологическому исследованию
с помощью различных гуманитарных подходов.
Например, в 1947 г. филолог-фольклорист О.М. Фрейденберг выделяет
библейскую, германскую и античную эсхатологии. В фокусе внимания автора 19
оказывается сложность граней эсхатологии, которые связаны как с этикой, так
и со сменой природных циклов, что дает основание рассматривать эсхатологию
как двойную систему – понятийно-этическую и образно-космогоническую. Их
общий смысл связан с тем, что понятия добра и зла вышли из образов
умирающей и воскресающей природы. «Именно этим объясняется
комплексность образов гибнущей природы и попранного правосудия, или
увязка идей плодородия с праведностью» [122, c. 512].
В 1961 г. один из крупнейших мифологов и историков религий ХХ в. М.
Элиаде в работе «Аспекты мифа» [128] предпринимает попытку
систематизации эсхатологических представлений разных времен и народов,
стремясь показать их сущностное единство в разнообразии. Эсхатологическая
проблематика также затрагивается во множестве других работ этого автора –
«Священное и мирское» [130], «Мефистофель и андрогин» [129] и др.
Эсхатология как направление исследований не только интерпретируется в
свете современности и начинает охватывать представления о конечности
существования разных культур мира – возникает интерес к ее бытованию в
истории.
В 1964 г. в работе «Цивилизация средневекового Запада» историк Ж. Ле
Гофф исследует преломление эсхатологических представлений в средневековой
ментальности. Он считает, что устойчивое историческое время упирается в
эсхатологическое время Страшного суда, отверзающего вечность. Чтобы
отреагировать эту ситуацию, средневековый человек создает «чистилище»,
которое помогает ему подготовиться к смерти [70, c. 123-182]. Эволюцию
представлений о «чистилище» в трудах средневековых авторов Ж. Ле Гофф
разрабатывает в другой своей работе – «Средневековый мир воображаемого»
(1985) [71, c. 114-129].
Другим известным французским историком, исследующим
эсхатологическую проблематику, является Ж. Делюмо. В работе «Ужасы на
Западе» (1978) [32] он рассматривает историю коллективных ожиданий конца
света эпохи Возрождения, географию апокалипсических страхов, преломление 20
христианских эсхатологических представлений в народной традиции. В другой
его фундаментальной монографии «Грех и страх: Формирование чувства вины
в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.)» (1983) исследовано значительное
разнообразие культурных проявлений эсхатологически обусловленного
«кошмара» греха и «неотвязного ужаса» перед адскими муками в эпоху
Возрождения и Нового времени [31, c. 92-147].
Развитие эсхатологии как направления не позволяет очертить даже
потенциальные границы исследования, однако в состоянии проиллюстрировать
факт того, что разнообразие содержания эсхатологии оказалось в значительной
мере обогащено разнообразием исследовательских подходов.
В связи с такой обширностью детальное рассмотрение многих работ выходит
за рамки данного исследования. Стоит лишь упомянуть, что проблематику
эсхатологического мифа в российской исследовательской среде затрагивали
С.С.Аверинцев [2], И.Д.Амусин [4], Е.М. Мелетинский [84], И. Р. Тантлевский
[113], А.Ф. Лосев [77], А.Я. Гуревич [30] и др.
Из научных работ последнего времени эсхатология исследовалась
преимущественно в рамках филологии (М.В. Ахметова [10], И.В. Дергачева
[33] и др.) и философии (И.С. Акулова [3], В.Н. Нечипуренко [87], О.П. Кожина
[62], Ф.Н. Петров [94] и др.).
Изучение эсхатологии стало всецело междисциплинарным явлением, что
позволило выйти далеко за рамки сбора и систематизации представлений
различных культур. Философское изучение эсхатологического мифа дало
возможность увидеть в нем глубинные смыслы и превратить его из пережитка
прошлого в актуальную духовную компоненту. Анализ эсхатологических
представлений в рамках историко-антропологического подхода открыл доступ
для более глубокого понимания истории ментальностей, а также специфики
социального поведения, мироощущения и оценки на разных исторических
этапах. Филологическое исследование эсхатологических представлений
открыло возможности для понимания языковых реальностей, в которых они
возникали, что позволяет лучше воссоздавать их древние значения. 21
Эсхатология как направление исследований отчетливо демонстрирует, что к
культурному наследию прошлого можно подходить с очень разных сторон,
актуализируя его многогранную гуманитарную ценность.
Подводя итоги данного раздела, необходимо обозначить, что
эсхатологический миф в историко-теоретической перспективе характеризуется
расширением диапазона значений, которые вкладываются в данное понятие.
Возникая на основе исторически обусловленного катастрофического опыта
реальных опасностей, он воплощается в знаково-символических формах,
осмысливается и интерпретируется на протяжении всей истории западной
цивилизации. Переходя от образов, обусловленных непосредственно
воспринимаемой реальностью, к представлениям, передающимся через текст,
эсхатологический миф внедряется в сферу ничем не ограниченного творческого
воображения. В результате в западной культуре складывается богатая традиция
интерпретации конца существования.
Разнообразие интерпретаций ведет к пониманию эсхатологического мифа
как репрезентации совокупности представлений о конце существования. Эта
репрезентация исторически эволюционирует, поскольку в нее включаются как
возникающие на каждом из витков истории эсхатологические идеи, так и
представления о конце существования других культур, с которыми в разное
время знакомится западное сообщество.
Все эти процессы ведут к выделению понятия «эсхатологический миф»,
которое эволюционирует от сугубо христианского контекста к общемировому
традиционному комплексу представлений о конце существования. Кроме того,
складывается междисциплинарное направление изучения эсхатологического
мифа, характеризующееся многоаспектностью и разносторонностью подходов.
22
2. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО МИФА
2.1. Эсхатологический миф в индивидуальном и универсальном аспекте
Принято считать, что структурно эсхатологический миф имеет
индивидуальную и универсальную размерность. Например, в христианстве
индивидуальная эсхатология связана с проблематикой смерти тела и
бессмертием души, участью души после смерти, местопребыванием
праведников и грешников (ада и рая); универсальная эсхатология связана со
вторым пришествием Христа и его знамениями (появлением Антихриста и пр.),
всеобщим воскресением мертвых, Страшным судом, конечной судьбой мира
[132, c.8].
Если затрагивать данную проблематику в более общем смысле, то
индивидуальная эсхатология сводится к совокупности представлений о том, что
происходит с человеком после его физической смерти. Наиболее
распространенными версиями мифа являются доктрина земных
перевоплощений и доктрина перехода к принципиально иным модусам бытия с
различными сценариями. Этот переход может предполагать посмертный суд
или драматические испытания, заканчивающиеся: 1) окончательной негативно
интерпретируемой гибелью; 2) сохранением индивидуального существования в
некоторой форме в позитивных или негативных условиях; 3) полным позитивно
оцениваемым растворением индивидуальности.
Универсальная эсхатология обычно сводится к совокупности представлений
о том, как и почему прекращается существование общего порядка. Широко
распространенными версиями этого мифа являются: 1) доктрина катастрофы,
вызываемая завершением некоторого глобального цикла или наказанием за
проступки; 2) доктрина, связанная с последней стадией реализации некоторого 23
замысла, будь то амбиция общности или божественное провидение. Эти две
версии отображают принципиально различные культурные типы реагирования,
поскольку в первом случае эсхатология воспринимается как катастрофический
исход, тогда как во втором – как свершение всех свершений, особая
кульминация трудного и длительного процесса реализации общества.
Если несколько углубиться, то типы реакций, которые стоят за пониманием
эсхатологии как всеобщей катастрофы, также могут различаться. Например,
конец существования как естественный и закономерный результат общего и
независящего от индивида цикла разрушения воспринимается намного
спокойнее в сравнении с концом существования как специфическим
наказанием, вызванным человеческими проступками. Представления о
последнем способны стимулировать религиозное благочестие, а также
пробуждать чувство вины, глубина и сила которой зависит от веры в грех и в
наказание.
Универсальная эсхатология как высшая кульминация также имеет свои
грани, поскольку это может быть определенное свершение, в котором особая
привилегированная роль отводится избранному сообществу или группе
праведников. Вместе с тем, это может быть и событие всеобщего порядка, в
котором ни одна из групп не выделяется, что свидетельствует о разных типах
реакции. Миф о привилегированной роли какой-то общности в
эсхатологическом сценарии способен задавать социальные стимулы и
регулятивы, разнообразие которых простирается от самооценки общности до
необходимости следования специфическим программам деятельности и
поведения для соответствия определенному статусу.
Несмотря на вариативность эсхатологических сценариев, в индивидуальном
и универсальном разрезах эсхатологического мифа наиболее распространена
версия позитивной оценки конца существования. По всей вероятности, такая
специфика обусловлена тем, что на протяжении всей истории человека
регулярно преследовала угроза гибели – он сталкивался с хищными животными
и природными катаклизмами, эпидемиями, войнами и всеми прочими 24
потрясениями, которые надо было психически отреагировать. Одним из
возможных типов реагирования на травматический опыт является попытка
инверсии негатива в позитив. Ее культурным преломлением являются
рационализированные представления о том, что катастрофа индивидуального
или универсального порядка является исключительно положительным
явлением, потому что умерший обретет вечную жизнь, в мире наступит
Золотой век, придет долгожданный мессия, спасутся праведники, воскреснут
мертвые и т.д. Такая интерпретация нейтрализует отчаяние и позволяет
общности легче переносить катастрофические последствия, что отображает
социально-терапевтическую функцию эсхатологического мифа.
Исходя из такой перспективы зрения, эсхатологический миф содержит в
своей структуре представления, основанные на реальном исторически-
обусловленном негативном опыте, а также представления, возникшие
вследствие психосоциального и историко-культурного отреагирования этого
опыта. Это также означает, что первичный эсхатологический сценарий связан
именно с катастрофическим развитием событий в том или ином масштабе. Во-
первых, все необходимые для него предпосылки достаточно регулярно
воплощаются в непосредственной реальности на протяжении всей истории. Во-
вторых, негативное восприятие катастрофического естественно, поэтому его
позитивная культурная оценка не столько основана на реальности, сколько
могла развиться благодаря инверсии первичных негативных переживаний.
Несмотря на то, что индивидуальная и универсальная эсхатология имеют
общий мотив, их соотнесение вызывает большое количество сложностей.
«Индивидуальная эсхатология обычно более или менее существенно
соотнесена с универсальной, но степень и модальность этого соотнесения в
различных системах весьма различны» [2].
Например, исследователь Е. Г. Якимова вообще предлагает редуцировать
индивидуальную и универсальную эсхатологию до рамок авраамических
традиций: «Индивидуальный и всемирный уровни эсхатологии возможно
проследить только в рамках исторического типа эсхатологии (иудаизм, 25
христианство, ислам), главными чертами которого являются линейность,
конечность существования мира и человека, конкретность эсхатологических
образов, раскрытие будущего конца мира как цепи индивидуальных,
конкретно-исторических событий, что способствует содержательному решению
личных и вселенских судеб в абсолютной перспективе» [132, c.8].
Сложность соотношения индивидуальной и универсальной размерности
эсхатологического мифа обусловлена тем, что в разные исторические периоды
и на разных стадиях культурного развития грань между индивидом и
универсумом способна существенно различаться. Чтобы понять соотношение
индивидуальной и универсальной эсхатологий, необходимо сознавать и
учитывать особенности психической деятельности, мифолого-религиозного
восприятия, мышления, а также специфику идентичности и культуры, в тесной
связи с которыми складывались древние доктрины.
Как отмечает Л. Леви-Брюль, «деятельность сознания первобытных людей
слишком мало дифференцирована для того, чтобы можно было в нем
самостоятельно рассматривать идеи или образы объектов, независимо от
чувств, эмоций, страстей, которые вызывают эти идеи и образы или
вызываются ими» [72, c. 28]. Если пойти несколько дальше, в своей наиболее
ранней форме первобытные представления возникают как производные от
работы инстинктов, ощущений и эмоций. Соответственно, первичные истоки
эсхатологических представлений следует искать в инстинктивном поведении.
В первую очередь здесь необходимо обозначить ощущение угрозы и
опасности, возникающей в ответ на определенные раздражители, которое
неотделимо от совокупности сложных наследственных реакций. Они
обнажаются на эмпирическом уровне как предельно напряженные негативные
констелляции переживаний, обусловленные реальными столкновениями с
угрожающими жизни ситуациями. Эти ситуации могут разрешаться через
бегство, ступор, агрессию и иные реакции, зависящие от обстоятельств и их
оценки.
26
На внешнем уровне инстинктивное ощущение угрозы и опасности способно
обретать семиотическое выражение в биологических сигналах тревоги. В
отличие от животных, у которых сигналы тревоги преимущественно связаны с
конкретной ситуацией и целью, человек за период своего становления научился
абстрагироваться от конкретики и наделять в своем представлении те или иные
феномены семантикой. Сама такая специфика нарушила прямую корреляцию
между переживанием угрозы и реальной угрозой в актуальном месте и времени.
Способность к абстрагированию позволила воспроизводить катастрофические
переживания опосредованно – на уровне сознания и культурного текста вне
реального соприкосновения с опасностью. Это открыло новые – порой самые
фантастические – возможности интерпретации катастрофического.
В свете такой концепции вопрос индивидуальной и универсальной
размерности проторелигиозной эсхатологии пролегает в плоскости
эмоционального отреагирования. Первичные психические паттерны,
соответствующие эсхатологическим представлениям, являются коллективным
наследственным феноменом, однако способны переживаться индивидуально в
ситуации опасности. Стоит отметить, что, в зависимости от степени
эмоционального переживания, образ опасности способен гиперболизироваться.
Это означает, что универсальная эсхатология может также проистекать из
гиперболизации катастрофических переживаний индивидуального порядка.
Далее, спецификой первобытного восприятия является развитый
имитативный рефлекс и механизм проекции, которые Дж.Дж. Фрезер выразил
через принципы подобия и соприкосновения как основы первобытно-
магического мышления [121, c.18]. Благодаря имитации и проекции
формируется анимистическая картина мира. Если подходить более детально, то
представления древнего человека о конечности существования основаны не
только на индивидуальном столкновении с опасностями, но и на переживании
по аналогии всего того, что он способен непосредственно воспринять [105,
106].
27
Такая способность позволяет отождествляться и переживать смерть вместе с
умершим предком или соплеменником, с убитым на охоте животным, с
понимаемым как умирание закатом солнца каждую ночь и т.д.
Эсхатологический сценарий способен воспроизводиться через неограниченное
число подобных ситуаций. Последние различаются по степени индивидуальной
значимости, что и задает эсхатологическую размерность. Вместе с тем, для
такого восприятия нет четкой границы между индивидом и миром, что
позволяет переживать универсальную эсхатологию в индивидуальном разрезе и
наоборот.
Такая точка зрения согласуется с концепцией первобытного мышления К.
Леви-Стросса, который выявил, что базовые мифологические представления
(тотемические коды) «приобретают операциональную ценность благодаря
своему формальному характеру: это коды, пригодные и к переносу сообщения в
другие коды», поэтому ошибочно воплощать их в строгую форму и увязывать с
определенным содержанием – это метод для усвоения содержания любого вида
[73, c.172].
Существенный момент заключается также в том, что во многих мифолого-
религиозных системах (древнеегипетская религия, мистический иудаизм,
адвайта-веданта и пр.) индивид имеет множество душ. Эта сложносоставная
идентичность в конце физического существования распадается. Выстраивается
приблизительно следующая картина: после смерти одна душа переходит в
блаженное состояние и возвращается к божеству, другая – остается на земле и
возрождается из поколения в поколение, третья – отправляется в потустороннее
странствование и может испытывать различные страдания, четвертая – умирает
вместе с телом [112, c.215]. Мы сталкиваемся с ситуацией, в которой
индивидуальная эсхатология относится уже не к индивиду как некой
онтологической целостности, а к отдельным его составляющим; при этом
распад других составляющих идентичности индивида может относиться к
эсхатологии универсальной.
28
Не меньшую сложность для рассматриваемого вопроса представляет собой
специфика традиционных культур, для которых характерна невыделенность
индивида из социальной среды и коллективный тип идентичности. Для такой
идентичности прекращение отдельного индивидуального существования может
восприниматься не настолько катастрофично, поскольку коллектив продолжает
жить дальше. Вместе с тем, настоящей катастрофой должен видеться
универсальный конец существования, в котором угроза нависает над жизнью
всей общности.
Можно было бы допустить, что такое положение дел в меньшей мере
относится к представлениям западной традиционной культуры, поскольку в
христианской доктрине речь идет об индивидуальном спасении души, которое
логически должно вести к обособлению от коллектива и приоритету
индивидуального спасения. Тем не менее, даже такое обстоятельство не
совпадает с результатами исторического анализа – для средневековья «все ныне
живущие люди отвечают за проступок Адама и Евы, все современные евреи
ответственны за страсти Христовы, а все мусульмане – за магометову ересь», а
«крестоносцы конца ХI в. считали, что они направляются за море, чтобы
покарать не потомков палачей Христа, а самих палачей» [70, c.163-165].
Полноценный переход от коллективного типа идентичности к
индивидуальному начал прослеживаться с началом процесса секуляризации,
тогда как до эпохи Возрождения человек не исходил из антропоцентрического
идеала и не воспринимал себя как обособленную личность. Традиционному
обществу, в том числе средневековому европейскому, едва знакомо
обостренное чувство отчужденности и одиночества, которое проводит четкую
границу между индивидом и миром в эпоху модерна и задает рамки
индивидуального. Более того, обособление индивидуальности для
традиционного человека на определенном уровне само по себе воспроизводит
негативный эсхатологический сценарий, потому что для коллективного типа
идентичности отлучение от общности является известным с библейских времен
наказанием, которое становилось участью гонимых из стана прокаженных. 29
Все это свидетельствует о том, что структурное разделение
эсхатологического мифа на индивидуальную и универсальную размерность
совершенно неоднозначно, искусственно и способно вести к искаженному
пониманию древних представлений.
Несмотря на то, что эти представления действительно сообщают об
индивидуальном и универсальном аспектах развития эсхатологических
событий, их традиционное восприятие может быть: 1) идентичным и
воспроизводить один и тот же сценарий; 2) взаимозаменяемым; 3)
симбиотическим и отображать разные модальности идентичности индивида.
Такое понимание имеет мало общего с представлениями об индивидуальном и
универсальном в современную эпоху.
Итак, мы выяснили, что в эволюционном смысле предпосылки
эсхатологических представлений обнаруживаются уже в инстинктивном
поведении, которому знакомо чувство опасности и различные типы
реагирования на него (бегство, ступор, агрессия). Это поведение является как
индивидуальным, так и универсальным, поэтому проведение между ними
отличий глубоко фиктивно.
Историко-генетически развитие универсальной эсхатологии может быть
вызвано тремя факторами: 1) гиперболизированное переживание угрозы конца
в индивидуальном плане; 2) отождествление первобытного сознания с
явлениями, которые воспроизводят эсхатологический сценарий; 3) преломление
исторически-обусловленных коллективных угроз в сознании общности.
Есть все основания считать как индивидуальный, так и универсальный
катастрофический сценарий первичной формой эсхатологии, тогда как его
позитивная культурная оценка складывается как ответная реакция,
обусловленная специфическим типом реагирования. Катастрофический
сценарий и реакция на него синтезируются в мотиве конца, который часто
кульминирует в позитивно оцениваемом исходе. Этот мотив является общим
для наиболее распространенных версий индивидуальной и универсальной
эсхатологий. 30
2.2. Морфология эсхатологического мифа
В связи с тем, что эсхатологический миф на современном этапе
репрезентирует всю пеструю совокупность традиционных представлений о
конце существования, возникает теоретическая необходимость свести их к
некоторой общей структуре. Из-за большого содержательного разнообразия
этой репрезентации, главным маркером, который объединяет все эти
представления, является их соотнесенность с проблематикой конца.
Данная проблематика, в сущности своей, базируется на восприятии факта
смерти. Смерть – событие необратимое, с ней часто связаны травматические
переживания, требующие отреагирования, что ведет к культурному
становлению мифологии смерти во множестве модальностей. Одна из этих
модальностей относится к перспективе грядущего, что характеризует наиболее
распространенную ориентацию эсхатологии.
Смерть начинает распадаться на многочисленные повествования о том, для
кого или чего, как, когда и почему наступает конец, а также что, как и с кем или
с чем происходит после этого конца. От ответов на эти вопросы зависит
соотношение эсхатологического мифа с хтоническим и космогоническим
мифами. Если в традиции конец постулируется как начало космогонии, то
эсхатологический миф тесно переплетается с космогоническим мифом. Если в
традиции смерть выступает точкой перехода в иной модус, то эсхатологический
миф оказывается в тесной связи с хтоническим мифом. Более того, становится
невозможно однозначно определить, где заканчиваются границы одного мифа и
где начинается другой. Это свидетельствует о несовершенстве понятийного
аппарата, в соответствии с которым происходит структурирование
мифологических данных.
Попытки выделить структуру эсхатологического мифа уже предпринимались
разными исследователями. Например, Ф.Н. Петров сводит ее к следующей
схеме: 31
1. Образы глобальных искажений миропорядка, всеобщее разложение
культурных норм и правил, распространение болезней, а также другие
бедствия, которые постигнут людей в преддверии конца. Все это
необходимо для преобразования мира.
2. Кульминация событий, момент раскрытия полной истины об уходящем мире
и о всех, кто жил в нем и действовал, момент подведения итога мировой
истории. Типовые сюжеты: 1) явление в мир спасителя, задача которого –
провести через катастрофу в новый мир правды и света; 2) воскрешение
мертвых – все, кто жил в мире в разные времена являются в него вновь для
того, чтобы принять участие в последней драме мировой истории; 3)
Последняя битва либо Страшный суд.
3. Описание грядущего мира, приход которого последует за гибелью мира
нынешнего. Новый мир описывается как лучший, благой мир, в котором
будут преодолены неразрешимые противоречия этого мира. Это образ
грядущей прекрасной жизни людей, полной любви, справедливости,
изобилия [94, c.12-15].
В целом данная структура, предполагающая искажение, обнажение и
обновление мира, валидна, однако она предстает в предельно редуцированном
виде. В частности, она не дает никакого представления о весьма существенных
вопросах, таких как время, в котором конец света должен произойти, знаки
наступления конца света, возможности его приближения или предотвращения и
т.д. В данной структуре индивидуальная размерность эсхатологии выключена
из контекста. Кроме того, описание грядущего мира фигурирует далеко не во
всех мифах, повествующих о конечности существования.
С одной стороны, подход, предполагающий обобщение всех
эсхатологических представлений мира по содержательному признаку,
невозможен без потери смысла. С другой стороны, в этих представлениях
просматривается некоторая общая логическая артикуляция, детерминированная
психотравматическими переживаниями факта конечности и смерти. Обнажив
32
логику, благодаря которой возникают эсхатологические представления,
возможно построение менее редуцированной общей модели.
Логика эсхатологического мифа базируется на совокупности предлагаемых
каждой традицией ответов на простой комплекс вопросов: конец кого или чего,
как он происходит, когда он происходит и как это узнать, почему он
происходит, можно ли его предотвратить (при негативной оценке) или
приблизить (при позитивной оценке), что происходит после него, как именно,
для кого и т.д. Структурирование эсхатологических представлений по
принципу дополнения и в соответствии с подобными вопросами способно
показать универсальную морфологию эсхатологического мифа с учетом
различных вариаций. Эти вариации иногда совпадают, а иногда расходятся.
Тем не менее, общая картина ответов на обозначенные вопросы способна
продемонстрировать возможности культурного отреагирования
катастрофического, которые кодируются в эсхатологическом мифе, что во
многом определяет его актуальный компонент, обеспечивающий
жизнеспособность этого мифа на протяжении истории.
Представленная ниже модель развивает структурно-морфологический
подход В.Я. Проппа [102], однако существенно дополняет его, поскольку
увязывает морфологию и логику эсхатологического мифа с защитными
механизмами психики. Модель построена на базе компаративистского изучения
множества эсхатологических представлений – от первоисточников
авраамических и дхармических традиций до мифологий аборигенных
общностей. Поскольку здесь мы стремимся продемонстрировать общую
теоретическую схему эсхатологического мифа в разнообразии его структурных
вариаций, мы не будем сосредотачиваться на первоисточниках, многие из
которых общеизвестны и не требуют обоснования, а многие собраны,
систематизированы и проанализированы в работах других авторов (Дж.Дж.
Фрезер [121], М. Элиаде [128, c. 62-81] и пр.)
Разработанная модель является принципиально открытой и может
дополняться в соответствии с появлением новых данных, будучи одновременно 33
классификатором. Итак, морфология эсхатологического мифа сводится к
ответам на ряд вопросов.
1. Кто или что? Любое повествование о конечности существования всегда
относится к кому-то или чему-то. Наиболее распространенные объекты
эсхатологии:
1) Человек. Очень часто развитие содержания эсхатологического мифа
обусловлено тем, какое положение, статус и роль занимает индивид при жизни,
какова его социальная оценка и заслуги, как он завершает свою жизнь, какие
обряды были сделаны или не сделаны для его перехода к иным модусам
существования и т.д. В зависимости от этих и многих других факторов,
наблюдается принципиальное различие в традиционных повествованиях о
посмертных судьбах раба, простолюдина, героя, жреца, вождя и пр.
Существенно различаются рассказы о смерти людей, умерших от старости и
неестественной смертью. В зависимости от характера неестественной смерти,
эсхатологические представления также распадаются на многие аспекты.
Например, после смерти участь воина предельно отличается от участи
самоубийцы, утопленника, пропавшего без вести, с которыми часто
связываются представления о призраках, душах-вредителях. Обычно чем более
позитивно человек оценивается при жизни, тем лучшая участь ему
приписывается после смерти. Кроме того, представления о многосоставной
идентичности человека также дают различные сценарии распада, которые
зависят от специфики каждой отдельной составляющей.
2) Общность. Эсхатологический сценарий различным образом может
представляться в зависимости от этнической и религиозной обособленности
одной общности от другой, что связано с системой взаимоотношений между
своим и чужим. Например, благая перспектива развития существования после
смерти зачастую не рассматривается для общностей врагов или соперников, а
также для общностей с альтернативной системой верований и т.д.
3) Универсум. Понимание конечной судьбы универсума простирается от
конечной судьбы отдельной общности, выступающей в роли некоторого 34
космоса, до конечной судьбы целой вселенной. Иногда понимание конца
универсума сводится к представлениям о смерти Солнца как символического
центра жизненных сил и распространяется на все остальные модусы.
4) Божество. Представления о конечной судьбе божества зависят от
социального восприятия и оценки того или иного божества. В некоторых
первобытных культурах божество может наказываться и уничтожаться
общностью за ненадлежащее выполнение своих функций. Другая схема
наблюдается в связи с драматическими мифами об умирающих и
воскресающих богах, конец которых означает новое начало. Монотеистические
традиции, как правило, постулируют идею бессмертного божества, что является
отрицанием конечности его существования.
5) Животные. Несмотря на то, что тема конечной судьбы животных
обычно не рассматривается в эсхатологическом контексте, животные зачастую
считаются существами более низкой иерархии и после смерти в традиционной
интерпретации переходят в специфические для них модусы существования.
Известны представления о том, что населяющие рай животные неагрессивны и
миролюбивы. Кроме того, особым эсхатологическим статусом зачастую
обладают животные, которые были убиты на охоте или принесены в жертву –
считается, что после смерти им уготована лучшая судьба.
2. Когда? Наличие представлений о ком-то или чем-то конечном закономерно
приводит к вопросу о том, когда этот конец происходит. Данный вопрос имеет
связь со временем, восприятие которого в традиционных обществах различно.
В предельно редуцированном виде оно сводится к циклической и к линейной
перспективам. В циклических картинах мира конечность воспринимается как
необходимое условие начала нового цикла творения – между разрушением и
воссозданием не проводятся четкие границы. В линейных картинах мира
конечность воспринимается как нечто необратимое, невосполнимое и потому
глубоко катастрофическое, что придает эсхатологическому мифу особый
драматизм. Соответственно, вопрос о том, когда происходит конец
существования, имеет разную эмоциональную заряженность, обусловленную 35
моделью времени. Следует также отметить, что существуют первобытные
языки, в которых будущее время вообще отсутствует, поэтому
эсхатологические представления существуют в них как сценарий, который
просто способен происходить. Наиболее распространенные традиционные
ответы на вопрос о том, когда свершается конец существования, следующие. В
индивидуальном разрезе время конца постулируется как: 1) неопределенное и
неизвестное человеку; 2) известное божеству; 3) зависящее от образа жизни и
морально-нормативного поведения человека. Для сложносоставной
идентичности вопрос времени конца обычно связан с событийной
последовательностью сценария, который привязан к конкретной составляющей.
Например, у древних египтян существовали представления, в соответствии с
которыми одна из душ погибает тогда, когда разрушается мумия, а другая –
когда предается забвению имя умершего и т.п. Для универсальной размерности:
1) конец существования уже имел место в прошлом (грехопадение, потоп и
пр.); 2) он уже был в прошлом и повторится в будущем; 3) он грядет в
будущем; 4) миф не сообщает о времени.
3. Как узнать начало конца? Если применительно к повествованиям о
свершившемся некогда в прошлом конце существования вопрос о точном
времени теряет актуальность, то тревожная перспектива, связанная с его
грядущим приближением, сохраняется и ставит побочный вопрос о том, как
узнать и определить, когда он свершится, каковы его знаки и т.п. Вопрос о
времени индивидуальной смерти часто закрывается верой в ангелов-
хранителей, в судьбу или в предназначение. Знание о точном времени
разрушения мира также может интерпретироваться как особое знание,
доступное исключительно божеству. Кроме того, приближающийся конец в
ряде традиций обычно можно определить: по разложению социальных норм,
правил и разрушению ценностей; по нашествию чужаков, персонифицирующих
демонические силы; по приходу ложного и\или подлинного мессии. Достаточно
распространенным знаком начала конца являются различные происшествия с
Солнцем: оно может не выйти из царства ночи, взойти на западе, в конце 36
времен могут одновременно воссиять на небе двенадцать солнц и т.д. Знак как
сообщение о начале конца является промежуточной формой между вопросом о
времени (когда?) и вопросом о сценарии (как?). Это обусловлено тем, что для
традиционного восприятия понимание времени достаточно конкретно, т.е. оно
может базироваться или на последовательности природных циклов, или на
последовательности событийного ряда.
4. Как наступает конец? Осознание неизбежности конца существования
ставит вопрос о сценарии, т.е. о том, как именно этот конец наступает.
Поскольку в индивидуальной перспективе сценарий наступления смерти
предельно разнообразен, традиции пошли не путем упорядочения и
интерпретации частных сценариев, а конструирования совокупности обрядов,
проведение которых над покойным равносильно социальному признанию
человека в статусе умершего. Эти обряды обычно носят общий характер,
однако могут быть различные исключения применительно к индивидам с
отклонениями и к лицам с особым социальным статусом. Эсхатологическое
повествование о сценариях разрушения мира, несмотря на многие
несовпадения традиционных доктрин, часто схожи, поскольку они производны
от восприятия непосредственной реальности. Наиболее распространенными
являются следующие сценарии: потоп; землетрясение; пожар; потоп и пожар
вместе; голод; жажда и исчезновение воды; эпидемия; исчезновение Солнца.
Иногда сценарий разрушения мира описывается метафорически: падение неба
на землю, огненный дождь, битва людей с чудовищами или мифологических
существ между собой, торжество зла, предельное сокращение длительности
дней, повсеместные стоны и скрежет зубов и т.д.
5. Почему наступает конец? Воображение конца существования неизбежно
ведет к вопросу о причинах, вызывающих его свершение. Как правило,
традиционные представления в ответе на этот вопрос имеют три модальности.
Во-первых, причиной конца существования могут выступать естественные
причины, которые в индивидуальном разрезе соответствуют старости, а в
универсальном – завершению стадии реализации космического цикла. Иногда 37
деградация космоса интерпретируется антропоморфно – как «старение» и
«усталость» земли. Во-вторых, причина конца существования может быть
обусловлена наличием неразрешимых глобальных противоречий как
человеческого, так и божественного порядка. В-третьих, причина конца может
пониматься как результат взаимоотношений человеческого и божественного
уровней. Здесь конец существования может выступать как: 1) злой умысел
некоторого божества, которое становится виновником конца; 2) как результат
греха и вины человека перед божеством, которое его наказывает посредством
катастрофы.
Если причина конца существования интерпретируется как результат греха и
вины людей, то возникает несколько логических сценариев. Первый из них
сообщает о том, что конец существования относится к перспективе будущего и
еще не свершился, поэтому у человека остается шанс предпринять некоторые
действия. Отсюда формируются представления о том, что конец света можно
отсрочить или предотвратить. Способами предотвращения или отсрочки
разрушения мира могут являться ритуалы, жертвоприношения, благочестивый
образ жизни, поиск лучшего места жизни и т.д. Второй логический сценарий
связан с пониманием конца существования как неизбежного сценария.
Соответственно, возникают вопросы о том, как и кого затронет данное событие.
Наиболее распространенные версии сообщают о том, что: 1) гибнут только
грешники, тогда как начало новому миру положат избранные праведники; 2)
гибнут все, но виновные наказываются, а невиновные поощряются после
смерти.
6. Что следует за концом существования? Отрицание действительности
является одной из основных составляющих, достаточно рано появляющихся в
процессе отреагирования травм. Оно дает основание традиционным
представлениям о продолжении существования после его завершения. В
индивидуальном разрезе с этим связано формирование представлений о
наличии у человека одной или нескольких внетелесных сущностей, которые
могут по-разному перевоплощаться на земле или переходить в новые модусы 38
бытия. В зависимости от традиции, перевоплощение может иметь место: 1) в
рамках человеческой формы; 2) выходить за ее пределы (позитивно,
амбивалентно или негативно) и относиться к миру растений, животных, а также
других реальных или воображаемых явлений. Кроме того, часто после
физической смерти и до обретения какой-то стабильной новой формы
существует промежуточная фаза, в которой внетелесная сущность очищается,
испытывается или претерпевает определенные метаморфозы. Что касается
универсальной размерности эсхатологического мифа, то она различается по
степени и характеру обратимости или необратимости. Разрушение мира может
вести: 1) к очищению мира на том же уровне; 2) к воссозданию мира на
принципиально новом уровне; 3) к возвращению мира к своему
первоначальному состоянию; 4) к окончательному и необратимому завершению
существования без воссоздания; 5) миф не сообщает о том, что следует за
разрушением мира. Если разрушение мира ведет к его воссозданию на земном
уровне, эсхатологический миф обычно сообщает некоторые подробности: 1)
будет восстановлен земной рай; 2) на землю вернутся души; 3) воскреснут
мертвые. Если мир воссоздается на принципиально новом уровне, то чаще
всего описывается первозданный вечный рай, в котором будет все исправлено,
исчезнут увечья, болезни и т.п.
Таким образом, морфологическая структура эсхатологического мифа,
базирующаяся на логике психического отреагирования катастрофического,
сводится к совокупности ответов на вопросы о том, кто или что подвержено
концу, когда он происходит и как узнать, когда он произойдет, как именно он
происходит, по какой причине, а также что за ним следует. Эта совокупность
вопросов является системообразующей основой индивидуальной и
универсальной размерностей эсхатологического мифа. Она может выступать
моделью для классификации и систематизации эсхатологических
представлений в разнообразных вариациях.
Подводя итог данному разделу, необходимо обозначить, что в
структурно-содержательном аспекте эсхатологический миф раскрывается как 39
через набор типичных сюжетов, так и через разнообразие вариаций, которые
кодируют специфические типы реагирования.
Типичность сюжетов обусловлена тем, что они базируются на
непосредственном опыте и обусловленных биологически реакциях на
катаклизмы, которые характеризуются подобием, даже если происходят из
изолированных друг от друга традиций разных континентов.
Разнообразие вариаций эсхатологического мифа может вызываться или
специфическими историко-культурными обстоятельствами, или участием
творческого воображения. Схожесть фантастических сюжетов в разных
культурах обычно обусловлена межкультурными коммуникациями и
заимствованиями.
Если эсхатологический сюжет является конструктом воображения,
выявление типов реагирования, заложенных в эсхатологическом мифе, требует
максимального учета деталей. Такой учет позволил нам продемонстрировать,
что разделение эсхатологии на индивидуальную и универсальную не столько
упрощает понимание эсхатологии, сколько усложняет его настолько, что
подобное структурирование становится малополезным. Наиболее оптимальной
с нашей точки зрения является морфологическая структура, основанная на
выделении вопросов, на которые отвечает эсхатологический миф.
40
3. ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО МИФА В РАМКАХ АВРААМИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ
3.1. Становление репрезентации эсхатологического мифа в контексте иудейской традиции
Традиция, восходящая к патриарху семитских племен Аврааму, заложила
доктринальную основу монотеистических религий откровения – иудаизма,
христианства и ислама. Наиболее древней из них является иудейская система
представлений, которая частично ассимилировала мифологические элементы
других культур региона (шумерской, ассиро-вавилонской, египетской). Базовый
источник иудейской картины мира – Танах или Ветхий Завет. Он представляет
собой собрание древних текстов, которые в большинстве своем складывались
приблизительно с середины XV по II век до нашей эры.
Репрезентация эсхатологического мифа в рамках иудейской традиции долгое
время эволюционировала и генерировала разнообразие оценок и идей. Уже в
псалмах Давида [103] (X в. до н.э.) прослеживаются типичные
эсхатологические мотивы наказания и спасения. Поскольку миф о конце времен
обычно предполагает оба этих мотива, возникает двойственная система оценки:
если акцент делается на наказании, то эсхатология воспринимается негативно, а
если на спасении – позитивно. Например, в Книге пророка Исаии [57]
позитивно оценивается эсхатологический образ нового мира, тогда как в Книге
пророка Амоса [52] видение конца времен предстает исключительно как горе.
Кроме того, иудейские эсхатологические идеи отличаются большой
оригинальностью для своего времени: в книгах Исаии и Иезекииля появляется
концепция воскрешения мертвых в конце дней; в книгах Михея, Захарии и
41
Даниила сообщается о грядущем мессии. За рамками авраамической парадигмы
эти идеи малознакомы и практически не распространены.
Анализ генезиса иудейской эсхатологии затруднен тем, что многие
источники датируются приблизительно. Кроме того, древние тексты
изначально не были каноническими, а потому они могли дополняться и
изменяться в более поздние времена. Мы постараемся как можно лучше
учитывать эти обстоятельства и представить картину развития иудейской
эсхатологии в историко-эволюционной плоскости.
Репрезентация иудейского эсхатологического мифа складывается из целого
ряда повествований разного времени. Наиболее древняя их часть содержится в
Книге Бытия [49], приблизительно датируемой XV в. до н. э. Эсхатологические
сюжеты этой книги сводятся к следующим:
1. Грехопадение
Оно относится к модальности прошлого и связано с запретом бога есть плод от
древа познания добра и зла, что влечет за собой смерть (Бытие 2:17). Эта
ситуация имеет несколько важных последствий для понимания последующей
специфики иудейской эсхатологии:
1) нарушение первичного запрета сделало всех людей смертными и
виновными, что имеет отношение к индивидуальной размерности
эсхатологического мифа;
2) катастрофические последствия напрямую вызываются поступками
человека;
3) понимание божества как источника катастрофической угрозы ведет к
необходимости «вызова» божественного расположения для обретения
благополучия.
2. Потоп
Отображает уже состоявшуюся эсхатологическую катастрофу универсального
порядка, которая интерпретируется как божественное наказание за развращение
людей (Бытие 6:5-7).
3. Содом и Гоморра 42
История уничтожения этих городов примечательна тем, что:
1) эсхатологический сценарий может проявляться локально (Бытие 19:24-
25);
2) наличие некоторого числа праведников в городах, объятых грехом,
может служить фактором, из-за которого эти города могут избежать
истребления (Бытие 18:23-33).
Другим важным источником для репрезентации иудейского
эсхатологического мифа является Книга Иова [50]. Время ее написания
неизвестно, однако наиболее реалистические датировки относятся к VIII-IV
векам до н.э. [138].
До «Книги Иова» праведный образ жизни воспринимался как залог
благополучия: за благочестие бог наделяет человека дождями, урожаем,
питанием, безопасной жизнью, защищает от зверей и врагов (Левит 26:3-7) [75],
за нарушение запретов – насылает ужас и паранойю, болезни и истощение сил,
неурожай и нашествие зверей, что истребляют детей и скот, а также голод,
каннибализм, поражение от врагов, рабство, опустошение городов и святилищ,
рассеяние между народами, увеличение наказания за грехи и гибель (Левит
26:14-38).
История Иова дает начало совершенно иным представлениям, в
соответствии с которыми божество способно насылать даже на
исключительных праведников самые ужасные бедствия и несчастья для того,
чтобы испытать и проверить их силу веры, искренность и преданность; если
человек выдерживает эти испытания, божество награждает его еще больше
(Иов 1:1-22; 42:11-16). История Иова, который лишается всего самого дорогого,
но сохраняет веру, дает ключ к пониманию позитивной оценки
катастрофических сценариев, поскольку они начинают представляться как
испытания, выдержав которые божество награждает человека еще больше.
Наконец, наиболее важным сводом источников, репрезентирующих
иудейский эсхатологический миф, являются ветхозаветные пророчества. Все
43
они содержательно отличны друг от друга, поэтому требуют идеографического
подхода.
1. Книга Исаии [57] (VIII в. до н.э.) пророчит катастрофическое приближение
«Дня Господа», идущего «сделать землю пустынею и истребить с нее
грешников ее» (Исаия 13:5-11), что влечет за собой гибель порочной Иудеи, а
также народов мира. Спасение правосудием приведет к восстановлению народа
Израиля в идеальном царстве, в котором нет войн и агрессии. На иудеев будет
изливаться благословение бога, их грехи будут искуплены, а беззакония
изглажены (Исаия 43:21; 44:3,22; 60:21). Вместе с тем, в пророчестве между
иудеями и другими народами проводится четкая граница: тьма и мрак покроют
землю и народы (Исаия 60:1-5); над ними будет суд, они «перекуют мечи свои
на орала», идолы совсем исчезнут и пр. (Исаия 1:13, 16, 17, 27-28; 2:2-4, 12, 18).
Иудеи будут называться «священниками Господа» и будут «пользоваться
достоянием народов и славиться славою их» (Исаия 61:6). Вместе с тем, образ
мира после катастрофы Исаия рисует как сотворение богом «нового неба» и
«новой земли», в которой люди будут достигать полноты дней своих, а «волк и
ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Исаия 65:13-
25). Кроме того, в пророчестве сообщается, что оживут праведные мертвецы
(Исаия 26:12), однако эта тема не развивается. Фактически, пророчество Исаии
демонстрирует уже развитую версию иудейского эсхатологического мифа,
содержащую элементы катастрофизма и мессианизма.
2. Эсхатологическая картина, представленная в Книге Иоиля [58] (IX-V века
до н.э.) вероятно описывает беспрецедентную гибель урожая и голод:
«оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а
оставшееся от червей доели жуки»; прекратилось хлебное приношение и
возлияние в доме Господнем; плачут священники, опустошено поле, сетует
земля; ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина (Иоиль 1:4-
10). В такой ситуации пророк призывает назначить пост и взывать к богу,
поскольку день его близок (Иоиль 1:14). Чтобы выдержать этот день,
необходимо обратиться к богу всем сердцем в посте, плаче и рыдании, ибо 44
спасутся те, кто призовет его (Иоиль 2:1-32). Тогда бог пощадит и более не
отдаст иудеев на поругание народам.
Согласно пророчеству Иоиля, благополучие вернется, а потому стоит не
бояться конца дней, а радоваться величию бога. День бога воспринимается как
великий и страшный, это день тьмы и мрака, «перед ним земля как сад
Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет
спасения от него»; в день бога будет суд, враги Израиля будут наказаны, а Иуда
будет жить вечно; горы будут капать вином, а холмы потекут молоком (Иоиль
3:1-21).
Пророчество Иоиля провозглашает: 1) необходимость религиозной практики
для спасения (пост, плач, рыдание, призыв бога); 2) уничтожение врагов,
спасение и благополучное существование иудеев после катастрофы.
3. Эсхатология Книги пророка Амоса [52] (VIII в. до н.э.) сообщает, что
останется жива только десятая часть людей, а для сохранения жизни надо
«взыскать» бога (Амос 5:1-6). Сам последний день представляется
исключительно негативно: «Горе желающим дня Господня! для чего вам этот
день Господень? он тьма, а не свет» (Амос 5:18). В последний день будет много
трупов, произойдет закат солнца в полдень, веселье обратится в плач, наступит
жажда по слышанию слов бога. Тем не менее, после всего этого иудеи будут
возвращены из плена, застроят опустевшие города, насадят виноградники и
будут пить вино, разведут сады и т.п. (Амос 9:14). Как Книга пророка Иоиля,
так и Книга пророка Амоса показывают особый интерес к вопросу о том, как
спастись (призвать и взыскать бога). Эсхатологический миф становится более
реалистичным, однако это не меняет у пророков убежденность в
благополучном исходе катастрофы для иудеев.
4. Эсхатологическая картина, изложенная в Книге пророка Михея [60] (VIII в.
до н.э.), сообщает о том, что к горе дома бога потекут народы, он осудит их и
научит путям своим, прекратятся войны (Михей 4:1-4), из Вифлеема
произойдет будущий владыка Израиля (Михей 5:2), будут истреблены
неприятели иудеев, города, гадатели, истуканы, кумиры и непослушные народы 45
(Михей 5:9-15). В качестве наказаний за грехи человек будет сеять, но не будет
жать, будет есть, но не будет сыт (Михей 6:14-15), разладятся семейные
отношения – сын будет позорить отца, а дочь восставать против матери (Михей
7:6). После этих тяжб бог опять умилосердится и изгладит беззакония (Михей
7:19). Если в Книге пророка Исаии речь идет об особом статусе иудеев в глазах
других народов, то Книга пророка Михея иллюстрирует другой тип реакции,
связанный с пониманием последних дней как события, которое дарует иудеям
спасение и очищение, а их врагам гибель. Условия регулярных войн позволяют
связать такое смещение акцентов с непризнанием другими народами особого
статуса иудеев и их божества.
5. Книга пророка Софонии [61] (VII в. до н.э.) провозглашает близость дня
бога, в который он все истребит с лица земли, в тот день будут вопли и
рыдания, исчезнут торговцы (Софония 1:2,7,10-11). Софония описывает день
гнева бога как «день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день
тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против
укрепленных городов и высоких башен» (Софония 1:15-16). Укрыться в этот
день могут только смиренные, исполняющие законы и взыскующие бога
(Софония 2:3). Книга провозглашает, что будут истреблены все боги земли, а
все народы станут поклоняться одному богу (Софония 2:11). После
истребления бог даст народам уста чистые, чтобы все призывали его имя и
служили, останется народ смиренный и простой, который будет уповать на бога
(Софония 3:9,12). Остатки Израиля станут благочестивыми и праведными, бог
отменит приговор сынам Израиля и прогонит врага, что есть повод для веселья,
радости, торжества и ликования (Софония 3:13-17).
6. Эсхатологическая картина Книга пророка Иеремии [56] (VII-VI века до н.э.)
следующая: бог призовет свой меч на всех живущих на земле, истребит
нечестивых, бедствие пойдет от конца земли до конца земли, мертвые не будут
оплаканы, убраны и похоронены (Иеремия 25:29-33). Израиль будет спасен,
будучи в меру наказанным; установятся особые отношения бога и иудеев –
между ними будет заключен новый завет, который вложит закон во 46
внутренность и будет написан на сердцах (Иеремия 30:10-11,22; 31:31-33).
Такие представления демонстрируют все больший переход от внешнего
благочестия к необходимости внутренних взаимоотношений с божеством.
7. Эсхатологическая картина, представленная в Книге пророка Иезекииля [55]
(VII-VI века до н.э.), следующая: иудеи умножили свои беззакония и бог
производит над ними суд за все мерзости, основными из которых являются
идолопоклонство и блуд. Иезекииль сообщает ужасающие подробности этого
наказания: отцы поедают сыновей, а сыновья отцов; на людей нисходит язва,
голод, меч и лютые звери; земли превращаются в пустыню; иудеи становятся
народом на посмеяние и поругание, примером и ужасом для соседей;
идолопоклоннические жертвенники опустошаются, разбиваются столбы в честь
солнца, пред которыми лежат мертвые тела сынов израилевых; на людей
возлагаются все их мерзости; уцелевших настигает стон и дрожь, на их лицах
стыд, а на головах плешь; не помогают учения и советы; нападают злые народы
и т.д. (Иезекииль 5:7-17; 6:4-7; 7:8,17-24). Катастрофический сценарий также
распространяется на все соседние народы региона. Например, к фараону Египта
относится такой фрагмент видения: «Я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе
твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою
рек твоих, прилипшею к чешуе твоей; и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу
из рек твоих, ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя;
отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все
обитатели Египта, что Я Господь; потому что они дому Израилеву были
подпорою тростниковою» (Иезекииль 28:4-6). Катастрофа сменяется
видениями, в которых иудеи собраны из других земель и возвращены, их
гнусности и мерзости низвергнуты и бог наделяет их единым сердцем,
вкладывает новый дух, после чего они ходят по заповедям как божий народ
(Иезекииль 11: 17-20; 14:23, 36:23-28); горы Израилевы распускают ветви,
приносят плоды, люди и скот умножены, земли заселены, города застроены
(Иезекииль 36:8-11). Эта картина благополучия дополняется сюжетом
воскрешения полчища мертвых, кости которых оживают, обкладываются 47
жилами, покрываются кожей и в них входит дух (Иезекииль 37:1-14). В итоге
сыны Израиля объединяются в один народ, над ними устанавливается вечная
власть царя Давида и заключается вечный завет (Иезекииль 37:21-28). На этом
эсхатологическое повествование Иезекииля не заканчивается – исправленный
богом народ принимает на себя нашествие демонизируемых полчищ Гога из
земли Магог, на которых ниспадает божественный гнев, от коего трепещут
рыбы и птицы, обрушиваются горы, происходит кровопролитие, льется
всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и сера. Бог дает так знать, что
он «Господь, Святый в Израиле». Жители городов Израилевых повергнут эти
полчища, уничтожат их оружие, и тогда, доселе скрывавший свой лик бог,
откроет его своему народу и изольет свой дух на дом Израилев (Иезекииль
38:1-29). Эсхатологическая концепция Иезекииля не только развивает тему
воскрешения мертвых, но и привносит в иудейскую эсхатологию одну
существенную деталь: если все предыдущие версии эсхатологического мифа
сводились к наказанию за грехи, очищению и спасению иудеев, то Иезекииль
дополняет общую картину сюжетом финальной битвы уже очищенных,
спасенных и праведных иудеев с силами зла в мировом масштабе.
8. Книга пророка Захарии [54] (VI в. до н.э.) рисует следующую картину: в
день гнева многие народы прибегнут к богу, который вновь изберет Иерусалим
(Захария 2:11-12); бог изгладит грех земли в один день (Захария 3:9); будут
истреблены воры и клятвопреступники (Захария 5:3), а также те, кто не внимает
богу (Захария 7:11-12); иудеи истребят окрестные народы (Захария 12:6), будут
уничтожены имена идолов, лжепророков и нечистого духа (Захария 13:2), две
части населения земли погибнет, а третья останется на ней и будет очищена
(Захария 13:8-9). В этот день не станет света, светила удалятся до вечера, а бог
будет царем над всей землей (Захария 14:6-9). Дом Иудин, бывший проклятием
у народов, будет спасен и станет благословением (Захария 8:13); Иерусалим
станет городом истины, гора Саваофа – горой святыни (Захария 8:3). Сыны
Израиля возвратятся (Захария 10:10), люди будут друг друга приглашать под
виноград и под смоковницу (Захария 3:10). Придет царь праведный и 48
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле (Захария 9:9),
который возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от
реки до концов земли (Захария 9:10). Несмотря на то, что еще Михей
пророчествовал о будущем владыке Израиля из Вифлеема, с пророчеством
Захарии о царе на ослице можно говорить о становлении мифа о пришествии
мессии. Вместе с тем, такая концепция латентно существовала долгое время,
поскольку считалось, что в кризисные для народа периоды, ассоциированные с
концом дней, верховное божество посылает избавителей (Моисей, Иисус
Навин, Давид и пр.).
9. Книга пророка Малахии [59] (V в. до н.э.) также не обходит стороной
эсхатологическую проблематику. Малахия попрекает народ в беззаконии и в
том, что он плохо воздает богу славу, что чревато проклятиями, презрением,
унижением и истреблением (Малахия 2:2,9-12). В этой книге сообщается, что
бог посылает своего ангела, чтобы тот приготовил ему путь; ангел должен
придти внезапно, чтобы очистить людей и сделать их блаженными, изобличив
чародеев и прелюбодеев, клятвопреступников и пр. (Малахия 3:1-12). День
гнева видится днем, пылающим как печь; все надменные и поступающие
нечестиво в этот день как солома будут сожжены, тогда как для благоговеющих
перед богом взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и люди выйдут и
взыграют, как тельцы упитанные, и будут попирать прах нечестивых. Перед
наступлением дня бога явится пророк Илия, который обратит сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам их (Малахия 4:1-6). В данном пророчестве акцент
с мессии-царя смещается на ангела, что еще более закрепляет понимание
эсхатологии как кульминации божественного провидения.
10. Проблематика последних дней затрагивается в видениях Книги пророка
Даниила [53] (II в. до н.э.). В ней история смешивается с пророчествами –
откровения о судьбе Иудеи и борющихся за власть языческих царств,
персонифицированных в видении животными, последовательно перетекают в
события последних дней и утверждение божественного царства. Этому
предшествует четвертое царство, отличное от всех царств, которое будет 49
«пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее» (Даниил 7:23). Затем бог
«воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно» (Даниил 2:44). В отличие от других пророков, видения Даниила
сообщают о мессии: «с облаками небесными шел как бы Сын человеческий,
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему»; «ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его –
владычество вечное» (Даниил 7:13-14). Кроме того, в Книге пророка Даниила
описывается воскрешение мертвых, которое должно произойти в конце дней:
«многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие
на вечное поругание и посрамление» (Даниил 12:2).
На основании изложенного можно заключить, что становление
репрезентации иудейского эсхатологического мифа происходит из веры в
божественное наказание за грехи, следствием которой является представление
о необходимости особых заслуг перед божеством, обеспечивающих
благополучие, покровительство и спасение. Эта ситуация разворачивается в
двух направлениях.
1) Поскольку определенные поступки и типы поведения людей попадают
в категорию неугодных богу, катастрофические события происходят и в
прошлом, и в будущем. Наиболее фундаментальным и глобальным из них
явится конец времен – особый день наказания богом грешников.
2) Поскольку возможно заслужить не только наказание, но и милость
бога, иудеи на протяжении истории пытаются это делать посредством ритуалов,
жертвоприношений, религиозного благочестия и пр. Из этой практики
складывается вера в особые отношения бога с иудеями, развиваются
представления об их священническом статусе.
Сочетанием этих двух направлений является вера в особую судьбу иудеев в
конце времен, обусловленную их взаимоотношениями с божеством. Если в
прошлом эсхатология состоялась как наказание, то в будущем она уже
воспринимается как реализация мессианского предназначения, т.е. особой роли 50
общности. Именно в этом смысл выполнения религиозных правил – они
обеспечивают позитивную эсхатологическую картину будущего, ради которой
можно идти на серьезные жертвы.
Собирательный образ конца времен иудейского эсхатологического мифа
отображает следующую картину. Бог судит, наказывает и истребляет
грешников. Если все остальные народы практически полностью истребляются,
то за иудеями сохраняется преимущество, поскольку конец времен вершит их
бог. Более того, бог иудеев показывает остальным народам, что он является
истинным и единственным богом, тогда как другие культы ложные. Поскольку
бог покровительствует иудеям особым образом, среди них спасаются не только
праведники, но даже некоторая часть грешников. Они очищаются от грехов,
искупают их через принятие от бога умеренного наказания, бог изглаживает их
беззакония. Накануне конца времен спасение можно также обрести
посредством поста, плача, рыдания, призыва бога или обретения его в сердце.
Для того чтобы провести через конец времен к идеальному миру, придет ангел
завета или мессия-царь, который подчинит землю своей власти и установит
вечное царство. Кроме того, в конце времен воскреснут мертвые, которые
пробудятся для вечной жизни или вечного наказания. Очистившийся от греха,
обретший новое сердце и дух, иудейский народ на стороне добра даст
решающий бой мировым силам зла, которые будут повержены. Войны
закончатся, животные перестанут быть агрессивными, люди начнут жить
полной жизнью. Изгнанные в другие земли иудеи вернутся, будет восстановлен
во славе своей Иерусалим. К горе бога потянутся другие народы и станут ему
поклоняться.
Эта репрезентация иллюстрирует то, что иудейский эсхатологический миф
трансформировал исторический опыт катастроф, а также чувство греха и вины,
в фундаментальную амбицию универсального порядка, которая тысячелетиями
задает экзистенциально-религиозную и политико-социальную направленность
древнего народа.
51
Разумеется, система эсхатологических представлений иудейской традиции
всецело не исчерпывается рассмотренными источниками, поскольку есть еще
апокрифическая литература Кумрана, кодифицированое раввинистическое
законодательство (Галаха), библейские комментарии (Агада). Особо стоит
упомянуть тексты раввинистических традиций, такие как «Мишна» рабби
Иегуда (II-III в. н. э), «Гемара» (IV в. н.э.), образовавшие Талмуд, а также
каббалистическую книгу «Зогар» (XIII в. н.э). Вместе с тем, позднейшие
эсхатологические представления конструировались на основе рассмотренных
нами текстов, поэтому принципиально они общей картины не меняют.
3.2. Построение репрезентации христианского эсхатологического мифа
Подобно иудейской, христианская эсхатология провозглашает конец этого
мира и пришествие мессии. Вместе с тем, у этих эсхатологий есть довольно
существенные расхождения. Во-первых, в христианской эсхатологии
значительно большее внимание уделяется индивидуальному спасению. Во-
вторых, если в иудейском мифе спасение распространяется преимущественно
на иудеев, то в христианской версии спасаются все праведники. В-третьих,
христианская традиция адаптирует и модифицирует идеи пророка Даниила о
мессии, который в конце дней должен установить вечное владычество над
миром. В новом контексте эти идеи превращаются в концепцию наступления
тысячелетнего земного царства справедливости, его начало связано с первым
пришествием мессии, который дает доктрину спасения, тогда как фатальный
конец дней и всеобщий суд наступает со вторым пришествием.
Такая картина меняет эсхатологическую систему оценок. Если в
иудейском контексте завершение истории связано с приближением бедствий и
катастроф, после которых начнется торжество спасшихся иудеев, то в
христианском контексте приближение небесного царства – это долгожданное и
52
желанное время возвращения мессии, установления царства справедливости,
которое закончится спасением праведников, которым нечего бояться.
Если иудейский эсхатологический миф, представленный в Ветхом Завете,
имеет определенную хронологию, идущую со времен Книги Бытия, то
новозаветный эсхатологический миф возник в I в. н.э. Хоть он и заимствовал
многое из иудейской древности, его можно считать вполне самостоятельным
явлением. В первую очередь это связано с тем, что христианский
эсхатологический миф вышел далеко за рамки этносов и локальных групп – он
оказался глубоко воспринят западной цивилизацией и оставил существенный
отпечаток на развитии ее религиозных и философских традиций.
Репрезентация христианского эсхатологического мифа складывается из
целого ряда повествований.
1. Ожидание приближения небесного царства. Приближение этого царства
провозглашает Иоанн Креститель и Иисус (Матфей 3:2; 4:17) [39]. Призыв к
наступлению царства бога содержится в молитве, которой учит Иисус (Матфей
6:9). Поиск царства бога объявляется первостепенной задачей (Матфей 6:33).
Более того, для наступления царства небесного желательны действия, ибо оно
«силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матфей 11:12).
Понимание небесного царства свидетельствует о том, что его пришествие
возможно в индивидуальном и универсальном контексте. Оно может быть: 1)
местом, которое обретает отдельная праведная душа после смерти; 2)
наступлением царства справедливости, которое кульминирует в эпохальном
конце истории.
Важно обозначить, что в христианском контексте царство бога имеет
заданную небесную локализацию: «плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не наследует нетления» (Первое послание к
коринфянам 15:50-51) [92]. Евангельский образ небесного царства
иносказателен, оно подобно сокровищу скрытому, найдя которое человек
бесконечно возрадуется и все остальное померкнет (Матфей 13:44-46). В
53
небесное царство имеют доступ праведники, а быть больше в нем могут те из
них, кто обратится и станут как дети (Матфей 18:1-4).
2. Два пришествия мессии. Первое пришествие мессии уже свершилось, оно
является своего-рода предупреждением. Иисус объявляет, что он пришел
исполнить закон и пророчества (Матфей 5:17), призвать не праведников, но
грешников к покаянию (Матфей 9:13), взыскать и спасти погибших (Матфей
18:11), послужить и отдать душу свою для искупления многих (Матфей 20:28).
Символически последнее описывается как «Агнец Божий, который берет на
себя грех мира» (Иоанн 1:29) [37].
Мессию в Иисусе узнает Иоанн Креститель, получивший видение-глас с
небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое
благоволение» (Матфей 3:17). Затем Иисус неоднократно испытывается и
творит чудеса, что воспринимается как подтверждение его сакральной
легитимности в качестве мессии. Иисуса искушает дьявол; он исцеляет всякую
болезнь и всякую немощь в людях; изгоняет бесов, берет на себя немощи и
несет на себе болезни людские; слепые прозревают и хромые ходят,
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют (Матфей 4:1; 4:23; 8:16-17; 11:5).
Описывается, что Иисус имеет власть на земле прощать грехи (Матфей 9:6);
он «тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим,
который приготовит путь Твой пред Тобою» (Матфей 11:10). Он, придя,
обличит мир о грехе и о правде, и о суде (Иоанн 16:8). Если в свое первое
пришествие Иисус предан на распятие, он умирает и воскресает из мертвых, то
во второе свое пришествие он должен придти судить, в результате чего
спасутся праведники, а грешники будут сожжены огнем неугасимым (Матфей
3:12; 17:9).
Картина второго пришествия следующая. Мессия, вознесшийся на небо,
вернется таким же образом с неба (Деяние св. Апостолов 1:11) [34]. Он явится
во славе своей со всеми святыми ангелами, воссядет на престоле и пред ним
соберутся все народы. Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 54
от козлов, поставит овец по правую свою сторону, а козлов – по левую; те, кто
по левую сторону, прокляты и будут изгнаны в огонь вечный, уготованный
дьяволу и ангелам его; и пойдут они в муку вечную, а праведники – в жизнь
вечную (Матфей 25:31-46).
3. Спасение. Эсхатологическая доктрина спасения повествует о том, что
спасение уготовано праведникам: нищим, плачущим, кротким, алчущим и
жаждущим правды, милостивым, чистым сердцем, миротворцам, изгнанным за
правду, исполняющим волю бога, претерпевшим до конца (Матфей 5:1-10; 7:21;
10:22).
Для того чтобы быть праведником, нужно следовать определенной
программе: терпеть поношения, гонения и злословие; радоваться и веселиться
награде на небесах; принимать сторону мессии; каяться, исповедоваться в
грехах и креститься; быть светом для людей, славить бога и делать добрые дела
(Матфей 3:1; 5:11-48; 12:30).
Совокупность дел и правил, которые обеспечивают спасение, следующая:
не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, не прелюбодействовать ни
телом, ни глазом, не оскорблять брата, примиряться, не клясться, не собирать
сокровищ земных, беречь святыни, почитать отца и мать, давать просящим,
творить милостыню, прощать долги и согрешения, беречься лжепророков, не
служить мамонне, поститься, не гневаться напрасно, не лицемерить,
удерживаться от искушений, не противиться злому, любить как ближних, так и
врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих и гонителей, не
судить, узнавать деяния по плодам, не унывать, искать, любить и просить бога,
бояться бога, не бояться людей и смерти тела, молиться, спасаться верой (ибо
воздается по вере), быть сынами бога и совершенными как бог (Матфей 5:16-
48; 6:1-6; 6:14-24; 7:1-20; 9:29; 10:28; 15:4; 19:17-21; 22:37-39).
Особое сокровище на небесах заслужит тот, кто продаст свое имение,
раздаст его нищим и последует за Иисусом (Матфей 19:24). Своим ученикам
Иисус обещает, что «когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей,
сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» 55
(Матфей 19:28). Нарушители христианских правил станут малейшими в
небесном царстве, тогда как исполняющие и поучающие этим правилам станут
в нем великими (Матфей 5:19). Сеятели доброго и праведного будут спасены и
воссияют как солнце в небесном царстве бога, а грешники будут наказаны
(Матфей 13:24-43).
Смерть Иисуса явилась основой для понимания его как символа
искупления, исцеления и спасения: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились» (Посл. Иакова 2:24) [100]; «Христос за всех умер, чтобы живущие
уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (Второе
послание к коринфянам 5:15) [19].
4. Индивидуальная эсхатология.
Она состоит из картин индивидуального наказания и из сценариев продолжения
существования после смерти.
За грехи обещается смерть или муки в этом или ином мире. Злословящий отца
или мать смертью умрет; геенна огненная будет за оскорбление брата и за
соблазн (Матфей 5:22; 5:29-30; 15:4). Индивидуальная смерть представляется
менее страшной, нежели геенна: не стоит бояться тех, кто убивает тело, и потом
не может ничего более сделать – надо бояться того, кто, по убиении, может
ввергнуть в геенну (Лука 12:4-5) [38]. Кроме того, исход суда определяется
значением, ролью и статусом человека: от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут (Лука 12:48).
Любопытна также концепция, согласно которой тот, кто не родится свыше (от
воды и духа), не может увидеть царства бога (Иоанн 3:3-7).
Сценарии продолжения существования после смерти расходятся:
- грешники мучаются в геенне огненной, которая страшнее земных увечий
(Матфей 18:8-9);
- духи нечестивцев после смерти остаются неупокоенными на земле (Матфей
12:43);
56
- воскрешенные Иисусом мертвые оживают на земле, но это исключительное
явление;
- умершие воскресают из мертвых на небе, где пребывают, как ангелы бога
(Матфей 22:30);
- есть те, которые не вкусят смерти, как только увидят грядущего мессию
(Матфей 16:28);
- избранные души возвращаются в мир и перерождаются. В частности,
народная вера принимает Иисуса за Иоанна Крестителя, Илию, Иеремию, или
за одного из пророков (Матфей 16:13-14); Иисус считает Иоанна Крестителя
пророком Илией (Матфей 11:12-14) и пр.
Несмотря на то, что образы индивидуальной эсхатологии встречаются в
новозаветном повествовании, архаическая невыделенность индивида из среды
ведет к тому, что полнота индивидуального эсхатологического сценария
раскрывается через представления о конце дней.
5. Конец дней и Страшный суд.
Образ кончины века описывается как приход ангелов, которые призваны
судить людей, они отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь
огненную, в которой будет плач и скрежет зубов (Матфей 13:24-50). Мессия с
ангелами воздаст каждому по делам его (Матфей 16:27). Городам, которые не
покаялись пред мессией, будет горе в день суда и низвержение до ада (Матфей
11:20-26). В преддверие конца: восстанет народ на народ; случится голод, мор и
землетрясения; сторонников Христа будут предавать и убивать; они будут
ненавидимы всеми народами; соблазнятся многие и возненавидят друг друга;
лжепророки восстанут и прельстят людей; по причине умножения беззакония
во многих охладеет любовь; претерпевший все это до конца спасется;
проповедано будет евангелие по всей вселенной и во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец (Матфей 24: 6-14).
Кроме того, в преддверии конца наступит деградация людей: появятся
бездуховные ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям (Послание
Иуды 18-19) [101]; люди станут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 57
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны и
непримирительны; они проявятся как клеветники, предатели, наглецы,
сластолюбцы, будут невоздержны, жестоки, напыщены и т.д. (Второе послание
к Тимофею 3:2-5) [20]. Кроме того, в конце времен придет Антихрист или даже
много антихристов (Первое послание Иоанна 2:18) [91].
Из иудейского эсхатологического мифа заимствуется идея воскресения
мертвых, что представлено следующими образами: 1) там будет плач и скрежет
зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в царстве бога
(Лука 13:28); 2) придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в царстве
бога (Лука 13:29); 3) в последние дни все, находящиеся в гробах, услышат глас
мессии, выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в
воскресение осуждения (Иоанн 5:28-29); 4) после трубного гласа мертвые во
Христе воскреснут первыми (Первое послание к фессалоникийцам 4:16) [93].
Кроме того, картина суда над миром у Иоанна описывает, что дьявол,
«князь мира сего», будет изгнан вон, а мессия будет вознесен от земли и всех
привлечет к себе (Иоанн 12: 31-33).
О дне том и часе никто не знает, кроме одного бога; как было во дни Ноя,
когда никто и не думал, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и
пришествие мессии; следует бодрствовать и быть готовым, потому что
неизвестен час конца; при этом конце люди увидят мерзость запустения на
святом месте; горе будет беременным и питающим сосцами в те дни; будет
великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет; восстанут
лжехристы и лжепророки – они дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить избранных; как молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие мессии; после скорби последних дней солнце
померкнет, луна не даст света своего, а звезды спадут с неба; после знамения
мессии на небе восплачутся все племена земные и увидят его, грядущего на
облаках небесных в силе и славе; и пошлет он ангелов своих с трубой, которые
соберут избранных его от четырех ветров и от края до края небес; небо и земля
погибнут (Матфей 24:15-44). 58
Петр, опираясь на такую картину последних дней, усматривает
эсхатологическую диалектику стихий: вначале небеса и земля составлены из
воды, а потому тогдашний мир погиб от потопа, тогда как нынешние небеса и
земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых, после чего падут
небеса, а стихии разрушатся (Второе послание Петра 3:5-10) [22].
Пожалуй, самая монументальная картина последних дней в рамках
христианской традиции представлена в Откровении или Апокалипсисе Иоанна
Богослова [90]. Она носит визионерский характер и по уровню сложности и
глубины сопоставима с образами из книг пророков Иезекииля и Даниила.
В Откровении описывается видение, раскрывающее картину конца
времен. На небе стоит престол с Сидящим, вокруг него – трепещущие
херувимы и старцы. От престола исходят молнии, громы и гласы, а перед ним –
море стеклянное. В деснице у Сидящего на престоле книга, запечатанная семью
печатями. Снять печати и раскрыть книгу может только Агнец как бы
закланный с семью рогами и очами. Агнец берет книгу и последовательно
снимает печати.
Первая печать – выходит конь белый и всадник на нем, которому дан был
венец победоносный; вторая – выходит конь рыжий и сидящему на нем дано
взять мир с земли, и дан ему меч, чтобы люди убивали друг друга; третья –
является конь вороной и всадник с мерой в руке; четвертая – приходит конь
бледный, на нем всадник по имени «Смерть», который истребит четверть
земли, за ним следует ад; пятая – показываются под жертвенником души
убиенных за бога, им даются одежды белые; шестая печать – происходит
землетрясение, солнце становится мрачным, луна – как кровь, звезды падают на
землю, двигаются горы, цари земные прячутся в пещеры. В мир приходят
ангелы, чтобы поставить печати на челах рабов бога. После этого множество
людей стоит пред престолом и пред Агнцем, восклицая спасительную хвалу.
После того, как Агнец снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе,
затем показались ангелы с трубами, произошли громы, молнии и
землетрясение. 59
Первый ангел вострубил – сделались град и огонь, смешанные с кровью,
которые пали на землю; второй – гора огня низверглась в море, погибли суда и
морские обитатели; третий – упала с неба звезда «полынь» на реки, многие из
людей умерли от вод, потому что они стали горькими; четвертый – оказалась
поражена часть солнца, луны и звезд; пятый – звезда пала на землю и отворила
кладезь бездны, откуда вышла саранча под властью ангела бездны Аваддона,
которой дано мучить тех, кто не имеет печати бога; шестой – освободились
ангелы-истребители и умерла часть людей, которые не раскаялись.
Далее видение переходит к ангелу с раскрытой книгой, но эти события
относятся к тайне бога, поэтому содержание сокрыто. Ангел приказывает
съесть провидцу книгу и пророчествовать. Для этого появляются два свидетеля,
которые пророчат на протяжении многих дней, после чего зверь, вышедший из
бездны, убивает их. Свидетели оживают и восходят на небо, а после этого
происходит великое землетрясение и многие гибнут.
Трубит седьмой ангел – царство мира становится царством бога и Христа,
отверзается храм бога на небе и является ковчег завета его, на земле происходят
молнии и громы, землетрясение и град. В небе являются знамения: 1) жена,
облеченная в солнце, с младенцем во чреве, кричащая от болей и мук
рождения; 2) красный дракон с семью головами и десятью рогами, желающий
пожрать ее младенца.
Рождается младенец – пастырь всех народов, который поднимается к
престолу бога. На небе происходит война: Михаил и ангелы насмерть воюют
против сатаны-дракона, который низвергается на землю. Один зверь, который
представляет дракона, выходит из моря. Пред этим зверем и драконом
преклоняется вся земля, на которой возносится хула и побеждаются святые.
Другой зверь выходит из земли, заставляет людей поклоняться и метит их.
Чудесами он обольщает живущих и делает так, чтобы убиваем был всякий, кто
не будет поклоняться образу зверя.
И вот Агнец стоит на горе Сионе с полчищем искупленных от земли
девственников. Низвергается блудливый Вавилон. Отныне блаженны мертвые, 60
умирающие в боге. Появляется облако, на котором сидит мессия с серпом.
Наступило время жатвы, потекла кровь и зверь побежден. Все прославляют
бога, народы приходят поклониться ему. Отверзается храм скинии
свидетельства на небе, а раненные ангелы входят в него с золотыми чашами,
наполненными гневом бога.
Эти чаши выливаются и происходят события: 1) сделались гнойные раны
на людях, имеющих метку зверя; 2) все одушевленное умерло в море; 3)
возникла кровь; 4) солнце жжет людей огнем; 5) царство зверя стало мрачным и
кусали все языки свои от страдания; 6) высохла вода в реках, явились духи
знамений нечистые, чтобы собрать царей на брань в месте Армагеддон; 7)
свершилось великое землетрясение, пали города, гор не стало.
Один из ангелов показывает суд над великою блудницею, с которой
блудили цари земные. Она предстает как жена, сидящая на звере багряном, с
золотой чашей мерзостей, упоенная кровью святых. Головы зверя – семь царей,
рога – будущие цари, но они возненавидят блудницу и сожгут ее в огне, ибо бог
осудил Вавилон.
После этого наступает брак Агнца. Отверзается небо, и конь белый со
всадником по имени «Слово бога» топчет точило вина божественной ярости и
гнева. Ангел призывает птиц на великую вечерю бога, чтобы пожрать трупы.
Зверь и лжепророк схвачены и живьем брошены в озеро огненное, горящее
серой, прочие убиты мечом. Ангел, сошедший с неба, берет сатану-дракона и
заковывает его, низвергает в бездну и запечатывает на тысячу лет, после
которых ему суждено ненадолго освободиться.
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откровение
20:4). Эти строки предельно важны, поскольку на них зиждется
эсхатологическая доктрина милленаризма или наступления тысячелетнего
царства бога во всех ее вариациях. 61
В отличие от умерших праведников, умершие грешники не оживают, пока не
закончится тысяча лет. Первое воскресение праведников дает им статус
священников, которые будут тысячелетие царствовать с богом. После его
завершения Сатана будет освобожден и соберет земные полчища Гога и Магога
на брань, однако бог их пожрет огнем с неба, а Сатана окажется ввергнут в
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут они мучиться день и
ночь во веки веков.
Далее идет видение: престола бога, от лица которого бежало небо и земля;
мертвых пред богом во время суда; книги жизни. В час суда море, смерть и ад
отдают мертвых. Смерть и ад, а также те, кто не был записан в книге жизни,
повергаются в озеро огненное.
После сего явились новые небо и земля, где моря уже нет, и явился святой
город Иерусалим, сходящий от бога с неба и приготовленный как невеста
Агнцу. Этот город – скиния бога с праведниками, в котором нет ни горести, ни
смерти, ни вопля, ни болезни. В новом Иерусалиме храма нет, ибо бог-
вседержитель с Агнцем – храм его, также нет нужды в солнце и в луне для
освещения, ибо слава бога освещает его, а ночи там нет. Река жизни в граде сем
течет из престола бога, и нет там ничего проклятого. Люди сего града узрят лик
бога, а имя его будет на их челах, и так будет всегда. Грешникам остается лишь
участь в озере, горящем огнем и серой.
Изложенное показывает, что христианский эсхатологический миф развился
как сложная модификация иудейской эсхатологии. Он перенял многие идеи –
от воскрешения мертвых до универсальной битвы. Структурными
составляющими его репрезентации являются доктрины: приближения
небесного царства, двух пришествий мессии, спасения и конца дней. Каждую
из этих составляющих можно дифференцировать, что требует отдельного
исследования.
Ключевой идеей христианской эсхатологии является ожидание. Это
желанное и терпеливое ожидание позволят выносить земные ужасы и
страдания, потому что мессия «победил мир» (Иоанн 16:33), он заменил земные 62
богатства небесными, а душу сделал важнее тела. Такая вера закодировала
инверсию, позволяющую даже из мучений выносить радость. Из этого типа
реакции позднее сложился христианский культ мученичества, аскезы и
бедности, самопожертвования и т.д.
3.3. Специфика эсхатологической картины в исламской традиции
Священные книги иудейской и христианской традиции написаны
множеством авторов, а потому расхождения в интерпретациях конца дней
внутри самих этих традиций могут быть достаточно существенными.
Исламская традиция конструируется на одном тексте, созданном одним
человеком, выступающим безусловным авторитетом и имеющим статус
пророка. Сам факт того, что эсхатологическое повествование формулировалось
одним человеком, придает ему некоторую синтетичность, цельность и
простоту.
Коран [63, 64] датируется VII в. н. э., дополнением к нему также служат
хадисы – рассказы учеников пророка, которые сразу существовали как устная
традиция, но в VIII-IX веках были зафиксированы в письменной форме.
Сакральный статус хадисов не идет ни в какое сравнение со статусом Корана.
Более того, далеко не все хадисы принимаются одновременно суннитским и
шиитским течениями ислама, поэтому мы будем строить эсхатологическую
картину преимущественно на базе Корана.
Поскольку в период жизни Мухаммеда ветхозаветные и новозаветные
повествования бытовали на Аравийском полуострове, многие из них оказались
отображены в Коране. Вместе с тем, эсхатология Корана обладает своей
спецификой и уникальностью, что требует небольшого погружения в контекст
этой молодой авраамической религии.
Возникновение Корана исторически тесно переплетается с существованием в
регионе проживания Мухаммеда множества слабых и враждебных друг другу 63
племен со своими этническими традициями. Это закономерно вызвало к жизни
исламский проект, призванный объединить разрозненные общности в единую
силу под покровительством единого бога. Этот мотив сильно сказался на
содержании откровения Мухаммеда, которое с целью вытеснения этнических
традиций объявило заблуждением веру предков. Кроме того, пророчество
содержит призывы к объединению людей в «своих», тогда как «чужие»
находятся в статусе неверных, им сулятся проклятия и наказания (Коран 2:98;
3:144 и пр.). Границы «своего» и «чужого» в Коране практически
непреодолимы.
Основа исламской картины мира – отношения индивида со всемогущим
Аллахом, во власти которого находятся небеса и земля (Коран 42:48). Бог видит
дела человека (Коран 2:233), знает внутренность сердец (Коран 39:10), строг в
наказании (Коран 2:160; 2:192) и мстителен (Коран 3:3).
Традиционный смысл жизни обусловлен одним фундаментальным
религиозным правилом – он заключается в том, чтобы человек следовал
«прямым путем» к божеству. Это предполагает покорность богу и почитание
его. Необходимость бояться бога (Коран 2:38; 16:128) служит залогом
получения религиозного опыта и рассматривается как благочестие. Именно
поклонение и боязнь бога дают возможность счастливой жизни (Коран 2:185;
3:125) и понимаются как благо (Коран 29:15).
Через призму прямого пути к божеству разворачивается эсхатологическая
картина исламской традиции. Этот путь предполагает упование на бога,
которое характерно для верующих (Коран 2:26), а потому от человека для
движения прямым путем требуется безупречное и регулярное религиозное
благочестие, иначе различные искушения способны нарушить эту траекторию.
Подобно другим авраамическим религиям, для праведного образа жизни в
исламе следует совершать молитвы, пожертвования на религиозный путь и
благодеяния (Коран 2:104; 2:277; 2:191; 2:263; 2:275; 7:33); молиться следует
благоговейно и смиренно (Коран 7:53) – со страхом и надеждой (Коран 7:54).
Обусловленная благочестием расположенность божества к человеку дает 64
ощущение стабильности и уверенности, которые имеют тесную взаимосвязь с
эсхатологической идеей спасения.
Вопрос индивидуальной конечности упирается в религиозно-
эсхатологическую концепцию предопределенности срока жизни (Коран 6:2).
Существуют представления о том, что бог оберегает добродетельных и губит
тех злочестивых и развратных, кто достоин наказания (Коран 11:118-119; 28:59;
29:33). Таким образом, если индивид благочестив, то ему ничего не угрожает, а
жизнь его предопределена свыше. Уверенность в жизни обусловлена также
верой в то, что бог посылает людям хранителей, которые пребывают с ними до
смерти (Коран 6:61).
Вера в предопределение жизни позволяет достаточно просто подходить к
проблематике существования благочестивых после смерти:
1) умершие праведники попадают в рай – место, в котором нет страха и
печали (Коран 7:47);
2) убитые на религиозном пути праведники не мертвы, а живы в боге (Коран
2: 149-151);
3) к божеству рано или поздно «возвратятся все твари» (Коран 2:206).
Кроме того, исламское видение земной жизни описывается как «обманчивое
наслаждение» (Коран 3:182), обольщение и суета (Коран 29:64), что еще более
устраняет акцентирование на особой значимости прекращения земного
существования.
Специфика исламской эсхатологической ситуации заключается в том, что
Аллах милостив скорее своей суровостью и наказанием, нежели прощением, а
потому катастрофический эсхатологический сценарий в индивидуальной
размерности имеет значение тогда, когда происходит актуальное нарушение
«прямого пути» к божеству. Это в достаточной мере отличает ислам от
иудаизма и христианства, в которых промежуток между совершением греха и
божественным наказанием за него может варьироваться и часто выносится за
рамки физической жизни индивида.
65
Такое обстоятельство радикально усиливает переживание религиозных
ценностей ислама и переносит эсхатологический центр тяжести в иную
плоскость, поскольку подлинная эсхатологическая катастрофа происходит
тогда, когда нарушается прямой путь индивида к божеству. Это катастрофа
религиозного субъекта далеко не всегда совпадает и даже пересекается с
вопросом конца жизни, однако по степени своей катастрофичности она вполне
сопоставима, например, с христианскими адскими муками.
Преодоление катастрофической угрозы конца религиозного субъекта
обеспечивается:
1) очищением от греха, которое возможно, если давать пищу нищим, поститься
(Коран 5:95), каяться и делать доброе (Коран 2:155; 4:20);
2) непоколебимостью веры и отсутствием сомнений: «Истина от Господа
твоего: потому не будь в числе сомневающихся» (Коран 2:142);
3) видением божественных знаков, которые выступают внутренними
ориентирами на прямом пути; знаки могут обнаруживаться в движении
облаков, ветров (Коран 2:159), звездах (Коран 6:97), снах (Коран 12:36-49) и пр.
Традиция сообщает, что знамения приходят только для того, чтобы
устрашить (Коран 17:61), тогда как уклонение от них или их отрицание чревато
наказанием (Коран 6:158), т.е. нарушениями «прямого пути». Помимо
божественных знамений, бог говорит с человеком через откровение или из-за
завесы, или посылает посланника (Коран 42:50-51), что свидетельствует о том,
что исламская традиция, помимо чисто нормативной стороны, содержит
глубоко мистический вариативный и ситуативный код.
Если концепция прямого пути ведет к позитивно оцениваемому
эсхатологическому сценарию, кульминацией которого является достижение
божества и реализация религиозного субъекта, то совершенно иная картина
индивидуальной эсхатологии вырисовывается, если этот прямой путь нарушен.
Тогда как верующие и праведные люди избавлены от страха и идут «прямым
путем», люди неверные, лицемерные, своевольные, законопреступные не идут
66
прямым путем и будут наказаны (Коран 2:5; 2:56; 4:166). Наказание может
распространяться как на судьбу живущих, так и на участь умерших.
В качестве наказаний, которые обрушиваются на живых, выступают:
1) уничижение и бедность (Коран 2:58);
2) землетрясение, наводнение, буря и поражение молнией (Коран 7:89; 7:130;
29:39);
3) неурожай хлеба и скудость плодов (Коран 7:127);
4) пролитие крови (Коран 7:130).
Исламская концепция наказания мертвых основана на вере в божественное
воздаяние за грехи, ибо грешникам уготована вечная жизнь в огне (Коран 2:75).
Мы выяснили, что самое катастрофическое событие в индивидуальной
размерности исламской эсхатологии связано с нарушением прямого пути к
богу. Критичность этой точки иллюстрируется наличием соответствующих
представлений. Так, искушения в исламской традиции считаются «губительнее
войны» (Коран 2:214). Функция искусителя атрибутируется Ивлису –
непокорному ангелу, который когда-то не поклонился Адаму (Коран 7:10),
поскольку счел себя лучше его (Коран 7:11). За эту амбицию Аллах низверг и
проклял Ивлиса до дня последнего всеобщего суда (Коран 15:35). Кроме того,
сложилось представление о том, что Ивлиса можно прогонять камнями (Коран
15:34; 38:78).
После низвержения Ивлис стал препятствовать людям на «прямом пути»
(Коран 7:15). Он вводит людей в заблуждение, возбуждает в них страсти,
внушает им изменять творение Аллаха (Коран 4:118), поднимает вражду и
ненависть, отклоняет от воспоминания о боге и от молитвы (Коран 5:97),
обольщает (Коран 31:32). Несмотря на то, что Ивлис выполняет функцию
искусителя, все злое, что бывает с человеком, согласно Корану, происходит от
самого человека (Коран 4:81).
Именно акцент на неминуемом божественном воздании определяет
содержание как индивидуальной, так и универсальной эсхатологии ислама.
Поскольку пророчество Мухаммед транслировал устно, эсхатологическая 67
картина лишена сложной структуры и многочисленных деталей. Картина
последних дней в Коране предельно четкая: точная дата последних дней
известна только Аллаху (Коран 33:63), в «судный день» земля и горы
поднимутся и растолкутся, небо расторгнется (Коран 69:13-18),
законопреступники от отчаяния онемеют (Коран 30:11), бог воскресит мертвых
даже из камня (Коран 17:49), все народы будут коленопреклонными и всем
воздастся за содеянное (Коран 45:27).
Эсхатологическая картина Корана по степени своей детализации и
проработки оказалась достаточно скудной и значительно уступающей
эсхатологическим картинам иудейской и христианской традиций. Такая
ситуация привела к тому, что проблематика конца дней получила широкое
отражение в хадисах.
Эсхатологические представления, встречающиеся в хадисах, в
достаточной мере исследованы и систематизированы в работах Ахмада Али
[134], Дж. Ричардсона [144], П. Лобье [76, с. 59-63] и пр., поэтому мы отметим
лишь значимые сюжеты, иллюстрирующие исламский эсхатологический миф:
1) явление посланца Махди, который установит справедливость к концу
времен;
2) явление лжемессии Даджала, который посеет царство зла, но будет
побежден Махди;
3) второе пришествие Исы, который содействует победе над Даджалом;
4) нашествие Гога и Магога, которые будут повержены;
5) угроза Каабе;
6) восход Солнца на западе;
7) картина деградации людей и незнание ислама;
8) общее воскресение и Страшный суд;
9) население мусульманами рая, а грешными мусульманами и неверными
(христиане, иудеи, идолопоклонники) огненной геенны и пр.
Хадисы впитали в себя как эсхатологии религиозных доктрин региона,
так и многие темы фольклорного происхождения. Едва ли возможно в 68
религиозном контексте серьезно рассматривать представления, к примеру, об
Иисусе, который второй раз пришел мусульманином и начал изобличать
христиан за то, что они едят свинину и почитают его как бога и т.п.
Подобного рода эсхатологическая ирония наиболее красочно прослеживается
в исламской версии апокалипсиса под названием «Ахыр заман китаби» [82],
которая написана среднеазиатским суфийским шейхом XII в. Бакыргани
Сулейманом. Согласно его книге, в конце времен ученые начнут пить вино и
предаваться любовным утехам, люди – жадно стремиться к запретному, тогда
как незнающие ислама возрадуются сему. И тогда бог откроет врата бедствий.
Последователи Мухаммеда будут рыдать, как и ангелы. Появится проклятый
лжемессия Даджал, который будет убит, когда Иисус сойдет с неба. Когда
Исрафил затрубит в трубный глас конца, архангел смерти Азраил не выдержит
и убьется. Останется лишь вечный и бесконечный бог. И тогда рабы бога
восстанут на земле – все умершие взойдут в свои тела и настанет суд. На суде
конца времен за грешников перед богом будет ходатайствовать Мухаммед.
Сцена суда обнажает эсхатологическую иронию. Все воскресли и хотят,
чтобы Мухаммед их защищал на суде. Сразу появляется в слезах Адам,
который называет Мухаммеда сыном; затем его обнимает Моисей и называет
братом, Авраам воспринимает Мухаммеда как единоверца. Противник
Мухаммеда Абу Джахль просит не жаловаться на него богу. Самоубийца и
ангел смерти Азраил на суде жульнически помогает взвешивать души
мусульман. При необходимости он надавливает на чашу благих дел так, чтобы
грешники спасались. Мухаммед сразу думает наказать грешников, но в итоге
все равно просит бога простить их и избавить от ада. Бог запрещает ад
мусульманам и говорит, что пусть теперь всех судит Мухаммед. В итоге к
воскресшим навстречу выходят черноокие гурии и райские юноши, а райские
миры озаряются и становятся полным светом [82, c. 1-25].
Как видим, проникновение в фольклор модифицирует исламский
эсхатологический миф, представленный в Коране, дополняет его не только
иронией, но и принципиально иными оценками. В результате достаточно 69
пессимистическая эсхатологическая картина Корана оказывается насыщена
разнообразными, пестрыми и не чуждыми юмора представлениями из хадисов,
которые заимствовали практически все известные в авраамических традициях
эсхатологические концепции.
Если же рассматривать ядро традиции, то специфика исламской
эсхатологической ситуации в индивидуальной размерности заключается в том,
что ислам основной акцент делает на идее прямого пути к богу.
Соответственно, это позволяет рассматривать индивидуальную эсхатологию
как: 1) высшую форму религиозной реализации при условии следования по
прямому пути; 2) как катастрофу и религиозную смерть в точке, когда прямой
путь искажается и сменяется непрямым.
В универсальном разрезе исламский эсхатологический миф предстает в
Коране в предельно редуцированном виде. В нем сочетаются элементы,
заимствованные из авраамических религий. В частности, это идеи воскрешения
мертвых, посмертного суда и наказания грешников. Несмотря на то, что
наказания справедливы, конец существования по контексту не воспринимается
с ликованием или большим энтузиазмом – напротив, он имеет достаточно
негативные коннотации, что позволяет понимать исламскую эсхатологию как
эсхатологию воздаяния.
Подводя итоги последнего раздела, обозначим, что авраамическая
религиозная парадигма демонстрирует преемственность эсхатологических
идей, которые по-разному акцентируются в историко-культурном времени.
Большинство эсхатологических концепций, таких как апокалиптизм,
мессианизм, воскрешение мертвых, Страшный суд и пр. было сформулировано
в рамках иудейской традиции задолго до возникновения христианства и
ислама. Последние переняли иудейские эсхатологические представления,
адаптировав их под свой контекст и иначе расставив акценты.
70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы:
1. К общей характеристике эсхатологического мифа в историко-
теоретическом аспекте можно подходить с разных точек зрения, которые по-
своему раскрывают определенные стороны его сущности и специфики:
- эсхатологический миф отображает совокупность начавших появляться
еще в глубокой древности представлений о конечности существования,
которые долгое время не выделялись из общего контекста, выступая
органичной частью тех или иных традиций;
- эсхатологический миф репрезентирует совокупность представлений о
конечности существования, тогда как исторически эта репрезентация
эволюционировала в соответствии с процессом знакомства западной аудитории
с мифолого-религиозными первоисточниками;
- эсхатологический миф начинается со времени его выделения как
понятия, что изначально связано с христианским контекстом, а затем выходит
за его рамки и относится ко всем представлениям мира, сообщающим о
завершении существования.
Все эти точки зрения имеют право на существование и демонстрируют
историческое расширение диапазона того, что вкладывается в понятие
эсхатологического мифа. Вместе с тем, чем шире и абстрактнее данное понятие,
тем менее конкретный смысл в него возможно вложить.
Проблема в том, что эсхатологический миф для традиционного общества
конкретен, а не абстрактен, он скорее реален, чем фантастичен, а потому его
постепенная историко-эволюционная трансформация в форму с обобщенным и
размытым содержанием все более удаляет нас от его, собственно,
традиционного понимания и значения. Чтобы преодолеть эту ситуацию, 71
необходимо видеть за эсхатологическими представлениями то, что вызывает их
к проявлению. А это, прежде всего, стремление человека отреагировать угрозы,
опасности, бедствия, смерть и конечность существования, что сопровождает
его всю историю.
С другой стороны, наше сознание исторически все более усложняется и
абстрагируется от непосредственности, поэтому соответствующие
исторические метаморфозы эсхатологического мифа могут свидетельствовать о
его актуальности на новом уровне развития.
2. Вопрос о структурно-содержательных характеристиках
эсхатологического мифа в современном его понимании достаточно сложен,
поскольку обобщить огромную совокупность эсхатологических представлений
без существенных редукций – нетривиальная задача. Мы показали, что
эсхатологические мифы кодируют в себе множество разных типов
реагирования, которые зависят от специфики интерпретации, контекста и
множества деталей. Адекватная эсхатологическому мифу структура должна
учитывать эти типы и демонстрировать разнообразие вариаций
эсхатологического мифа, а не постулировать некий якобы общий для всех
мифов универсальный сценарий, основанный на чрезмерных обобщениях и
искажениях действительности.
Подобное искажение мы с разных сторон постарались
продемонстрировать, когда проанализировали распространенное среди многих
исследователей разделение эсхатологии на индивидуальную и универсальную.
Конечно, разделять ее по такому принципу можно, но это или весьма
поверхностная, или чрезвычайно глубокая перспектива. Дело в том, что
традиционный человек практически неуловим для таких рамок, поскольку он
способен то всецело отождествляться с коллективной идентичностью, то
распадаться на многосоставную идентичность. Индивидуальное и
универсальное начала в традиционном контексте могут относиться как к
предельно разным модальностям, так и быть схожими, взаимозаменяемыми, 72
симбиотическими и т. д. В этой связи упорядочивать и структурировать
эсхатологию по принципу индивидуально-универсального деления возможно
лишь в предельно ограниченном смысле.
Упорядочить все разнообразие эсхатологических представлений мира
возможно, если понять, что эсхатологический миф производен из
катастрофического опыта. Он возникает в результате травматического
отреагирования картин смерти и угроз гибели, с которыми общество
периодически сталкивается на протяжении всей своей истории. Мы
разработали подход к структурированию содержания эсхатологического мифа,
основанный на логике, производной из процесса травматического
отреагирования, которая сводится к совокупности базовых вопросов, ответы на
которые и задают вариативное содержание мифа. Несмотря на все разнообразие
традиций, эсхатологический миф практически любой из них отвечает на
следующие вопросы:
1. Конец кого или чего?
2. Когда он происходит?
3. Как узнать начало конца, если он будет?
4. Как наступает конец?
5. Почему наступает конец?
6. Что следует за концом существования?
Структурирование эсхатологических представлений по принципу
дополнения в соответствии с подобными вопросами способно показать
универсальную морфологию эсхатологического мифа с учетом различных
вариаций.
Эта совокупность вопросов является системообразующей основой
эсхатологического мифа и может выступать моделью для классификации и
систематизации эсхатологических представлений.
3. Историко-эволюционная специфика эсхатологических репрезентаций в
авраамических традициях сводится к тому, что: 73
- иудейская эсхатология – это эсхатология амбиции. Эта амбиция
кодируется в представлениях: об особых взаимоотношениях иудеев с
божеством и их священническом статусе; о сакральном превосходстве иудеев
над другими народами; об их особой роли в мировой истории, которая должна
завершиться финальной победой иудеев над силами мирового зла и спасением
мира.
- христианская эсхатология – это эсхатология ожидания; она
раскрывается как ожидание мессии, ожидание тысячелетнего земного царства
справедливости, ожидание приближения небесного царства, ожидание спасения
и т.д.
- исламская эсхатология – это эсхатология воздаяния, возмездия и
награды. Она предполагает окончательное отделение праведных от
неправедных, а также возвращение всего мира к божеству.
Историко-эволюционная динамика авраамических традиций
демонстрирует смену эсхатологии амбиции на эсхатологию ожидания и
эсхатологию воздаяния, что свидетельствует о различных типах
катастрофического отреагирования в рамках авраамической парадигмы.
74
Eschatological myth and its representations in the Abrahamic traditions («Summary»)
Руцкий Евгений
Rutski Yauhen
Relevance of the topic
Eschatological myth generates a specific patterns or types of social response to
catastrophic events, so this myth is very actual now. Analysis of the eschatological
myth can provide solutions for critical situations in the present and in the future tense.
Object – the eschatology as a concept and set of mythological-religious beliefs.
The purpose of the study – the definition of the nature and specificity of the
eschatological myth and comparative study of it in the Abrahamic traditions.
Objectives:
1. General description of the eschatological myth;
2. Determination of the structural and the substantive components of the
eschatological myth;
3. Identification of the specific historical and evolutionary eschatological
representations in the Abrahamic traditions.
Methods: comparative analysis, historical-genetic method, logical-structural
method, psychological method, modeling etc.
Results and conclusions
1. Eschatological myth displays a set of ideas about the end of existence, which
haven't been distinguished from the traditional context for a long time. Eschatological
myth as a representation of set of notions about the end of existence evolves
historically as western audience becomes familiar with eschatological concepts of
different cultures. The concept of the eschatological myth now refers to the notion of
the end of the existence of all traditions and all ages.
2. Eschatological myth answers the following questions: 75
1) End of whom or what?
2) When it happens?
3) How can people recognize the beginning of the end if it really starts?
4) How is the end?
5) Why is the end?
6) What follows the end of existence?
These are the questions and a structure that unites most of the eschatological myths.
3. Abrahamic paradigm contains three types of eschatology, which follow each other
historically:
1) Eschatology of ambition (Judaism);
2) Eschatology of expectation (Christianity);
3) Eschatology of retribution (Islam).
The work is unique in its kind, as it synthesizes the approaches of psychology,
history, cultural anthropology and religious studies. Ideas of this work can find
application in the comparative studies of cultural heritage.
76
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ. О Граде Божием. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000.
1296 с.
2. АВЕРИНЦЕВ, С.С. Эсхатология. В: Новая философская энциклопедия
[просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://iph.ras.ru/elib/3575.html>.
3. АКУЛОВА, И. С. Онтологические и гносеологические основания
эсхатологических представлений в процессе философского осмысления
истории: автореферат дис.... канд. философ. наук: 09.00.01. Магнитог. гос. ун-т.
Магнитогорск, 2008. 18 с.
4. АМУСИН, И.Д. Рукописи Мертвого моря. Л.: Издательство Академии Наук
СССР, 1960. 271 с.
5. АМУСИН, И. Д. Тексты Кумрана. М.: Наука, 1971. 495 с.
6. Апокалипсис Павла (апокриф). [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Ap_Pavl.php>.
7. Апокалипсис Петра (эфиопская версия). [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ
через интернет:
<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/ApPetr_Efiop.php>.
8. Апокалипсис Фомы. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://gnosticizm.com/library/apokthom.html>.
9. Апокрифическая Книга Иова. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://vsemolitva.ru/apokrif9.html>.
10. АХМЕТОВА, М. В. Эсхатологические мотивы современной мифологии в
России конца XX-начала XXI вв.: автореферат дис. ... канд. филол. наук:
10.01.09. Рос. гос. гуманитар. ун-т. М. 2004. 28 с.
11. БЕРДЯЕВ, Н. Опыт эсхатологической метафизики. В: Бердяев, Н. Царство
Духа и царство кесаря. М.: Республика, 1995, с. 164-286. 77
12. Библиотека Наг-Хаммади. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi>.
13. Библия: книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: Авангард,
1990.
14. БУЛЬТМАН, Р. История и эсхатология. Присутствие вечности. В:
История философии. Вып. 13. М.: ИФ РАН, 2008. С. 116-140.
15. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ. О суде Божием. В: Творения иже во святых отца
нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Том II.
СПб.: Книгоиздательство П. П. Сойкина, 1911. С. 287-297.
16. ВЕРГИЛИЙ. Книга 6 (435-440). В: Энеида. [Просмотрено 1 июня 2013].
Доступ через интернет:
<http://tapirr.narod.ru/texts/poetry/vergiliy_eneida.html#TOC_id3112197>.
17. Вознесение Исайи. В: Ветхозаветные апокрифы. Пер. Р. Светлова.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Apokrif_Isaja.php>.
18. Вторая книга Еноха. В: Библиотека литературы Древней Руси.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.krotov.info/libr_min/06_e/no/h.htm>.
19. Второе послание к коринфянам. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/54/01>.
20. Второе послание к Тимофею. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/62/01>.
21. Второе послание Климента епископа римского к коринфянам.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Klim2.php>.
22. Второе послание Петра. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/47/01>. 78
23. ГЕГЕЛЬ, Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000. 480 с.
24. ГЕНОН, Р. Кризис современного мира. В: Генон, Р. Кризис современного
мира. Антология мысли. М.: Эксмо, 2008, с. 5-141. ISBN 978-5-699-30172-0.
25. ГЕРМА. Пастырь. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.vehi.net/apokrify/germa/index.html>.
26. ГЕСИОД. Теогония. В: Эллинские поэты. Под. ред. М. А. Гаспарова и др.
М.: Ладомир, 1999. С. 29-49.
27. ГОМЕР. Песнь одиннадцатая. Одиссея. Пер. В. Вересаева. [Просмотрено 1
июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.lib.ru/POEEAST/GOMER/gomer02.txt>.
28. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ. Двоеслов – Беседы на Книгу пророка Иезекиля.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.frateroleg.name/gregory/ezechilem.djvu>.
29. ГРИГОРИЙ НИССКИЙ. О душе и воскресении. [Просмотрено 1 июня
2013]. Доступ через интернет: <http://www.odinblago.ru/nisskiy_t4/7>.
30. ГУРЕВИЧ, А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего
большинства. М.: Искусство, 1990. 396 с.
31. ДЕЛЮМО, Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации
Запада (XIII-XVIII вв.). Екатеринбург: Уральский ун-т, 2003. 752 с.
32. ДЕЛЮМО, Ж. Ужасы на Западе. М.: Голос, 1994. 416 с.
33. ДЕРГАЧЕВА, И.В. Эсхатологические представления в русской литературе
XI-XIX веков: На материале Житий и Синодиков: диссертация ... д-ра филол.
наук: 10.01.01, 10.01.08. М., 2004. 295 с.
34. Деяние святых Апостолов. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/44/01>.
35. Древнеегипетская книга мертвых. Слово устремленного к Свету. Пер. А.
Шапошникова. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=131316>.
79
36. ДУГИН, А.Г. Травматическая каббала Исаака Лурии. [Просмотрено 1
июня 2013]. Доступ через интернет: <http://angel.org.ru/4/luria.html>.
37. Евангелие от Иоанна. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://bibleonline.ru/bible/rus/43/01>.
38. Евангелие от Луки. В: Новый завет. Синодальный перевод. [Просмотрено 1
июня 2013]. Доступ через интернет: <http://bibleonline.ru/bible/rus/42/01>.
39. Евангелие от Матфея. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://bibleonline.ru/bible/rus/40/01>.
40. ЕФРЕМ СИРИН. Главы 33, 36-38: Слово о суде и об умилении; Слово на
второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа; Слово о всеобщем
воскресении, о покаянии и любви, о втором пришествии Господа нашего
Иисуса Христа; Слово на пришествие Господне, на скончание мира и на
пришествие антихристово. В: Творения. Том 2. [Просмотрено 1 июня 2013].
Доступ через интернет: <http://www.odinblago.ru/sirin_tom2>.
41. Житие (Книга) Адама и Евы (апокриф). [Просмотрено 1 июня 2013].
Доступ через интернет:
<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Kn_AdamEva.php>.
42. Завещание Авраама (апокриф). [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Zav_Avraam.php>.
43. Индусская книга смерти. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=1013670>.
44. ИОАНН ДАМАСКИН. Источник знания. Пер. с греч. Д.Е. Афиногенова и
др. М.: Индрик, 2002. 416 с.
45. ИППОЛИТ РИМСКИЙ. Слово о Христе и антихристе. [Просмотрено 1
июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.krotov.info/acts/03/1/hippolit.html>.
46. ЙОНАС, Г. Гностицизм. СПб.: Лань, 1998. 384 с.
80
47. КАЛЛИН. Призыв к согражданам. В: Эллинские поэты. Под. ред. М. А.
Гаспарова и др., М.: Ладомир, 1999. С. 231.
48. КАНТ, И. Конец всего сущего. В: Кант, И. Трактаты и письма. М.: Наука,
1980. С. 279-291.
49. Книга Бытия. В: Ветхий завет. Синодальный перевод. [Просмотрено 1
июня 2013]. Доступ через интернет: <http://bibleonline.ru/bible/rus/01/01>.
50. Книга Иова. В: Ветхий завет. Синодальный перевод. [Просмотрено 1 июня
2013]. Доступ через интернет: < http://bibleonline.ru/bible/rus/18/01>.
51. Книга небесных дворцов. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через
интернет: < http://hebrew-studies.narod.ru/Studia/Enoch/MandM04.pdf>.
52. Книга пророка Амоса. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://bibleonline.ru/bible/rus/30/01>.
53. Книга пророка Даниила. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/27/01>.
54. Книга пророка Захарии. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/38/01>.
55. Книга пророка Иезекииля. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/26/01>.
56. Книга пророка Иеремии. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/24/01>.
57. Книга пророка Исаии. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/23/01>.
81
58. Книга пророка Иоиля. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/29/01>.
59. Книга пророка Малахии. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/39/01>.
60. Книга пророка Михея. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://bibleonline.ru/bible/rus/33/01>.
61. Книга пророка Софонии. В: Ветхий завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/36/01>.
62. КОЖИНА, О. П. Эсхатология в системе глобальных проблем: социально-
философский анализ: автореферат дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Сиб.
аэрокосм. акад. им. акад. М.Ф. Решетнева. Красноярск, 2010. 22 с.
63. Коран. В 2 т. Пер. Г.С. Саблукова. СПб.: Ингрия, 1990. Т.1. 572 с.
64. Коран. В 2 т. Пер. Г.С. Саблукова. СПб.: Ингрия, 1990. Т.2. 573 с.
65. КУЗАНСКИЙ, Н. Сочинения. Малые произведения 1445-1447 годов.
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.krotov.info/libr_min/n/kuz/anez_1_281.htm>.
66. КУЗАНСКИЙ, Н. Сочинения об ученом незнании. [Просмотрено 1 июня
2013]. Доступ через интернет:
<http://www.krotov.info/libr_min/n/kuz/anez_1_049.htm>.
67. КЬЕРКЕГОР, С. Болезнь к смерти. В: Страх и трепет. М.: Республика,
1993. С. 251-350.
68. КЬЕРКЕГОР, С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. С. 13-112.
69. ЛАЭРТСКИЙ ДИОГЕН. Книга десятая. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. [Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Laert/13.php>.
82
70. ЛЕ ГОФФ, Ж. Цивилизация средневекового Запада. Пер. Ю.Л.
Бессмертного. М.: Прогресс, 1992. 376 с.
71. ЛЕ ГОФФ, Ж. Средневековый мир воображаемого. Пер. С.К. Цатуровой.
М.: Прогресс, 2001. 440 с.
72. ЛЕВИ-БРЮЛЬ, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.:
Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
73. ЛЕВИ-СТРОСС, К. Первобытное мышление. Пер. А.Б. Островского. М.:
Республика, 1994. 384 с.
74. ЛЕВИ-СТРОСС, К. Печальные тропики. Пер. В. Елисеевой, М. Щукина.
М.: АСТ; Астрель, 2010. 441 с.
75. Левит. В: Ветхий завет. Синодальный перевод. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет: < http://bibleonline.ru/bible/rus/03/01>.
76. ЛОБЬЕ, П. Эсхатология. Пер. Н. Зубкова. М.: АСТ; Астрель, 2004. 158 с.
77. ЛОСЕВ, А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 558 с.
78. ЛЮТЕР, М. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности
индульгенций. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://krotov.info/library/12_l/ut/er_03.html>.
79. ЛЮТЕР, М. О свободе христианина. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ
через интернет: <http://krotov.info/library/12_l/ut/er_12.html>.
80. МАЛИНОВСКИЙ, Б. Аргонавты западной части Тихого океана. Пер. В. Н.
Поруса. М.: РОССПЭН, 2004. 584 с. ISBN 5-8243-0505-6.
81. МАЛИНОВСКИЙ, Б. Магия. Наука. Религия. Пер. А.П. Хомик. М.: Рефл-
бук, 1998. 288 с. ISBN 5-87983-065-9.
82. МАЛОВ, Е. А. Ахыр заман китаби: Мухаммеданское учение о кончине
мира. Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1897. 101 c.
83. МАРКС, К. Манифест коммунистической партии. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет:
<http://bspu.unibel.by/pages/obschixxi/source/1020.html>.
84. МЕЛЕТИНСКИЙ, Е. Поэтика мифа. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ
через интернет: <http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/02.php>. 83
85. МОР, Т. Утопия. Пер. А. Малеина и Ф.Петровского. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет: <http://lib.ru/INOOLD/MOR/utopia.txt>.
86. МОРГАН, Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого
прогресса от дикости через варварство к цивилизации. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет:
<http://politazbuka.info/knigi/morgan_drevnee_obschestvo.djvu>.
87. НЕЧИПУРЕНКО, В. Н. Эсхатологические мифы и учения как социальный
феномен :Опыт соц.-филос. анализа: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11.
Ростов-на-Дону, 1997. 145 с.
88. ОРИГЕН. О началах. Пер. Н. Петрова. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ
через интернет: <http://www.mystudies.narod.ru/library/o/origen/princip1.htm>.
89. Откровение Варуха (апокриф). [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://www.krotov.info/acts/01/joseph/apok_03.html>.
90. Откровение Иоанна Богослова. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://bibleonline.ru/bible/rus/66/01>.
91. Первое послание Иоанна. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/48/01>.
92. Первое послание к коринфянам. В: Новый завет. Синодальный перевод.
[Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://bibleonline.ru/bible/rus/53/01>.
93. Первое послание к фессалоникийцам. В: Новый завет. Синодальный
перевод. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://bibleonline.ru/bible/rus/59/01>.
94. ПЕТРОВ, Ф. Н. Эсхатология: философско-религиозный анализ:
Исторический аспект автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.13. Урал. гос.
ун-т им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2001. 24 с.
84
95. ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА, ДЖ. О Сущем и Едином (1490-1491).
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000563/index.shtml>.
96. ПЛАТОН. Горий. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://philosophy.ru/library/plato/gor.html>.
97. ПЛАТОН. Тимей. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://philosophy.ru/library/plato/tim.html>.
98. ПЛАТОН. Федр. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через интернет:
<http://philosophy.ru/library/plato/fedr.html>.
99. ПОМПОНАЦЦИ, П. Трактат о бессмертии души. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет:
<http://bspu.unibel.by/pages/obschixxi/source/0946.html>.
100. Послание Иакова. В: Новый завет. Синодальный перевод. [Просмотрено
10 июня 2013]. Доступ через интернет: <http://bibleonline.ru/bible/rus/45/01>.
101. Послание Иуды. В: Новый завет. Синодальный перевод. [Просмотрено 10
июня 2013]. Доступ через интернет: <http://bibleonline.ru/bible/rus/51/01>.
102. ПРОПП, В.Я. Морфология "волшебной" сказки. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет:
<http://www.lib.ru/CULTURE/PROPP/morfologia.txt_with-big-pictures.html>.
103. Псалмы Давида. В: Ветхий завет. Синодальный перевод. [Просмотрено 10
июня 2013]. Доступ через интернет: < http://bibleonline.ru/bible/rus/19/02>.
104. РОТТЕРДАМСКИЙ, Э. Оружие христианского воина. Философские
произведения. М: Наука, 1987, с. 90-217.
105. РУЦКИЙ, Е.А. Проторелигиозные артикуляции страха. В: Аутентичный
фольклор: проблемы сохранения, изучения, восприятия: сборник научных
трудов участников VI междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27-29 апреля, 2012
г. Бел. гос. ун-т культуры и искусств. Мн: БГУКИ, 2012, с. 112-113.
85
106. РУЦКИЙ, Е.А. Мифо-ритуальное представление страха: прецедент и
миф. В: Гуманитарные научные исследования, 2013. [Просмотрено 10 июня
2013]. Доступ через интернет: <http://human.snauka.ru/2013/03/2462>.
107. САРТР, Ж.-П. Трансцендентность эго набросок феноменологического
описания. Пер. А. Кричевского. В: Логос № 2 (37), 2003. С. 86-121.
108. Свитки Иудейской пустыни (Война сынов света против сынов тьмы;
Мессианский сборник или Антология мессианских пророчеств и пр.).
[Просмотрено 1 июня 2013]. Доступ через интернет: <
http://apokrif.fullweb.ru/kumran>.
109. СЕНЕКА, Утешение к Марции. В: Браш М. Классики философии. I. СПб.,
1907. С. 311-330.
110. Старшая Эдда. Пер. А. Корсуна. СПб.: Азбука-Классика, 2008. 464 с.
111. СУЛЬПИЦИЙ СЕВЕР. Письмо святого Севера, пресвитера, к его сестре
Клавдии о Страшном Суде. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ через
интернет: <http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Sever/frametext6.htm>.
112. ТАЙЛОР, Э.Б. Первобытная культура. М: Издательство политической
культуры, 1989. 573 с.
113. ТАНТЛЕВСКИЙ, И.Р. Мелхиседек и Метатрон в иудейской мистико-
апокалиптической традиции. СПб.: Издательство СПБУ, 2007. 328 с. ISBN 5-
288-04365-5.
114. Тибетская книга мертвых. Пер. О. Т. Тумановой. М.: ФАИР-ПРЕСС,
2002. 384 с.
115. ТИРТЕЙ. К согражданам. В: Эллинские поэты. Под. ред. М. А. Гаспарова
и др. М.: Ладомир, 1999, с. 233-236.
116. Упанишады: В 3 т. Москва: Наука; Ладомир, 1991.
117. ФИЧИНО, М. Платоновское богословие о бессмертии душ. В: Чаша
Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая
традиция. М.: Юристъ. С. 176-211.
86
118. ФЛАВИЙ, И. Иудейская война (2:13). [Просмотрено 10 июня 2013].
Доступ через интернет: <http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/02.html>.
119. ФЛАВИЙ, И. Иудейские древности (20:8). [Просмотрено 10 июня 2013].
Доступ через интернет:
<http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/drevnosti/20.html>.
120. ФЛОРЕНСКИЙ, П. А. Страх Божий (из богословского наследия). В:
Богословские труды, 1977, № 17, с. 87-101.
121. ФРЭЗЕР, ДЖ. ДЖ. Золотая ветвь: исследование магии и религии. Пер. М.
К. Рыклина. М.: АСТ, 1998. 784 с.
122. ФРЕЙДЕНБЕРГ, О. М. Что такое эсхатология? В: Лотман Ю. М. Труды
по знаковым системам. Тарту, 1973. № 6. С. 512–514.
123. ХАЙДЕГГЕР, М. Бытие и время. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ
через интернет: <http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-
8l.pdf>.
124. Хождение Богородицы по мукам. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ
через интернет: <http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/hozden.shtml>.
125. ЦИЦЕРОН. О природе богов (2.84-85). [Просмотрено 10 июня 2013].
Доступ через интернет: <http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/natdeor2-f.htm>.
126. ШОЛЕМ, Г. Аврахам Абулафия и учение профетической Каббалы. В:
Основные течения в еврейской мистике. [Просмотрено 10 июня 2013]. Доступ
через интернет: <http://krotov.info/libr_min/25_sh/ol/em_02.htm>.
127. ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы: в 2 т. Новосибирск: Наука, 1993. Т.1. 592
с.
128. ЭЛИАДЕ, М. Аспекты мифа. Пер. В.П. Большакова. М.: Академический
проект, Парадигма, 2005. 205 с.
129. ЭЛИАДЕ, М. Мефистофель и андрогин. Пер. Е. Баевской, О. Давтян.
СПб.: Алетейя, 1998. 374 с.
130. ЭЛИАДЕ, М. Священное и мирское. Пер. Н.К. Гарбовского. М.: МГУ,
1994. 144 с.
87
131. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). Пер. И. М. Дьяконова. СПб.:
Наука, 2006. 221 с.
132. ЯКИМОВА, Е. Г. Проблема эсхатологии в христианской традиции:
религиозно-философский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.14.
Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого. Тула, 2012. 23 с.
133. ADSO DERVENSIS. De Antichristo. [Date of access: 10 June 2013]. Available
from Internet: <http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0900-
1000,_Adso_Dervensis,_De_Antichristo,_LT.doc>.
134. AHMAD, A. Major Signs before the Day of Judgement. [Date of access: 10
June 2013]. Available from Internet: <http://www.inter-
islam.org/faith/Majorsigns.html>.
135. APHRAHAT. Select Demonstrations. Of the Resurrection of the Dead. [Date of
access: 10 June 2013]. Available from Internet:
<http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf213.iii.ix.vi.html>.
136. BAKER, L.C. Biblical eschatology: its relation to the current Presbyterian
standards and the basal principles that must underlie their revision: being a review
of the writings of the Presbyterian divine (1893). [Date of access: 10 June 2013].
Available from Internet:
<http://archive.org/stream/biblicaleschatol00chee/biblicaleschatol00chee_djvu.txt>.
137. BONAVENTURE. Commentary on the Gospel of John. Edited by Robert J.
Karris. NY: The Franciscan Institute, 2007. 1108 p.
138. BRATCHER, D. The Book of Job. [Date of access: 10 June 2013]. Available
from Internet: <http://www.cresourcei.org/books/job.html>.
139. DEWICK, E. C. Primitive Christian Eschatology (1908). [Date of access: 10
June 2013]. Available from Internet:
<http://archive.org/stream/primitivechristi028163mbp/primitivechristi028163mbp_dj
vu.txt>.
140. JASPERS, K. Reason and Existenz. Translated by W. Earle. [Date of access: 10
June 2013]. Available from Internet: <http://ru.scribd.com/doc/9267089/Karl-
Jaspers-Reason-and-Existenz>. 88
141. JOACHIM OF FIORE. Enchiridion super Apocalypsim. Toronto: Pontifical
Institute of Mediaeval Studies, 1986, pp. 9-90.
142. HILDEGARD OF BINGEN. Scivias. Translated by Mother Columba Hart and
Jane Bishop. New York: Paulist Press, 1990. 545 p.
143. LACTANTIUS. On the anger of God. [Date of access: 10 June 2013].
Available from Internet: <http://www.intratext.com/IXT/ENG0294>.
144. RICHARDSON, J. Antichrist: Islam's Awaited Messiah. [Date of access: 10
June 2013]. Available from Internet: <http://revelation2-
7.com/prophecy/antichrist/antichrist-islams-awaited-messiah>.
145. RIEDL, M. Eschatology. In: New Dictionary of the History of Ideas. [Date of
access: 10 June 2013]. Available from Internet:
<http://www.encyclopedia.com/topic/Eschatology.aspx>.
146. SIBYLLINE. Oracles. [Date of access: 1 June 2013]. Available from Internet:
<http://www.skeptically.org/hebskaka/id15.html>.
147. TAUBES, J. Occidental Eschatology. Translated by D. Ratmoko. Stanford, CA:
Stanford University Press, 2009. 228 p.
148. TERTULLIAN. On the Resurrection of the Flesh. [Date of access: 10 June
2013]. Available from Internet: <http://www.tertullian.org/anf/anf03/anf03-
41.htm#P9676_2650295>.
149. TYCONIUS. Commentaire de l'Apocalypse. Turnhout: Brepols, 2011. 220 p.
150. VICTORINUS. Commentary on the Apocalypse. [Date of access: 10 June
2013]. Available from Internet: <http://www.newadvent.org/fathers/0712.htm>.
89
Научное издание
Руцкий Евгений Аркадьевич
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ И ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В АВРААМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Корректор О.А. РуцкаяВерстка: Ф. Мирбах
Связь с автором книги: [email protected]
В оформлении обложки использована картина "Триумф смерти" неизвестного автора из Псалтири первой половины XVI в.: Harley 2953, f 20 (Triumph of
Death). Psalter. Germany, British Library.