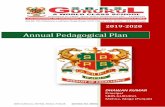Burdyak A. Housing in the post-soviet Russia: The role of social security programs / University...
Transcript of Burdyak A. Housing in the post-soviet Russia: The role of social security programs / University...
1
To be cited as:
Burdyak A. Housing in the post-soviet Russia: The role of social security programs // University
Economic Bulletin. Collection of scientific articles of scientists and post–graduate students. State
Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda».
Pereyaslav–Khmelnytskiy, 2015. Issue 26/2. P. 236-243 [In Russian]
Цитировать как:
Бурдяк А.Я. Жилищная сфера в постсоветской России: роль программ социальной
поддержки населения // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов
ученых и аспирантов. Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», г. Переяслав-
Хмельницкий, Украина, 2015. Выпуск 26/2. С.236-243.
Цитувати як:
Бурдяк О.Я. Житлова сфера в пострадянській Росії: роль програми соціальної
підтримки населення // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та
аспірантів. Міністерство освіти і науки України. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький,
Україна, 2015. Випуск 26/2. С.236-243.
Бурдяк А.Я.
Жилищная сфера в пост-советской России: Роль программ социальной
поддержки населения
В работе исследована программа социальной поддержки населения при оплате жилья и
коммунальных услуг и программа жилищных субсидий. Цель работы – исследование
произошедших изменений в структуре финансирования жилищно-коммунальных услуг и
выявление целевых групп функционирования системы социальной поддержки в жилищной
сфере. Изменения исследованы с помощью описания основных параметров программ за
1990-е и 2000-е годы. Проведен корреляционный анализ межрегиональных различий.
Рассчитаны параметры охвата различных групп населения программами льгот и жилищных
субсидий на микроданных обследования 10 тыс. домашних хозяйств. Показано, что охват
программами социальной поддержки продолжает оставаться большим, при этом они в
большей степени направлены на среднедоходные группы. Задачу поддержки бедных семей
выполняет программа жилищных субсидий. Однако сильной статистической направленности
программ в сторону бедных регионов не обнаружено.
Ключевые слова: жилье, оплата жилья, социальная поддержка, жилищная субсидия,
регион, целевая группа
Burdyak A.
Housing in the post-soviet Russia: The role of social security programs
The social security in housing and communal services and housing allowance programs are
considered. The main purpose of the research is to study the changes in the structure of housing and
communal services finance and to identify the target groups of the programs if any. We describe the
basic parameters of the programs for the 1990s and 2000s post-soviet period. The correlation
analysis is applied to investigate regional differences and targets. On the data of micro survey of 10
thousand households we show various population groups coverage. It is shown that a quarter of
population benefits from social support programs in housing and communal services sphere. The
program is mostly focused on middle income groups. The housing allowance program supports
2
poor families and families with moderate income. There is no strong targeting at the population of
poor regions.
Key words: housing, housing finance, social security, housing allowance, regions, targeting
Жилищная политика – воздействие государства на все жилищные отношения, включая
владение и распоряжение жильем, финансирование, строительство и содержание жилья. Она
проводится государственными и муниципальными органами управления с помощью
нормативно-правового регулирования, налоговых и бюджетных механизмов и направлена на
продвижение к таким условиям проживания населения когда:
- Семьи живут в комфортных просторных жилищах, оснащенных базовыми
коммунальными услугами, и постоянно поддерживают свои жилища хорошем состоянии.
- Они оплачивают жилье и коммунальные услуги по приемлемым ценам, и у них есть
деньги на удовлетворение других нужд и потребностей.
- При необходимости семьи имеют возможность сменить жилье: уровень дохода у
большинства из них достаточен для аренды, строительства или покупки жилья для себя или
своих детей, а для малоимущих действуют государственные программы предоставления
жилья.
Такое понимание жилищной политики объединяет в себе стандартную в западной
научной концепции housing policy с функциями политики финансирования жилья (housing
finance), в основном направленной на поддержание трудовой мобильности населения через
расширение возможностей получения, покупки или аренды жилья; и социальной политики
(social security policy), цель которой – обеспечение доступности приемлемых жилищных
условий для бедных семей характерно для переходных экономик (Stephens 2005, Stephens
2014, Burdyak, Novikov, 2014), и естественным образом отражает российские реалии,
несмотря на то, что и в России администрирование обозначенных направлений относится к
ведению различных министерств.
В начале 1990-х стержнем жилищной политики России и других пост-
социалистических стран стала идея заставить рынок работать, обеспечив основу для его
создания с помощью механизма приватизации жилья (Lowe, Tsenkova 2003; Tosics, Hegedüs
2003; Buckley, Kalarical 2005). Однако массовая бесплатная приватизация жилья имела свои
минусы: собственниками стали и те, кому сегодня не только не хватает доходов на
поддержание жилья в надлежащем состоянии, но также сложно ежемесячно платить за
жилищные и коммунальные услуги. Без надлежащей работы системы социальной поддержки
это противоречие может привести к ухудшению качества жизни бедных собственников, их
здоровья, а также создать прецедент массового перевода частного фонда в жилье
социального найма (Puzanov 2013, Belkina, 2013, Polidi, 2014). Похожие проблемы качества
жизни населения имеют место в других пост-социалистических странах (Fearn 2004,
Tsenkova 2007, Fankhauser et al. 2008, Libanova et al. 2013). Проведению единой политики
сбалансированного развития в России препятствует крайне высокое неравенство в
жилищной обеспеченности и доступности жилья для населения по регионам и типам
поселений (Krakashova 2011).
В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения, повышения
неопределенности на рынке труда и неблагоприятной экономической ситуации в России
проблема социальной поддержки населения приобретает особую актуальность. Данная
статья посвящена анализу социальной поддержки населения при оплате жилья и
коммунальных услуг и проверке гипотезы об еѐ направленности на определенные
территориальные, доходные или демографические группы. В первой главе описаны
основные тенденции данной сферы за пост-советский период, а также представлены
межрегиональные различия охвата населения программами социальной поддержки при
оплате жилья и коммунальных услуг и жилищных субсидий. Далее, во второй главе
3
проведены параллели между параметрами социальных программ в жилищной сфере и
уровнем дохода населения, стоимостью жизни в регионе, посчитаны связи с уровнем
бедности, как основным индикатором уязвимости населения. В третьей главе охват
населения мерами социальной поддержки в области жилья изучены на данных опроса
населения в разрезе демографических типов семей, групп с различным уровнем доходов, а
также жителей крупных, средних, мелких городов и сельских поселений. Завершают
изложение выводы.
1. О расходах населения на оплату жилищно-коммунальных услуг и роли
социальной поддержки
В середине 1980-х расходы на оплату ЖКУ составляли 3,9% расходов домашних
хозяйств на конечное потребление. В первые годы реформ в условиях снижения
благосостояния населения рост тарифов был административными способами сдержан, что
снизило показатель до 0,9% в 1992 г. (Ovcharova et al. 2014). Затем контроль за ростом
тарифов был ослаблен, они стали расти быстрее доходов, и к 1998 г. российские
домохозяйства тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг уже 5,2% своих расходов.
За 2000-е годы доля расходов на ЖКУ увеличилась примерно вдвое, до 9,5% совокупных
расходов домашних хозяйств на конечное потребление. Доля расходов на ЖКУ является
целевым индикатором Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в которой на период
форсированного реформирования отрасли запланирован рост доли расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг до 12%, а затем стабилизация на уровне 11% потребительских
расходов домашних хозяйств. Следует отметить, что когда речь идет о среднем показателе, в
сравнении с другими странами это не высокая цифра. Однако на уровне отдельных
домашних хозяйств стоимость жилья и коммунальных услуг зависит от площади жилья,
оснащенности этими услугами, определяется тарифами, которые в свою очередь
складываются в различных поселениях совершенно по-разному, отражая суровость
климатических условий, длительность отопительного сезона, состояние коммунальных сетей
и эффективность работы жилищно-коммунального комплекса. Также на возможности
домашнего хозяйства влияет его доход, и для поддержки бедных семей начиная с 1993 г. в
России действует адресная программа субсидий, компенсирующих высокие расходы на
ЖКУ по сравнению с доходами семьи.
По федеральному нормативу максимально допустимая доля расходов граждан на
оплату ЖКУ сегодня составляет 22% совокупного дохода семьи. В 1990-е годы показатель
был ниже, но со временем планка постепенно поднялась с 16% в 1997 г. до 20% в 2000 г. и до
22% в 2001 г. Здесь будет уместным обратиться к опыту Украины, в которой действует очень
щедрая программа жилищных субсидий, посредством которой подлежат возмещению
затраты на ЖКУ, превышающие 15% доходов семьи, а для семей несовершеннолетних и
пенсионеров планка составляет 10% доходов1 (Libanova, 2013).
В программе жилищных субсидий в Российской Федерации имеются существенные
различия по регионам, так как исходя из платежеспособности населения и возможностей
региональных бюджетов, регионы имеют право за счет собственных средств устанавливать
пониженную ставку возмещения. Например, чтобы получить жилищную субсидию в г.
Москва, расходы на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах нормативов
потребления должны составлять более 10% совокупного денежного дохода семьи. В г.
Санкт-Петербург норматив возмещения равен 14%, Ставропольский край, Ростовская,
Орловская, Сахалинская область применяют норматив 15%, часть регионов строго следует
федеральному нормативу, и в среднем по Российской Федерации показатель составляет 19%.
При этом, регионы очень сильно различаются по охвату семей программой субсидий.
Сопоставление доли получателей жилищных субсидий и высоты порога входа в программу
1 The Ministry of Social Policy of Ukraine http://www.mlsp.gov.ua
4
показало, что напрямую эти два показателя не связаны – при одинаковых нормативах входа
охват программой в различных регионах может быть очень разным. Он меняется от 1-2%
всех семей в Белгородской, Тульской, Ленинградской областях, до 18% семей в Мурманской
области и 22% в Республиках Тыва и Татарстан (данные за декабрь 2013 г.). В среднем 8%
семей в Российской Федерации получают жилищные субсидии (Рисунок 1). Статистическая
связь индикаторов программы жилищных субсидий с другими показателями уровня жизни
населения региона будет рассмотрена в следующей главе.
При анализе охвата домашних хозяйств мерами социальной поддержки важно
понимать, что получение социальной помощи не всегда приемлемо с психологической точки
зрения. Обращение за жилищной субсидией осложнено не только предоставлением
большого количества справок, но и с принятием на себя роли малоимущего, нуждающегося в
социальной поддержке (Varyzgina, Kay, 2014) к чему не все потенциальные участники
программы готовы. Неполучение субсидии при высокой доле расходов на ЖКУ в бюджете
семьи также может быть связано с распространенностью неформальной занятости,
затрудняющей подтверждение дохода для подачи аппликации на субсидию (Grishina et al.
2014). Для части домохозяйств, формально подпадающих под стандарты назначения
субсидии и не испытывающих психологического дискомфорта, обращение за еѐ получением
теряет смысл при относительно небольшом размере полагающейся выплаты.
Рисунок 1 – Охват населения социальной поддержкой при оплате ЖКУ и программой
жилищных субсидий, %
Источник: Составлено автором по данным Росстата
Cистема социальной поддержки населения при оплате жилья и коммунальных услуг,
действующая сегодня в России, является инерционным продолжением советской системы
льгот, получивших наибольшую распространенность в 1980-е годы. В советское время они
предоставлялись гражданам за трудовые заслуги, а в начале переходного периода в условиях
дефицита бюджета и задержек зарплаты льготы вдобавок к поощрительной функции стали
играть и социальную роль. Предоставление льгот в виде скидок в натуральной форме, когда
потребитель оплачивал только часть стоимости услуг, к примеру, 50%, а оставшаяся сумма
возмещалась производителю коммунальных услуг из бюджета, сильно затрудняло переход
жилищно-коммунальной отрасли к рыночным формам хозяйствования. Неэффективность
системы распределения данного блага заключалась в том, что человек, проживающий в
большем или в лучше благоустроенном жилище, получал по определению большую по
размеру компенсацию, чем тот, у кого жилье было меньшей площади, или у кого дом не
7,7 9,111,4
15,2 13,711,9 10,6
8,8 7,9 8,310,1 9,1 8,6 8,1
3133 34
30 30
2628 27 27 26 26 26 26 26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей,
процентов
Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в
общей численности населения, процентов
5
оснащен всеми видами коммунальных удобств. Вдобавок существовали проблемы двойного
учета и непрозрачности механизма распределения, для преодоления которых в середине
2000-х началась монетизация льгот. Несмотря на повышенное недовольство населения и
пробуксовку процесса на старте реформы, сегодня она проведена почти во всех регионах2.
Значительную роль в схеме финансирования жилищно-коммунального хозяйства
длительное время играло перекрестное субсидирование, за счет существования которого,
например, в 2000 г. население оплачивало лишь 50% совокупной стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Постепенно от такого способа финансирования тоже стали уходить,
чтобы четко соотнести стоимость услуг и возмещение их населением: в 2003 г. население
возмещало уже около 62% совокупных расходов на оплату ЖКУ (Burdyak, Ovcharova 2007).
При этом расходы бюджетов на жилищные субсидии занимали 6%, и на льготы – 10%
совокупной стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В результате проведенных преобразований сегодня субсидии перечисляются на
персонифицированные счета получателей, социальная поддержка предоставляется напрямую
гражданам, а не идет организациям жилищно-коммунального комплекса, как это было в
начале 2000-х. Совокупные валовые расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
теперь имеют следующую структуру. Согласно данным Росстата за 2012 г. бюджетное
финансирование разницы между стоимостью предоставленных ЖКУ и возмещаемой
населением их частью составляет 17%. Население несет 83% объема прямых затрат на
жилищно-коммунальные услуги, в том числе в качестве возмещения получая из бюджета 3%
своих расходов в виде субсидий и 12% в виде мер социальной поддержки (льгот). Таким
образом, «чистые» расходы населения возмещают 68% стоимости произведенных и
потребленных в стране жилищно-коммунальных услуг. В целом можно констатировать
снижение участия бюджета в финансировании предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг. Доля социальной поддержки населения в совокупном объеме расходов
на ЖКУ за последние десять лет почти не изменилась.
Вместе с тем, за 2000-е годы наблюдается снижение охвата населения программой
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг с 34% до 26% (Рисунок 1).
При этом дизайн программы остается прежним – она устроена по категориальному принципу
и не входит в число адресных программ социальной поддержки бедных, функционирующих
на принципах сочетания мер стимулирования самообеспечения и денежных пособий
(Burdyak, Ovcharova 2007, Ovcharova 2008). Перейдем к исследованию вопроса о том, на
какие группы населения нацелены жилищные субсидии и программа социальной поддержки
при оплате жилья и коммунальных услуг, в части анализа межрегиональных различий.
2. Программы социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг
и другие характеристики регионов
Исходя из целей программ социальной поддержки, можно предположить, что в фокусе
данных программ находятся либо бедные регионы, либо те субъекты федерации, в которых
высокие цены на жилищно-коммунальные услуги – проверим данное предположение. В
России по регионам наблюдаются высокие различия как доходов населения, так и стоимости
жилищно-коммунальных услуг. Чтобы оценить масштаб межрегиональных различий, мы
рассчитали средневзвешенные показатели, в качестве весовых коэффициентов используя
численность населения региона. Здесь следует оговориться, что в то время как такой подход
полностью корректен для показателей среднедушевых доходов, прожиточного минимума и
доли бедного населения в силу их универсальности; для показателя стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного проживающего или на один квадратный метр площади жилья
средневзвешенный индикатор не совсем корректно трактовать, как среднюю стоимость по
2 Не переведены в денежную форму выплаты льгот и субсидий в Чеченской республике. Также не
монетизированы льготы в г. Москва (Фонд ЖКХ 2014, стр. 149-150). В натуральной форме социальная
поддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в г. Москва составляет около 9%
общефедеральной суммы расходов на эти цели.
6
стране. Это обусловлено тем, что не все население регионов проживает в жилищном фонде,
обслуживаемом предприятиями жилищно-коммунального комплекса, по которым ведется
статистический учет. Однако для иллюстрации существующих различий он подходит.
По регионам отличия среднедушевого денежного дохода от средневзвешенного
составляют 0,45-2,1 раза; размер прожиточного минимума для категории все население
отличается в 0,7-1,9 раза; стоимость ЖКУ в расчете на одного проживающего меняется в
диапазоне 0,5-3,6 от средневзвешенного. При столь ощутимых различиях доходов, уровня
жизни и цен на жилищно-коммунальные услуги, для тестирования связи с параметрами
программ социальной поддержки переведем их в относительную шкалу измерения (Таблица
1). Так, например, в среднем по всем регионам в 2013 г. стоимость жилищно-коммунальных
услуг на одного человека в среднем составляла 7% от среднедушевого денежного дохода или
23% от уровня прожиточного минимума, установленного в третьем квартале того же года.
Также мы вычислили относительную стоимость ЖКУ в сравнении с набором товаров и услуг
для межрегиональных сопоставлений, в сравнении с минимальным продуктовым набором.
Таблица 1 – Стоимость жилищно-коммунальных услуг, жилищные субсидии и льготы в
сравнении с другими характеристиками региона.
Число
наблюдений,
млн. чел Минимум Максимум Среднее
Стд.
отклонение
Доля населения, получающего
субсидии, %
141,7 1,3 24,3 8,1 4,2
Доля населения, получающего
соц поддержку, %
143,5 15,8 61,9 25,9 5,4
Доля ЖКУ в потребительских
расходах, %
142,2 4,0 15,0 8,9 1,8
Доля бедного населения, % 143,5 7,2 35,4 11,8 3,4
Стоимость ЖКУ в % от
денежного дохода
143,5 4,4 17,9 7,0 1,7
Стоимость ЖКУ в % от ПМ 138,8 12,2 44,3 23,0 4,2
Стоимость ЖКУ в % от набора
товаров для межрегиональных
сопоставлений
143,5 9,5 35,4 15,9 3,1
Стоимость ЖКУ от продуктового
набора
143,5 30,5 132,9 59,2 13,1
Размер льгот в % от совокупной
стоимости ЖКУ
143,5 15,5 55,9 36,2 9,4
Размер льгот в % от счета за
ЖКУ
143,5 17,4 59,0 39,6 8,5
Размер субсидии в % от
совокупной стоимости ЖКУ
143,5 7,6 42,0 25,3 7,0
Размер субсидии в % от счета за
ЖКУ
143,5 7,6 46,9 27,7 6,4
Источник: Рассчитано автором по данным Росстата.
Размер получаемой социальной поддержки и жилищных субсидий напрямую зависит
от стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе, поэтому мы также рассчитали их в
относительном выражении. В качестве базы сравнения берется два показателя – средняя
стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека, которую оплачивает население (по
счету на оплату); и средняя совокупная стоимость ЖКУ по экономически обоснованному
тарифу. В результате мы можем заключить, что размер социальной поддержки соответствует
36-40% стоимости жилищно-коммунальных услуг, а в качестве жилищной субсидии
получателю в среднем возмещается 25-28% среднерегиональной стоимости ЖКУ. Разброс
7
значений этих показателей достаточно велик, максимальные и минимальные значения
приведены в таблице.
Корреляционный анализ показал слабую статистическую связь (меньше 0,33) всех
перечисленных показателей с долей получателей субсидий. Доля получателей социальной
поддержки в регионе в средней степени связана с размером льготы, причем эта связь
отрицательна, -0,44: чем большая доля населения получает льготы, темь меньшую сумму эти
льготы составляют в % от стоимости жилищно-коммунальных услуг. С уровнем бедности
региона и охват программой жилищных субсидий, и охват программой льгот связаны слабо.
Значительную статистическую связь демонстрируют доля бедного населения в регионе и
стоимость ЖКУ в % от денежного дохода, 0,57, таким образом, показывая, что высокая
стоимость жилищно-коммунальных услуг по сравнению со среднедушевыми доходами ведет
к росту доли бедного населения. Данное наблюдение является иллюстрацией того, что
расходы на жилье и коммунальные услуги входят в состав прожиточного минимума, и при
неизменных доходах рост тарифов на ЖКУ приводит к росту уровня прожиточного
минимума и повышению доли бедного населения. В целом можно заключить, что гипотеза о
направленности программ социальной поддержки и жилищных субсидий на бедные регионы
не нашла подтверждения.
3. Анализ программ с помощью данных опроса населения
Основой данной главы служат микроданные обследования «Выборочное наблюдение
доходов населения и участия в социальных программах». Оно было проведено Росстатом в
апреле 2012 г. на основе выборочного опроса представителей различных групп и слоев
населения с охватом 10 тыс. домохозяйств. Была реализована многоступенчатая случайная
выборка, построенная по территориальному принципу, которая обеспечивает
представительность итогов наблюдения по населению страны в целом, по федеральным
округам и по основным демографическим и социально-экономическим группам населения.
На этих данных нами были рассчитаны децильные группы по доходу, а также показатели
охвата населения двумя программами поддержки населения в области оплаты жилья и
коммунальных услуг. Всего 16,1% опрошенных домашних хозяйств получают либо льготу,
либо субсидию, либо и то, и другое. Анализ охвата программой децильных групп по
душевому доходу показывает, что в большей степени она ориентирована на домохозяйства
со средним уровнем доходов. Жилищные субсидии, охват которыми, как мы видели в
предыдущих главах, за последние 10 лет снизился с 15,2% до 8,1% всех семей, по
определению назначаются исходя из соотношения расходов домохозяйства на оплату
жилищно-коммунальных услуг и его дохода, поэтому нацелены на сегмент бедных семей, и
данные опроса это подтверждают (Рисунок 2).
8
Рисунок 2 – Доля людей из домохозяйств, пользующихся мерами социальной
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг, в разрезе децильных групп по размеру
денежного дохода, %
Источник: Авторские расчеты по данным Выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах (ВНДН-2012)
Второй очень важный ракурс рассмотрения жилищной обеспеченности и социальной
поддержки в сфере оплаты жилья – по стадиям жизненного пути домашнего хозяйства.
Сегодня во взрослую жизнь вступает второе поколение собственников жилья, (Burdyak,
2015), и задача обеспечения молодого поколения жильем в условиях повышения
продолжительности жизни и старения населения усложняется. Расширение доступности
приобретения жилья с помощью развития ипотечного кредитования, с одной стороны,
помогает найти решение, но с другой стороны оттягивает на решение жилищного вопроса
большие и долгосрочные ресурсы расширенного домашнего хозяйства. В результате дети,
отягощенные своими платежами по ипотеке, со временем не смогут помогать пожилым
родителям поддерживать их жилище в надлежащем состоянии, а в случае роста тарифов, и
помогать оплачивать ЖКУ.
В разрезе демографических типов семей мы наблюдаем высокий контраст (Рисунок 3).
В минимальной степени охвачены мерами социальной поддержки в области оплаты жилья
простые семейные ячейки с детьми, в которых проживает четверть населения страны.
Одинокий родитель с одним или несколькими детьми с высокой вероятностью попадает в
число получателей жилищных субсидий, но среди этой категории семей также мало
получателей мер социальной поддержки. Неполная семья, проживающая с другими
родственниками, чаще всего это бабушки и дедушки, является лидером по степени
включенности в систему социальной поддержки за счет высокой вероятности
принадлежности старшего поколения к льготной категории, однако в таких домашних
хозяйствах проживает небольшая часть населения.
4,6 3,8 4,0 2,8 3,5 1,9 1,8 0,7 1,2 0,62,5
3,58,1
11,316,2
18,4
17,3 17,216,8
12,9
8,8
13,08,1
12,2
16,0
19,7
22,6
19,9 19,818,2
14,3
9,8
16,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Децильные группы по доходу
И то, и другое
Льготы
Субсидия
9
Рисунок 3 – Доля людей из домохозяйств, пользующихся мерами социальной
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг, в разрезе типов семьи, %
Источник: Авторские расчеты по данным Выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах (ВНДН-2012)
Третий возможный ракурс анализа – по типам поселений. Как показывают данные
опроса, домохозяйства, проживающие в городах разной численности и сельских поселениях,
в неодинаковой степени включены в число получателей социальной поддержки (Рисунок 4).
Жители села менее интенсивно пользуются полным набором коммунальных услуг,
привычным для жителей многоквартирных домов в городах, в связи с этим у них меньше
расходов на оплату ЖКУ, и они не слишком велики в соизмерении с размером денежного
дохода. Всего 5% жителей села получают социальную поддержку по оплате жилья и
коммунальных услуг или жилищную субсидию. В городах охват программами существенно
выше: от 17% в городских поселениях с 100-250 тыс. населения до 22-23% в городах с
численностью жителей от 250 тыс. до 1 млн. В городах-миллионниках 19% населения
получает помощь при оплате ЖКУ, и получателей субсидий здесь тоже чуть меньше, чем в
других городах.
24,6
13,3
26,8
22,018,8
5,0
13,015,4
25,4
16,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
До
мо
хозя
йст
во и
з о
дн
ого
ли
ца
(9,7
%)
Од
ин
оки
й р
од
ите
ль
с д
етьм
и
(2,8
%)
Од
ин
оки
й р
од
ите
ль
с д
етьм
и и
д
р р
од
стве
нн
ика
ми
(3
,5%
)
Суп
руж
еска
я п
ара
без
дет
ей
(14
,5%
)
Суп
руж
еска
я п
ара
без
дет
ей, с
д
р р
од
стве
нн
ика
ми
(1
7,6
%)
Суп
руж
еска
я п
ара
с д
етьм
и
(26
,1%
)
Суп
руж
еска
я п
ара
с д
етьм
и и
др
р
од
стве
нн
ика
ми
(1
0,6
%)
Две
и б
ол
ее с
упр
ужес
ких
пар
+
(6,6
%)
Пр
очи
е д
ом
охо
зяй
ства
(8,5
%)
Все
до
мо
хозя
йст
ва (1
00
%)
И то, и другое
Льготы
Субсидия
10
Рисунок 4 – Доля людей из домохозяйств, пользующихся мерами социальной
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг, в разрезе типов населенных пунктов, %
Источник: Авторские расчеты по данным Выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах (ВНДН-2012)
Выводы
Результаты проведенного исследования позволяют заключить следующее.
В пост-советской России социальная поддержка населения продолжает играть важную
роль с точки зрения обеспечения возможности оплачивать проживание в комфортных
жилищных условиях даже малоимущим домашним хозяйствам. Эту функцию уже более 20-
ти лет выполняет адресная программа жилищных субсидий.
Регионы Российской Федерации демонстрируют большие отличия как по правилам
входа в число получателей, так и по охвату домашних хозяйств программой жилищных
субсидий. Статистический анализ показал наличие слабых связей доли получателей
субсидий с региональными показателями среднедушевого дохода, соотношением тарифов на
жилищно-коммунальные услуги со стоимостью других потребительских товаров в регионе, и
долей бедного населения. Значительную статистическую связь доля бедного населения в
регионе демонстрирует только со стоимостью ЖКУ, выраженной в процентах от
среднедушевого денежного дохода.
Программа социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг (раньше
– льгот) по-прежнему является массовой, охватывая четверть населения страны. Она
работает по категориальному принципу и, в отличие от программы субсидий, не нацелена на
бедные слои населения. Статистический анализ охвата населения программой социальной
поддержки не выявил еѐ направленности на население бедных регионов.
С помощью данных опроса населения мы показали, что программа социальной
поддержки населения в большей мере направлена на население со средним доходом, а самый
бедный и самый богатый децили вовлечены в число получателей льгот или субсидий с
одинаковой вероятностью. Вместе с тем, жилищные субсидии адресно идут в нижние
децильные группы, и самые богатые 30% населения по доходу мало участвуют в этой
программе.
5,1
20,3
16,8
22,4 22,0
19,1
16,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Сел
о
Гор
од
до
99
,9 т
ыс
10
0,0
-24
9,9
ты
с
25
0,0
-4
99
,9 т
ыс
50
0,0
-9
99
,9 т
ыс
1 м
лн
. и б
ол
ее
Все
нас
елен
ны
е п
ункт
ы
И то, и другое
Льготы
Субсидия
Любой вид соцподдержки при оплате ЖКУ
11
Среди демографических типов семей минимально вовлечены в получение социальной
поддержки и жилищных субсидий простые семейные ячейки с детьми. А многопоколенные
семьи, напротив, с высокой вероятностью являются получателями льгот или субсидий.
Среди типов поселений наименьшую вовлеченность в программы социальной
поддержки и жилищных субсидий демонстрируют сельские населенные пункты. Несмотря
на сравнительно низкий уровень доходов, обычно присущий для данной группы населения,
их жилища редко оснащены полным набором коммунальных удобств, которые есть в
многоквартирных домах, поэтому и совокупные расходы не так велики. В максимальной
степени социальной поддержкой пользуются жители городов с населением от 250 тыс. до 1
млн.
Литература
Белкина Т.Д. Жилье в России: ситуация и перспективы // Проблемы прогнозирования.
2013. № 3. С. 101-116.
Бурдяк А.Я., Овчарова Л.Н. Доступность жилья: возможности населения и поддержка
государства / Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М. Малевой /
Н.В. Зубаревич, Д.Х. Ибрагимова и др.; Независимый институт социальной политики. – М.:
НИСП, 2007. с. 302-330.
Варызгина А., Кей Р. Восприятие бедности в малом городе России // Журнал
исследований социальной политики, 2014, №4. С. 555-568.
Гришина Е., Дормидонтова Ю., Ляшок В. Влияние неформальной занятости на
устойчивость пенсионной системы в России // Экономическая политика, № 6, 2014. С. 7-24.
Динамика монетарных и немонетарных характеристик уровня жизни российских
домохозяйств за годы постсоветского развития : аналитический доклад / Рук. авт. колл. Л.Н.
Овчарова. А.Я. Бурдяк, А.И. Пишняк, Д.О. Попова, Р.И. Попова, А.М. Рудберг. — Москва :
Фонд «Либеральная Миссия», 2014.
Косарева Н.Б., Пузанов А.С., Догадайло В.А., Горячев И.Е., Никольский М.Э., Сиваев
С.Б., Семенюк А.Г. Глава 14. Государственная жилищная политика // В кн.: Стратегия-2020:
Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах
экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России
на период до 2020 года / Науч. ред.: В.А. Мау, Я.И. Кузьминов. Кн. 2. М. : Дело, 2013. Гл. 14.
С. 9-44.
Кракашова О.А. Институт государственного регулирования жилищно-коммунального
комплекса России: формирование и развитие // Финансы и бизнес. 2011. - №3. – С.110-120.
Лібанова и др., 2013. Вимірювання якості життя в Україні, Аналітична доповідь,
Лібанова Е.М., Гладун О.М., Лісогор Л.С. та ін. –Інститут демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Програма Розвитку ООН, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, 2013 К.: 2013.
Лібанова, 2012. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та
регіональні диспропорції (колективна монографія) / відпов. за випуск Л.М. Черенько, О.В.
Макарова, за ред. Е.М. Лібанової. – У 2-х томах. – К.: Ін-т демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 436 с.
Овчарова Л.Н. Бедность и экономический рост в России // Журнал исследований
социальной политики. Том 6, №4. 2008 с. 439-456.
Полиди Т.Д. Накопленный дефицит инвестиций в жилищной сфере России: угрозы и
перспективы // Вопросы экономики. 2014. № 4.
Ясин Е.Г. Политическая экономия реформы ЖКХ // Экономическая политика. 2006.
№2, С. 95-119.
Ясин Е.Г., Г.В. Андрущак, А.Я. Бурдяк, В.Е. Гимпельсон, А.Е. Ивантер, Р.И.
Капелюшников, П.М. Козырева, Н.Б. Косарева, М.А. Малкова, Л.Н. Овчарова, А.И. Пишняк,
А.Н. Пономаренко, Д.О. Попова, Л.Д. Попович, А.С. Пузанов, Е.В. Селезнева, Г.А.
Тишинова, В.А. Фадеев, И.М. Шейман. Уровень и образ жизни населения России в 1989–
12
2009 гг. / В кн.: Доклады 2011-2012. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 71-
145. ISBN 978-5-7598-1059-9
Acs, G., Zimmerman, S. (2008). U.S. Intragenerational Economic Mobility From 1984 to
2004: Trends and Implications. Washington, D.C.: Economic Mobility Project, an Initiative of the
Pew Charitable Trusts.
Buckley R., Kalarical J. (2005). Housing policy in Developing Countries: Conjectures and
Refutations. Oxford University Press, IBRD / The World Bank, 2005.
Burdyak A. (2015). Housing policy and household lifecycle in post-soviet Russia: changing
priorities // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kwartalnik,
№2, 2015. Warszawa [SCIENTIFIC PAPERS of the Maria Skłodowska-Curie Warsaw Academy,
Quarterly] [In press].
Burdyak, A. and Novikov, V. (2014). Housing finance in Ukraine: a long way to go //
Housing Finance International, Autumn 2014. International Union for Housing Finance, Brussels,
Belgium. Pp. 17-25.
Eurofound (2012). Third European Quality of Life Survey — Quality of life in Europe:
Impacts of the crisis, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Fankhauser S, Rodionova Y, Falcetti E (2008). Utility payments in Ukraine: affordability,
subsidies and arrears. Energy Policy. 36 (11), pp. 4168-4177.
Fearn J. (2004). Too Poor to Move, too Poor to Stay. A Report on Housing in the Czech
Republic, Hungary and Serbia. James Fearn (Ed.). Stuart Lowe, Martin Lux, Janos B. Kocsis, Maša
Djordjević, OSI/LGI, 2004.
Kovalenko E., Puzanov A., Buckley R. (2007). 'A review of "Crossing the line. Vagrancy,
Homelessness and Social Displacement in Russia"', European Journal of Housing Policy, 7:3, 357 –
366.
Lowe S., Tsenkova S. (2003). Housing Change in East and Central Europe Integration or
Fragmentation? Stuart Lowe and Sasha Tsenkova (eds.). Ashgate, 2003.
Puzanov A. (2013) Russia: The Persistence of the Socialist Legacy? / in book Social Housing
in Transition Countries edited by József Hegedüs, Martin Lux, Nora Teller. Chapter 14. Routlege,
New York. 2013. p.225-243.
Stephens M. (2005). The Role of Housing Finance in the Housing Policy of Transition
Countries / in: Housing Finance: New and Old Models in Central Europe, Russia, and Kazakhstan
Edited by József Hegedüs and Raymond J. Struyk. Local Government and Public Service Reform
Initiative and Open Society Institute, Budapest. 2005. Pp. 43 – 62.
Stephens M. (2014). Issues In The Treatment Of Housing Costs In Poverty Measures, The
European Network for Housing Research Conference 'Beyond Globalisation. Remaking Housing
Policy in a Complex World', 1 - 4 July 2014, Edinburgh, Scotland, UK.
Sunega P. (2014). Subjective or objective? What matters? // Critical Housing Analysis,
Volume 1, Issue 1, 2014, pp. 35-43.
Tosics Iván and József Hegedüs (2003). Housing in South-Eastern Europe / In: Stuart Lowe
and Sasha Tsenkova (eds.): Housing Change in East and Central Europe Integration or
Fragmentation? Chapter 2, pp. 21-44. Ashgate, 2003.
Tosics, I. 2012. Housing and the State in the Soviet Union and Eastern Europe / In: J. Smith,
S., Elsinga, M., Fox O’Mahony, L., Ong, S. E., Wachter, S. és Hamnett, C. (eds.) International
Encyclopedia of Housing and Home, Vol 3. Oxford: Elsevier; 2012. pp. 355–362.
Tsenkova S. (2007). Lost in Transition: Housing Reforms in Moldova / ENHR Conference
‘Sustainable Urban Areas’, Rotterdam, 2007.
References
Belkina T.D. Zhil'e v Rossii: situacija i perspektivy [Housing in Russia: situation and
prospects] // Problemy prognozirovanija. 2013. № 3. P. 101-116. [in Russian]
Burdyak A., Ovcharova L. Dostupnost' zhil'ja: vozmozhnosti naselenija i podderzhka
gosudarstva [Housing affordability: the possibility of the population and government support] /
13
Obzor social'noj politiki v Rossii. Nachalo 2000-h [Review of social policy in Russia. Early 2000s]
/ Pod red. T.M. Maleva / N.V. Zubarevich, D.H. Ibragimova i dr.; Nezavisimyj institut social'noj
politiki. – M.: NISP, 2007. p. 302-330. [in Russian]
Varyzgina Alla, Kay Rebecca Vosprijatie bednosti v malom gorode Rossii [Perceptions of
Poverty in Small Russian Towns] // Zhurnal issledovanij social'noj politiki, 2014, №4. P. 555-568.
Grishina E., Dormidontova Ju., Ljashok V. Vlijanie neformal'noj zanjatosti na ustojchivost'
pensionnoj sistemy v Rossii [Informal Employment Influence on the Sustainability of the Pension
System in Russia]// Jekonomicheskaja politika, № 6, 2014. P. 7-24. [in Russian]
Dinamika monetarnyh i nemonetarnyh harakteristik urovnja zhizni rossijskih domohozjajstv
za gody postsovetskogo razvitija: analiticheskij doklad [Dynamics of monetary and nonmonetary
characteristics of the standard of living of Russian households during the years of post-Soviet
development: analytical report]/ Ruk. avt. koll. L.N. Ovcharova. A.Ya. Burdyak, A.I. Pishnjak,
D.O. Popova, R.I. Popova, A.M. Rudberg. — Moskva : Fond «Liberal'naja Missija», 2014. [in
Russian]
Kosareva N.B., Puzanov A.S., Dogadajlo V.A., Gorjachev I.E., Nikol'skij M.Je., Sivaev S.B.,
Semenjuk A.G. Glava 14. Gosudarstvennaja zhilishhnaja politika [Chapter 14: State housing
policy] // Strategija-2020: Novaja model' rosta — novaja social'naja politika. Itogovyj doklad o
rezul'tatah jekspertnoj raboty po aktual'nym problemam social'no-jekonomicheskoj strategii Rossii
na period do 2020 goda [Strategy 2020: New Growth Model - a new social policy. The final report
on the results of expert work on urgent problems of the socio-economic strategy of Russia for the
period up to 2020] / Eds.: V.A. Mau, Ya.I. Kuz'minov. Kn. 2. M. : Delo, 2013. Gl. 14. P. 9-44. [in
Russian]
Krakashova O.A. Institut gosudarstvennogo regulirovanija zhilishhno-kommunal'nogo
kompleksa Rossii: formirovanie i razvitie [Institute of state regulation of housing and communal
services in Russia: the formation and development] // Finansy i biznes. 2011. - №3. – P.110-120. [in
Russian]
Ovcharova L.N. Bednost' i jekonomicheskij rost v Rossii [Poverty and economic growth in
Russia] // Zhurnal issledovanij social'noj politiki. Tom 6, №4. 2008 P. 439-456. [in Russian]
Polidi T.D. Nakoplennyj deficit investicij v zhilishhnoj sfere Rossii: ugrozy i perspektivy
[Accumulated deficit of investments in the housing sector in Russia: threats and prospects] //
Voprosy jekonomiki. 2014. № 4. [in Russian]
Jasin E.G. Politicheskaja jekonomija reformy ZhKH [The Political Economy of Housing
Reform] // Jekonomicheskaja politika. 2006. №2, P. 95-119.
Jasin E.G., G.V. Andrushhak, A.Ya. Burdyak, V.E. Gimpel'son, A.E. Ivanter, R.I.
Kapeljushnikov, P.M. Kozyreva, N.B. Kosareva, M.A. Malkova, L.N. Ovcharova, A.I. Pishnjak,
A.N. Ponomarenko, D.O. Popova, L.D. Popovich, A.S. Puzanov, E.V. Selezneva, G.A. Tishinova,
V.A. Fadeev, I.M. Shejman. Uroven' i obraz zhizni naselenija Rossii v 1989–2009 gg. [The
standard of living and way of life of the population of Russia in years 1989-2009] / V kn.: Doklady
2011-2012. M.: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2013. P. 71-145. ISBN 978-5-7598-1059-9
[in Russian]
Lіbanova, 2012. Ljuds'kyj rozvytok v Ukrainі: transformacіja rіvnja zhyttja ta regіonal'nі
disproporcіi (kolektyvna monografіja) [Human development in Ukraine: standard of living
transformation and regional disparities (collective monograph)] / vіdpov. za vipusk L.M. Cheren'ko,
O.V. Makarova, Editor E.M. Lіbanova. – U 2-h tomah. – K.: Іn-t demografіi ta socіal'nyh
doslіdzhen' іm. M.V. Ptuhi NAN Ukrainy, 2012. – 436 p. [in Ukrainian]
Lіbanova et al., 2013. Vymіrjuvannja jakostі zhyttja v Ukrainі, Analіtychna dopovіd'
[Measuring quality of life in Ukraine, Analytical report], Lіbanova E.M., Gladun O.M., Lіsogor
L.S. ta іn. –Іnstytut demografіi ta socіal'nyh doslіdzhen' іmenі M.V. Ptuhi NAN Ukrainy, Programa
Rozvytku OON, Mіnіsterstvo ekonomіchnogo rozvytku і torgіvlі Ukrainy, 2013 K.: 2013. [in
Ukrainian]
14
Acs, G., Zimmerman, S. (2008). U.S. Intragenerational Economic Mobility From 1984 to
2004: Trends and Implications. Washington, D.C.: Economic Mobility Project, an Initiative of the
Pew Charitable Trusts.
Buckley R., Kalarical J. (2005). Housing policy in Developing Countries: Conjectures and
Refutations. Oxford University Press, IBRD / The World Bank, 2005.
Burdyak, A. and Novikov, V. (2014). Housing finance in Ukraine: a long way to go //
Housing Finance International, Autumn 2014. International Union for Housing Finance, Brussels,
Belgium. Pp. 17-25.
Burdyak A. (2015). Housing policy and household lifecycle in post-soviet Russia: changing
priorities // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kwartalnik,
№2, 2015. Warszawa [SCIENTIFIC PAPERS of the Maria Skłodowska-Curie Warsaw Academy,
Quarterly] [In press].
Eurofound (2012). Third European Quality of Life Survey — Quality of life in Europe:
Impacts of the crisis, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Fankhauser S, Rodionova Y, Falcetti E (2008). Utility payments in Ukraine: affordability,
subsidies and arrears. Energy Policy. 36 (11), pp. 4168-4177.
Fearn J. (2004). Too Poor to Move, too Poor to Stay. A Report on Housing in the Czech
Republic, Hungary and Serbia. James Fearn (Ed.). Stuart Lowe, Martin Lux, Janos B. Kocsis, Maša
Djordjević, OSI/LGI, 2004.
Kovalenko E., Puzanov A., Buckley R. (2007). 'A review of "Crossing the line. Vagrancy,
Homelessness and Social Displacement in Russia"', European Journal of Housing Policy, 7:3, 357 –
366.
Lowe S., Tsenkova S. (2003). Housing Change in East and Central Europe Integration or
Fragmentation? Stuart Lowe and Sasha Tsenkova (eds.). Ashgate, 2003.
Puzanov A. (2013) Russia: The Persistence of the Socialist Legacy? / in book Social Housing
in Transition Countries edited by József Hegedüs, Martin Lux, Nora Teller. Chapter 14. Routlege,
New York. 2013. p.225-243.
Stephens M. (2014). Issues In The Treatment Of Housing Costs In Poverty Measures, The
European Network for Housing Research Conference 'Beyond Globalisation. Remaking Housing
Policy in a Complex World', 1 - 4 July 2014, Edinburgh, Scotland, UK.
Stephens M. (2005). The Role of Housing Finance in the Housing Policy of Transition
Countries / in: Housing Finance: New and Old Models in Central Europe, Russia, and Kazakhstan
Edited by József Hegedüs and Raymond J. Struyk. Local Government and Public Service Reform
Initiative and Open Society Institute, Budapest. 2005. Pp. 43 – 62.
Sunega P. (2014). Subjective or objective? What matters? // Critical Housing Analysis,
Volume 1, Issue 1, 2014, pp. 35-43.
Tosics Iván and József Hegedüs (2003). Housing in South-Eastern Europe / In: Stuart Lowe
and Sasha Tsenkova (eds.): Housing Change in East and Central Europe Integration or
Fragmentation? Chapter 2, pp. 21-44. Ashgate, 2003.
Tosics, I. 2012. Housing and the State in the Soviet Union and Eastern Europe / In: J. Smith,
S., Elsinga, M., Fox O’Mahony, L., Ong, S. E., Wachter, S. és Hamnett, C. (eds.) International
Encyclopedia of Housing and Home, Vol 3. Oxford: Elsevier; 2012. pp. 355–362.
Tsenkova S. (2007). Lost in Transition: Housing Reforms in Moldova / ENHR Conference
‘Sustainable Urban Areas’, Rotterdam, 2007.