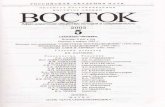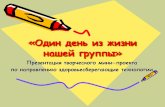Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд (эпизод из...
Transcript of Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд (эпизод из...
И. А. ПИльщИков (Москва)
БАТЮШКОВ — МАЛЕРБ — РОНСАР — ИОАНН СЕКУНД (эпизод из истории метрической семантики)
В недавней работе [24] мне удалось выяснить, что элегия Батюшкова «Элизий» («О! пока бесценна младость...», 1810) представляет собой подражание второму сти-хотворению неолатинского поэта Иоанна Секунда из книги «Basia» («Поцелуи»)1. При этом Батюшков ориентировался не только на латинский подлинник, но и на традицию французских (а, может быть, и немецких) имитаций Второго «Поцелуя». Для моей темы существенно, что все переложения написаны разными размерами [24: 110—111]. Цель настоящей заметки — объяснить эти расхождения.
1. Начнем с беглого сопоставления текстов (подробнее см. [24: 96—109]). Цитирую фрагмент из «Элизия»:
⟨...⟩ А когда въ сни пріютнойМы услышимъ смерти зовъ,То какъ лозы виноградаОбвиваютъ тонкій вязъ,Такъ меня, моя отрада,Обними въ послдній часъ! 2Такъ лилейными рукамиЦпью нжною обвей ⟨...⟩ [3: 75]
Первый комментатор этих стихов Л. Н. Майков усмотрел в них «гораціанскій об-разъ» [19: 315] — действительно, они напоминают начало XV эпода Горация: ⟨...⟩
1 Стихотворение Батюшкова было опубликовано издателями его «Сочинений в прозе и стихах» (1834) под заглавием «Отрывок из Элегии» [3: 75—76]. Н. В. Фридман убедительно отождествил его с неизвестной элегией «Элизий» [29: 366, 369; 30: 282], которая включена в «Расписание моим сочинениям» из батюшковской тетради «Разные замечания», составленное не позже ноября 1810 г. [16: л. 40 об.].
2 Начиная с издания 1934 г. это место печатается с ошибкой: ⟨...⟩ обними в последний раз! [4: 233; и др.].
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 245
cum tu ⟨...⟩ artius atque hedera procera adstringitur ilex, // lentis adhaerens bracchiis ⟨...⟩ = ⟨...⟩ когда ты ⟨...⟩ теснее, чем плющом высокоствольный обвивается дуб, // обнима⟨ешь⟩ ⟨меня⟩ гибкими руками ⟨...⟩ etc. (Hor. Epod. XV, 3—6). Этот же пассаж Горация варьирует Иоанн Секунд: неслучайно Второй «Поцелуй» написан тем же размером, что XV эпод, — эподическими двустишиями, в которых длинные строки (дактилические гексаметры) чередуются с короткими (ямбическими диметрами) [7: 269; 8: 312—314]. Элегия Батюшкова связана с XV эподом не напрямую, а через посредство Секунда. Если Гораций сравнивал обнимающихся любовников с дубом и плющом, то автор «Поцелуев» предварил горацианское сравнение аналогичным сравнением любовных объятий с виноградой лозой, обвившейся вокруг вяза (Bas. II, 1—14):
Vicina quantum vitis lascivit in ulmo, Et tortiles per ilicemBrachia proceram stringunt immensa corymbi, Tantum Neaera si queasIn mea nexilibus proserpere colla lacertis, Tali Neaera si queamCandida perpetuum nexu tua colla ligare, Iungens perenne basium,Tunc ⟨...⟩ mutuis in osculisDefectos, ratis una duos portaret amanteis Ad pallidam Ditis domum.(= Как виноградная льнет лоза к соседнему вязу Или, по дубу вьющийсяСтройному, руки свои бесконечные плющ простирает, Неера, если б так же тыЦепко к шее моей могла прижиматься руками; Неера, если б так же яБелую грудь твою мог оплетать непрестанно объятьем, Всечасно целовать тебя,То ⟨...⟩ умерли б в лобзаньях мыИ одна б унесла ладья двух любовников вместе К чертогу Дита бледному3.)
Параллельный образ (виноград и вяз) Секунд позаимствовал из Овидиевых «Героид» [33: IV]. У Овидия Энона пишет Парису: Non sic adpositis vincitur vitibus ulmus, // Ut tua sunt collo bracchia nexa meo = Не обвиваются так виноградные лозы вкруг вяза, // как обвивались твои руки вкруг шеи моей (Epist. V, 47—48;
3 Стихи Иоанна Секунда здесь и далее цитируются в переводе С. В. Шервинского (с некото-рыми изменениями).
И. А. Пильщиков 246
пер. С. Ошерова). Из двух однотипных сравнений одно, восходящее к Горацию, Батюшков убрал, а другое — то, которое восходит к Овидию, — оставил (⟨...⟩ какъ лозы винограда // обвиваютъ тонкій вязъ ⟨...⟩).
Следующий фрагмент «Поцелуя» (описание загробного мира) обнаружива-ет близкое сходство еще с одним латинским стихотворением — Третьей элегией Тибулла из I книги4. Эту элегию, где дано первое в римской литературе (и самое раннее из дошедших до нас) описание Элизия любовников, Батюшков перевел в первой половине 1811 г. [21: 217—218; 24: 89]:
И ты, Амуръ, меня въ жилища безмятежны⟨,⟩Въ Элизій проведешь таинственной стезей:Тамъ вчная весна межь рощей и полей ⟨...⟩ [1: 208]
Общностью античного источника объясняются параллели между батюшковскими подражаниями Тибуллу и Секунду [40: 118; 6: 134; 24: 89—90]:
И тогда тропой безвстнойДолу, къ тихимъ берегамъ,Самъ онъ, богъ любви прелестной,Проведетъ насъ по цвтамъ —Въ тотъ Элизей, гд все таетъЧувствомъ нги и любви ⟨...⟩
[3: 75—76]
В заключительных строках Второго «Поцелуя» говорится о том, как старожи-лы встретят новых обитателей Элизия. Аналогичной сценой завершается элегия Батюшкова:
Тамъ, подъ тнью миртовъ зыбкой,Намъ любовь сплететъ внцы,И привтливой улыбкойВстртятъ нжные пвцы. [3: 76]
2. Обратимся ко французским подражаниям. В истории французской рецеп-ции Иоанна Секунда было два «всплеска». В XVI столетии «Basia» переводили
4 М. Л. Гаспаров в комментарии к «Поцелуям» указывает более отдаленные параллели — Hor. Epod. XVI, 41 сл. и Ovid. Amor. II, 6, 46—58 [8: 312]. Обсуждаемые параллели между Тибул-лом и Basium II не отмечены в коллективной монографии «Иоанн Секунд и римская любовная лирика» [46], при том что в ней обсуждается связь с Тибуллианским Элизием (Tibull. I, 3, 63) в «Оде к юной танцовщице» Иоанна Секунда [46: 316].
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 247
Ронсар и другие поэты Плеяды5, а в XVIII в. книгу «Поцелуев» издал Клод-Жан Дора (1770). В пику его свободным вариациям последовали точные прозаические и стихотворные переводы6.
В XVIII в. и в начале XIX в. Ронсар был не в почете. По словам Лагарпа («Лицей», ч. II, кн. I, гл. I), Ронсар «сегодня столь же дискредитирован, сколь был в свое время чтим»; его стихи прочно «забыты», их уже никто «не читает» [41: 105]. Лагарп решительно отрицал значение Плеяды для развития французского литературного языка и выделял в истории французской стиховой культуры XVI — начала XVII в. две главные фигуры: «Маро преуспел ⟨...⟩ в галантной и легкой поэзии; Малерб стал ⟨...⟩ создателем поэзии лирической» [41: 119]. Эта схема, унаследованная Лагарпом от Буало, пользовалась непререкаемым авторитетом у арзамасцев, и в этом отношении Батюшков не был исключением. Тем не менее я должен констатировать, что целый ряд отступлений от текста Иоанна Секунда у Батюшкова совпадает с отступлениями от латинского текста в ронсаровском пере-ложении Второго «Поцелуя» — песне к Елене («Chanson», 1578).
Именно Ронсар отказался от горацианского сравнения в начале стихотворения, оставив только овидианское:
Plus estroit que la Vigne à l’Ormeau se marie De bras souplement-forts, Du lien de tes mains, Maistresse, ie te prie, Enlace-moy le corps.(= Теснее, чем Виноградная Лоза сплетается с Вязом В обьятиях гибко-сильных,Узами рук твоих, Госпожа, я молю тебя, Обвей мое тело.) [45: 240]
Далее французский поэт вводит в стихотворение новый смелый образ:
Et feignant de dormir, d’une mignarde face Sur mon front panche toy:Inspire, en me baisant, ton haleine & ta grace Et ton cœur dedans moy.(= И, притворяясь спящей, милым лицом На мой лоб ты склонись:Вдохни, целуя меня, свое дыхание и свою грацию И свое сердце в меня.) [45: 240]
Аналогичная мотивная девиация у Батюшкова:
5 Эти переводы собраны в книге [37].6 Библиографию французских переводов Иоанна Секунда второй половины XVIII — на-
чала XIX в. см. в издании [38: XXIX—XXX].
И. А. Пильщиков 248
Такъ лилейными рукамиЦпью нжною обвей,Съедини уста съ устами,Душу въ пламени излей! [3: 75]
Во французском языке иной глагол — inspire ‘вдохни’, но замена вдохни на излей в таком контексте представляется вполне правомерной. По крайней мере, точно та-кую же замену допустил И. А. Аксенов, который вряд ли держал в памяти элегию Батюшкова, когда переводил эти же строки Ронсара:
И, притворствуя сон, ты, лица обаянье На чело мне склоня,Лобызая, излей свою прелесть, дыханье Да и сердце в меня. [7: 313]
В следующих строфах своего подражания Ронсар элиминировал мифоло-гические имена Церера и лиэй (ср. в латинском тексте: ⟨...⟩ Tunc me nec Cereris, nec amici cura Lyaei ⟨...⟩)7. Этих имен и связанных с ними тем нет и у Батюшкова. В отличие от Иоанна Секунда, который, не вдаваясь в топографию загробного мира, говорит о бледном чертоге Дита, Ронсар недвусмысленно называет место посмерт-ного бытия Элизийскими полями — les champs Elisez (в этом Батюшков снова ближе к Ронсару, чем к Секунду). Живописуя Элизий, Секунд повествует о благовонных полях (odorati campi); можно лишь догадываться, что благоухают там, вероятно, цве-ты и что эти поля, наверное, расположены на берегу, куда пристала ладья Харона. В «Песне» Ронсара прямо названы цветы, растущие на берегах подземной реки — les fleurs des riuages [45, 241]; ср. у Батюшкова: ⟨...⟩ Долу, къ тихимъ берегамъ, // Самъ онъ, богъ любви прелестной, // Проведетъ насъ по цвтамъ ⟨...⟩ [3: 75]8. вечную весну, о которой говорит Секунд (perpetuum ver), Ронсар именует вечным Апрелем: ⟨...⟩ du plaisant Auril la saison immortelle ⟨...⟩ [45: 241]. Аналогичное переименование совершает Батюшков в переводе параллельного места из Третьей Тибулловой эле-гии: ⟨...⟩ Тамъ вчная весна межь рощей и полей ⟨...⟩ (1811—1814) [1: 208] ® ⟨...⟩ Туда, гд вчный Май межь рощей и полей ⟨...⟩ (1817) [2: 23]. Эти сопоставления позволяют предположить, что Батюшков был знаком с текстом Ронсара.
3. В книге Дора, благодаря которой возобновился интерес к поэзии Иоанна Секунда и которая в конце XVIII — начале XIX столетия была «известна всем на свете» [36: ij], сюжет Второго «Поцелуя» поделен между двумя стихотворения-ми — «L’Extase» («Восторг») и «Les Ombres» («Тени»):
7 Лиэй (Λυαίος ‛освободитель’) — эпиклеса Вакха-Диониса. 8 Харона, которого имеет в виду Секунд (⟨...⟩ ratis una duos portaret amanteis ⟨...⟩), и Ве-
неру, которую в этом случае упоминает Тибулл (Sed me ⟨...⟩ ipsa Venus campos ducet in Elysios), Батюшков в обоих своих переводах заменяет Амуром по примеру, поданному А. де Бертеном в подражании Tibull. I, 3 [44: 86 n. 29; 24: 91].
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 249
L’ExtasE
Vois, ma Thaïs, cette vigne amoureuse Se marier à ce jeune arbrisseau; Vois le lierre embrasser l’ormeau De sa guirlande tortueuse. Puissent tes bras voluptueux Me serrer, m’enchaîner de même! ⟨...⟩Alors ⟨...⟩ La même barque au noir rivagePorteroit sans effort deux amans éperdus, Et nous y serions descendus, Avant d’avoir soupçonné le passage. (= Смотри, моя Таис, как эта влюбленная виноградная лоза Сплетается с этим молодым деревцем; Смотри, как плющ обнимает вяз Своей изгибающейся гирляндой. Пусть бы твои сладострастные руки Так же меня сжали, обвили б меня цепями! ⟨...⟩Тогда ⟨...⟩ Одна и та же ладья на черный берегБез труда унесла бы двух самозабвенных любовников, И мы бы на него сошли, Даже не догадавшись о том, что мы умерли.) [32: 88—89]
LEs OmbrEs
⟨...⟩ De ce globe échappés, nous verrons ces jardinsOuverts dans l’Élysée aux vertueux humains.Là, tout naît sans culture: en cet aimable asyleLa terre d’elle-même épanche ses présens:D’un soleil tempéré la lumière tranquilleA ce qu’il faut d’ardeur pour fixer le printemps.(= ⟨...⟩ Покинув этот мир, мы узрим те сады,Которые открыты в Элизии для добродетельных людей.Там всё рождается без возделывания: в этой восхитительной обителиЗемля из самой себя источает свои дары:Мягкий свет нежаркого солнцаНесет в себе достаточно тепла, чтобы сохранять весну.) [32: 106]
Оба подражания сделаны очень вольно; при этом некоторые отступления от латинского текста у Дора совпадают с отступлениями от текста Иоанна Секунда в стихотворении Батюшкова. Например, у Дора в «Les Ombres» тени нежных лю-бовников гоняются друг за дружкой; // Этих любовников больше нет, но их пламя возрождается:
⟨...⟩ des tendres amans les ombres se poursuivent;Ces amans ne sont plus, et leurs flammes revivent. [32: 107]
И. А. Пильщиков 250
В батюшковском «Элизии» любовникъ воскресаетъ // Съ новымъ пламенемъ въ крови9.
Есть отдельные моменты сходства между «Элизием» Батюшкова и наиболее точным из французских стихотворных переводов «Basia», изданным в 1806 г. Пьером-Франсуа Тиссо (профессором латинской словесности в Коллеж де Франс и будущим директором Французской академии):
Vois-tu cette vigne légèreVers l’ormeau conjugal monter avec amour? Vois-tu cet ambitieux lierreDu chêne aux long rameaux embrasser le contour? Ainsi puissent tes bras flexiblesL’un à l’autre enchaînés doucement me presser! Ainsi, par des nœuds invincibles,Par d’immortels baisers je voudrais t’enlacer ⟨...⟩ (= Видишь, как эта легкая виноградная лозаС любовью взбирается по супругу-вязу? Видишь, как этот стремящийся вверх плющОбнимает контур дуба с длинными ветвями? Пусть бы так же твои гибкие руки,Одна с другой сплетенные, будто цепи, нежно меня сжимали! Точно так же неразрывными узами,Бессмертными поцелуями я хотел бы обвить тебя ⟨...⟩) [35: 9]
Замечу, что 14 строка «Элизия» (⟨...⟩ Цпью нжною обвей ⟨...⟩) отражает фра-зеологию французского глагола enchaîner ‘связывать; сковывать цепями’, который появляется в ряде французских переводов Секунда на месте латинского ligare ‘свя-зывать’ (⟨...⟩ Candida perpetuum nexu tua colla ligare ⟨...⟩).
4. Неясно, был ли Батюшков знаком с двумя другими стихотворными перело-жениями «Basia», выполненными в начале XIX в. Один из них увидел свет в 1803 г. в Париже; неизвестный переводчик подписал свой опус «un amant de vingt-deux ans» («двадцатидвухлетний любовник»). Второй «Поцелуй» начинается здесь так:
Comme on voit la vigne voisineAvec l’ormeau se marier,Et s’élancer de la racineJusqu’au faîte du chêne altierLes immenses festons du lierreEn replis longs et tortueux;De même Adèle, amante chère!Viens jeter tes bras amoureux
9 С влиянием Дора связан рокайльный колорит батюшковского «Элизия», о котором писал М. О. Гершензон [12: 36].
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 251
Au cou de ton amant fidèle;Viens, enlaçons-nous tous les deux;Formons une chaîne éternelle.(= Как соседняя виноградная лозаСплетается с вязом,И устремляется от корняДо вершины высокого дубаБесконечные гирлянды плющаДлинными и извилистыми изгибами;Так же и ты, Адель, дорогая возлюбленная!Давай, обними влюбленными рукамиШею твоего верного любовника;Давай, устремимся оба;Сплетемся вечной цепью.) [34: 8]
Другой перевод тоже вышел из-под пера дилетанта — начальника бюро военного министерства П.-Ж. Ге (Heu):
Autour d’un jeune ormeau la vigne s’entrelace Et l’enchaîne amoureusement;A l’abrisseau voisin le lierre s’attachant, De ces rameaux étroitement l’embrasse.Imitons les, Doris ⟨...⟩L’un à l’autre que rien ne nous puisse arracher!Dans les bras d’un de l’autre, aimable et tendre amie,Voluptueusement exhalons notre vie! Le vieux Caron, cet avide nocher, Tous les deux d’un même voyage Nous conduira vers ce sombre rivage Que redoute un amant pervers; Et sans nous être aperçus du passageNous serons descendus chez le dieu des enfers.(= Вокруг молодого вяза виноградная лоза обвивается И любовно оплетает его цепью;Приникая к соседнему деревцу, плющ Крепко обнимает его своими ветвями.Последуем их примеру, Дорида ⟨...⟩Пусть ничто не сможет оторвать нас друг от друга!В объятиях друг друга, моя милая и нежная подруга,Сладострастно уйдем из жизни! Старый Харон, этот алчный кормчий, Нас обоих в одной и той же лодке Повезет к тем мрачным берегам, Которых страшится порочный любовник; И, даже не заметив того, что мы умерли,Мы обнаружим, что сошли к богу преисподней.) [36: 11]
И. А. Пильщиков 252
Прозаические переводы «Basia» en regard Ж.-Ж. Мутонне де Клерфона (1771), О.-Г. Мирабо (1778—1780), Э.-Т. Симона (1786) в настоящей работе рас-сматриваться не будут: характер соответствий между батюшковским «Элизием» и стихотворением Секунда таков, что мы не можем точно сказать, в какие фран-цузские тексты, печатавшиеся параллельно с латинским подлинником, загляды-вал русский поэт.
5. Выявление источников «Элизия» принуждает заново поднять вопрос о верси-фикационной форме, которую придал этому произведению Батюшков. «Поцелуй» Иоанна Секунда написан, как уже было сказано, эподическими двустишиями. В его первом французском переложении — «Песне» Ронсара — использован уре-гулированный неравносложный стих, в котором длинные (12- сложные) строки с женскими окончаниями перемежаются короткими (6 -сложными) строками с муж-скими окончаниями. Неклассическими метрами Батюшков, за редчайшими ис-ключениями, не пользовался [20: 99—100]. С имитацией античного размера он экспериментировал лишь единожды и оставил работу в черновике [18: 476—477]. Можно было бы ожидать, что, ориентируясь на размер французского текста-посредника, русский поэт выберет для своего подражания его приблизительный силлаботонический аналог — это мог быть либо трехсложный размер (анапест) с регулярным чередованием 4- и 2-стопных строк (как в переводе Аксенова), либо, что гораздо более вероятно, двусложный размер (ямб) с регулярным чередованием 6- и 3-стопных строк (ср. [10: 127, 129]). Однако этого не произошло. Почему? Очевидно, потому что Батюшков и его современники воспринимали французский стих, в котором двенадцатисложники чередуются с шестисложниками, не так, как воспринимал этот стих Ронсар: недаром же никто из французских поэтов, пере-водивших Иоанна Секунда в XVIII и в начале XIX в., ронсаровским размером не воспользовался.
Когда в 1578 г. Ронсар создавал свою песню к Елене, он, разумеется, не мог знать, что после него, по словам Буало, «придет Малерб» («L’Art poétique», I, 131) и в конце 1590-х напишет тем же размером свои стансы «Утешение господи-ну Дюперье.. на смерть его дочери» («Consolation à Monsieur du Périer.. sur la mort de sa fille»), которые станут хрестоматийными благодаря знаменитому катрену:
Mais elle etait du monde, où les plus belles choses Ont le pire destin;Et Rose elle a vécu ce que vivent les roses, L’espace d’un matin.(= Но она принадлежала миру, где прекраснейшие вещи Имеют наихудшую судьбу;И, Роза, она прожила столько, сколько живут розы — Всего одно утро.) [42: 213 (2e pag.)]
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 253
Об этом стансе Пушкин сказал: «Малерб держится 4 стр.⟨оками⟩ оды к Дюперье и стихами Буало» [25: 191]. «Стихи Буало» — это тот самый пассаж из I-й песни «L’Art poétique»: Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, // Fit sentir dans les vers une juste cadence ⟨...⟩ (= Наконец пришел Малерб и первым во Франции // Дал почувствовать подлинную гармонию стихов ⟨...⟩).
Подобно всем своим современникам, начитанным во французской поэзии, Батюшков знал строки Малерба наизусть. В мае 1811 г. он цитировал их в тетради «Разные замечания»: «⟨...⟩ Ети слова ⟨...⟩ весьма кстат приложены къ двиц кото-рая завяла на утр жизни своей et rose elle a v⟨é⟩cu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin» [16: л. 123]. Цитата выписана in continuo, и во всем приведенном отрывке есть только один знак препинания. Единственная запятая в этом пассаже стоит после слова roses и отмечает междустрочную паузу: внутренне Батюшков ощущал стихотворный ритм французской фразы10.
О стансах Малерба к Дюперье Лагарп писал в «Лицее» (ч. II, кн. I, гл. I): «Рассмотрим сначала выбор ритма (ce choix du rhythm): этот короткий стих, регу-лярно появляющийся после первого стиха, так прекрасно изображает уныние скор-би (ce petit vers qui tombe régulierement après le premier, peint si bien l’abbatement de la douleur)! Вот в чем подлинный секрет гармонии, о которой так много говорят сегодня: дело заключается не в том, чтобы с трудом ее выработать, а в том, чтобы со вкусом ее избрать (la choisir avec goût)» [41: 124]. «Элизий» и его прототексты — это стихи о радостной смерти в наслаждении и соединении любовников за гро-бом, а размер, использованный в стихотворении Малерба, на двести с лишним лет стал размером траурных элегических стансов о вечной разлуке [39: 171 сл.; ср. 43: 650—652]. Вот почему Тиссо, желавший сохранить характерный контраст между длинными и короткими строками в стихотворении Иоанна Секунда, вынужден был вывернуть хрестоматийный размер «наизнанку»: нечетные места в переводе Тиссо занимают не длинные, а короткие строки, а четные места — наоборот, длинные.
Что касается Батюшкова, то 4-/2-стопных трехсложников у него нет вовсе [20: 111—112; ср. 8: 121—122], а размер, в котором 6-стопные двусложники (правда, не ямбы, а хореи) чередуются с 3-стопными, он избрал (вполне вероятно, следуя со-вету Лагарпа) лишь единожды — для элегии «На смерть супруги Ф. Ф. К⟨окошки⟩на», написанной в конце апреля или в начале мая 1811 г.:
Нтъ подруги нжной, нтъ прелестной Лилы! Все осиротло!Плачь любовь и дружба, плачь Гименъ унылый! Счастье улетло! ⟨...⟩
10 Строфу Малерба поэт вспомнил еще раз в письме Вяземскому от 25 марта 1815 г. в связи с преждевременной смертью А. Д. Полторацкой: «Вчера ее не стало, et rose elle a v⟨é⟩cu...» [26: л. 74].
И. А. Пильщиков 254
Все вокругъ уныло! Чуть Зефиръ весеннiй Памятникъ лобзаетъ;Здсь, въ жилищ плача, тихiй смерти Генiй Розу обрываетъ.Здсь Гименъ прикованъ, блдный и безгласный, Вчною тоскою,Гаситъ у гробницы свой свтильникъ ясный Трепетной рукою! [2: 84—85]
Тема та же, что и у Малерба, — это стансы к другу, потерявшему близкого челов. (в одном случае — юную дочь, в другом — молодую жену, которая тоже сравни-вается с розой).
Из поэтов, чье творчество было безусловно значимо для Батюшкова, одно сти-хотворение этим же редким размером написал в 1803 г. В. В. Капнист [27: 302—303]. Оно называется «На смерть друга моего»:
Ахъ! по что любезна друга, рокъ постылой! Ты меня лишаешь?Съ кмъ длилось сердце, хладной съ тмъ могилой Вчно раздляешь. ⟨...⟩Къ чьей груди осталось приложить мн нын Грудь осиротлу?Среди людства буду, какъ въ глухой пустын, Жизнь влачить я цлу. ⟨...⟩Вслдъ тебя отнын лишъ любовь уныла Гробъ твой посщаетъ:Тамъ, твой прахъ пожравша хладная могила Слезы пожираетъ. [17: 150—153]
В «Элизии» такой размер использован быть не мог. Для этого произведения Батюшков выбрал «короткий» двусложный тетраметр, причем «нейтральному» 4-стопному ямбу он предпочел «анакреонтический» 4-стопный хорей с че-редованием женских и мужских окончаний [20: 104; 9: 114; 11: 193, 202—203]. Действительно, хотя при первой публикации стихотворение имело подзаголовок «Отрывок из элегии», в батюшковском «Расписании моим сочинениям» (1810) «Элизий» помещен в раздел Анакреонтеи [16: л. 40 об.].
Хорошо известно, что 4-стопный ямб нередко служил аналогом французского 8-сложного стиха [10: 123]. Именно восьмисложниками написано бертеновское под-ражание Третьей Тибулловой элегии, оказавшее воздействие и на батюшковский пе-ревод из Тибулла, и на батюшковское подражание Иоанну Секунду (см. примеч. 8). Перевод Второго «Поцелуя», принадлежащий «двадцатидвухлетнему любовнику»,
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 255
тоже выполнен восьмисложником. Однако от 4-стопного ямба Батюшков отказал-ся, как отказался от александренов, которыми в его элегической лирике написаны только «подражания древним» — три Тибулловых элегии (1809—1811) и элегизи-рованная идиллия Биона (1811) [22: 97, 100, примеч. 18]. Отказался Батюшков и от вольного стиха, хотя, в принципе, ничто не мешало ему последовать примеру Дора, у которого в первом подражании использован вольный стих, а во втором — александрены вольной рифмовки. Во Франции вольным стихом Второй «Поцелуй» перевел последователь Дора П. -Ж. Ге, а в России — некий Д. Богданов:
ПОЦЛУЙ.
Какъ виноградный кустъ втвями голубыми Объемлетъ яворъ полевой;И плющъ віющійся листами молодыми Сжимаетъ крпко вязъ густой:Такъ ты, прекрасная, горя любовью нжной,Обвейся вкругъ меня рукою блоснжной; Такъ я, прильнувъ къ твоимъ устамъ На вкъ горячими устами, И выю окруживъ руками, Не позавидую богамъ. ⟨...⟩ Пусть въ сей отрадный часъ Смерть лютая застанетъ насъ. Тогда одинъ подземный чолнъ, По влаг темныхъ волнъ, Младыя наши тни Помчитъ въ густыя сни Неувядаемыхъ садовъ. И мы, по зелени луговъ, Придемъ въ обитель цвтовъ ⟨...⟩ [5: 266—267]
Возможно, выбирая 4-стопный хорей, Батюшков все же опирался на прецедент, только не русский или французский, а немецкий. В 1776 г. Готфрид Август Бюргер написал 4-стопным хореем AbAb стихотворение «Die Umarmung» («Объятия»). Оно представляет собой, как говорит сам автор, вариацию на тему «одной элегии (eine Elegie) И о а н н а С е к у н д а» [31: XIII]:
Wie um ihren Stab die RebeBrünstig ihre Ranke strikt,Wie der Epheu sein GewebeAn der Ulme Busen drükt; ⟨...⟩
И. А. Пильщиков 256
Dürft’ ich so dich rund umfangen!Dürftest du, Geliebte, mich! —Dürften so zusammenhangenUnsre Lippen ewiglich! ⟨...⟩ Sterben wolt’ ich im Genusse,Wie ihn deine Lippe beut,Sterben in dem langen KusseWollustvoller Trunkenheit. (= Как вокруг шеста виноградная лозаСтрастно обвивает свои побеги,Как плющ свою паутинуПрижимает к лону вяза; ⟨...⟩ Если бы так же я мог тебя обнять,А ты, любимая, меня! —Если бы могли так слитьсяНаши губы навсегда! ⟨...⟩ Я хотел бы умереть в наслаждении,Которое дают твои губы,Умереть в долгом поцелуе,Опьянясь его блаженством.) [31: 243—244]
В стихотворении Бюргера появляется специфичный мотив, который мож-но условно назвать «знаменитые любовники» (Сафо и Фаон, Петрарка и Лаура, Элоиза и Абеляр):
Wo das Auge des BetrübtenSeine Thränen ausgeweint,Und Geliebte mit GeliebtenEwig das Geschik vereint; Wo nun Phaon, voll Bedauren,Seiner Sapho sich erbarmt;Wo Petrarka ruhig LaurenAn der reinsten Quell’ umarmt; Und auf rundumschirmten Wiesen,Nicht von Argwohn mehr gestört,Glüklicher bei HeloisenAbälard die Liebe lehrt. (= ⟨Там⟩, где глаза печальныхВыплакали свои слезы,И возлюбленного с возлюбленнойНавечно соединяет судьба; Где ныне Фаон, полный раскаянием,Сжалился над своей Сафо;
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 257
Где Петрарка тихо ЛауруОбнимает у чистейшего ручья; И на бескрайних лугах,Не терзаемый больше подозрением,Счастливый возле ЭлоизыАбеляр учит любви ⟨...⟩) [31: 245—246]
Именно это подражание Секунду послужило оригиналом 4-стопно-хореическ-ого стихотворения Г. Сокольского «Прощание»:
Коль судьба опредлилаНамъ въ разлук дни вести,Покоримся небу, Лила! —Другъ души моей прости!Дай же руку на прощанье,На тоску грядущихъ лтъ;Парка горе и страданьеС нитью жизни пресечетъ.Къ тмъ селеньямъ безопаснымъНаши души воспарятъ,Гд подъ небомъ вчно-яснымъДни весенніе летятъ;Гд лишь мирты зеленютъ,Ручейки светлй текутъ;Бурны втры дуть не смютъ,Птички сладостнй поютъ:Тамъ унылой и несчастныйБезотрадно слезъ нельетъ;И любовникъ врный, страстныйЖизнь съ подругою ведетъ;Тамъ Фаонъ неизбгаетъСафо нжныя слдовъ;Тамъ Петрарка обнимаетъТнь Лауры у бреговъ;И въ невинной пылкой страстиСъ Елоизой Абелардъ,Нестрашась тиранской власти,Счастьемъ длятся стократъ!Тамъ, о Лила! въ мирной сни,Посреди златыхъ полейБудутъ вмсте наши тниНаслаждаться благомъ дней. [28: 91—92]
Однако интерес к немцам Батюшков начал проявлять только с 1813 года [14: 154 сл.; 23: 210 примеч. 218], а «Элизий» написан в 1810-м, когда поэт увлекался
И. А. Пильщиков 258
латинской, итальянской и французской поэзией [23: 62; и др.]. Видимо, неслучайно, что заглавие батюшковского стихотворения — «Элизий» — ориентировано именно на французскую традицию переводов Второго «Поцелуя»: так, прозаический пере-вод Э.-Т. Симона (1786) озаглавлен «L’Elysée» («Элизий») [47: 71], а стихотвор-ный перевод «двадцатидвухлетнего любовника» носит заглавие «Les Ombres, ou l’Elysée» («Тени, или Элизий»). Таким образом, вопрос о метрическом прототипе стихотворения Батюшкова (если таковой был) остается открытым. В этой связи необходимо указать еще один — русский прецедент «анакреонтической» реинтер-претации Секунда. В журнале «Модное ежемесячное издание, или Библиотека, для дамского туалета» (1779) было опубликовано стихотворное подражание первой ча-сти Второго поцелуя, выполненное безрифменным 4-стопным хореем:
ЕлисЕйскіяполяОбойми меня драгая,Какъ и грозды виноградныСвой обьемлютъ твердый стебель;И какъ будто почиваяПриклонись ко мн пріятно,Чтобъ любовь въ меня вдохнутиСладкимъ звукомъ поцлуевъ.Я въ награду поклянуся,Чтобъ ни мало не старатьсяИзъ твоихъ стей мн вырватьУловленно сердце ими.Но когда умремъ мы оба,То скажу тогда Харону,Чтобъ въ одной Харонъ насъ лодкПеревезъ въ поля пріятны,Гд въ кустахъ густыя миртыТни смертныхъ любятъ нжно.Я и тамъ любить тя будуПрямо райски лобызая. [13: 42—43]11
Не исключено, что по пути «анакреонтизации» (и, соответственно, «хореи-зации») элегии Батюшков пошел совершенно самостоятельно. В том же 1810 г. он перевел 4-стопными хореями целый ряд произведений, написанных разными размерами: «Привидение. Из Парни» (оригинал — «Le Revenant»; восьмислож-ник), «Ложный страх. Подражание Парни» (оригинал — «La Frayeur»; десятис-ложник), «Счастливец. (Подражание Касти: Odi le rapide ruote sonanti)» (ориги-нал — «A Fille»; 5-сложник с чередованием дактилических и женских клаузул). В батюшковских «Опытах в Стихах и Прозе» [2] подражание стихотворению
11 Пользуюсь случаем поблагодарить А. C. Бодрову за указание на русские подражания Bas. II.
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 259
Касти (которое в изданиях его лирики помещается среди «Anacreontiche» [4: 508]) включено в раздел «Смесь», а упомянутые переводы из Парни — в раз-дел «Элегии», но анакреонтический «субстрат» ощутим во всех трех переводах-подражаниях. Об этом свидетельствует, в том числе, их литературный генезис: например, на поэтику и стилистику «Привидения» непосредственное влияние оказало стихотворение Державина «Любушке», написанное 4-стопным хореем и вошедшее в сборник «Анакреонтические песни» (1804) [15: 16; 44: 82 n. 4]. Таким образом, 4-стопный хорей становится у Батюшкова средством трансфор-мации элегического жанра, открывающим его для воздействия со стороны сосед-них жанров — в данном случае анакреонтической лирики. В этом проявляется тенденция к размыванию жанровых границ, характерная для «среднего стиля» предпушкинской эпохи.
Литература
1. Батюшков [к.] Тибуллова Элегия. (Книга 1. Элегия 3) // Пантеон Русской Поэзии. СПб., 1815. Ч. IV, кн. 8. С. 204—211.
2. Батюшков к. Опыты в Стихах и Прозе. СПб., 1817. Ч. II. 3. Батюшков к. Сочинения в прозе и стихах. 2-е изд. СПб., 1834. Ч. II. 4. Батюшков к. Н. Сочинения / Ред., ст. и коммент. Д. Д. Благого. М.; Л., 1934. 5. Богданов Д. Поцелуй // Сын Отечества. 1828. Ч. 120, № 15. С. 266—268. 6. вацуро в. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. 7. Гаспаров М. л. Поэзия Иоанна Секунда // Эразм Роттердамский. Стихотворения; Иоанн
Секунд. Поцелуи. М., 1983. С. 256—272. 8. Гаспаров М. л. [Примечания]: Иоанн Секунд. Поцелуи // Эразм Роттердамский.
Стихотворения; Иоанн Секунд. Поцелуи. М., 1983. С. 312—316. 9 Гаспаров М. л. Очерк истории русского стиха: Метрика; Ритмика; Рифма; Строфика.
М., 1984.10. Гаспаров М. л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.11. Гаспаров М. л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999.12. Гершензон М. о. Пушкин и Батюшков // Атеней: Историко-литературный временник.
[М.; Л.], 1924. Кн. 1/2. С. 25—36.13. Елисейские поля // Модное ежемесячное издание, или Библиотека, для дамского туале-
та. СПб, 1779. Ч. II. Мес. Апр. С. 42—43.14. Зорин А. л. Батюшков и Германия // Arbor mundi = Мировое древо. М., 1997. Вып. 5.
С. 144—164.15. Ионин Г. Н. Анакреонтика К. Н. Батюшкова и Г. Р. Державина // Венок поэту: Жизнь и
творчество К. Н. Батюшкова. Вологда, 1989. С. 15—27.16. Ин-т рус. лит. РАН (Пушкин. Дом). Рукоп. отд. Ф. 19 (К. Н. Батюшков). Ед. хр. 1
(«Разные замечания»).17. капнист в. Лирические сочинения. СПб., 1806.18. кошелев в. А. Комментарии // к. Н. Батюшков. Сочинения. М., 1989. Т. I. С. 437—
486.
И. А. Пильщиков 260
19. Майков л. Н., в. И. Саитов. Примечания // к. Н. Батюшков. Сочинения. СПб., 1887. Т. I. С. 301—441 (2-й паг.).
20. Матяш С. А. Метрика и строфика К. Н. Батюшкова // Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских поэтов. М., 1979. С. 97—114.
21. Пильщиков И. А. Литературные цитаты и аллюзии в письмах Батюшкова: (Комментарий к академическому комментарию. 1—2) // Philologica. 1994. Т. 1. № 1/2. С. 205—239.
22. Пильщиков И. А. О роли версий-посредников при создании переводного текста: (Дмитриев — Лагарп — Скалигер — Тибулл) // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4. С. 87—111.
23. Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии: Филологисеские разыскания. М., 2003.
24. Пильщиков И. А. Символика Элизия в поэзии Батюшкова // Антропология культуры. М., 2004. Вып. 2. С. 86—123.
25. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 16 т. [М.; Л.], 1949. Т. 12.26. Рос. гос. архив лит. и искусства. Ф. 195 (И. А., А. И., П. А. и П. П. Вяземские). Оп. 1.
Ед. хр. 1416.27. Серман И. З. В. В. Капнист и русская поэзия начала XIX в. // XVIII век. М.; Л., 1959.
Сб. 4. С. 289—303.28. Сокольский Г. Прощание // Вестник Европы. 1816. Ч. LXXXVII, № 10. С. 91—92.29. Фридман Н. в. Новые тексты К. Н. Батюшкова: (К 100-летию со дня смерти поэта) //
Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1955. Т. XIV, вып. 4. С. 364—371.30. Фридман Н. в. Примечания // К. Н. Батюшков. Полное собрание стихотворений. М.; Л.,
1964. С. 257—333.31. Bürger G. A. Gedichte. Göttingen, 1778.32. Dorat C.-J. Les baisers, Précédés du Mois de Mai: Poème. P., 1770.33. Ellinger G. Einleitung // Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts. B.,
1899. [H.] 14: Ioannes Nicolai Secundus. Basia. S. I—L.34. Jean Second. Nouvelle traduction en vers des dix-neuf Baisers / Par un amant de vingt-deux
ans. P., an XI = 1803.35. Jean Second. Baisers et Élégies. Avec le texte latin; Accompagnés de plusieurs morceaux
de Théocrite, d’Anacréon, de Guarini et du Tasse, trad. en vers français; Suivis de quelques Baisers inédits / Par P.-F. Tissot. P., 1806.
36. Jean Second. Les Baisers. Traduction en vers français, accompagnée du texte latin / Par P.-J. Heu, Chef de Bureau du Ministère de la Guerre. P., 1806.
37. Jean Second. Les Baisers / Imités par P. de Ronsard et ses disciples. Monaco, 1946.38. Jean Second. Les Baisers, suivis de six poèmes / Texte établi, présenté et trad. par O. Sers. P.,
1996.39. Fromilhague R. Malherbe: technique et création poétique. P., 1954.40. Kažoknieks M. Studien zur Rezeption der Antike bei Russischen Dichtern zu Beginn des
XIX. Jahrhunderts. München, 1968.41. Laharpe J. F. Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne. P., an VII [= 1799]. T. IV.42. Malherbe F. de. Les Œuvres. 2-e éd. P., 1631.43. Mo G. B. Larmes et monuments: François de Malherbe aujourd’hui // Romansk forum. 2002.
№ 16. P. 647—655.44. Pilshchikov I. A. On Baratynsky’s «French trifle»: The Elysian Fields and its Context // Essays
in Poetics. 1994. Vol. 19, № 2. P. 62—93.45. Ronsard P. de. Les Œuvres. Rev., corr. & augment. par l’Autheur. P., 1584.
Батюшков — Малерб — Ронсар — Иоанн Секунд 261
46. Schäfer E. (Hrsg.) Johannes Secundus und die römische Liebeslyrik. Tübingen, 2004.47. [Simon É.-T.] Choix de Poésies, trad. du grec, du latin, et de l’italien. Contenant la Pancharis
de Bonnefons, les Baisers de Jean Second, ceux de Jean Vander-Does, des morceaux de l’An-thologie & des Poëtes anciens & modernes. Avec des Notices sur la plupart des Auteurs qui composent cette Collection / Par M. E. T. S. D. T. [= Mr É.-T. Simon de Troye]. Londres [= P.], 1786. T. I.