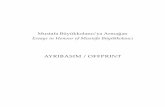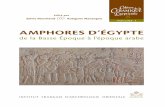Амулетные наборы из погребений некрополя городища...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Амулетные наборы из погребений некрополя городища...
ACADEMY OF SCIENCES OF UZBEKISTAN
BRANCH OF SAMARKAND INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
Г
OF MATERIAL CULTURE
OF UZBEKISTAN (HMCU)
Tashkent “FAN” Publishing Hause
Academy of Sciences Republic of Uzbekistan
Л
32 - EDITION
Edited by TJSh. Shirinov,
doctor of historical sciences
2001
И М К У - 32
Е.А. Смагулов
АМУЛЕТНЫЕ НАБОРЫ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ НЕКРОПОЛЯ ГОРОДИЩА КОНЫРТОБЕ В
ОТРАРСКОМ ОАЗИСЕМогильник Коныр-тобе расположен в
0,3-0,4 км к западу от одноименного городища, находящегося в западной части Отрарского оазиса.1 В юго-восточной части могильника расположены несколько сильно оплывших невысоких холмов. Раскопки произведены на наиболее массивном из них.
Он имел уплощенную вершину высотой до 2,5 м и площадью в основании - 35x45 м. Расчищено около 90 погребений, расположенных в некоторых случаях вплотную друг к другу. Глубина залегания погребений колеблется от 0,4 до 1,5 м от вершины холма. Погребения совершены в прямоугольных ямах в сырцовых склепах, имевших, видимо, кирпичные перекрытия (тип I), а также в простых прямоугольных ямах (тип II). Отдельные погребения детей- подростков совершены в хумах или крупных кувшинах (тип III). Погребения в большинстве случаев не потревожены, кости лежат в анатомическом порядке (рис. 1-3).
Рис. 1. Погребение № 40
Рис. 2. Погребение № 32
У погребений I типа толщина с стен составляет 45-50 см (в один кирпич), камеру размером 0,7-1,75x1,6-2,2 м органическую подстилку, которая руется по слою черного тлена, помещала
.А. Смагулов 91
д р а и л а
ллсдааллг Iu l .T£i- gj а ,с ■ I
Уущ v - й
-1- (№V№llW
9*p*a& О
f f A f P 4 { U
Погребение Me 14
tv**>
Сг?
.’ЛД
Погребение № 43
Рис. 3. Погребения № 14 и 43. Обычное размещение находок в погребении
покойник. Погребаемые укладывались на Iспину; руки вдоль тела, кисти рук на тазовых костях или под ними, иногда на полу. Ноги вытянуты, голени иногда перекрещены, череп лицом вверх. В изголовье или в ногах помещался керамический кувшин; иногда с кружкой, установленной на устье кувшина. Рядом находятся кости передней ноги овцы с лопаткой; чаще они находятся в ногах покойника, По погребальному инвентарю достаточно четко. различимы мужские и женские погребения.
Предварительным антропологическим обследованием серии из двадцати черепов установлено, что на пятнадцати из них имеется кольцевая деформация. Из них девять мужских черепов и шесть женских.
В мужских погребениях обычно железные пряжки от поясов трех основных типов (рис. 5).
Тип 1 - простые круглые пряжки с подвижным язычком.
Тип 2 - аналогичные пряжки с железной обоймой-приемником.
Тип 3 - простые железные пряжки с рамкой подчетырехугольных очертаний.
В одном случае (погр. № 9) на костяке обнаружены два пояса с бронзовыми пряжками и бронзовыми «зигзагообразными» накладками, плотно покрывавшими часть ремня (20-25 см) у пряжки (рис. 4-3,5). Накладки крепились с помощью двух заклепок. Бронзовые пряжки встречены и в других погребениях. Они также трех типов - с подвижным приемником, с неподвижной плас- тиной-щитком и без этих деталей (рис. 4).
Уникальная пряжка происходит из разрушенного погребения № 14 А - круглая рамка ее выточена из зеленого нефрита, а язычок и подвижный щиток с тремя заклепками изготовлены из бронзы (рис. 4-1).
В мужских погребениях, помимо небольших железных ножей, встречающихся и в женских погребениях, найдены железные кинжалы без перекрестий и наверший с длиной клинка около 40 см и железные трехлопастные черешковые наконечники стрел. В одном случае зафиксированы совершенно истлевшие костяные пластины, вероятно, накладки на лук.
92 И М К У - 32
I— I Ь|
Рис. 4. Бронзовые пряжки из погребений могильника Коныртобе
Для женских погребений характерны разнообразные бусы (горный хрусталь, стеклопаста, сердолик, гагат, коралл, янтарь, керамика), находящиеся вокруг’ шеи и запястий рук. Встречаются палочки сурматаш с кусочками графита, бронзовые амулеты в виде фигурок козлов и бронзовые зеркала. Также встречались бронзовые шпильки для волос с головкой в виде полого составного шарика и костяные с фигурной головкой (рис. 6-8). Шпильки вставлялись в волосы с тыльной стороны, острием вперед. На шее женщины из одного захоронения некогда была бронзовая цепь с замком в виде двух колечек (рис. 8-4). Интересна серебряная подвеска - кулон (погребение № 40). Она
Ц. .) . I I t 17
Рис. 5. Ж елезные пряжки
найдена в верхней части груди, рядом две маленькие черные бусины. Подвеска овальной формы (12x15 см). В центре маленькая гранатовая вставка, обведенная пояском мелкой зерни. По краю пластины еще один ряд зерни (рис. 7-18). Отметим также еще одну бронзовую подвеску из детского погребения (№ 2). Сохранился лишь фрагмент, представляющий собой два круглых гнезда для вставок, напаянных на тонкую пластину-основу.
Детские погребения совершались неглубоких ямах и в крупных сосудах типа кувшинов и хумчей. В некоторых случаях (погр. №№ 20, 35, 24, 9) детские погребения сопровождали женские. В детских погребениях имелись небольшие кружечки, 2-3 бусины, подвески из раковины cauri.
Следует отметать, что в некоторых случаях на лицевых костях черепа (обычно на нижней челюсти или под ней; во рту или поперек лица) были обнаружены тонкие медные пластины шириной 3-5 см и длиной
Е.А. Смагулов 93
Рис. 6. Украшения из погребения № 43
8/10 см, на трех пластинах нанесены выдавливанием простейшие узоры (рис. 8-1). вероятно, пластины были наложены на 1убы покойника. При этом лицо закрывалось покрывалом, поскольку на нижней поверхности пластин заметны следы истлевшей ткани.
Глиняные кувшины и кружки сопровождают более 90% расчищенных погребений. Кувшины представлены двумя типами: с носиком-сливом и без него. Первые - крупных размеров, высотой до 75-85 см., имеют покатые плечики, ручка соединяет плечико и верхнюю часть горловины. Венчик отогнут, профилирован. Горловина обычно имеет рифление в виде кольцевых валиков или прочерченных полос. Иногда полосы покрывают верхнюю часть тулова. Ручки уплощены, на спинке продольная канавка. В отдельных случаях у ручки характерный изгиб в средней части (рис. 9, 12). Кувшины без носиков-сливов имеют те же признаки, но они несколько меньших размеров (высотой до 70 см). Кувшины покрывались ангобной обмазкой различных оггенков красного цвета, реже черной или темно-коричневой (рис. 10).
Кружки можно также подразделить на два типа по характеру ручек: в первом
случае ручка в виде кольца крепится к плечику или средней части тулова или ручка соединяет плечико и венчик; во втором случае характер замеса теста грубый с включением крупных зерен шамота, толстые стенки, неполный обжиг. По пропорциям два типа кружек близки друг другу. Хотя в первом типе преобладают сосуды с четко выделенной и более высокой горловиной (рис. 11).
Аналогии подобной керамики широко представлены в памятниках присырдарьинских каунчиноидных культур первой
половины 1 тысячелетия н.э. 2 Массовый материал в виде коллекций разнообразных бус, серег, ножей, кинжалов, стрел и пр., а также, наблюдения за погребальной практикой социума, оставившего данный некрополь - все это требует более детальной публикации. Здесь же остановимся подробнее на характеристике «жертвенных амулетных наборов», наличие которых четко зафиксировано в целом ряде погребений. Они являются специфическим атрибутом исключительно женских погребений. Их состав может быть самым разнообразным, но их местонахождение в погребении свидетельствует о том, что нитка, на которую были нанизаны амулеты, не была надета на умершую, а была положена в свернутом виде (в мешочке?) на соответствующим образом экипированную покойницу. Возможно, эту нитку положили в последний момент, вместе с установкой в могиле сосудов и других атрибутов. Обычно эти «наборы» фиксируются на костях скелетов в области живота, ближе к поясу. В отдельных случаях кучки этих предметов отмечены на груди (погребение № 65) и рядом со скелетом, у локтя левой руки (погребение № 47). Необходимо отметить также, чго женские погребения, в которых обнаружены «амулетные наборы», отли -
94 И М К У - 32
г
8
© /в• jj
/J
о
/(9
- ейЁ*аО
1 1
/ /
/(9
Рис. 7. Украшения из погребения № 40
19
Рис. 8. Находки из разных погребений. 1-фрагмент медной надгубной пластины; 2-3- бронзовые «козлики» из погребения № 41; 4-бронзовая цепочка из погребения № 65
96 И М К У - 32
чаются разнообразием другого специфически «женского» инвентаря - сурматаши, зеркала, бусы и прочее, исключение составляет лишь детское погребение № 56. Рассмотрим состав наборов в каждом конкретном случае.
Погребение № 9. На позвоночнике в области пояса расчищены лежащие рядом: хрустальная граненая бусина (высота-2,1 см; диаметр-2,45 см), хрустальная круглая бусина (высота-1,4см; диаметр-2,1см) и пронизка из халцедона, граненая с плоским основанием (высота-2,3 Схм; ширина-2,2 см).
Погребение № 15. Примерно на том же месте скелета обнаружена шестигранная хрустальная бусина (высота-1,3см; дм.-1,6 см), шаровидная, керамическая бусина (выс. - 2,0 см; дм. - 2,1 см) и керамическая подвеска в виде кувшинчика (выс. - 2 см; дм. тулова -1,3 см).
Погребение № 16 - на костях позвоночника, в области пояса, обнаружены две хрустальные, граненые уплощенио-бикони- ческие бусины (шир.-1,7 и 1,4 см; выс.-2,5 см), три крупные глазчатые бусины (дм-1,2- 1,5 см), одна крупная из красного сердолика (выс. 1,5-1,15см), четыре сердоликовые, но более мелкие (дм.-0,65-0,8 см), две уплощенные, круглые из черного гагата (дм.-1,5 см), три раковины cauri, просверленный клык хищника, бронзовое пластинчатое колечко (дм.-0,8 см) и бронзовая круглая пластинка с двумя отверстиями.
Погребение № 40 - на ребрах ближе к правому локтю расчищены лежавшие кучкой, иногда друг на друге, одна хрустальная пятигранная (выс. - 1,55 см; дм. -2,1 см), одна шестигранная (выс.-1,25 см; дм.-1,85), две круглые сердоликовые бусины. Три глазчатых круглых (выс.-1,5-1,7 см; дм.-1,9-2 см), одна пастовая ребристая (выс.-1,25 см; дм.-1,75 см), уплощенно-круглая из янтаря бусина (выс.-1,2 см; дм.-2,9 см), два бронзовых козлика (2,7 -2,5 см). В отверстиях бронзовых фигурок сохранились фрагменты шерстяной нитки (рис. 7).
Погребение № 42 - справа от позвоночника две бронзовые фигурки козликов и стеклянная ребристая бусина (выс.-1,1 см; дм.-1,5 см), (рис. 8,2-3).
Погребение № 43 - справа от позвоночника в области живота расчищена кучка бусин. Граненая, хрустальная уплощенно- ромбическая (выс.-3,0 см; толщ.-1,5 см; дм.- 2,1 см), пять круглых, глазчатых (дм.-2,2 см; выс.-2,1 см), пастовая, цилиндрическая (дл,- 1,9 см; дм.-1,0 см), две круглые (выс.-1,9; 1,0 см; дм.-1,6 и 1,2 см) сердоликовые, две
бронзовые фигурки козликов, бронзовый колокольчик (дм.-1,5см), бронзовые копа- ушка и проколка (дл.-8 см), сохранились фрагменты шерстяной нити, на которую были нанизаны все предметы (рис. 6).
Погребение № 47 - между ребрами и локтем левой руки найдена бронзовая фигурка козлика, две хрустальные, граненые бусины (дм.-2,4 см; выс.-1,6 см), одна хрустальная, круглая (дм.-1,7 см; выс.-1,3 см), одна ребристая из стеклопасты (дм.-1,5 см; выс.-1,0 см), одна керамическая, уплощен- но-призматическая (выс.-2,1см), фрагмент бронзового зеркала с утолщенным краем (дм,-12 см), обломанный резец крупного грызуна и две пястные косточки хищника (?)•
Погребение № 48 в средней части скелета, слева, отдельной кучкой лежали три бусины и большой бронзовый шар. Две бусины сердоликовые (круглая и пирамидальная) и одна керамическая. Бронзовый шар полый (дм.-3,7-3,8 см), заполнен затвердевшей черной массой. Местонахождение и состав комплекса дают основание предполагать, что это также своеобразный амулет- ный набор (погребения №№ 47, 48 были совершены, вероятно, в одну могильную яму).
Погребение № 56 - погребение детское. В области живота, на уровне локтя, расчищены: бронзовый колокольчик (дм.-Зсм; выс.-2,4 см), язычком у него служила половинка шестигранной бипирамидальной хрустальной бусины; клык хищного крупного зверя (сохр. дл.-бсм) и железный предмет непонятного назначения (наконечник ремня?). Все три предмета были нанизаиы на шерстяную нитку.
Погребение № 65 - в области груди расчищены лежавшие кучкой: две крупные халцедоновые, уплощенно-круглые бусины (дм.-1,6x2,3; 2x2,9 см), две бронзовые круглые бусины (дм,-1,4 см), круглая янтарная (2,3x2,0 см), цилиндрическая бусина из розоватого коралла (дл.-2,5; дм.-2,0 см), три халцедоновые геммы и гемма из красного сердолика*, а также крупная голубая ребристая фаянсовая бусина (дм.-2,7x2,9см). Эти предметы лежали кучкой среди мелких коралловых бусин и разноцветного стеклянного бисера.
Таким образом, мы можем констатировать, что в погребальной обрядовой практике коныртобицев был обычай помещать в наиболее «богатые» женские погребения «амулетные наборы». Вероятно, они принадлежали при жизни самим погребенным.
98 И М К У - 32
Помимо различных бус, в эти наборы входят разнообразные предметы, функция магических оберегов которых не вызывает сомнений. Бронзовые колокольчики, подобные найденным в погребениях №№ 56, 43, известны из раскопок погребений западной Ферганы и из широкого круга памятников конца I тысячелетия до н.э. - VII в. н.э.'1. Халцедоновые сасанидские геммы связаны с охранной магией, как говорится, «по определению».
Крупные глазчатые, ребристые, «многодольчатые», фаянсовые бусины встречены исключительно в составе «амулетных наборов», Интересно отметить, что в «варварских» погребениях Северо-Восточного Причерноморья аналогичные бусины отмечены преимущественно в детских погребениях, где они выполняли, по мнению исследователей, роль своеобразных оберегов. Установлено, что «многодольчатые фаянсовые бусы египетского или индийского производства» получают широкое распространение от Восточного Туркестана до Северного Причерноморья в период II-V вв. н.э.». Причем в погребении они явно играли роль амулетов5.
Наблюдения за размещением находок в катакомбах Подкумского могильника I-III вв. н.э. также приводят к выводу, что крупные глазчатые бусы и небольшие низки из крупных янтарных, халцедоновых, гишировых, фаянсовых бусин служили амулетами6. В момент погребения они не были надеты на покойника (чаще это женщины), а клались рядом или на погребаемую.
Бронзовые литые фигурки козликов (погребения №№ 40, 42, 47), как амулеты- обереги, вероятно, специфическое явление отрарского региона. Их нет среди находок в сотнях известных погребениях Таласской долины, Ферганы, джетыасарской культуры. А из окрестностей и самого городища Коныртобе уже известно девять бронзовых литых фигурок горного козла. Массовость подобных находок из одного локального района, более того, связанных с одним населенным пунктом и при учете еще его слабой изученности, дает основание предположить, что это животное было тотемом племени, осевшего где-то на рубеже н.э. в низовьях реки Арысь и основавшим город, руины которого известны нам как городище Коныртобе.
Круг древних верований связанных с горным козлом у припамирских народов и имеющиеся изобразительные мотивы были
рассмотрены в свое время Б.А.Литвинским7. Из приведенных им материалов интересно отметить, что в поверьях народов Средней Азии козел выступает в связи с женским божеством-покровителем. А весь комплекс этих верований происходит от древнего культа плодородия, в котором горный козел играл важную роль.
Необходимо отметить, что пластическое решение фигурок козлов-амулетов удивительным образом напоминает форму козлов, украшающих венчик уникального туячинского котла. Утвердилось мнение, что датируется он VIII-VII вв. до н.э8. Очевидно, сходство в данном случае чисто формальное. Из других изображений козлов, дающих, правда, иную иконографию образа, необходимо упомянуть бронзовую подвеску из могильника Лангари Ходжиен в Таджикистане9. Вообще же амулеты в виде литых бронзовых фигурок животных известны среди сарматских памятников Подонья среднесарматского времени (I-II вв. н.э.). Интересно отметить, что в одном случае фшурка собачки обнаружена в комплексе с бронзовым колокольчиком и единичными бусинами, положенными кучкой (на одной нитке) на правое плечо. Позже амулеты в виде литых фигурок широко распространились среди аланских древностей Северного Кавказа. Если видеть в таких амулетах знаки родоплеменной принадлежности, то, как отмечают исследователи, у алан можно предполагать наличие родов оленя, горного барана, коня, орла10. В более близком регионе литые бронзовые подвески в виде животных (верблюд, петух, кабан) известны на памятниках Хорезма кушанского времени (I-III вв. Аяз-Кала)".
На возможную связь бронзовых зооморфных амулетов с родовой принадлежностью у алан Кавказа указывала В.Б.Ковалевская12. Если эти соображения имеют под собой основания, то они могут быть учтены при реконструкции генезиса огузского союза племен в эпоху раннего средневековья. Как известно, районы нижней и средней Сырдарьи являются родиной формирования огузского племенного союза. Огузский пласт нашел отражение в топонимике Отрарского района. Можно предположить, что в огузский союз вошло и местное племя, центром которого было поселение на месте городища Коныртобе. Возможно, что это племя носило название - теке, хорошо известное в огуз- ской родо-племенной структуре. Формирование огузского племенного союза,
Е.А. Смагулов 99
начало которого можно отнести к VII в. н.э., на северо-востоке Средней Азии происходило за счет консолидации двух основных этнокультурных пластов: с одной стороны, потомки древних местных канпойских племен, которые, в свою очередь, ведут происхождение от сако-массагетских и сармато-аланских племен и, с другой стороны, новая волна тюрко-монгольских племен, принесенная к берегам Сырдарьи и Арала Тюркским каганатом. Участие местного компонента (асского) в этногенезе огуз на Сырдарье признают многие исследователи13.
Анализ комплекса находок дает основание заключить, что вскрытые погребения некрополя городища Коныртобе в основном представляют единый культурный комплекс. По обряду погребения и составу находок данный могильник близок ранее исследованному и расположенному рядом могильнику Марлан'4. Вскрытые здесь погребения в склепах датированы I в. до н.э. - II в. н.э. на основании находок монет типа «у-шу» и отсутствия рифления на кувшинах.
Близок по обряду и комплексу вещей также могильник Кыркескен, датированныйII-IV вв. н.э.15, а также могильник у городища Кок-Мардан.
Аналогии отдельным типам вещей из могильника Мардан-Куик известны из широкого круга памятников Средней Азии, Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа. Так, костяные шпильки с фигурной головкой обычны для позднекушанских памятников Средней Азии16. Медальоны со вставками из полудрагоценных камней, украшенные зернью, широко распространяются в степях Евразии в позднесарматское время. Близок находкам из Мардан-Куика комплекс вещей из погребения у озера Боровое, датированный А.Н.Бернштамом IV-V вв. Здесь и подвеска-медальон, комбинированная ■ пряжка, бипирамидаль- ные сердоликовые бусины, трехперые железные наконечники стрел, а также золотые серьги в виде тонкой проволоки, согнутой в круг. Один конец сережек опущен книзу спиральными завитками, плотно прилегающими друг к другу17. Серьги со спирально-конической подвеской известны в Прикамье с первой половины 1 тыс. н.э.|В.
Бронзовые копаушки и проколки широко известны в памятниках первой половины I тыс. н.э. Целая серия их была получена из могильников Северного
Таджикистана. Б.А. Литвинский в своей фундаментальной публикации западноферганских могильников привел исчерпывающие материалы, характеризующие ареал и время бытования этих специфических атрибутов бытовой культуры19. Укажем лишь на ближайшие аналогии нашим находкам в Кенкольском могильнике и погребениях джетыасарской культуры20.
Наборы женских украшений, помещенных в специальный берестяной коробок и уложенных рядом с погребенным, являются специфическим атрибутом многих мужских погребений Бахмутинской культуры в Приуралье. Эго так называемые «жертвенные комплексы» (II-IV вв. н.э.)21. Очевидно, что в данном случае, формальная аналогия в погребальном обряде порожденаразличными обычаями в ритуальной практике. В Бирском могильнике «жертвенные комплексы» отмечены обычно в мужских и детских погребениях; в Коныртобинском - «амулетиые наборы» исключительно при женских скелетах.
Пояс, покрытый плотно прилегающими узкими вертикальными серебряными пластинками, был найден в кургане 19 могильника Койтас, датированном М.К.Кадырбаевым IV-V вв. н.э. и в синхронном ему погребении на поселении Кзылкайнар-тобе22. Целая серия подобных поясов зафиксирована в джетыасарских курганах Л.М.Левиной. Они отнесены к первой группе и датированы временем не позднее III-IV вв. н.э. и несколько более ранним временем23.
Мелкие цилиндрические коралловые бусы, встреченные в целом ряде погребений могильника Мардан-Куин, по заключению специалистов, распространяются в обширном регионе от Причерноморья до Средней Азии в первые века н.э. - IV в. н.э. По мнению В.Б.Деопик, в Предкавказье они являются своеобразным репером IV-V вв. н.э.24. В среднеазиатских памятниках эти бусы из бледно-розового коралла встречаются также в комплексахII1-IV вв.25.
Не останавливаясь на других категориях находок (кинжалы, стрелы, пряжки, керамика и пр.), отметим, что вещи, подобные встреченным в могильнике Мардан-Куик, хорошо известны в обширном регионе и имеют тот или иной период бытований (с III в. н.э. до VIII-IX вв. н.э.). Однако наиболее вероятна датировка
100 И М К У - 32
могильника II1-V вв. (возможно, и VI в. н.э.). синхронен третьему строительному! Видимо, могильник на каком-то этапе горизонгу городища Мардан-Куик.
ЛИТЕРАТУРА1. Характеристику городища Коныртобе (Марданкуик) см.: Свод памятников истории и культуры Казахстана !
Южно-Казахстан с кая область. Алматы, 1994, С. 131-132; Предварительная информация о исследовании! могильника . См.: Байпаков К.М., Смагулов Е.А Новые данные по археологии Отрарского оазиса. / / ! Известия АН КазССР, сер. общественных наук, 1990, № 6, С. 20-2?.
2. Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Древности Чардары. Алма-Ата, 1968. С. 52-60:1 Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в I тыс. н.э. М., 1971.
3. Геммы из Коныртобинского могильника и другие случайные находки в Отрарском оазисе изданы:! Смагулов Е.А. Геммы из Отрарского оазиса. / / Археологические памятники на Великом Шелковом пути I Алматы, 1993, С. 163 и сл.; см. также: История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. I Т. 1. Алматы, 1996. С. 277.
4. Литвинский Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. М., 1973.5. Деопик В.Б. Классификация бус Северного Кавказа ГУ-V вв. / / СА 1959, № 3. С. 54: Трудновская C.A.I
Украшения позднеантичного Хорезма. / / Тр. ХДЭЭ. Т. 1. М., 1952. С. 108-109.6. Абрамова Н П. Подкумский могильник. М., 1987. С. 162.7. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972. С. 144-147; см. также: Литвинский Б.А
Предметы из погребения на Сталинобадских холмах / / Сообщения Республиканского историкокраеведческого музея Тадж. ССР., г. Сталинобад, 1958, вып. 3. С. 39-43.
8. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира»,... С. 50.9. Древности Таджикистана. Каталог выставки. Душанбе, 1985. С 152.10. Ковалевская В.Б. Изображение коня и всадника на средневековых амулетах Северного Кавказа // '
Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1979. С. 118.11. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948. С. 156, 365.12. Ковалевская В.Б. Кавказ и Аланы. М., 1984. С. 163.13. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962. С. 275; Акишев К.А и др. Древний Отрар.
Алма-Ата. 1972. С. 188.14. Нурмуханбетов Б.Н. Могильник Мардан. / / КСИА Вып. 154. М., 1988. С, 99-103.15. Нурмуханбетов Б.Н. Могильник Кыркескен. / / АО, 1976. М., 1977. С. 519-520.16. Литвинский Б.А., Седов А.В. Тепаи-шах. Культура и связи кушанской Бактрии. М., 1985. С. 55; Седов
АВ.Кобадиан на пороге раннего средневековья. М., 1987. С. 70-71.17. Бенрнштам АН. Находки у оз. Боровое в Казахстане / / Сб. МАЭ, т. XIII, Л., 1951, С. 221, рис. 9.18. Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья. //
МИ А, № 28, М, 1952. С. 86, табл. XIX.19. Литвинский Б.А Орудия труда и утварь из могильников западной Ферганы. М., 1978. С. 136-137.20. Кожембердыев И. Катакомбные памятники Таласской долины / / Археологические памятники Та\асской
долины., Фрунзе, 1963. С. 70; Левина Л.М. Джетыасарские склепы / / Низовья Сырдарьи в древности, вып 2, М., 1993. С. 58, 65.
21. Мажитов Н.А. Бахмутинская культура. М., 1972. С. 16.22. Кадырбаев М.К. Памятники ранних кочевников Центрального Казахстана / / ТР. ИИАЭАН Каз. ССР., т. 7,
1989, с. 197, рис. 25; Мерщиев М.С. Поселение Кызыл-Кайнар-тобе I-IV вв. и захоронение на нем 1V-V вв. / / По следам древних культур Казахстана. А\ма-Ата, 1974. С. 89.
23. Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. М., 1996, с. 219, рис. 133.24. Деопик В.В. Классификация бус... С. 54.25. Левина Л.М. Керамика и вопросы хронологии памятников Джетыасарской культуры. / / Материальная
культура народов Средней Азии и Казахстана. М., 1966, с. 54; Ягодин В.Н., Ходжайев Т.К. Некрополь древнего Миздахкапа. Ташкент, 1970. С. 123.
Е.А. Smagulov
AMULET SET FROM THE BURIAL NECROPOLIS OF KAPIRTUBA SETTLEMENT IN OTRAR OASIS
The publication is devoted to amulet set from the burial necropolis of Koniitobe settlement in the western part of Otrar oasis. • *
90 burials have been excavated all in all, where most cases, untouched, in square-formed pits, sometimes reminding raw-burial waltz which, probably had raw covers. Separate burials of children-youth were carried out in khums or in large jugs. According to the preliminary investigations of 20 sculls it was established that 15 of them had circle deformations.
For male burials the finds of metal and bronze buckles, metal knives, daggers and metal three-pedaled aifow ends are characteristic. In the Female burials various beads, surmatosh sticks with pieces of graphite, bronze and bone hairpins, bronze amulets in the form of goat figures and bronze mirrors. Besides 80 percent of burials are followed by mud jugs and cups. The analyses of the complex of finds gives a basis to conclude that the opening of Kanirtobe necropolis burials can be dated as III-V (perhaps VI) centuries AD.