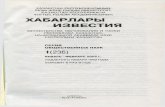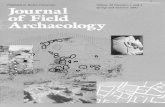polish science journal - Актуальные научные исследования ...
About comprehensive study of personal stone and bone ornaments from Palaeolithic of Northeastern...
-
Upload
nsc-sib-ru -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of About comprehensive study of personal stone and bone ornaments from Palaeolithic of Northeastern...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИСЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
им. Н. А. ШИЛО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
VIII ДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Материалы научно-практической конференции,посвященной 60-летию образования Магаданской области
Магадан2014
УДК 902 (571.56+571.65) (063)ББК 63.4 (2Р55)
Д 45
Под редакцией к. и. н. И. Д. Бацаева, к. г.-м. н. М. Л. Гельмана,к. и. н. А. И. Лебединцева (отв. ред.), к. и. н. С. Б. Слободина,
к. и. н. Л. Н. Хаховской.
Рецензенты: к. и. н. М. С. Бродкин, к. и. н. А. С. Навасардов.
Утверждено к печати Ученым советом СВКНИИ ДВО РАН.
Печатается при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН(грант № 14-III-Г-11-036) и Правительства Магаданской области.
VIII Диковские чтения : Материалы научно-практической конференции, посвящен-ной 60-летию образования Магаданской области / Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. науч. центр, Сев.-Вост. комплекс. НИИ; [отв. ред. А. И. Лебединцев]. – Магадан : ООО «Типография», 2014. – 216 с.
ISBN 978-5-9905744-6-5
Представлены новые материалы по археологии, истории, этнологии Северо-Востока России. Даны ре-зультаты археологических исследований Якутии, Верхней Колымы, Приохотья и Камчатки. Рассмотрены во-просы создания Якутского Спасского монастыря; различные аспекты истории развития отраслей народного хозяйства Магаданской области (горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, гидроэнергетики, авиационного, морского транспорта, системы здравоохранения, образования); проблемы истории геологиче-ского изучения отдельных районов Магаданской области и Чукотки в различные периоды промышленного освоения Северо-Востока России; общественно-политическая обстановка в Магаданской области в период перестройки и состояние социальной сферы в ней при проведении рыночных реформ 1990-х гг. Затронуты важные вопросы этнокультурного развития коренных малочисленных народов Северо-Востока России – состо-яние традиционного хозяйства (оленеводство) в прошлом и настоящем, оценка коренными жителями советской национальной политики; роль орнамента в формировании этнических культур. Проведен источниковедческий анализ торговых взаимоотношений коренных жителей Чукотки и американцев в конце XIX – первой четверти XX в. Проанализировано современное состояние социально-экономической сферы Магаданской области.
Для историков, археологов, этнологов, краеведов, преподавателей и студентов вузов и широкого круга читателей.
Ключевые слова: история, этнология, археология, геологическое изучение, этнокультурное развитие, транспорт, Северо-Восток, Магаданская область.
ISBN 978-5-9905744-6-5© СВКНИИ ДВО РАН, 2014© СВНЦ ДВО РАН, 2014© ООО «Типография», 2014
North-EaSt INtErdIScIplINary ScIENtIFIc rESEarch INStItutE n. a. N. a. ShIlo
Far EaSt BraNch, ruSSIaN acadEmy oF ScIENcES
North-EaSt ScIENtIFIc cENtEr
thE VIII dIkoV rEadINGS
Scientific conferencededicated to the 60th anniversary of magadan region
magadan2014
Editors: drs. I. D. Batsaev, M. L. Ghelman, A. I. Lebedintsev (Chief Editor). S. B. Slobodin,L. N. Khakhovskaya.
reviewers: drs. M. S. Brodkin, A. S. Navasardov.
The VIII Dikov Readings : Scientific conference dedicated to the 60th anniversary of magadan region / russian academy of Sciences, Far East Branch, North-East Scientific center, North-East Interdisciplinary Scientific research Institute; chief Editor a. I. lebedintsev. – magadan, 2014. – 216 p.
the authors present new data on archaeology, history and ethnology of northeast russia. the results of archeological
studies in territories of yakutia, the upper kolyma r. area, the Sea of okhotsk coasts and kamchatka are as well presented. the questions under the authors’ consideration include the foundation of Spassky monastery in yakutsk and different aspects of the industrial development of magadan region including its mining industry, agriculture, hydraulic power engineering, air and sea transport, and public health and education systems, also the history of geologic studies of magadan and chukotka areas under different industrial conditions in northeast russia, the social and political situation in the period of perestroika, and social welfare during market reforming in magadan region in the 1990ies. the ethnocultural development of minor natives of northeast russia is of a peculiar research interest and has, as its aspects, the subsistence traditions (reindeer herding) in the past and at present, the attitude of the natives to the national policy of the Soviets, and the ornamentation art in the ethnocultural tradition. trade relationships between the chukchi people and americans at the end of the 19th and in the first 25 years of the 20th century are portrayed according to authentic archive documents. the modern socioeconomic sphere in magadan region is examined.
Intended for historians, archeologists, ethnologists, geologists, local lore students, university teachers and students, and any interested reader.
Key words: history, ethnology, archeology, geologic studies, ethnocultural development, transport, northeast russia, magadan region.
94
Петрунь Ф. О. применении горного хрусталя и его аналогов в первобытной технике // Сов. археология. – 1962. – № 1. – С. 36–43.
Питулько В. В., Павлова Е. Ю. Геоархеология и радиоуглеродная хронология каменного века Северо-Восточ-ной Азии. – СПб. : Наука, 2010. – 264 с.
Сериков Ю. Б. Горный хрусталь и его использование в каменном веке Урала // История и философия мине-ралогии : материалы II Междунар. минералог. семинара. – Сыктывкар : Ин-т геологии Коми НЦ УрО РАН, 1999. – С. 101–102.
Сериков Ю. Б. Сакральные свойства хрусталя // Культовые памятники горно-лесного Урала. – Екатеринбург : УрО РАН, 2004. – С. 224–232.
Слободин С. Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2001. – 202 с.
Слободин С. Б. Стоянка Усть-Тенкели (Хрустальная) и ее место в археологии Северо-Востока // V Диковские чтения : Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Первой Колымской экспедиции и 55-летию образования Магаданской области. – Магадан : Кордис, 2008. – С. 82–85.
Слободин С. Б. Стоянка Мигай в контексте археологии Северо-Востока Азии // VII Диковские чтения : Материа-лы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию промышленного освоения Колымы и 100-летию открытия морского торгового пути в Восточную Арктику. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2012. – С. 127–134.
Степанов А. Д., Кириллин А. С., Воробьев С. А. и др. Пещера Хайыргас на Средней Лене (результаты исследова-ний 1998–1999 гг.) // Древние культуры Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеоинформатика. – Новосибирск : Наука, 2003. – С. 98–113.
Федосеева С. А. Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 215 с.Халцедоны Северо-Востока СССР. – М. : Наука, 1987. – 192 с.Reher C. A., Frison G. C. rarity, clarity, symmetry: quartz crystal utilization in hunter-gatherer stone tool assem-
blages // raw material economies among prehistoric hunter-gatherers / еd. by a. montet-White, S. holen. – university of kansas, publications in anthropology No. 19, 1991. – p. 375–397.
Slobodin S. B. the first ushki type stemmed point from upper kolyma (Western Beringia) // current research in the pleistocene. – 2010. – Vol. 27. – p. 51–53.
Архивные источники
Воробей И. Е. Отчет о полевых археологических работах в Северо-Эвенском районе Магаданской области в 1987 году. – Магадан : МОКМ, 1988.
Казанский П. Геологический очеpк севеpного побеpежья Охотского моpя, 1917 г. – Дальстpой, РГУ, геофонд № 752/1. – (Хранится в фондах МОКМ).
к Методике коМплекСного иССледования палеолитичеСких УкраШений крайнего Северо-воСтока аЗии
А. Ю. Федорченко*СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан
В настоящий момент на территории Северо-Востока России известно несколько десятков археологических памятников, датируемых от средней поры верхнего до финального палеолита. Помимо выразительных ансамблей каменных орудий, палеолитические комплексы рассматрива-емого региона содержат в себе представительную серий украшений в виде миниатюрных бусин, подвесок и бляшек, изготовленных из разнообразных органических материалов (кости или бив-ня) и «мягких» пород камня (пирофиллита, агальматолита, талька, стеатита и др.).
Крупнейшая для палеолита Крайнего Северо-Востока Азии коллекция бусин из бивня мамонта и кости выявлена в ходе раскопок Янской стоянки, датируемой в интервале 28 500– 27 000 л. н. В ходе изысканий последних лет здесь найдено более 7000 артефактов, относимых к контексту производства украшений двух типов – округлых бусин и бусин-пронизок с нарезкой в средней части (5891 законченное изделие и 1148 заготовок и незавершенных предметов), зафик-сированы уникальные планиграфические ситуации с композициями из бусин и факты широкого использования минерального красителя на финальной стадии изготовления данных изделий (Пи-тулько, 2014). Известна на стоянке Яна и серия подвесок из камня (Питулько, 2008).
Эталонные коллекции каменных украшений представлены в VII и VI культурных слоях Ушковских стоянок (п-ов Камчатка) (Федорченко, 2014). Исследования 1960–2000-х гг. позво-лили выявить в VII слое стоянок Ушки-I и -V более 1000 плоских шлифованных бусин и около 50 морфологически разнообразных подвесок и бляшек. Материалы данного археологического комплекса выделены в раннюю ушковскую культуру (Диков, 1979) и датированы от 11 330 до
© Федорченко А. Ю., 2014
95
11 050 л. н. (Goebel et al., 2003; Понкратова, 2007; Слободин, 2010). В VI слое стоянок Ушки-I, -IV и -V известно свыше 20 подвесок, бусин-пронизок и бляшек из камня, возраст которых со-ставляет 10 800–10 000 л. н. (Диков, 1979. c. 66; Дикова, 2002).
Небольшие серии украшений из камня финальнопалеолитического возраста известны со стоянок Берелех (среднее течение р. Берелех; 11,4 тыс. л. н.) (Питулько, 2011), Хета (Слободин, 1999) и Большая Хая IV (Верхняя Колыма) (Слободин, 2005). Традиция изготовления и употре-бления украшений из каменного и костяного сырья продолжает существовать на Северо-Востоке России в раннем (Слободин, 1999. c. 64, 141) и позднем голоцене (Лебединцев, 1990), вплоть до этнографического времени.
Разнообразные типы украшений из камня и кости выступают одним из самых ярких и мас-совых проявлений символической деятельности палеолитического человека, известных на тер-ритории изучаемого региона. Под знаковой, или символической, деятельностью (поведением) в археологической науке обычно понимается процесс создания и использования в повседнев-ной практике первобытных людей системы различных знаков и символов (Васильев и др., 2007. c. 250). Поскольку функциональное назначение материальных свидетельств знакового поведе-ния обычно напрямую зависело от законов древней духовной практики, не представленной в археологических источниках как данность и не проверяемой современными экспериментами, сложность и трудоемкость анализа таких артефактов в сравнении с исследованием обычных ору-дий значительно возрастает (Гиря, 1997. c. 15). На наш взгляд, наиболее объективные и проверя-емые результаты при изучении реальных и потенциальных предметов древнего символизма мо-гут быть получены путем движения «от известного к неизвестному» – от объективно данных нам сведений, воплощенных в морфологии предмета и контексте его обнаружения, к порой почти не-уловимым нормам древней культуры. Для успешного продвижения по этому пути исследователь должен одновременно сочетать в своей работе знания и методы криминалиста и искусствоведа, археолога-экспериментатора и этнографа.
Перспективность комплексного подхода в изучении неутилитарных изделий палеолити-ческой эпохи выглядит вполне очевидной на фоне современных достижений в развитии экспе-риментально-трасологической и технологической методик исследования предметов древнего искусства. Среди последних успехов отечественных археологов в этой области следует упомя-нуть технологические реконструкции различных категорий украшений эпохи раннего верхнего палеолита Сибири (Волков, 2010; Лбова, Волков, 2010) и женских статуэток из бивня мамонта восточнограветтийских памятников Русской равнины (Хлопачев, 2006), опыт разработки методи-ки трасологического и технологического исследования петроглифов (Гиря и др., 2012; Зоткина, 2012). Неразработанность подобного направления изысканий в археологии Северо-Востока Рос-сии не должна заставлять исследователей отказываться от использования трасологии при анализе свидетельств символического поведения (Кирьяк, 2003. c. 46–47), а, напротив, диктует необхо-димость проведения дальнейших научных поисков и совершения новых открытий. Так, методи-ка экспериментально-трасологического анализа петроглифов, разработанная Е. Ю. Гирей и Е. Г. Дэвлет, может быть адаптирована для исследования способа нанесения графических изображе-ний на каменных плитках, известных в позднем неолите Северо-Восточной Азии (см. Кирьяк, 2012). Опыт анализа каменных украшений П. В. Волкова мы учитывали при изучении археоло-гических материалов Ушковских стоянок (см. статью «Трасологический анализ каменных укра-шений из погребения VII культурного слоя стоянки Ушки-I» в этом же сборнике). Актуальность технолого-трасологических исследований подчеркивается наличием в археологии региона серии каменных артефактов, интерпретация которых в качестве предметов древнего искусства и иных свидетельств знакового поведения дискуссионна и нуждается в дополнительном, строго научном обосновании.
С учетом указанных обстоятельств процедура комплексного анализа предметов символиче-ского поведения (на примере каменных и костяных украшений Крайнего Северо-Востока Азии) может быть выстроена следующим образом. Первичная стадия при работе с любым археологи-ческим источником предполагает эмпирическое описание его морфологических характеристик (метрических параметров, формы и материала), фиксацию и анализ обстоятельств его обнару-жения (стратиграфии и планиграфии). На этом этапе важно установить, чем конкретно является рассматриваемый объект (артефактом; случайным фрагментом природного бытия, не связанным с деятельностью человека, или, напротив, манупортом), и определить степень его аутентичности древнему пространственно-временнόму контексту. В качестве аргумента при определении связи спорных объектов с деятельностью древнего человека может выступать информация о наличии
96
следов износа и обработки (Саблин, Гиря, 2010), получаемая в ходе первичного трасологическо-го осмотра.
Исключительно ценную роль при выявлении и интерпретации материальных свидетельств знакового поведения и установления непроизводственных функций древних артефактов играют сведения об их пространственном размещении. В определенных случаях о символическом или ином неутилитарном подтексте древнего предмета с вполне утилитарным основным предназна-чением может свидетельствовать сам контекст обнаружения находки (например, при его фикса-ции в составе погребального инвентаря, жертвенника или иного ритуального объекта). Потеря артефактом подобного контекста будет означать практически полную утрату для исследователя информации о подобной стороне его функций. Исследование пространственного распростране-ния, количественного и качественного соотношения различных проявлений древнего символизма в культурном слое обычно осуществляется на основе синтеза методов планиграфии, статистики, трасологии, ремонтажа / технологического анализа. Тщательное документирование и детальное изучение разнообразных планиграфических ситуаций (с позиции количества и расположения предметов, характера их сырья, цвета, размера, наличия или отсутствия красящих веществ, фа-унистических остатков и т. д.) позволяет установить зоны символической активности древнего человека и проследить их взаимосвязи с иными объектами.
Изучение особенностей пространственного размещения украшений из палеолитических памятников Северо-Востока России позволяет существенно конкретизировать способы упо-требления подобных изделий древними людьми. Так, на стоянке Яна многочисленные наход-ки отдельных бусин и композиций из этих изделий прослежены в жилищных и производствен-ных площадках, что свидетельствует в пользу использования данных изделий в качестве повсе-дневных украшений (Питулько, 2014). В VII слое стоянки Ушки-I целые украшения, заготовки, инструменты для их изготовления и фрагменты красящих веществ приурочены к жилищным объектам и отдельно расположенным кострищам, вокруг которых находились своеобразные ра-бочие площадки (Диков, 1977. С. 48–51). Исключительно ценную информацию имеют находки непотревоженных композиций каменных украшений, обнаруженные в 2004–2007 гг. на стоянке Ушки-V: скопление из 25 округлых односторонне выпуклых пирофиллитовых подвесок и «нит-ка» из 14 бусин и одной подвески, обнаруженные in situ в жилищной площадке VII слоя (Пон-кратова, 2007; Понкратова, Федорченко, 2008). На связь украшений ранней ушковской культуры с определенной ритуальной практикой указывают факты наличия на них следов минерального красящего пигмента, находки бусин и подвесок непосредственно в пятнах охристого вещества, зафиксированные в ходе раскопок стоянки Ушки-V, и, наконец, массовое присутствие бусин, под-весок и бляшек в погребальном инвентаре захоронения VII слоя стоянки Ушки-I (Диков, 1967). В VI культурном слое стоянок Ушки-I, -IV и -V бусины-пронизки и подвески из камня обнаруже-ны в жилищах и двух погребениях (Диков, 1973, 1993).
На следующем этапе комплексного исследования осуществляется экспериментально-тра-сологический и технологический анализ каменных украшений. При реконструкции конкретного способа употребления украшений и предметов мобильного искусства особое значение приобре-тает трасологический анализ сохранившихся следов неутилитарного износа, являвшихся отраже-нием потенциально определимых действий человека. Анализ морфологии и локализации следов изношенности помогает с высокой степенью точности определить характер взаимодействия, тип контактируемого материала и длительность данного процесса. К примеру, на поверхностях под-весок, бляшек или бусин часто фиксируются следы прижизненного износа от крепления и кон-такта с одеждой, на браслетах или нательных украшениях – следы интенсивного контакта с ко-жей человека. Вероятно, подобные диагностичные следы могут быть обнаружены и на иных объ-ектах палеолитического творчества из кости и камня (фигурных и скульптурных изображениях или плитках с графикой). Анализ существующего опыта подобных исследований показывает, что следы неутилитарного воздействия на артефактах подобного рода имеют весьма специфический облик и расположение, что создает определенные трудности при их интерпретации, но вместе с тем и детерминирует актуальность новых экспериментально-трасологических изысканий.
Реконструкция конкретной схемы производства предметов искусства (выполняемая на основе научного эксперимента и технологического анализа) позволяет понять, возникали ли эти формы спонтанно или преднамеренная смысловая нагрузка придавалась изделию в процессе пер-вичной обработки и изначально подчинялась уже существующим культурным нормам (Громадо-ва, 2012). Существенную роль при изучении технологии изготовления палеолитических укра-шений Крайнего Северо-Востока Азии играет и анализ сырья. По своим физическим свойствам костяное сырье и различные породы мягкого камня имели как определенные сходства, так и раз-
97
личия. Кость, рог и бивень обладали твердостью и долговечностью, недостающей древесине, и упругостью, которую не имели различные виды камня (кремень, обсидиан, халцедон, горный хрусталь и др.). Физические свойства этих органических материалов позволяли применять для их обработки как приемы, традиционно связанные с изготовлением каменных орудий (скалыва-ние отщепов ударом отбойника или давлением), так и приемы, применяемые для производстве деревянных изделий (строгание, скобление, рубка, тесание, объемное резание), а также иные тех-ники – универсального (пиление, сверление, шлифовка, полировка) или уникального характера (размачивание, выпрямление и изгибание) (Хлопачев, Гиря, 2010).
Большинство пород мягкого камня, применяемых в палеолите Северо-Восточной Азии при изготовлении каменных украшений (агальматолит, тальк, пирофиллит и др.), обладают не-высокой твердостью (1–1,5 по шкале Мооса), плотным и мелкозернистым сложением. Указанные особенности значительно упрощали процесс изготовления каменных украшений, позволяя древ-нему мастеру не прикладывать особых физических усилий при шлифовке, полировке, резании и сверлении мягкого камня. Относительно мягкие и удобные для обработки поделочные породы камня и размягченная кость, рог и бивень предоставляли палеолитическому человеку относи-тельно широкую свободу творческого самовыражения. Преимущества костяного сырья заключа-ются в его пластичности и относительно большой прочности, наличии возможности увлажнять обрабатываемую заготовку и возвращать ей исходное твердое состояние путем распаривания. Мягкие породы камня обрабатывались в целом легче кости, но являлись и значительно более хрупким материалом. Вероятно, это обстоятельство играло не последнюю роль в том, что среди каменных украшений палеолитических комплексов Крайнего Северо-Востока Азии преобладают относительно простые формы (в виде окружности, прямоугольника, треугольника, вытянутого овала, уплощенные и объемные).
Очевидно, что с точки зрения своей информативности для археологии те или иные кате-гории материальных свидетельств древнего символизма будут значительно различаться. На ха-рактер и объем извлекаемых сведений оказывает влияние совокупность самых разнообразных факторов: степень сохранности объекта и следов обработки и износа; примеры идентичной или близкой практики в древней либо современной культуре и т. д. Значительным познавательным потенциалом для археолога обладают серийные изделия. Устойчивое повторение одной и той же морфологии предмета с одинаковым неутилитарным назначением наглядно подтверждает преднамеренность и неслучайность такой формы, наличие «видения» или канона изделия. О су-ществовании в древности определенных стандартов или эталонов наглядно свидетельствует не-который консерватизм в выборе формы, способов отделки и структуры композиции украшений, прослеживаемый при анализе палеолитических материалов Северо-Восточной Азии. Обычно подобные каноны формировались и существовали в культуре в течение продолжительного вре-мени, являясь отражением опыта многих поколений по созданию и использованию конкретных функциональных типов изделий (Рунге, 2006. С. 8). Технология производства каменных украше-ний (подбор сырья, вторичная отделка) оказывается в данном случае подчиненной «духовным» функциям и выступает средством художественной выразительности.
Технологический анализ помогает установить, чем именно являлся тот или иной элемент морфологии изделия – следом поломки, естественного повреждения, починки или преднамерен-ной фрагментации в целях придания изделию определенной фигурной формы. Игнорирование этого этапа при изучении потенциальных материальных свидетельств древнего символизма мо-жет приводить исследователя к досадным ошибкам и заблуждениям. В археологии Северо-Вос-тока Азии дискуссионные ситуации иногда возникают при интерпретации некоторых, предпо-ложительно фигурных, артефактов из камня (см., например, Кирьяк, 2003. С. 67–70; Лебединцев, 2005). На наш взгляд, при отсутствии прямой непротиворечивой информации о связи каменного артефакта с древней символической деятельностью, весомых сведений о преднамеренной «фи-гурности» или общей неутилитарности формы, а также любых достоверных аналогий, интер-претировать спорный объект в качестве реального результата проявления знакового поведения (равно как и произведения древнего искусства) становится довольно сложной, подчас неосуще-ствимой задачей. Подобная интерпретация не должна строиться лишь на основании самого об-щего морфологического сходства изучаемого объекта с какой-либо «удобной» для исследователя аналогией, она нуждается в строгих научных доказательствах.
Заключительный этап комплексного исследования подразумевает осуществление синтеза сведений, полученных в ходе предыдущих научных процедур: данных о факторах формообразо-вания изучаемых артефактов (функционального назначения, технологии изготовления и стили-
после
98
стических (знаковых) норм), их пространственно-временны́х характеристиках и иных сведений. На этом этапе происходит выявление следов существования палеокультурных норм и их после-дующая интерпретация. Серийность и ярко выраженная неутилитарность известных в археоло-гии региона украшений из камня и кости априори подразумевают существование устойчивых традиций их употребления; сложных социальных, культурных и познавательных функций, без которых этот вид украшений просто не мог существовать. Исходя из имеющихся материалов по планиграфии, морфологии, технологии и трасологии палеолитических украшений Крайнего Северо-Востока Азии, а также примеров из археологии и этнографии региона и ряда сопредель-ных территорий, можно констатировать связь изучаемых изделий с несколькими функциональ-ными и семантическими системами. Миниатюрные бусины и бусы-пронизки, бляшки и подвески выступали в качестве элементов личных нательных украшений-амулетов (ожерелий или одиноч-но подвешенных), декора одежды и, вероятно, некоторых предметов домашней утвари (напри-мер, охотничьих и хозяйственных сумок).
В настоящий момент представленная модель исследования может быть применена и при изучении каменных украшений и иных материальных свидетельств символического поведения, фиксируемых в материалах археологических памятников Охотского побережья, Колымы, Чукот-ки, Севера Якутии времен неолита и более поздних эпох.
Литература
Васильев С. А., Бозински Г., Бредли Б. А. и др. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. – СПб. : Петербург. Востоковедение, 2007. – 264 c.
Волков П. В. Эксперимент в археологии. – Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – 324 c.Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий. Методика микро-макроанализа древних орудий тру-
да. Ч. 2. – СПб. : Академ. Принт, 1997. – 198 с.Гиря Е. Ю., Дроздов Н. И., Дэвлет Е. Г., Макулов В. И. Шалаболинская писаница: опыт трасологического ис-
следования // Вестник Краснояр. гос. пед. ун-та. – 2012. – № 1. – С. 308–330.Громадова Б. Использование сырья из кости, бивня и рога на стоянках костенковско-авдеевской культуры (вос-
точный гравет) : автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2012. – 26 с.Диков Н. Н. Открытие палеолита на Камчатке и проблема первоначального заселения Америки // История и
культура народов Севера Дальнего Востока. – М. : Наука, 1967. – С. 16–30.Диков Н. Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. – М. : Наука, 1977. – 319 с.Диков Н. Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. – М. : Наука, 1979. – 352 с.Дикова М. А. Позднеплейстоценовые комплексы стоянки Ушки V // II Диковские чтения : Материалы науч.-
практ. конф., посвящ. 70-летию Дальстроя. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2002. – С. 315–320.Зоткина Л. В. Петроглифы Шалоболинской писаницы: технологический аспект // Вестник НГУ. – 2012. – Т. 11. –
Вып. 3. – С. 59–70. – (Сер.: История, филология).Кирьяк М. А. Древнее искусство Севера Дальнего Востока как исторический источник (каменный век). – Мага-
дан : СВКНИИ ДВО РАН, 2003. – 277 c.Кирьяк М. А. Загадочный мир древних граффити: по материалам поздненеолитической стоянки Раучувагытгын
I (Чукотка). – Магадан : Кордис, 2012. – 167 с.Лбова Л. В., Волков П. В. Технология изготовления и орнаментации нательных украшений в эпоху верхнего
палеолита (материалы местонахождения Хотык, Западное Забайкалье) // Вестник НГУ. – 2010. – Т. 7. – Вып. 7. – С. 62–73. – (Сер.: История, филология).
Лебединцев А. И. Украшения из камня с острова Спафарьева // Древние памятники Севера Дальнего Востока (новые материалы и исследования СВАКАЭ). – Магадан : СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. – С. 52–65.
Лебединцев А. И. «Мамонты» и «мамонтобизоны» в древнем искусстве Севера Дальнего Востока // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. – 2005. – Вып. 3. – С. 65–69.
Питулько В. В. Загадки Берелеха // Записки ИИМК. – 2008. – № 3. – С. 98–117.Питулько В. В. Археологическая составляющая Берелехского комплекса // Там же. – 2011. – № 6. – С. 85–103.Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Иванова В. В. Искусство верхнего палеолита арктической Сибири: личные укра-
шения из раскопок Янской стоянки // Уральский исторический вестник. – 2014. – № 2 (43). – С. 6–17.Понкратова И. Ю. Стоянка Ушки-5 (Камчатка): исследования последних лет, проблемы и перспективы // Ко-
лымский гуманитарный альманах. – Магадан : Кордис, 2007. – Вып. 2. – С. 13–20.Понкратова И. Ю., Федорченко А. Ю. Бусы и подвески стоянки Ушки-5 (п-ов Камчатка) // Этнокультурная
история Евразии: современные исследования и опыт реконструкций : материалы XlVIII РАЭСК. – Барнаул : Азбука, 2008. – С. 77–78.
Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. – М. : Архитектура-С, 2006. – Кн. 1. – 368 с.Саблин М. В., Гиря Е. Ю. К вопросу о древнейших следах появления человека на юге Восточной Европы / Рос-
сии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2. – С. 7–13.Слободин С. Б. Археология Колымы и Континентального Приохотья в позднем плейстоцене – раннем голоцене. –
Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1999. – 234 c.Слободин С. Б. Хая IV – новый памятник палеолита на Северо-Востоке Азии // Северная Пацифика – культур-
ные адаптации в конце плейстоцена и голоцена : материалы междунар. науч. конф. «По следам древних костров...». – Магадан : Изд-во СМУ, 2005. – С. 112–117.
99
Слободин С. Б. Новые данные о возрасте VII палеолитического слоя стоянки Ушки I (по результатам 14С да-тирования образцов угля из раскопок Н. Н. Дикова) // VI Диковские чтения : Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рожд. Н. Н. Дикова и 50-летию образования СВКНИИ ДВО РАН. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2010. – С. 66–71.
Федорченко А. Ю. Технология изготовления каменных украшений в палеолите Ушковских стоянок (Камчатка) // Тр. IV (XX) Всерос. археолог. съезда в Казани. – Казань : Отечество, 2014. – Т. 1. – С. 169–171.
Хлопачев Г. А. Технология обработки бивня мамонта в эпоху верхнего палеолита Восточной Европы. – СПб. : Наука, 2006. – С. 120–130.
Хлопачев Г. А., Гиря Е. Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). – СПб. : Наука, 2010. – 144 с.
Goebel T., Waters M. R., Dikova M. the archaeology of ushki lake, kamchatka, and pleistocene peopling of the americas // Science. – 2003. – Vol. 301. – p. 501–506.
Архивные источники
Диков Н. Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке и Колыме в 1973 г. – Магадан, 1974. 70 с. – (Научно-отраслевой архив Института археологии РАН, Ф-1, Р-1, № 5222).
Диков Н. Н. Отчет о полевых исследованиях на Колыме и Камчатке в 1991 г. – Магадан, 1993. – 75 с. – (Научно-отраслевой архив Института археологии РАН, Ф-1, Р-1, № 17079).
проблеМа появления поворотных наконечников гарпУнов в древних кУльтУрах тихоокеанСкого Севера
А. И. Лебединцев* СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан
Проблема становления приморских хозяйств и появления гарпунной техники является одной из сложных в дальневосточной археологии. Новые изобретения и навыки распространя-лись в приморских культурах на многие тысячи километров по цепочке вдоль побережий, и се-годня исследователи затрудняются определить, как и где эти формы адаптации появились впер-вые (crossroads…, 1995).
В бассейне Японского моря рыболовство, добыча морских животных и других гидробио-логических ресурсов зарождаются в плейстоцене и интенсивно развиваются в голоцене. Резкое потепление в конце плейстоцена создало благоприятные условия для развития морской фауны. С увеличением планктона в Тихоокеанском бассейне более многочисленными стали морские млекопитающие. Охота на них с использованием копий, дротиков, острог и дубинок возникла вначале на лежбищах. Дальнейшее развитие морского зверобойного промысла привело к появле-нию специализированных орудий – гарпунов с поворотными наконечниками.
Уже на стоянках начального дзёмона (7500–5300 лет до н. э.) в Японии появляются нако-нечники гарпунов поворотного типа (Васильевский и др., 1982. С. 188). Это были простые нако-нечники гарпунов архаичной формы, которые продолжали бытовать и в более поздних периодах дзёмона. В Приморье наконечники поворотных гарпунов имеются в бойсманской неолитической культуре (V–III тыс. до н. э.) (Попов и др., 1997). Подобные наконечники обнаружены в Южном Приморье на п-ове Песчаный (янковская культура, XI–V вв. до н. э.), а также в охотской куль-туре на Сахалине и Курильских островах. По-видимому, в районе Японского моря существовал древнейший очаг формирования приморской экономики с особым типом архаичных наконечни-ков гарпунов, которые могли использоваться в добыче не только морских млекопитающих, но и крупной морской рыбы. Появившись сначала как орудие для лова крупной рыбы, поворотный гарпун в дзёмоне со временем превратился в орудие для промысла морских млекопитающих и китообразных (Васильевский и др., 1982). Однако более усовершенствованные формы нако-нечников гарпунов появляются только в позднем дзёмоне (2400–1000 до н. э.) и особенно ха-рактерны для финального дзёмона (1000–300 лет до н. э.). По мнению американского археолога В. Фицхью (crossroads…, 1995. p. 43), пока неизвестно, являлись ли ранние образцы дзёмонских поворотных наконечников начальной формой для сложных поворотных наконечников, распро-страненных на более поздних стадиях культуры дзёмон, или они были частью общего развития берингоморского круга культур гарпунной технологии.
© Лебединцев А. И., 2014