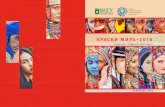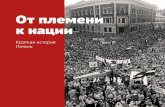Системы распознавания «свой – чужой » и ренессанс биологической концепции вида (2007)
Концепции постколониализма и посториентализма в...
Transcript of Концепции постколониализма и посториентализма в...
Южный федеральный университет
Северо-Кавказский научный центр высшей школы
Метаморфоз vs Трансформация.
Мультидисциплинарный подход
к изучению истории адыгов в XIX–XXI вв.
Материалы Международной научной конференции
6 декабря 2013 г., г. Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ
2013
2
ББК 63.3(2Рос.Ады)
М – 54
Редакционная коллегия:
Розин Михаил Дмитриевич, доктор философских наук, профессор,
директор Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ;
Несмеянов Евгений Ефимович, доктор философских наук, профессор,
заместитель директора Северо-Кавказского научного центра высшей шко-
лы ЮФУ;
Сущий Сергей Яковлевич, доктор философских и кандидат социоло-
гических наук, руководитель научной лаборатории СКНЦ ВШ ЮФУ
ISBN 978-5-87872-754-9
В сборнике представлены доклады участников Международной
конференции «Метаморфоз vs Трансформация. Мультидисциплинар-
ный подход к изучению истории адыгов в XIX–XXI вв.», проведенной
Северо-Кавказским научным центром высшей школы Южного феде-
рального университета в г. Ростове-на-Дону 6 декабря 2013 года.
Авторами рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с ис-
следованиями Кавказа (теоретико-методологические аспекты и со-
временность), идентичностью адыгов в России и за рубежом (история
и современность), адыгами в контексте истории Кавказа XIX–XXI вв.
(источниковедческое и историографическое измерения), социальными
и религиозными факторами в формировании истории адыгов.
ББК 60.5
ISBN 978-5-87872-754-9
© Издательство Северо-Кавказского научного
центра высшей школы, 2013
М – 54 Метаморфоз vs Трансформация. Мультидисциплинарный под-
ход к изучению истории адыгов в XIX–XXI вв.: материалы Ме-
ждународной научной конференции 6 декабря 2013 г., г. Ростов-
на-Дону. – Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – 324 с.
74
Цибенко (Иванова) В.В.,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник СКНЦ ВШ ЮФУ
Концепции постколониализма и посториентализма
в применении к кавказской проблематике
Сегодня, в реалиях современной России, как никогда остро
ощущается нехватка собственных «больших теорий». Эти пусто-
ты естественным образом занимают заимствованные западные
концепции, претендующие на универсальность. Однако они не
учитывают ни нашей научной традиции, ни местных условий,
напрямую зависят от сложившихся за рубежом научных школ. В
итоге эти механически перенесенные на нашу почву концепции
зачастую действуют разрушительно и трансформируют общест-
венное сознание, приводя к искаженному восприятию и крайней
субъективизации гуманитарного знания.
Российское кавказоведение, отказавшись сначала от дискре-
дитированной по идеологическим мотивам историографической
традиции Российской империи, а с 80-х гг. XX в. – по тем же
причинам уже от советской, также оказывается в ситуации «чис-
того поля». В этих условиях задавать рамки и направления науч-
ных исследований начинают такие западные концепции, как, на-
пример, постколониализм и (пост)ориентализм. Напрямую свя-
занные друг с другом, эти две концепции могут быть названы ос-
новополагающими для зарубежного научного дискурса послед-
ней четверти XX – начала XXI в.
Концепция ориентализма, предложенная американским уче-
ным арабского происхождения Эдвардом Саидом (1935–2003),
совершила переворот в западной научной мысли, инициировав
волну постколониальных исследований. Ориентализм в понима-
нии Саида – реализуемый через научное сообщество ориентали-
стов способ доминирования и осуществления власти над Восто-
ком, более того, сам Восток – это конструкция, удобная для осу-
ществления империалистических замыслов западных держав
(Англии, Франции, США). Опираясь на идею «властного дискур-
75
са» Мишеля Фуко, Саид в своем программном труде «Ориента-
лизм» (1978 г., дополненное издание 1995 г.) не только призывал
услышать «голоса порабощенных» (а именно представителей ко-
лонизированного арабского мира) и дать им самим говорить за
себя. По собственному признанию, он закладывал основы муль-
тикультурализма [1, c. 520].
Борясь с экзотизацией «Другого», его отчуждением и дис-
криминацией, Эдвард Саид при этом не призывал к унификации.
Спровоцированное его концепцией разрушение европоцентрист-
ской картины мира привело, с одной стороны, к осознанию и
признанию множественности мнений в «незападном мире», а с
другой – к определенному ущемлению Запада в праве на собст-
венное видение реальности. Больше всего пострадала научная
школа ориенталистики, фактически перешедшая на полулегаль-
ное положение. Концепция ориентализма стала знаменем антико-
лониальной борьбы, развернувшейся в научном пространстве.
Естественно, у концепции нашлись противники [см.: 2–7],
чьи аргументы против ориентализма в общих чертах сводятся к
следующему:
– чрезмерная ангажированность и идеалогизированность;
– вторичность и неоригинальность идей (Саиду предшест-
вуют арабские интеллектуалы, а им – представители марксист-
ской школы);
– создание «комплекса жертвы»;
– оправдание радикальных течений на арабском Востоке;
– недостаточное знание фактологического материала и мно-
гочисленные ошибки;
– надуманность многих выводов и натяжки;
– слишком широкие обобщения;
– придание западным ориенталистам ложных мотивов;
– искажение действительности и отказ от возможности «ис-
тинного знания о Востоке»;
– как следствие, излишняя субъективизация научного знания.
Последние два тезиса вызваны стремлением Эдварда Саида,
литературоведа по специальности, деконструировать властный
дискурс ориентализма исходя из постмодернистских позиций.
76
Это проявилось в его приверженности идеям «относительности
исторического знания» и постмодернизма как «радикального ре-
лятивизма», утверждающего, что «ключевые понятия и феноме-
ны, которым традиционно приписываются объективность и ста-
бильность, культурно или социально ―конструируются‖; что при
написании истории используются методы повествования, сход-
ные с теми, которые применяются в художественной литературе;
и что в истории не может быть никаких ―грандиозных‖ объясне-
ний, никаких ―метасюжетов‖» [8, c. 17-18].
По мнению англо-американского специалиста по Ближнему
Востоку Бернарда Льюиса (р. 1916), это привело к профанации
Саидом и его последователями знания как такового: «Согласно
модным эпистемологическим воззрениям, абсолютная истина ли-
бо не существует, либо недостижима. Раз так, истина неважна,
факты тоже. Всякий дискурс есть проявление соотношения сил, а
всякое знание тенденциозно. Важно только отношение – мотивы
и цели – того, кто использует знание, а всякое отношение можно
просто поставить в заслугу себе или в вину оппоненту. Когда
ставишь в вину оппоненту мотивы, которыми он руководствовал-
ся, ненужность истины, фактов, свидетельств и даже правдопо-
добия приходится как нельзя кстати: достаточно голословного
осуждения» [2, c. 185].
Логичным продолжением ориентализма как концепции, по-
стулирующей конструирование и порабощение Западом Востока
посредством науки, стало течение антиориентализма. Как и анти-
колониализм, отталкиваясь от доказанности вины империалисти-
ческого Запада, оно приступало к идеологической борьбе с ним
(преимущественно силами арабских интеллектуалов). Следую-
щим шагом становились посториентализм и постколониализм,
означающие переход к научному осмыслению этой борьбы, когда
ученый из активиста превращается в посредника между сторона-
ми – своего рода третейского судью или «медиатора между коло-
низатором и колонизуемым» [9, с. 776] (в реальности, как прави-
ло, выступающего на стороне «жертвы»).
Эти этапы «обозначение – борьба – осмысление» (ориента-
лизм – антиориентализм – посториентализм и колониализм – ан-
77
тиколониализм – посториентализм) отражали естественное раз-
витие научной мысли, адекватное существовавшим в тот момент
условиям. Однако под вопросом остается их универсальность и
адекватность для иной среды, в частности, применимость к рос-
сийским и кавказским реалиям.
После выхода книги концепция Саида нашла своих почита-
телей и критиков в России. Тем не менее она была встречена на-
учным (прежде всего востоковедческим) сообществом достаточ-
но спокойно [10; 11, с. 325–344]. Причиной этого может быть оп-
ределенная опаска смешивать науку с политикой и идеологией
(политизированность и ангажированность концепции Саида не
вызывает сомнений у большинства исследователей), тем более
что антиимпериалистический дискурс воспринимается как часть
советского наследия. Более того, по замечанию Анатолия Ремне-
ва, «антиколониальный дискурс советского и постсоветского
времени был в известной степени унаследован из Российской им-
перии. Современная российская историография сохраняет и сего-
дня традиционный акцент на принципиальном отличии россий-
ской имперской политики от колониального господства европей-
ских империй» [12, с. 150-151].
Поэтому неудивительно, что первая дискуссия о примени-
мости концепции ориентализма к российской действительности
развернулась в 2000 г. не в России, а между американскими уче-
ными-русистами [13, p. 691–727]. Эта дискуссия, практически не
затронув российскую востоковедческую среду (особенно иссле-
дователей зарубежного Востока), стала отправной точкой для
многих российских историков, занимающихся исследованием
Кавказа, Поволжья, Сибири и Центральной Азии времен Россий-
ской империи и СССР [см.: 11; 14, c. 25–30; 15, c. 35]. В 2005 г.
она была переведена на русский язык и издана в Москве [16], а в
2006 г. в расширенном варианте снова опубликована в США в
сборнике «Ориентализм и империя в России» [17].
Постепенно негативное восприятие российской (имперского
и советского периода) истории в духе идей ориентализма начина-
ет распространяться и в российских научных кругах. Оно активно
проникает в кавказоведение, задавая ведущей темой изучение ко-
78
лонизаторских и империалистических устремлений Российской и
Советской империй (они принимаются в единой неразрывной
связи) на Кавказе и соответствующей «тиранической» и «экс-
плуататорской» политики. Кавказ предстает российской колони-
ей (наряду с Центральной Азией, Поволжьем, Центральной Ази-
ей, Сибирью) и включается в постколониальный дискурс. Таким
образом, история Кавказа в составе России рассматривается как
процесс колонизации и ответной антиколониальной борьбы.
С одной стороны, эти тезисы не являются совершенно но-
выми для российской научной среды – в Советском Союзе прева-
лировал обусловленный идеологией подход искупления вины за
имперское прошлое, когда «царизм» представал угнетателем и
эксплуататором, а сама империя – «тюрьмой народов». Однако
имперская история рассматривалась в контексте классовой борь-
бы: эксплуататорами назывались элиты, а трудящиеся «братских
народов» были солидарны в общей борьбе с ними. Таким обра-
зом, при неком совпадении формы концептуальное содержание
их различно.
Перенесение на российскую почву концепций посториента-
лизма и постколониализма сопровождается соответствующим ан-
тиимпериалистическим дискурсом, который проявляется, в част-
ности, в негативном восприятии имперского прошлого и империи
как таковой. Империя не только видится пережитком в сравнении
с «модерными» национальными государствами, она воспринима-
ется как империалистическое государство, в основе построения
которого лежат практики доминирования и подавления, а также
принцип неравноправности населения. Ее структура представля-
ется схематично разделенной на властный центр и маргинализи-
рованную периферию (колонии), причем это разделение устанав-
ливается по этническому признаку. Отдельно выделяется претен-
зия властных кругов на цивилизаторскую миссию. Так, Рикарда
Вульпиус дает следующее определение империи: «политическое
образование, в котором элиты выражают чувство превосходства
по отношению к этнически отличным от них народам на перифе-
рии» [18, c. 16].
79
Следует особо отметить преобладание в западной историо-
графии подхода к рассмотрению Российской империи в первую
очередь как национального государства (при этом приуменьша-
ется, например, значение религиозной идентичности в имперском
мышлении), а колонизаторы/эксплуататоры и угнетенные разде-
ляются по этническому признаку. Таким образом, противостоя-
ние на «периферии» разворачивается между русским и другими
(в частности, кавказскими) народами. Очевидно, что подобного
рода идеи неизбежно ведут к нарастанию межэтнической напря-
женности.
Такой подход в изучении истории Российской империи и
Советского Союза можно назвать главенствующим среди зару-
бежных исследователей. Однако он начинает активно распро-
страняться и в российской научной среде. Занимая промежуточ-
ное положение между этими научными мирами, исследователь-
ница российского востоковедения Вера Тольц, например, посто-
янно указывает на империализм и экспансионистский характер
России («как нации и империи») [19, c. 270], при этом обозначая
русских как «неполноценных империалистов» [19, c. 283].
В логике нового исследовательского подхода действуют и
авторы учебника для высшей школы «Северный Кавказ в составе
Российской империи», являющегося попыткой создать «новую
историю империи» [20, c. 5, 16]. Редакторы учебника призывают:
«Русским, среди прочего, предстоит полнее осознать репрессив-
ность империи, наследниками которой – как в положительном,
так и в отрицательном смысле – они являются» [20, c. 9].
Основы нового описания истории Российской империи за-
кладываются общим редактором серии работ по окраинам в соста-
ве России Алексеем Ильичем Миллером. Сквозными темами для
серии выступают такие концепции, как ориентализм, постколо-
ниализм, фронтир (граница, зона освоения). Если о критике ори-
ентализма уже было сказано ранее, а главными обличителями ко-
лониализма (как и империализма) были ученые марксистско-
ленинской школы, то концепция фронтира для отечественной ис-
ториографии достаточно нова. В то же время она широко приме-
няется западными исследователями, в том числе и в отношении
80
России: «Всю российскую историю рассматривали на Западе как
историю "фронтира" – начиная с Киева и заканчивая Сибирью...
Или же российский "фронтир" просто сопоставлялся с американ-
ским: Казань становилась Сент-Луисом, покорение Новгорода
сравнивалось с приобретением Огайо, а присоединение Украины
рассматривалось как российская "покупка Луизианы"» [21, c. 166].
Сейчас эта концепция начинает активно использоваться по
отношению к кавказской проблематике. Тем не менее примени-
мость ее для Северного Кавказа была убедительно оспорена
Эмилией Аюбовной Шеуджен [22, 23]. В статье с характерным
названием «Зона ли фронтира Северный Кавказ?» она отмечает,
что «утверждение о северокавказском фронтире как "рубеже",
"границе", где встречаются "цивилизация" и "дикость", не имеет
научных оснований. Идея фронтира как "границы" с момента
вхождения Северного Кавказа в состав России теряет реальный
смысл и может быть рассмотрена как искусственное, умозри-
тельное построение. При всей противоречивости и неоднознач-
ности ситуации на Северном Кавказе нельзя согласиться с мне-
нием, что в данном регионе "закрытие" фронтира практически
никогда не происходило. Думаю, что в подобных утверждениях
больше политики, чем стремления проникнуть в суть происходя-
щих на Северном Кавказе процессов. Настойчивые поиски севе-
рокавказского фронтира все более свидетельствуют об ограни-
ченности применения этой идеи к конкретным условиям регио-
на» [22, c. 12].
Еще одним ключевым понятием для новой имперской исто-
рии становится трансфер, т.е. перенесение или заимствование
концептов, институтов и даже кадров [14, c. 33]. Акцент смеща-
ется с индивидуальности или уникальности развития того или
иного государства на универсализм и миграцию идей. Империя
из сбалансированной системы, комплексного сложносоставного
явления, элементы которого органически связаны между собой,
превращается в пустое пространство, заполняемое с большей или
меньшей степенью успешности различными трансферами.
Такой подход маскирует суть происходящих явлений, на-
пример, сословный, а не этнический принцип разделения под-
81
данных в Российской империи, общий интеграционный, а не сег-
регационный ее характер, отсутствие выраженных границ между
центром и периферией, не говоря уже об особенностях, выте-
кающих из истории ее формирования и самоосмысления, под
влиянием которых заимствования, проходя через жернова мест-
ных реалий, приобретали очень далекий от первоначального вид.
Характерно, что под влиянием «трансферного» подхода да-
же протестная реакция в форме поиска «своего пути» начинает
осмысляться в заимствованной категории «зондервега» («особого
пути» Германии). В этом смысле интересный пример представля-
ет статья российского историка-сибиреведа Анатолия Ремнева
«Российская власть в Сибири и на Дальнем Востоке: Колониа-
лизм без Министерства колоний – русский "Sonderweg"?» Анато-
лий Ремнев, оперируя заданными зарубежным дискурсом терми-
нами и концептами, задал вопрос: «Почему Российская империя
не хотела быть колониальной?» и дал на него следующий ответ в
традициях отечественной историографической школы: «Дело за-
ключалось не только в стремлении дистанцироваться от европей-
ских колониальных держав, от их корыстной экономической по-
литики, демонстративного расового и культурного превосходства
над туземцами, что плохо сочеталось с довольно распространен-
ными просвещенческими и народническими идеалами в россий-
ской интеллектуальной среде. Термины "колония" и "колониаль-
ная политика" оставались по преимуществу оценочными, как не-
справедливые и эксплуататорские… Империя надеялась, что ей
удастся найти бесконфликтный вариант "слияния" народов в од-
ном государственном сообществе, объединив население чувства-
ми династической преданности, официального патриотизма, рус-
ского (российского) национального гражданства и приверженно-
сти к русской культуре и языку» [12, с. 175].
В полемику с Анатолием Ремневым вступил американский
русист Виллард Сандерленд, который в духе постмодернизма ис-
пользовал подход «виртуальной истории», конструируя «Мини-
стерство азиатской России: никогда не существовавшее, но
имевшее для этого все шансы колониальное ведомство»: «Мы
стоим в вестибюле российского Министерства колоний. Единст-
82
венная проблема данного сценария заключается в том, что такого
здания никогда не существовало… Задолго до своего бесславного
конца самодержавное государство стало колониальной империей.
Страна состояла из колонистов и колонизируемых народов. Рос-
сийское правительство управляло отдаленными территориями,
которые многие русские считали колониями. И в некоторых из
этих предполагаемых колоний представители правительства и
российского образованного общества были, несомненно, охваче-
ны духом "колониализма" – "этнографическим высокомерием",
которое предполагает абсолютное превосходство своей цивили-
зации над колонизуемыми» [24, c. 106].
Эту же линию продолжает американский русист Михаил
Ходарковский, переформулировав вопрос следующим образом:
«Почему, в отличие от других европейских колониальных дер-
жав, Россия отказывалась от терминологии колониальной импе-
рии?» и найдя для себя ответ в претензии России на «цивилиза-
торскую» роль. При этом колониальный характер Российской
империи не вызывает у него сомнений [25, c. 89].
Очевидный конфликт между этими двумя позициями
(А. Ремнева, с одной стороны, и В. Сандерленда и М. Ходарков-
ского – с другой) и двумя взглядами на историю Российской им-
перии не может быть с легкостью разрешен, так как в основе его
лежит глубинное расхождение в подходах к осмыслению истории.
Разрыв происходит как по линиям объективное/субъективное, ре-
альное/виртуальное, так и на общетеоретическом уровне.
Следует особо отметить, что постмодернистская борьба с
конструктами – это борьба с позитивным знанием, не предла-
гающая взамен иного знания. Концепция ориентализма (антиори-
ентализма и посториентализма) разрушает ориенталисти-
ку/востоковедение, концепция колониализма (антиколониализма,
постколониализма) выступает против империи и имперского соз-
нания.
Деконструкция «воображаемого» и субъективизация «объ-
ективного» ведут от развенчания мифов к их бесконечному про-
дуцированию, расшатывают основы научного знания как таково-
го, ставя вопрос о правомерности разделения на «истинное» и
83
«ложное». В таких условиях историческая наука теряет сам
смысл своего существования, превращаясь, по сути, в политиче-
ское мифотворчество. Очевидно, что это тупиковый путь для
российского кавказоведения. В этой ситуации на российское на-
учное сообщество ложится серьезная задача консолидации уси-
лий в создании собственной теоретической базы, соответствую-
щей вызовам современности.
Литература
1. Саид Э.В. Ориентализм. СПб., 2006. 637 с.
2. Луис Б. Ислам и Запад. М., 2003. 320 с.
3. Ibn Warraq Defending the West: A Critique of Edward
Said’s Orientalism. N. Y., 2007. 556 p.
4. Irwin R. For Lust of Knowing: The Orientalists and Their
Enemies. London, 2007. 420 p.
5. Kramer M. Ivory Towers on Sand. The Failure of Middle
Eastern Studies in America. Washington, 2001. 137 p.
6. Makiya K. Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising, and
the Arab World. N. Y.; London, 1993. 368 p.
7. Sardar Z. Orientalism. Concepts in Social Sciences Series.
Oxford, 1999. 144 p.
8. Дэвид-Фокс М. Введение: отцы, дети и внуки в американ-
ской историографии царской России // Американская русистика.
Вехи историографии последних лет. Императорский период: Ан-
тология / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 5–44.
9. Бобков И.М. Постколониальные исследования // Новей-
ший философский словарь. Минск, 2003. С. 776-777.
10. Кучерская М. История одного заблуждения (Эдвард В.
Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока) // Отечествен-
ные записки. Журнал для медленного чтения. 2007. № 1 (34).
URL: http://www.strana-oz.ru/2007/1/istoriya-odnogo-zabluzhdeniya-
edvard-v-said-orientalizm-zapadnye-koncepcii-vostoka (дата обра-
щения: 07.12.2013).
84
11. Бобровников В.О. Почему мы маргиналы? Заметки на
полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // Ab
imperio. 2008. № 2. С. 325–344.
12. Ремнев А. Российская власть в Сибири и на Дальнем
Востоке: Колониализм без Министерства колоний – русский
«Sonderweg»? // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории
Российской империи [1700–1917]. М., 2010. С. 150–181.
13. // Kritika. N.S. Bloomington. 2000. Vol. 1, № 4. P. 691–727.
14. Миллер А.И. Российская империя, ориентализм и про-
цессы формирования наций в Поволжье // Политическая наука.
2002. № 4. С. 25–35.
15. Тольц В. «Собственный Восток России». Политика
идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесо-
ветский период. М., 2013. 336 с.
16. Российская империя в зарубежной историографии. Ра-
боты последних лет: Антология. М., 2005. 696 с.
17. Orientalism and Empire in Russia / ed. by M. David-Fox,
P. Holquist, A. Martin. Bloomington, 2006. 363 p.
18. Вульпиус Р. Вестернизация России и формирование
российской цивилизаторской миссии в XVIII веке // Imperium in-
ter pares: Роль трансферов в истории Российской империи [1700–
1917]. М., 2010. С. 14–41.
19. Тольц В. Российские востоковеды и общеевропейские
тенденции в размышлениях об империях конца XIX – начала XX
века // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Россий-
ской империи [1700–1917]. М., 2010. С. 266–307.
20. Северный Кавказ в составе Российской империи / под
ред. В.О. Бобровникова, И.Л. Бабич. Серия «Окраины Российской
империи». М., 2007. 460 с.
21. Барретт Т.М. Линии неопределенности: Северокав-
казский «фронтир» России // Американская русистика. Вехи ис-
ториографии последних лет. Императорский период: Антология /
сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. 332 с. С. 163–192.
22. Шеуджен Э.А. Зона ли фронтира Северный Кавказ? //
Вопросы теории и методологии истории: сб. науч. трудов / науч.
ред. Э.А. Шеуджен. Майкоп, 2006. Вып. 5. С. 3–15.
85
23. Шеуджен Э.А. К вопросу о северокавказском фронтире
// Научная мысль Кавказа. 2006. № 3. С. 76–83.
24. Сандерленд В. Министерство азиатской России: Нико-
гда не существовавшее, но имевшее для этого все шансы колони-
альное ведомство // Imperium inter pares: Роль трансферов в исто-
рии Российской империи [1700–1917]. М., 2010. С. 103–149.
25. Ходарковский М. В чѐм Россия «опережала» Европу,
или Россия как колониальная империя // Политическая концепто-
логия. 2013. № 2. С. 85–91.