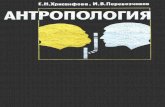Антропология профессий
Transcript of Антропология профессий
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АНТРОПОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ
Сборник научных статей
Под редакцией П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой
САРАТОВ ЦСПГИ
Издательство «Научная книга»2005
ББК 60.5 А72
Anthropology of Professions. Ed. by Pavel Romanov and Elena Iarskaia-Smirnova. Saratov: Nauchnaia Kniga, 2005.
Издание осуществлено при поддержке гранта РГНФ № 003-05/0723
Рецен з ен ты :доктор философских наук Д. В.Михель
(Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского)
доктор социологических наук И. Н. Иванова (Поволжский межрегиональный учебный центр)
А72Антропология профессий: Сб. науч. ст. / Под ред. П.В. Ро-
манова и Е.Р. Ярской-Смирновой. — Саратов: Центр социаль-ной политики и гендерных исследований: Изд-во «Научная книга», 2005. — 464 с.
ISBN 5-93888-869-7 Сборник научных статей является итогом семинара, состоявшегося в ок-
тябре 2004 г. в Центре социологического образования Института социоло-гии РАН (Москва) и организованного Центром социальной политики и ген-дерных исследований (Саратов) совместно с Центром независимых социо-логических исследований (Санкт-Петербург). В книге впервые в России со-браны статьи, основанные на анализе результатов полевых исследований различных профессиональных сообществ в аспектах структуры повседнев-ного опыта и форм профессионального знания, идентичности, культуры и язы-ка группы, процессов профессионализации. Статьи фокусируются на раз-личных аспектах бытования профессий в современном обществе в контек-сте социальных трансформаций, изменений в сфере трудовых отношений.Задачи книги – способствовать формированию сообщества российских ис-следователей многообразного и изменчивого мира профессий, развитию критического анализа проблем, связанных с трудовой деятельностью.
Книга может быть интересна исследователям социокультурных прак-тик и процессов в современном российском обществе, антропологам, этно-графам, социологам и культурологам, всем тем, кого интересуют проблемы работы, занятости и профессий.
ББК 60.5
ISBN 5-93888-869-7 © Коллектив авторов, 2005 © ЦСПГИ, 2005
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие редакторов ....................................................................... 7 Раздел 1. Контекст профессии Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова Антропологические исследования профессий ............................. 13 Татьяна Щепанская Конструкции гендера в неформальном дискурсе профессий ........................................... 50 Ольга Андреева, Анна Кимерлинг Офисные работники:ритуальные формы поведения ..................................................... 101 Андрей Кабацков Офисный мир и высшее профессиональное техническое образование ............................. 117
Раздел 2. Классические профессии Оксана Запорожец, Елена Баева «Начальник чахотки»: некоторые размышления о медицинской власти ....................... 136 Наталья Масленкова Проблема смеха в контексте профессиональной деятельности медиков .................................. 152 Антонина Корнеева Формы капиталов в профессиональной деятельности адвокатов ................................................................ 163
Раздел 3. Старые профессии Наталия Кондратьева Петербургский театральный фольклор: на примере театра им. Ленсовета .............................. 188 Татьяна Сафонова Социальная экология профессиональной группы: исследование случая инспекторов служб в заповеднике ............................................... 200 Екатерина Казанина Астрономия как объект изучения антропологии профессии .............................................................. 227 Екатерина Антонова, Ирина Артёмова, Константин Мокин «Экспресс-антропология» сексуальной индустрии,или Повод не задумываться о нравственности ........................... 236
4
Раздел 4. Новые профессиональные группы и виды занятости Елена Ярская-Смирнова, Павел Романов Теория и практика социальной работы: исследование «скрытого знания» ............. 258Татьяна Сафонова Галатеи социологии: социальное производство вовлеченности в академическую профессию ..... 290 Олег Лейбович Социальные невидимки: топ-менеджеры региональных избирательных кампаний ..................................... 305 Наталия Шушкова Социолог в избирательной кампании:штрихи к портрету ......................................................................... 322 Екатерина Казурова Менеджер по продажам –конструирование профессии ........................................................ 334 Евгения Васина Торговцы на рынке под открытым небом:практика закупки товара как аспект профессии продавца ........ 358 Екатерина Москаленко Офис как профессиональный дисплей: этнографическое описание студии графического дизайна ........................................................................................... 368 Екатерина Антонова Мойщики машин: субкультурные аспекты детского труда в большом городе ................................. 384 Ольга Ткач «Мы ищем – вы находите»: профессиональное поле практической генеалогии ..................................................... 403 Наталия Ловцова Профессионализация родительства:политика, теория и практика ........................................................ 432
Информация об авторах .................................................................... 461
Anthropology of Professions
TABLE OF CONTENTS
Preface ..................................................................................................... 7 Part 1. Context of profession
Pavel Romanov, Elena Iarskaia-Smirnova Anthropological studies of professions ............................................. 13 Tatyana Shchepanskaya Constructing gender in the informal discourse of professions ............................................ 50 Olga Andreeva, Anna Kimerling Office workers: the ritualized forms of conduct ........................................................ 101 Andrey Kabatskov Office world and the higher professional technical education ...................................................... 117
Part 2. Classical professions
Oksana Zaporozhets, Elena Bayeva “Consumption Commander”: some reflections on medical power ................................................. 136 Natalia Maslenkova An issue of laugh in the context of professional activity of medical professionals ............................ 152 Antonina Korneeva Forms of capitals in the professional activity of lawyers ........................................................................... 163
Part 3. “Old” professions
Natalya Kondratyeva Petersburg theatric folklore: a case of Lensovet theatre ................................................................ 188 Tatyana Safonova Social ecology of professional group: case study of inspectors in a nature park ......................................... 200 Ekaterina Kazanina Astronomy in focus of anthropology of profession .................................................................................... 227 Ekaterina Antonova, Irina Artemova, Konstantin Mokin “Express-anthropology” of sexual industry or a reason not to think about morality .............................................................. 236
6
Part 4. New professional groups and occupations Elena Iarskaia-Smirnova, Pavel Romanov Theory and practice of social work: research into tacit knowledge ................................. 258 Tatyana Safonova Galateas of sociology: the social production of an academic profession’s commitment ....................................... 290 Oleg Leibovitch Social invisible beings: top-managers of the regional electoral campaigns ................................................. 305 Natalya Shushkova A sociologist in an election company: some features to a portrait ............................................................... 322 Ekaterina Kazurova Sales manager – constructing a profession .... 334 Evgeniya Vassina Traders of an open-air-market: practice of wholesale purchases in a framework of professional activity ..... 358 Ekaterina Moskalenko Office as a professional display: ethnographic description of graphic design studio .......................... 368 Ekaterina Antonova Car washers: subculture aspects of child’s labor in urban context ...................................................... 384 Olga Tkatch “We are searching – you are finding”: professional field of practical genealogy ......................................... 403 Natalya Lovtsova Professional parenthood: policy, theory and practice ...................................................................................... 432
Information about authors ................................................................... 461
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
Россия все ощутимее перемещается в пространство постиндуст-риального общества, и сейчас уже невозможно не учитывать широ-комасштабную трансформацию социальных институтов – таких как производство, потребление, семья, церковь, – не обращая внимания на современные процессы, охватившие социальную жизнь. Чтобы не потерять связь с реальностью, антропологам и этнографам важно расширить фокус исследований с удаленных и экзотических Других в пространство города, промышленного предприятия, офиса, мага-зина, уличных группировок, рыночных сообществ… Обычное деле-ние на сферы интересов – «современность и индустриальный мир – дело социологии, а этничность и удаленные Другие – задача этно-графов / антропологов» – пересматривается, перспективными стано-вятся исследования в русле антропологии современного общества.
Эта книга стала результатом многолетних исследований, прово-дящихся в нескольких отечественных научных школах, и одноимен-ного семинара, состоявшегося в 2004 году в Москве. Идея собрать вместе ученых, проводящих полевые исследования различных про-фессиональных сообществ, вынашивалась около трех лет. Неоцени-мый вклад в окончательную ее реализацию внесли члены организа-ционного комитета семинара – Татьяна Щепанская, Олег Паченков и Ирина Козина. Семинар привлек более пяти десятков заявок со всей страны, однако тех, кто представил полевые исследования,оказалось вдвое меньше, и почти все они приехали со своими вы-ступлениями в Москву для участия в мероприятии, где обсуждались содержательные аспекты отдельных исследований, проблемы спо-собов сбора данных о профессиях, возможные дальнейшие направ-ления таких исследований.
Доработанные и дополненные статьи участников семинара и составили основу сборника. Авторы представляют города Абакан,Балаково, Саратов, Самару, Пермь и Санкт-Петербург, каждое
8
из опубликованных исследований в чем-то уникально, однако их объединяют некие общие сходные ключевые сюжеты, вокруг кото-рых строится сбор данных и их интерпретации. Во многом они зада-ны традициями изучения профессий в социологии и социальной ан-тропологии, а именно: предметом внимания, принципами сбора дан-ных и индуктивного обобщения – речь идет о структуре и формах профессионального знания, культуре и языке профессиональной группы, идентичности профессионалов, процессах профессионали-зации. Статьи фокусируются на различных аспектах бытования профессий в современном обществе, причем авторам удалось загля-нуть за кулисы повседневного опыта, структурированного контек-стом и структурирующего убеждения людей и их поведение на ра-бочем месте. На этот опыт оказывают влияние процессы социальной трансформации российского общества, изменения в промышленно-сти, сфере услуг, трудовых отношениях, а сами профессии, их цен-ности и жизненные миры становятся теми инструментами, которые используются групповыми и индивидуальными акторами для фор-мирования определенных предметных и культурных порядков.
Один из вопросов семинара был связан не с конкретными про-фессиями, а с общими принципами антропологических исследова-ний и некоторыми важными контекстуальными особенностями про-фессиональной деятельности. Поэтому книга открывается разделом,представляющим научную дискуссию о границах научного направ-ления и результаты исследований дискурсов, ритуалов и институтов,оформляющих профессии. Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова предлагают свой взгляд на эволюцию и современное состояние ан-тропологии профессий, ее междисциплинарные связи, особенности метода, нюансы формирования предметного поля и этические кол-лизии. В статье Татьяны Щепанской на материале неформального дискурса профессиональных субкультур рассматриваются структу-ры гендерных моделей, воспроизводимые в повседневной коммуни-кации и оказывающие влияние как на принятие решений, так и на практику их исполнения. Ольга Андреева и Анна Кимерлинг обсуж-дают проблематику офисных ритуалов, их значение для поддержа-ния корпоративной идентичности, установления и воспроизводства иерархических порядков, указывая на слабость этических профес-сиональных регуляций. Исследование Андрея Кабацкова, основан-ное на анализе документов и данных включенного наблюдения,
9
затрагивает трансформацию институциального контекста производ-ства профессионального знания на примере технического универси-тета, поставляющего на рынок труда многочисленных «менедже-ров», обладающих трудноопределимой профессиональной принад-лежностью и областью специализации.
Во второй раздел вошли статьи, представляющие результаты исследований тех видов занятости, которые рассматриваются в ка-честве классических образцов профессиональной деятельности, ибо содержат все те атрибуты, благодаря которым профессии отделяют себя от всех прочих занятий и воспроизводят свой культурный капи-тал: длительную теоретическую подготовку, строгий этос, крепкие ассоциации и сильную групповую идентичность. Исследование классических профессий выводит нас на специфический круг про-блем, обусловленных этими атрибутами. Например, в статье Оксаны Запорожец и Елены Баевой рассматриваются формы медицинского контроля над туберкулезом и власть фтизиатров в стационарном ле-чебном заведении, а также практики сопротивления со стороны па-циентов, являющихся объектами такого контроля. Работа Натальи Масленковой затрагивает один из аспектов профессиональной куль-туры медиков, связанный с производством смехового текста. Осо-бенности врачебного юмора, с одной стороны, отражают, а с дру-гой – легитимируют и воспроизводят властный дискурс медицин-ской профессии. В тексте Антонины Корнеевой профессиональные особенности адвокатов исследуются с опорой на концепцию капита-лов Пьера Бурдье, рассматриваются формы и способы конвертации капитала – из культурного в символический, из социального в эко-номический.
Раздел «Старые профессии» отделяет виды занятости, появив-шиеся в России задолго до больших социально-экономических трансформаций, – пусть и не относимые к классическим, но обла-дающие устоявшимся этосом, сложившимися каналами воспроиз-водства групповых норм, – от новых, являющихся продуктом и дви-жущей силой этих трансформаций. Об актерах театра рассказывает Наталия Кондратьева, подробно останавливаясь на одном из аспек-тов профессиональной субкультуры – формах актерского фольклора,его основных мотивах и сюжетах, а также функциях, включая соци-альный контроль, поддержание идентичности, корпоративного этоса.Татьяна Сафонова, изучая инспекторов лесных служб, применяет
10
метафору пищевых цепочек, вскрывая стратегии манипуляции ре-сурсами для укрепления статуса профессиональной группы, рекон-струируя изобретение инструментов контроля над полем деятельно-сти и членами сообщества. Екатерина Казанина прослеживает осо-бенности идентичности и повседневных практик астрономов в кон-тексте отдельных специализаций и организационных условий разви-тия профессии. Екатерина Антонова, Ирина Артёмова и Констан-тин Мокин предприняли попытку этнографического исследования древнейшей профессии – секс-работница. Несмотря на свою древ-ность, этот вид занятости вытеснен во многих современных общест-вах в нелегальный сектор, что делает отношение к ней двусмыслен-ным, определяет уязвимость ее представителей, умножает риски,зависимость и от криминальных структур, и от коррумпированных представителей власти одновременно.
В раздел «Новые профессиональные группы и виды занятости»вошли статьи о разнообразных видах занятости, получивших рас-пространение в последние 10–15 лет. Новые, появляющиеся на на-ших глазах профессии во всей широте открывают наблюдателю ме-ханизмы становления атрибутов, своего этоса и практик взаимодей-ствия с обществом. Применение этнографических методов для ис-следования этих, подчас теневых и слабовыраженных, процессов методологически верно и дает новый интересный продукт. Откры-вает раздел статья Елены Ярской-Смирновой и Павла Романова, где на примере социальной работы раскрываются природа функциони-рования скрытого или внутреннего знания, значение практического опыта как основы профессиональной экспертизы. Механизм рекру-тирования молодого специалиста в профессию социолога рассмат-ривается в статье Татьяны Сафоновой, которая доказывает, что им-плицитный контракт в отношениях новичка и рекрутера основан на доверии и симпатии, но чреват неверными интерпретациями и практиками исключения. Статья Олега Лейбовича раскрывает осо-бенности мира повседневности теневых дирижеров политического процесса – топ-менеджеров избирательных кампаний. Длительное участвующее наблюдение позволило автору раскрыть клиентелист-скую и конкурентную природу этого типа занятости, зависимость от патронов, затрагиваются здесь и основания экспертной власти.Наталия Шушкова добавляет красок в картину электоральной антро-пологии, рассказывая о новой группе мобильных профессионалов –
11
социологов избирательных кампаний, кочующих с одних выборов на другие, имеющих высокую оплату и гибкую занятость, задейст-вующих микростратегии адаптации к специфическим условиям найма.
Две статьи посвящены новым разновидностям торговой про-фессии. Екатерина Казурова сосредоточила свое внимание на ме-неджерах по продажам, рассматривая процесс профессионализации и формирования идентичности в группе в контексте повседневности современного малого бизнеса, где соединяются многие формальные и неформальные практики. В работе Евгении Васиной профессия продавца на рынке под открытым небом раскрывается, в частности,через повседневные интеракции, взаимодействия с клиентами и кол-легами по корпорации. Екатерина Москаленко исследует повсе-дневность графических дизайнеров, проводя включенное наблюде-ние в офисе и выделяя символические и пространственные состав-ляющие профессионального сообщества в одной из студий дизайна в Санкт-Петербурге. Екатерина Антонова показывает, как конст-руируется маскулинная субкультура в неформальном секторе эко-номики, где обнаружилась новая ниша – трудовая среда подростков – мойщиков машин.
Завершают сборник две работы, связанные с профессионализа-цией семейных интересов. Ольга Ткач интерпретирует свидетельст-ва о путях профессионализации генеалогов – этих своеобразных са-довников семейного древа, раскрывая их способы коммуникации с клиентами, рассматривая особенности построения профессиональ-ного знания и идентичности. Исследование Наталии Ловцовой по-священо реконструкции контракта между государством и родителя-ми в отношении легитимных способов воспитания детей в аспектах усиления контроля, формализации подготовки и подотчетности ро-дительства, а также воплощения этого контракта в работе приемных или фостерных родителей.
Список авторов настоящего сборника, разумеется, не вместил всех тех исследователей, которые работают в поле этнографии и ан-тропологии профессий. Мы искренне надеемся, что интерес к этой проблематике, как и к другим предметным областям антропологии современного общества, будет расширяться. И хотя среди социоло-гов-«качественников» интерес к обсуждаемой проблеме оказался намного выше, чем среди представителей отечественной этнографии
12
и фольклористики, мы полагаем, что в среде этнографов интерес к изучению современного общества растет, расширяется и сообще-ство социальных антропологов, переходящих от описательных этно-графий к концептуальному анализу тех социальных сдвигов, кото-рые происходят в России в наши дни. Мы приглашаем всех заинте-ресованных исследователей к сотрудничеству и будем рады появле-нию новых идей и дискуссий.
В заключение хотим поблагодарить тех, благодаря кому стал возможен выход этого сборника: руководителя Центра социологиче-ского образования Института социологии РАН Сергея Кухтерина и сотрудников центра за неоценимую помощь в проведении и орга-низации семинара по антропологии профессий в октябре 2004 года,Виктора Воронкова и сотрудников Центра независимых социологи-ческих исследований за плодотворное сотрудничество в развитии проекта, директора издательства Поволжского регионального учеб-ного центра Ирину Иванову и весь ее коллектив за кропотливый труд и бесценные советы в ходе подготовки рукописи к изданию,Екатерину Антонову, Евгению Васину и Екатерину Казурову за по-мощь в координации научных мероприятий, а также администрацию Саратовского государственного технического университета за под-держку наших инициатив. Отдельная признательность всем авторам за усилия, предпринятые в ходе интенсивной работы над текстами.И не в последнюю очередь мы благодарим всех тех людей, пред-ставителей различных профессий, чьи мнения, профессиональный и жизненный опыт стали предметом обсуждения в этой книге,за открытость и готовность к сотрудничеству. Искренне надеемся,что критический анализ и рефлексия проблем, связанных с трудовой деятельностью, проделанные авторами книги, вызовут дальнейшую дискуссию как среди ученых, так и всех тех, кому близки проблемы работы, занятости и профессий.
Раздел 1 КОНТЕКСТ ПРОФЕССИИ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИЙ
Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова
Если судить с позиций классической англосаксонской социо-логии профессий, то придется ограничить сферу наших интере-сов деятельностью тех групп, которые обладают высоким стату-сом, материальным достатком и вузовским дипломом по соответ-ствующей специальности, а также состоят в профессиональной ассоциации, имеющей властные полномочия, например, выдавать лицензию на ведение практики или лишать ее. Но это определе-ние кажется нам тесным: его никак не приладить, скажем, к со-ветской истории и российской современности. То одного, то дру-гого качества будет недоставать.
Если же взять за основу определения деятельность, прино-сящую доход и требующую особых знаний, навыков и правил поведения, то фокус исследования будет достаточно широк, что-бы в него могли попасть всевозможные виды занятий. Тогда можно иметь в виду даже те виды занятий, для которых и вовсе не требуется высшее образование, но где вырабатываются осо-бые, «свои» знания и способы их передачи, а вокруг конкретного вида работы складывается свой специфический жизненный мир,формируются стилевые особенности и габитус.
Повседневная рациональность профессиональной деятельности
В настоящее время различия между антропологией и социо-логией профессий несколько размыты, однако, говоря об антро-пологических исследованиях профессий, речь ведут, прежде все-го, о социальных исследованиях неявных социальных взаимодей-ствий, неформальных отношений, культурных практик, скрытых
14
от глаз внешних наблюдателей. Этнография профессий в узком смысле понимается как метод сбора эмпирических данных и жанр описания культур [Романов, 1996; Романов, Ярская-Смирнова,1998], а в широком смысле – это синоним антропологии, если ис-следователь предполагает выход на уровень обобщений и по-строения теории.
Понятия рациональности, то есть деятельности на основе науки и знания технологий в своей области, и служения, то есть следования моральному обету, профессиональной этике высту-пают ключевыми характеристиками профессионала, известных нам по работам М. Вебера [Вебер, 1990]. Признание множествен-ности сосуществующих и конкурирующих между собой рацио-нальностей и этических систем напрямую ведет нас к предмету антропологии профессий. Ведь в повседневной профессиональ-ной деятельности люди имеют дело с алогичными и противоре-чивыми инструкциями, практиками приладки и пригонки дета-лей, латентными правилами, позволяющими работнику обходить формальные регламенты, чтобы достигать целей. Причем цели эти задаются вовсе не только квалификационными характеристи-ками, должностными инструкциями, миссией профессии или ор-ганизации, но и личными амбициями, житейскими проблемами,локальными властными отношениями и многими другими усло-виями, которые создают специфическую рациональность агента поля профессиональной деятельности.
Термином «антропология профессий» мы обозначаем кон-кретный методологический подход к исследованию различных аспектов повседневной жизни профессий и профессиональных групп, понимаемых как раз в таком широком смысле. Исследова-ние этих аспектов в любом случае выходит на вопросы о том зна-нии, которое формируется в ходе работы у разных участников группы, разделенных статусными позициями, но объединенных одним делом и общим миром повседневности.
Одним из ключевых понятий антропологии профессий, как и любого антропологического направления, является «культура». Антропологи уверены, что для понимания культуры профессио-нальной группы требуется длительное, интенсивное и широкое
15
наблюдение, которое сопровождается беседами с инсайдерами.Теоретики включенного наблюдения обосновывают его примене-ние для изучения «народного» опыта (ср.: «этнометоды», этноме-тодология [см. об этом: Ионин, 1996. С. 77–125]) там, где повсе-дневность, рутинные взаимодействия участников характеризуют-ся групповой спецификой, подчас мало понятной непосвящен-ным [Jorgensen, 1989. P. 23–24].
Такое исследование использует прием «насыщенного описа-ния» [Гиртц, 1996. С. 90–91] и хорошо обнаруживает уникаль-ность и сложность культурного феномена. Культура профессио-нальной группы – это система разделяемых членами группы об-щих смыслов, основанных на сходной или совместно осуществ-ляемой деятельности, позволяющая им справляться с испытания-ми внешней среды, соблюдая внутреннее единство. Чтобы отли-чить культуру профессиональной группы от более широкой цен-ностной системы, ее нередко называют субкультурой. К ней от-носят «как знаковые (символы, атрибуты, фольклор), так и соци-ально-поведенческие (формы общения, нормы, стереотипы пове-дения) аспекты этих традиций – то есть социальных отношения и их культурные коды» [Щепанская, 2003. С. 141]. Профессио-нальная субкультура – это те устойчивые фоновые знания и свя-занные с ними практики, «правила игры», принимаемые как должное людьми опытными и непривычные для новых членов союза. Если профессиональная группа обладает давними и ус-тойчивыми традициями, то новички успешно и быстро обучаются «правильным», то есть принятым в данном контексте способам мыслить и воспринимать проблемы.
Эти представления в антропологии профессий ХХ века раз-вивались в связи с эволюцией таких направлений социальной мысли, как социология профессий, индустриальная антрополо-гия, антропология труда (работы), организационная антропология (ведь деятельность большинства профессиональных групп тесно связана с организационным контекстом, она организована, то есть подчинена неким правилам, имеет определенную структуру, даже если осуществляется вне стен какого-либо формального учреж-дения), исследования субкультур. Важные методологические
16
принципы, которые заостряют угол зрения на актуальную про-блему, современные антропологические подходы к изучению профессий черпают в теориях гендера и сексуальности, расы,гражданства и инвалидности.
Социология профессий: атрибуты, власть,повседневность
Социологические воззрения на профессии включают разно-образные подходы, которые можно разделить на три группы вслед за идеей Ю. Хабермаса о соответствии типа знания типу человеческих интересов. Интересы, конституирующие знание,направлены на технические знания, понимание и эмансипацию.Технические знания, позволяющие управлять природой, общест-вом, поведением людей, представляют интерес для естественных наук, которые выступают методологическим идеалом и для пози-тивистских школ социологии и психологии профессий. Позити-вистские толкования профессий представляют собой инструмен-тальный, или технический вид знания, выступающего основой управления, оценки эффективности и прогнозов. В частности,функционалисты [Дюркгейм, 1996; Parsons, 1951], отталкиваясь от характера разделения труда в обществе, ставят вопрос о том,какие социальные потребности удовлетворяются функциями профессий.
Здесь же поднимаются и вопросы профессиональной компе-тентности; они обсуждаются с применением атрибутивного под-хода, или теории черт [см.: Мансуров, Юрченко, 2005. С. 68], ко-торый рассматривает характеристики, отвечающие идеальному типу профессии, задавая вопросы о том, является ли истинной профессией данный вид занятий. В рамках этого подхода один и тот же вид занятий может быть определен разными авторами как профессия, квазипрофессия или непрофессия, в зависимости от того, какой список признаков выбирается в качестве стандарта.Например, Флекснер полагал наиболее важными атрибутами профессии следующие признаки: вовлеченность в интеллекту-альную деятельность, предполагающую индивидуальную ответ-ственность; привлечение науки и обучение в практических целях;
17
применение знаний посредством технологий, передаваемых через образование; самоорганизация; альтруистическая мотивация; на-личие профессионального самосознания [см.: Reeser, Epstein, 1996. P. 70–71].
Критический тип знания ставит вопрос о том, что такое пра-во и справедливость, побуждая нас занять активную ценностную позицию. Критическое направление социальной науки, включая марксистское и неомарксистское понимание профессии, форми-рует эмансипаторное знание, позволяющее пересмотреть власт-ные иерархии, сложившиеся в науке, привычные толкования со-циальных проблем и устоявшиеся, но далеко не всегда эффектив-ные приемы их решения. В соответствии с этим подходом каждая профессия стремится поддержать status quo, удержать или захва-тить власть и наиболее выгодное положение в стратификацион-ной системе [см. например: Freidson, 1970; Mills, 1953]. Достиже-ния профессионального статуса должны гарантировать высокие материальные награды, исключать внешние оценки качества ус-луг и гарантировать тем, кто допущен к практике, безопасность как владельцам этого культурного и социального капитала. От-сюда возникают серьезные конфликты между профессионалами и теми, кто посягает на их монополию статуса и экспертизы [Ярская-Смирнова, 2001а]. В критический подход к профессио-нальным группам важный вклад был внесен археологией знания М. Фуко [Фуко, 2004].
Достижение понимания между действующими лицами и са-мопонимания в контексте культуры – предмет интереса герме-невтических исследований в гуманитарных науках [Квале, 2003.С. 57–58]. Социокультурные смыслы профессии, воплощаемые в повседневных практиках, исследуются с применением герме-невтической перспективы, направленной на достижение понима-ния инсайдерского опыта практиков. Феноменологическая со-циология профессий, наиболее близкая антропологии профессий по арсеналу своих методов и методологическим принципам, ста-рается детально описать содержание и структуру сознания субъ-ектов, ухватить качественные различия в их переживаниях и вы-явить сущностный смысл переживаний, пытается проникнуть
18
за пределы непосредственно переживаемого смысла, чтобы сде-лать незримое зримым [Квале, 2003. С. 53]. Феноменологический подход рассматривает профессию как относительно замкнутый и самодостаточный жизненный мир, интерпретируя взгляды про-фессионалов на их повседневность.
Основные этапы и направления антропологических исследований работы,организаций и профессий за рубежом
Развитие антропологии профессий неразрывно связано с эво-люцией социальной антропологии организаций и антропологий работы, в том числе проектами, проводившимися в крупных про-мышленных организациях, образовательных учреждениях, меди-цинских и социальных сервисах и других организационно-профессиональных контекстах. Кроме того, свой вклад в форми-рование знаний о внутренней жизни профессий, корпораций и тру-довых коллективов внесло изучение неформальной занятости.
Благодаря новым открытиям пересматривались прежние ги-потезы и выводы, чему способствовало и изменение обстановки в обществе [Wright, 1994]. В частности, история американской антропологии труда отражает эпохальные трансформации, про-исходившие внутри и вне промышленности США за последние семь-восемь десятилетий [см.: Holzberg, Giovannini, 1981]. Изме-нения методологии и теории происходили и в других странах, где велись исследования труда, занятости и профессий с применени-ем этнографических методов. В течение ХХ века статус и взгля-ды северо-американских и западно-европейских антропологов менялись: от ведущих позиций в конструировании организаци-онных и менеджерских теорий «капитализма благоденствия» TP
1PT
в период с 20-х по 50-е годы – к довольно периферийной нише описания тяжелого положения рабочего класса и критики прак-тик менеджмента в 60–70-е годы, а затем с 80-х годов – вновь
TP
1PT Welfare capitalism – капитализм благосостояния, патерналистская философия
некоторых крупных теоретиков индустриального менеджмента в 1920-е годы, кото-рые полагали, что «хорошее обращение» с рабочими повлечет удовлетворение рабочих, более высокую производительность труда и ненадобность профсоюзов [см. об этом: Burawoy, 1979].
19
в центр внимания к новым теориям и методам, способным по достоинству оценить то скрытое знание, которым владеют ра-ботники. По именам ключевых авторов или названиям главных теорий эти периоды называют «этап Мэйо», «этап неомарксизма»и «этап Нонака»TP PT[см. об этом: Baba, 1998].
Каждый из периодов характеризуется определенным типом взаимодействия между методологией, тематикой, методами и тео-ретическими представлениями об организациях, профессиях (ви-дах занятий), работе и культуре. Постепенно менялись подходы к включенному наблюдению, объяснению природы профессий,занятости, организации и труда, осуществлялись определения и переопределения центральных понятий.
Человеческие отношения на производстве,1920–1950-е годы
Индустриальная антропология этого периода была одержима желанием улучшить социальные условия, изучая и решая про-блемы промышленности, а вовсе не повысить конкурентоспособ-ность или прибыльность. Антропологи полагали, что их аналити-ческие инструменты и концептуальный аппарат нужны для про-гнозов и рекомендаций менеджерам, чтобы те могли трансфор-мировать враждебное или протестное поведение рабочих в про-изводительное сотрудничество. Это осуществлялось посредством консультирования стратегического менеджмента и представите-лей профсоюзов. Отношения между антропологами и корпора-тивным менеджментом можно охарактеризовать как в целом дружественные, коллегиальные.
Отметим, что ввиду жесткости классических социологиче-ских определений под профессиями в этот период понимался бе-ловоротничковый труд [см. например: Mills, 1953], антропологов же, получавших рабочие места консультантов на предприятиях,интересовали не столько специфические дискурсы и практики той или иной группы, сколько отношения в процессе производства и управления (отсюда название школы человеческих отношений). Исследования концентрировались вокруг главных измерений со-циальной структуры в промышленности: формальные и нефор-мальные роли и статусные иерархии, неформальная организация,
20
добровольные ассоциации, клики и дружеские кружки, интерак-ции между менеджерами и профсоюзами, рабочие на конвейере,связь социальной структуры и побуждения к производительно-сти, забастовочное поведение [Holzberg, Giovannini 1981].
Критика в адрес теоретических и методологических основа-ний школы человеческих отношений вскрыла ряд моментов, ко-торые существенно ограничивали интерпретационные горизонты этого направления исследований. Рамки исследования задавались менеджерами с их точки зрения на проблемы, существующие на цеховом уровне. Результаты аналитической работы были орга-низованы способом, удобным для менеджеров, и так, чтобы пре-доставить им возможность более успешно управлять рабочими.Исследования на предприятиях не ставили под сомнение рацио-нальность управленческих идей и действий менеджеров. Методы первых «этнографических» исследований промышленных орга-низаций в значительной степени являлись калькой классической этнографии и унаследовали ее отличительные признаки: стрем-ление к объективизму; империализм; монументализм (этнограф должен создавать музееподобную картину изучаемой культуры); внеисторизм (неизменность изучаемых феноменов) [Rosaldo, 1989. P. 33]. Позднее их назовут «менеджериальными социолога-ми» [Holzberg, Giovannini, 1981], поскольку им не удалось поста-вить под сомнение неравное распределение власти и ресурсов,которые находятся в основе идеализированной гармонии, которая якобы существует на фабрике в состоянии эквилибриума.
В это время теоретической основой социальной антрополо-гии являлось функционалистское представление о природе соци-альных институтов. Социальное равновесие объявлялось единст-венно нормальным состоянием института. Любые процессы и яв-ления, ведущие к нарушению равновесия в организации, объяв-лялись дисфункциональными и патологическими. Анализ более широких социальных, политических и экономических оснований процессов, протекающих в рамках отдельно взятого предприятия,здесь был проигнорирован. Период бурной технологической и управленческой модернизации, изменений форм собственности на расширяющихся промышленных предприятиях был отмечен противоречиями и конфликтами, с которыми такая аналитическая
21
модель организации-эквилибриума справиться не могла. Столк-нувшись с подобным кризисом в 1940-х годах, британская и аме-риканская школы социально-антропологических исследований эволюционировали в направлении углубленной рефлексии мето-дов (в частности, включенного наблюдения), а также пересмотра функционалистских теоретических оснований.
Структуры и конфликты, 1960–1970-е годы В период холодной войны получила развитие марксистская
и неомарксистская критика индустриального производства в США [Kusterer, 1978; Lamphere, 1979]. В этот период рабочие и менед-жеры четко видели себя по разные стороны борьбы за экономи-ческую прибыль. Цель антропологов и качественных социологов,работающих в этой области, была не только вывить и подверг-нуть критике менеджерские стратегии эксплуатации и контроля за работниками [см. например: Braverman, 1974], но и показать,как работники противостояли с формальными и неформальными собственными стратегиями, чтобы отстоять себя, свои навыки и заработки. Появились этнографии интернациональных про-мышленных предприятий [Nash, 1979]. Функционирование таких предприятий рассматривается в контексте глобализации мировой экономики, а также влияния национальных бюрократий, между-народных организаций и фирм, незримо влияющих на экономику и политику определенного региона. Местные индустриальные условия, в соответствии с марксистскими взглядами этих авто-ров, следовало изучать в сочетании микроуровня исследования трудовой рутины и макроуровневого взгляда на динамику миро-вых систем.
Эта литература внесла вклад в наше понимание трудовых от-ношений в различных профессиональных и организационных средах, придав значимость знаниям и повседневным навыкам ра-ботников. Например, Кеннет Кэстирер выявил и проанализировал скрытое и неформальное знание неквалифицированных промыш-ленных рабочих, прогнозируя более поздние открытия «скрытого знания», интеллектуальных ресурсов, имеющихся в распоряже-нии у рабочих и обладающих существенной экономической ценностью [Kusterer, 1978]; Луиз Лэмфире продемонстрировала
22
значение неформальных ноу-хау в стратегиях выживания рабо-чих [Lamphere, 1979].
Этнографические исследования работы и сообществ, объе-диненных тем или иным видом занятости на заводах, шахтах,различного рода производствах, были ориентированы марксист-ской методологий. Предметом анализа в этих описаниях стано-вятся конфликты и отчуждение, эксплуатация рабочих и их ответ на глубокую дифференциацию власти среди рядовых работников и менеджеров. Антропологические исследования работы подчер-кивали важность этнографии и этноистории для развития такого направления анализа, который рассматривал бы политические и идеологические аспекты жизни промышленных предприятий и, по известному определению М. Буравого, отделял «туман» уп-равленческой рационализации и организационной теории от ре-альности жизни в организациях. Здесь антропологи не имели консультационных контрактов на предприятиях, они были на стороне рабочих в их борьбе с капиталом.
Впрочем, именно из-за этой дистанции от практиков и теоре-тиков управления, вклад антропологов остался незамеченным для формальной организационной теории, которая в 1960–1970-е го-ды развивалась на основе индустриального инжиниринга, эконо-мики управления и индустриальной психологии, но вне связи с антропологией ввиду ее антименеджерских позиций. Бизнес-школы отразили это в своих программах, где процессы труда и управления преподаются в формальных экономических и тех-нологических аспектах, и не уделяется внимания тому, что дейст-вительно происходит «на земле». До сих пор, к сожалению, ан-тропология почти не имеет никакого влияния на подготовку ме-неджеров [Baba, 1998].
Организационная культура
В 1960-х годах в антропологии труда и профессий исследо-ватели в основном отказались от функционализма и представле-ния об обществе как структуре готовых социальных ролей.В число приоритетных вошли исследования культуры организа-ций, организационной символики и социального конструирования контекста профессиональной деятельности. Яркими примерами
23
таких проектов стала работа Говарда Беккера с соавторами «Мальчики в белом» [Becker et al., 1961] о студентах медицин-ского колледжа, Пэтти Адлер [Adler, 1985] о жизненном стиле наркодельцов, Питера Блау [Blau, 1953/1963] о государственных службах, Ирвина Гофмана «Приюты» [Goffman, 1961] о пациен-тах и сотрудниках психиатрических учреждений.
Исследования организационной культуры напрямую связаны с антропологическим подходом к профессиям или сообществам,объединенным видом занятий. В 1971 году Барри Тернер обратил внимание на существование «индустриальной субкультуры» –особой системы смыслов, разделяемых группой людей, рабо-тающих на промышленных предприятиях. Формы поведения персонала этих организаций отличаются от тех, которые свойст-венны более широкому обществу и, кроме того, существуют ин-ституты социализации новичков и социального контроля за ин-дивидами, представляющими такую субкультуру:
Двигаясь от одной индустриальной организации к другой, возможно наблюдать определенные сходства поведения, которые могут отли-чаться от поведения, распространенного повсюду в обществе. Для анализа этих сходств полезно рассматривать их как аспекты индустри-альной субкультуры. Индустриальная субкультура – не монолитный феномен, который может быть легко определен и выделен, индустри-альная жизнь сама по себе сложна и вариативна. Существуют различ-ные выражения субкультуры в разных отраслях промышленности и компаниях. Вне основных промышленных организаций хозяйствуют вспомогательные группировки – профсоюзы, ассоциации производите-лей, профессиональные ассоциации, – принимающие участие и спо-собствующие субкультуре. В индустриальных организациях действу-ют «микрокультуры», воспроизводящие значимые нормативные пат-терны, восприятия и ценности, которые можно найти в подразделени-ях, рабочих группах и других социальных структурах организации [Turner, 1971. P. 1–8]. В дальнейшем исследования организационной культуры в духе
социального конструктивизма продолжились. Такие авторы, как Дж. Ван Маанен, С. Барлей, Л. Смирчич, Р. Грегори развили идеи Б. Тернера, включив их в более широкую дискуссию о методах полевых исследований, формах представления культуры и связи
24
организационной культуры с властью и эмоциональной жизнью работников. Отвечая на вопрос: «Что можно считать проявления-ми культуры?» (культурными демонстрациями), – исследователи этого направления традиционно выделяют такие аспекты органи-зационной жизни, как ценности, знания, значения, символы и эмо-ции. Однако они дополняют эти индикаторы изучением свиде-тельств, характеризующих прагматическую сторону повседнев-ных трудовых отношений, – вопросов оплаты труда, распреде-ления ответственности в рамках административной иерархии,формальных рабочих процедур, в том числе связанных с орга-низационным отбором и социализацией, исключением откло-няющихся.
Продолжая традиции Манчестерского проекта, социальные антропологи сосредоточились на различиях и противоречиях, оп-ределяющих рациональность таких ключевых групп в организа-циях, как менеджеры и рядовые работники. Эти группы рассмат-риваются в связи с их социокультурной спецификой и исходя из конфликта интересов, а также различий в оценках и истолко-ваниях трудового процесса.
Изучение социокультурных процессов производства смы-слов, достижения договоренности и организации повседневности в различных социальных, экономических и исторических контек-стах вошло в западную социологию в течение последних тридца-ти лет. Одно из первых исследований в этой области, проведен-ное А. Страуссом в 1963 году, касалось «договорного порядка»клиники [Strauss et al., 1963]. Главная цель клиники – «вернуть пациентов к лучшей форме» – декларировалась всеми, но не под-креплялась четкими представлениями людей о том, как ее можно достичь. Формальные правила были минимальны и мало кому известны. Специалисты, обслуживающий персонал и пациенты ощущали порядок, поскольку ежедневно достигалось согласие относительно индивидуального лечения и ухода.
Эти договоренности становились привычными образцами взаимопонимания сотрудников. В случаях, когда они нарушались,кризис удавалось преодолеть при помощи формального решения комиссии, которое становилось «правилом» на тот период време-ни, пока о нем не забывали. Аналогично этому неформальные
25
правила, царящие в отделении, воспринимались как нормы до тех пор, пока следующий кризис вновь не побуждал персонал к тем или иным инновациям. Как формальная, так и неформальная сферы играли важную роль в ежедневном приведении реальности клиники к привычному порядку. Таким образом, А. Страусс в своем исследовании показал «культуру» организации как нечто проявляющееся, выходящее на поверхность в повседневной дея-тельности людей. Он определил культуру как процесс непрерыв-но организуемого договорного порядка.
Понятие культуры используется для описания различных проблем, идей и стилей организации и работающих там людей,объединенных в профессиональные группы. Представление о ра-циональной организации на основе набора объективных фактов в традиционных организационных исследованиях антропологи-ческий анализ культуры заменяет интерпретативным подходом,рассматривающим организацию как сферу конструирования зна-чений, смыслов, обращающий внимание на неформальные, неяв-ные стороны практик, объявленных в повестке дня, но имеющих как бы двойное дно. Такие неявные практики стали называть ла-тентной повесткой дня, или скрытым учебным планом [Snyder, 1971; см. об этом: Ярская-Смирнова, 2001б, 2001в].
Исходным пунктом для глубокого проникновения исследова-телей в изучаемую культуру может стать изучение тех способов,какими конструируется система смыслов, общих для членов группы, поддерживающих основы «индустриальной субкульту-ры». Одним из свидетельств этому может стать процесс социали-зации новичков, когда новые члены коллектива усваивают куль-турные нормы и правила поведения, способы деятельности. Как новый человек в профессиональном сообществе или в организа-ции получает и закрепляет знание о данной культуре? Для этого существуют сложившиеся социальные механизмы, такие как ми-фы, ритуалы, язык, символы и контроль.
Рассмотрим более подробно вслед за М. Оуэном [Owen, 1996] понятие организационной символики, или организационно-го символизма. Символы – наиболее очевидные и наблюдаемые аспекты организационной жизни, одновременно, символическое поведение является наиболее тонким, неуловимым и уклончивым.
26
Бизнес-организации, университеты и другие учреждения утвер-ждают свою идентичность в девизах, логотипах на бланках,в форме одежды. В организациях создаются лозунги, которые вдохновляют сотрудников, выдумываются ритуалы посвящения,которые маркируют продвижение по службе или уход на пенсию,устраиваются церемонии, чтобы публично вознаграждать служа-щих и превращать в героев тех, кто воплощает своим поведением ценности организации. Все эти объекты и действия являются символическими.
Менее очевидным для исследователя будет то, что члены профессиональной группы или организации думают о своем по-вседневном опыте. Само рассказывание историй – это символи-ческое поведение, поскольку рассказы представляют не только события сами по себе, но и репрезентации (представления) этих событий, создаваемые рассказчиками и аудиторией в процессе коммуникации (передачи информации и обратной связи). Хотя намерения рассказчика и интерпретации слушателей не всегда могут быть полностью понятыми исследователем, ясно, что рас-сказывание весьма значимо для участников, помимо прочего,рассказывание оформляет саму организацию и то, как ее пони-мают люди. Кроме того, что представители профессиональной группы, члены организации рассказывают истории, они участву-ют во многих других традиционных экспрессивных видах дея-тельности. Они используют жаргон, принятый в данной органи-зации, метафоры, шутят, празднуют чей-нибудь день рождения или недавние достижения [Alvesson, Berg, 1992]. Они персонали-зируют свое рабочее пространство, расставляя и развешивая от-крытки, фотографии, репродукции, грамоты, вымпелы, объявле-ния и надписи. Они развивают привычные способы выполнения задач, которые становятся «правильным» поведением: «вот как мы здесь делаем дела». Подобно логотипам и лозунгам компании,это поведение является тоже символичным.
Символическое поведение принимает множество форм. Рас-смотрим наиболее часто встречающиеся категории. Фольклори-сты называют их жанрами, а исследователи организационных культур – артефактами, имея в виду то, что все эти проявления символического созданы, выработаны людьми.
27
Вербальные выражения � Жаргон, меморандумы (их стиль и язык)� Пословицы, привычные поговорки, лозунги, крылатые фразы,метафоры
� Прозвища людей и оборудования � Легенды, поучительные или предостерегающие истории, рас-сказы о личном опыте
� Шутки, забавные анекдоты, насмешки, «дурацкие истории»� Убеждения, суеверия, слухи � Рифмы, стихи, песни � Церемониальные речи, выступления.
Действия � Развлечения, отдых, игры � Приколы, проделки, шалости с посвящением новичков � Празднования, торжественные события, вечеринки � Жесты � Совместная еда � Ритуалы, обряды повышения, проводов на пенсию � Собрания коллектива, вручения наград, церемонии � Обычаи, социальная рутина � Принятые, договорные приемы выполнения работы.
Объекты � Архитектура, дизайн рабочего места, убранство офисов � Качество и распределение оборудования � Организационные уставы, инструкции, руководства, листки новостей
� Доски объявлений (расположение, содержание, эстетика, внеш-ний вид)
� Плакаты, фотографии, выставленные памятные вещи � Костюм, униформа фирмы, стандартный вид одежды � Полученные награды или выполненные работы � Декорация персонального рабочего места или оборудования � Граффити � Ксерокопируемый фольклор (его создание, коллекционирова-ние, развешивание, распространение) [Owen, 1996. P. 5–6].
28
Данный перечень показывает, что любой объект (или дейст-вие) может в любое время наделяться людьми бóльшим смыслом,чем он содержит изначально, и широкие категории символов и символического поведения полностью пронизывают нашу жизнь.Исследования фольклористов, антропологов и социологов за по-следние два столетия показывают, что люди во всем мире и в те-чение всей известной нам истории рассказывают, играют, изго-тавливают декоративные предметы, празднуют, совершают ри-туалы, переводят и применяют образный язык. Изучение симво-лизма профессий или организаций принимает и подтверждает этот вывод. Некоторые исследователи, рассматривая образцы ар-тефактов, выделяют некоторые дополнительные параметры их ти-пологии – например «ожидаемые» (те, которые связаны с данным организационным контекстом) и «неожиданные» (внешне не свя-занные с организационным контекстом) [Schwartzman, 1993. P. 63].
Среди функций символического поведения – обучение новых членов группы, фрэйминг (обрамление, оформление) опыта и придание ему смысла, утверждение норм поведения, придание смысла сообществу, изменение сообщества или поддержание сплоченности, смягчение организационных противоречий, выра-жение эмоций и предоставление возможности сублимации, ухода в фантазию. Это значит, что любой предмет внимания антрополо-га имеет те или иные символические аспекты, которые всегда следует учитывать, идет ли речь об организационных структурах и изменениях, о лидерстве, мотивации, коммуникации или о по-литике, практиках контроля и власти. Инструментальные и сим-волические аспекты взаимосвязаны; объекты и их производство,поведение и действия основаны на смысле и влекут конструиро-вание смыслов.
Некоторые исследователи, например, предлагают изучать символику, чтобы взглянуть изнутри на профессиональную куль-туру, формирующуюся в условиях неопределенности, посмот-реть, каким образом идеологические противоречия разрешаются или затеняются «мифами», оценить парадокс и двусмысленность,выраженные в одежде, историях, устройстве офисов. Другие ори-ентируют исследования на поиск способов трансформации орга-низаций, вмешательства в организационные процессы, влияния
29
на организационные результаты посредством целенаправленного использования метафор, историй, ритуалов и церемоний [Owen, 1996. P. 13].
Исследователь, постигая профессиональную культуру, фик-сирует то, как происходит процесс приобретения языка субкуль-туры, как строится система социальных определений ситуаций и действий. Эта система обладает организационной спецификой и может в определенной степени отличаться от норм, принятых за границами профессионального сообщества. Социальный ан-трополог анализирует способы, которыми могут выражаться и соотноситься с определениями, данными в языке, социальные и технические нормы профессиональной культуры. Несколько иной ракурс анализа – изучение множественности уровней сим-волической интерпретации в организационной среде, то есть множества отличающихся друг от друга субкультур. Яркий при-мер – медицинское учреждение, где персонал может быть сильно дифференцирован по своим субкультурным особенностям. Ввиду того, что всякая достаточно большая организация разделена по сферам деятельности и уровням административной иерархии,то и каждая социальная ситуация интерпретируется по-своему разными группами.
В зависимости от распространенности (степени признания)тех или иных определений ситуации, различают следующие культурные репертуары, или системы определений, которыми пользуются люди в профессиональной среде: 1) универсальный,базовый, принимаемый всеми членами группы набор смыслов.Именно к этой системе постоянно обращается менеджмент орга-низации, где трудятся профессионалы, выполняя управленческие функции; 2) субкультурный – уникальный набор смыслов, харак-терных для данной группы. На этом уровне универсальный набор смыслов преобразуется применительно к конкретным условиям деятельности; 3) индивидуальный – созданный членом организа-ции в качестве собственного «культурного кода» с использовани-ем смыслов, заложенных на универсальном и субкультурном уровнях. Индивид адаптирует их, соотносясь со своим повсе-дневным опытом. Исследователь должен направить свое внима-ние на объяснения, рассуждения, истории, нормативные взгляды,
30
мифы и организационные символы тех конкретных субкультур,культурных общностей, в которых протекает повседневная дея-тельность индивидов.
Носители культуры осознают тот мир, в котором они суще-ствуют, как данность. Культурные артефакты (манера одеваться,общаться, способ выполнения трудовых операций) чаще всего очевидны, принимаются как должное и специально не рефлекси-руются, не осознаются индивидами. Социальный антрополог,этот «профессиональный чужак», по выражению Майкла Эгара,должен обладать способностью заглянуть за эту очевидность. Он должен осознавать, что любая деятельность, технологический процесс, событие, факт следует рассматривать как результат и процесс социального конструирования. Индивиды в своей по-вседневной жизни создают специфическую социальную реаль-ность, в процессе ее осмысления присваивая ей некоторые значе-ния. Таким образом, помимо физической реальности создается реальность социальная. Социальная реальность выступает интер-субъективным, создаваемым во взаимодействии и диалоге кон-текстом трудовой деятельности.
Этнографические методы изучения организационной культу-ры или профессиональной субкультуры ориентируются на воз-можность постижения некоей социальной реальности, заложен-ной в рутинных взаимодействиях социальной группы, «подойти как можно ближе». Простейший способ распознать отличия меж-ду доминантной культурой и субкультурами организации – на-блюдать повседневное функционирование группы со стороны.К. Гиртц, развивая идеи Г. Райта, рассуждает в этой связи о про-изводимом в ходе такого наблюдения «насыщенном описании»[Гиртц, 1997]. Это особый процесс интерпретации, в ходе которо-го антрополог-наблюдатель вырабатывает соответствующие объ-яснительные модели, производство которых является скорее ис-кусством, чем наукой в общепринятом смысле этого слова.
Характеристики наблюдаемой культуры постепенно прояв-ляются для исследователя в образцах взаимодействий между людьми, в особенностях языка, образах и темах, звучащих в бесе-дах, многочисленных ритуалах будней и праздников, повседнев-ной рутине. И как только выявляется общее для этих аспектов
31
культуры, оказывается возможным реконструировать историче-ское объяснение тому, почему все происходит именно так, а не иначе. Антрополог здесь стремится снять отчуждение между со-бой – носителем определенной культуры – и теми, чью культуру он исследует, на первых порах учится смотреть на чужое как на свое, а впоследствии обретает способность делать знакомое неизвестным.
Анализируя множество различных профессиональных тра-диций, Т.Б.Щепанская пришла к выводу о некоторых общих для них элементах – стереотипах поведения, знаковых системах, мо-тивах неформального дискурса и структуры межличностных взаимодействий [Щепанская, 2003. С. 143]. С точки зрения их социальной прагматики, эти элементы выступают в качестве средства конструирования статуса профессионала, при этом весь комплекс профессиональных традиций распадается на две груп-пы: отношения «профессионал-объект деятельности» и «профес-сионал-сообщество» [Там же]. Субкультуры групп, занимающих подчиненное положение в системе социальных институтов, ха-рактеризуются, по мнению исследовательницы, логикой исклю-ченности и моделями «ухода», противопоставления себя власти.Профессиональные же субкультуры не вписываются в эти модели из-за принципиально иной позиции по отношению к власти, по-скольку профессионалы воплощают силу доминирующих соци-альных институтов и потому конструируют сферу своей деятель-ности символическим разделением ее субъекта и объекта, обо-значением дистанции, разделяющей профи и клиента [Щепан-ская, 2003. С. 144–158].
Соглашаясь с этими методологически верными замечаниями,отметим, что исследователю профессиональных субкультур сто-ит учитывать историческую специфику изучаемого момента.К протестному поведению, казалось бы несвойственному тем, кто обладает высоким статусом и получает удовлетворительное ма-териальное вознаграждение, все же прибегают представители классических профессий. Они нередко противопоставляют себя властям, отстаивая групповые или более общие человеческие идеалы. Протестный потенциал иных трудовых сообществ – про-мышленных рабочих, служащих – достаточно хорошо известен
32
из мировой истории. В социальных сервисах Австралии и Вели-кобритании акцент делается на антидискриминационной модели обслуживания, и в связи с этим фольклор и традиции этих соци-альных работников в ряде аспектов отличаются от народной муд-рости их российских коллег.
Важным элементом профессиональной субкультуры высту-пает способность вырабатывать знания и умения, с помощью ко-торых людям удается совладать как с монотонностью, так и с не-определенностью трудовых операций. Именно это становится предметом внимания антропологов на современном этапе.
Управление знанием, 1980-е годы – по настоящее время
В современной социальной науке о повседневности трудовой деятельности есть две ощутимо различные традиции обращения к человеческому опыту и управления им в организациях – ме-неджериалистская и герменевтическая. Менеджериализм стре-мится подчинить своему административному проекту всю дея-тельность организации сверху до низу, нормировать не только повседневную деятельность, но и образ мышления в своих собст-венных терминах. Борьба с неопределенностью здесь связана с навязыванием сотрудникам определенной системы смыслов.В последние годы интерес к скрытому знанию (tacit knowledge)среди исследователей профессий и организаций необычайно вы-рос, что связано со стремлением совладать с этой растущей неоп-ределенностью. Японский исследователь Икуиро Нонака в начале 1990-х годов один из первых заговорил о проблеме управления знаниями, который признал неформальное, повседневное знание в качестве корпоративного ресурса и призвал к созданию в орга-низациях системы выявления и управления таким знанием, кон-вертирование его в формальные правила и установления. Перво-начальная идея необходимость вчувствования и понимания ин-дивидуальных особенностей работников приобрела формы мене-жерской борьбы с неопределенностью [Nonaka, Takeuchi, 1995], вызываемой разными перспективами, множественными смысла-ми и сложно организованными жизненными мирами повседнев-ных деятелей, профессиональных групп, организаций.
33
В отличие от неомарксистского подхода, в этой традиции ан-тропология профессий ставит своей задачей «приоткрыть и сде-лать явными те способы, какими люди определенной профессии устанавливают свое понимание, оценку, образ действия, иначе говоря, управляют своей ежедневной ситуацией» [Van Maanen, 1979. Р. 540]. Направление исследований, определенное таким образом, отделяется от традиции социальной критики и напря-мую апеллирует к задачам достижения эффективности. Тенден-ции глобальных социальных изменений, происходящих в послед-ние десятилетия, – волны миграции из стран третьего мира, фор-мирование полиэтнического рынка труда, интернационализация бизнеса в условиях создания мультинациональных корпораций,динамика потребительского рынка – требуют изощренных инст-рументов социального контроля. Этнографические исследования,с их индивидуализированными методами манипулирования ин-формацией и чувствительностью к уникальности жизненного опыта, в большей степени, чем количественные методики, позво-ляют проникнуть в суть и найти способы усовершенствования управленческих технологий.
Герменевтическая традиция, сложившаяся благодаря иссле-дованиям И. Гофмана и М. Поланьи, обращается к стихийно раз-вивающемуся человеческому опыту, который формируется в ви-де повседневного знания. Открытие такого знания продемонст-рировало огромное пространство неопределенностей, в том числе в профессиях и организациях, складывающееся автономно от ад-министративных регламентаций. В работах 1970–1980-х годов на первый план стали выходить социокультурные подходы к раз-витию организационных систем. В своем исследовании «хогеров»(механиков, обслуживающих тепловозные двигатели) Ф. Гамст иллюстрирует эту традицию, которую, как полагает Хелен Шварцман, более точно следовало бы назвать этнографией видов занятости (occupational ethnography), основанной на «уорнеров-ском» подходе к этнографии современной жизни западного об-щества. Это этнография железной дороги с точки зрения рядово-го механика, содержащая детальное описание субкультуры и ха-рактера работы железнодорожных инженеров, формальных и не-формальных кодов, которыми они пользуются в своей работе
34
[Gamst, 1980]. Впрочем, Ф. Гамст делает этот анализ более об-щим, дополняя внутреннее описание организационной жизни ис-следованием развития железных дорог в Соединенных Штатах.Он рассматривает, как правительство регулирует процесс управ-ления железными дорогами и как это влияет на деятельность ра-ботников.
В других этнографиях видов занятости, иллюстрирующих этот подход, Г. Эпплбаум исследовал культуру строительных ра-бочих, В. Пилчер изучал работу портовых грузчиков, Ван Маанен углубленным образом описал работу полицейских [Applebaum, 1984; Pilcher, 1972; Van Maanen, 1983]. Журналистка Барбара Эренрейх [Ehrenreich, 2001] проводила исследование работников с низкой зарплатой: в течение года работала горничной в отелях южных штатов, описав затем в своей книге, как можно выжить,зарабатывая 5 долларов в час.
Джулиан Ор в книге «Разговор о машинах: этнография со-временной работы» [Orr, 1990] представил портрет профессио-нальной культуры технического персонала Ксерокса и их слож-ных трудовых практик, которым обычно не придается внимания.В этом и других исследованиях базовых, то есть происходящих на микроуровне, в повседневной жизни, процессов работы был сделан ряд важных открытий о том, что люди, занятые в разных сегментах базового процесса, знают ценные вещи, способные улучить этот процесс (или продукты, которые посредством него получаются) и сделать управление более эффективным. Антро-пологи труда вновь стали высоко цениться. Возникло направле-ние knowledge management – управление скрытым знанием, кото-рое может пониматься двояко. С одной стороны, менеджеры, по-лучив доступ к этому корпоративному интеллектуальному ресур-су, могут «завернуть гайки», усилить контроль над производст-вом у работников. С другой стороны, имплицитное знание можно превратить в эксплицитные формы, в с целью развития организа-ции и улучшения производимых профессионалами продуктов,улучшению человеческого потенциала. Кроме того, чтобы лучше управлять компанией, менеджерам необходимо лучше узнать «другого», то есть работника.
35
Отечественный контекст антропологии профессий Профессия – это еще и название, социальный ярлык, который
возникает в результате усложняющегося разделения труда и ста-новится, во-первых, элементом идентичности человека, а во-вто-рых, параметром социальной структуры общества. Идентичность,габитус, самосознание членов профессиональных групп – очень важный предмет внимания антропологов. А взгляд на социально-профессиональную структуру общества позволяет проанализиро-вать различные проявления неравенства в иерархизированной мозаике профессий и видов занятости, должностей и специализа-ций. Все они обладают различной властью и степенью автоном-ности своего труда, отличаясь друг от друга особыми маркерами идентификации [см. например: Ильин, 1996].
Кроме того, вглядываясь в иерархическую структуру про-фессий как в дискурсивную формацию, представляя ее не как слепок идеальной модели, а как процесс достижения соглашений,мы можем понять, что в создании такой картины важнейшую роль играют процессы номинации – регулятивные соглашения между государством, профессиональными объединениями, биз-нес-структурами и обществом [см.: Сакс, Олсоп] о наименовании,содержании и статусе тех или иных профессий, должностей или видов занятости.
Профессия как номинация Стремление государства кодифицировать сферу занятости,
упорядочить исторически сложившиеся в разных отраслях и по-стоянно меняющиеся способы разделения труда выражается в далеко не всегда согласованных попытках выработать валид-ную классификацию занятий населения или профессий и привес-ти их список к единому стандарту. К 1980-м годам в различных отраслях советской экономики действовало 280 тарифно-квали-фикационных справочников, которые содержали 23,5 тыс. на-именований работ и профессий. Эта разрозненность делала применение справочников затруднительным: например, разные наименования профессий присваивались одним и тем же видам работ. К 1986 году была произведена дальнейшая унификация
36
наименований профессий, и количество их в справочнике про-фессий снизилось до 5 600. Сейчас в него внесено более 1 000 изменений и дополнений; за счет исключения устаревших и уни-фикации наименований профессий рабочих, выполняющих ана-логичные или близкие по содержанию работы, сокращено более 1 200 наименований от их общего количества, введено более 80 наименований новых профессий [Смирнова, 2003]. В новых выпусках справочника уточняются характеристики профессий рабочих в связи с изменением содержания труда, техники и тех-нологий, пенсионного законодательства, новых требований к ка-честву продукции, работ, квалификации, знаниям. Но эти по-правки нормативных документов не всегда успевают за темпом изменений в реальной жизни профессий и организаций.
Разделение ответственности и полномочий в попытках стан-дартизировать мир профессий чревато рассогласованностью дей-ствий и результатов. Так, за разработку Единого тарифно-квали-фикационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)и Квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов и других служащих отвечает Научно-исследователь-ский институт труда и социального страхования Минсоцздрава России (ранее – Минтруда), а еще один нормативный документ – Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) – готовит Госстан-дарт России [Кокорева, 2003]. Разночтения этих документов по многим позициям вела к сложностям в работе кадровых служб и нарушениям прав трудящихся TP
1PT. По ряду аспектов эти разно-
чтения остаются до сих пор, хотя в начале 2000-х годов доку-менты были подвергнуты существенной переработке. Впрочем,они по-прежнему не могут претендовать на статус общих стан-дартов для всех работодателей. Так, при найме на работу в меди-цинские организации и учреждения здравоохранения кадровики
TP
1PT Человек, проработав на предприятии несколько лет, считал, что имеет право
на льготную пенсию, но запись в трудовой книжке стала камнем преткновения,поскольку работодатель неправильно записал наименование его профессии: «газо-электросварщик». Такой профессии нет в льготных списках (правильное написа-ние – «электрогазосварщик») [Смирнова, 2003].
37
руководствуются не ОКПДТР, а Номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим профессиональным образованием в учреждениях здра-воохранения, утвержденной приказом Минздрава России № 377от 15 октября 1999 года. Сейчас этот документ принят в новой ре-дакции (приказ Минздрава России № 160 от 24 апреля 2003 года), и ОКПДТР опять ей не соответствует [Кокорева, 2003].
Попытки со стороны профессиональных ассоциаций или бизнеса воздействовать на государство более успешны там, где работают каналы демократического влияния. Скудное и не во всем грамотное описание универсальной профессии «перевод-чик» в квалификационных справочниках должностей стало в 1991 году объектом критики со стороны новорожденного Союза переводчиков. Тогда же в Госкомтруда СССР были направлены предложения по изменению характера и содержания этих доку-ментов, в первую очередь, статей, касающихся переводчиков. Ве-домству предлагалось признать факт существования целого ряда специфических переводческих профессий, начать совместно с их представителями работу по совершенствованию их правового статуса, гарантии их прав и интересов, однако обращение не во-зымело результата [Гуревич, 1994]. «Калибровщик карандашных дощечек уже давно есть в ЕТКС, а веб-дизайнера и HTML-кодера TP
1PT почему-то до сих пор нет», – говорится в письме пред-
ставителей одного крупного холдинга, которое они направили в Министерство труда и социального развития Российской Феде-рации с просьбой включить новые профессии в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих [Bеб-дизайнер и HTML-кодер… 2001]. Этих профессий в справочнике мы не находим.
И все же постепенно в России получают официальное при-знание новые должности и профессии – в том смысле, что их те-перь включают в классификатор. Изменения в разделе «Профес-сии рабочих» коснулись наименований ряда общеотраслевых профессий, а также профессий производства электронной техники
TP
1PT Верстальщик гипертекстовых документов.
38
и полиграфического производства, системы здравоохранения.Например, аннулирована профессия «фасовщица» (это понятие перенесено в раздел должностей), включены профессии «опера-тор электронного набора и верстки», «повар судовой», «про-мышленный альпинист», «сестра-хозяйка». Что касается изме-нений в разделе «должности служащих», прежде всего, аннули-рована должность сестры-хозяйки. Но, как следует из предыду-щего раздела, теперь «сестра-хозяйка» – это не должность, а про-фессия. В раздел должностей включено 119 новых позиций – например, «врач здравпункта», «ландшафтный архитектор»и «специалист по профессиональной ориентации инвалидов»[Кокорева, 2003].
Попытки стандартизировать классификации профессий и за-нятий еще более осложняются в международном контексте.Сравнительные исследования по истории труда сильно затрудне-ны ввиду неопределенности терминологии, ее разнородности во времени и пространстве. Между тем профессии и виды занято-сти – это ключевые переменные во многих областях истории, на-чиная с исследований стратификации и мобильности до демогра-фии, исследований рынков труда и производства, создания и ис-пользования баз данных по переписям населения. Международ-ный исторический стандарт классификации занятий населения (профессий) HISCO, который разрабатывался с 1950-х годов,имеет структуру дерева с девятью «главными» группами, 76 «под-чиненными» группами, 296 «разделами» и 1 675 «микрогруппами». «Листья» этого дерева формируются десятками тысяч названий занятий. Передвигаясь вверх или вниз по дереву, можно найти близкие группы занятий. Кроме того, можно найти краткие опре-деления задач и обязанностей профессиональной группы [HISCO, 2001]. Впрочем, по мнению отечественных экспертов, нам меж-дународные стандарты – не указ:
В основном профессиональные стандарты разрабатываются в рамках национального законодательства. У нас такими стандартами являются тарифно-квалификационные и квалификационные характеристики, они более жесткие и более выверенные по сравнению с зарубежными профес-сиональными стандартами. Поэтому использование зарубежного опыта
39
в этом вопросе просто неразумно – у них другой уровень автоматизации производственных процессов, да и просто иной подход к труду [Смирнова, 2003]. Интересно, что Т.Л. Александрова, проведя анализ примене-
ния термина «профессия» в исследованиях Спенсера, Маркса,Дюркгейма, Вебера, российских и современных западных социо-логов, для себя выбирает определение, соотносимое с бюрокра-тической логикой квалификационного справочника:
Профессия – это социальный механизм дифференциации и специали-зации трудовой деятельности на видовом и внутривидовом уровне,функционирующий как средство развития содержания труда [см.: Александрова, 2000. С. 12]. Несовместимость отечественного употребления термина
«профессия» с классическими социологическими парадигмами профессий очевидна. Если в России «профессия – это группа родственных специальностей и специализаций с разными квали-фикационными уровнями» [Мир профессий, 2005], то во всех классических социологических определениях подчеркиваются характеристики профессионала как представителя особого соци-ального слоя, в частности, владение теоретическими знаниями,сертификатами о полученной вузовской подготовке, а также вла-стными полномочиями: профессионалы, получив доступ в узкий круг избранных профессий, используют предоставленную им ли-цензию на совершение действий, запрещенных другим, но и ос-меливаются от имени своей ассоциации указывать обществу, что для него полезно и правильно [Хьюз, 1965]. И если на Западе го-ворят о «дипломной болезни» креденциализма TP
1PT, то у нас этот
вопрос еще только ставится на повестку дня:
Что касается категории специалистов во всех отраслях, то однозначно-го решения требует вопрос о том, как учитывать в оплате образование и стаж работы по специальности [Кириллова, 2003].
TP
1PT Креденциализм – современная тенденция определять общественные позиции
индивидов (особенно профессиональные) на основании особенностей их образова-ния или послужного списка (credentials). При этом стремление к улучшению по-служного списка превращается в самоцель, что иногда ассоциируется с «дипломной болезнью» [Аберкромби и др., 1997. С. 142].
40
Нас могло бы выручить понятие профессионала как челове-ка, обладающего особым экспертным знанием в своем деле, поль-зующегося одобрением клиентов и коллег, имеющего высокий статус [Батыгин, 1994], но и оно толкуется неоднозначно: ведь профессионала можно определить и по формальным признакам (стаж, должность, разряд): так, З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян к категории «профессионалы» относят квалифицированных рабо-чих, специалистов высшей и средней квалификации, руководите-лей организаций и предприятий [Голенкова, Игитханян, 2005].
Еще больше проблем возникает при попытке классифициро-вать профессии на массовые и редкие. Если в США массовые ви-ды занятий характеризуются низкой оплатой, а узкий круг про-фессионалов сильно выделяяется своим высоким материальным положением, то у нас выбор какой-то редкой специализации при обучении может означать, например, сложности при трудоуст-ройстве, поскольку соответствующих рабочих мест может быть очень мало.
Составление списков профессий само по себе выступает предметом социально-антропологического исследования, которое заинтересовано в изучении символической стороны этих практик,в частности, тех конфликтов и разночтений, которые возникают на пересечении интересов и властных дискурсов различных ин-ститутов и акторов. Представления о профессии как способе за-рабатывать на жизнь поляризованы в сознании разных социаль-ных групп и дискурсивных агентов. Например, метафора «новая профессия» в одноименном рассказе В. Распутина [Распутин,1998] передает отношение писателя к постсоветским переменам,изувечившим недавнее прошлое, подобно раковым клеткам, гу-бящим социальный организм TP
1PT. Для антропологов важным явля-
ется рассмотрение таких дискурсивных аспектов профессий,а именно, сложившихся или формирующихся способов говорить и представлять проблемы.
TP
1PT Главный герой рассказа, талантливый молодой ученый, оказавшийся на обо-
чине новой жизни, нашел оригинальный заработок: его приглашают на богатые свадьбы, где он под видом дальнего родственника произносит проникновенные речи о большой любви.
41
От социологии труда к антропологии профессий Советские исследования труда во многом формировали свое
предметное поле и методический инструментарий по образцу,заданному государственной идеологией. В советской социологии труда исследования трудовых отношений на крупных промыш-ленных предприятиях были выведены за скобки, а процедуры и техники получения эмпирической информации основывались на количественной методологии. Выборочные исследования, ис-ключая из анализа так называемые маргинальные практики, под-держивали веру в единую и «правильную» рациональность со-ветских людей, носителей разума, власти и технократизма. Пред-метом исследований здесь выступали социальные общности –трудовые коллективы, рабочий класс. Методологическим осно-ванием теории трудовых отношений стала нормативная модель коллективного производства, исключающая возможность раз-личных интересов и конфликтов между социальными группами внутри предприятия.
Здесь можно вспомнить единичные попытки использовать этнографические методы в советской социологии труда. Их ис-пользование обычно обосновывалось решением задач апробации,пилотирования анкеты. Хорошо известна работа В.Б. Ольшан-ского, который в течение нескольких месяцев собирал материалы для социологического исследования, работая сборщиком элек-троаппаратуры на заводе [Ольшанский, 1995]. В этом исследова-нии перед социологом предстали неформальная социальная орга-низация на уровне цеха, социальные конфликты, противоречия в социальной структуре предприятия. Однако в исследователь-скую программу не входил детальный анализ этих социальных феноменов, и они оказались вне академической и публичной дис-куссии. В случае с А.Н. Алексеевым, работавшим в типографии и проводившим включенное наблюдение, длительное участвую-щее исследование ленинградского социолога было объявлено по-литически неправильным, и ученый подвергся остракизму [Алек-сеев, 1997].
Среди публикаций советского периода, касающихся про-мышленных исследований в русле качественной методологии,
42
выделяются работы С.А. Белановского. В 1980-х годах им было опубликовано четыре сборника, которые приоткрыли завесу мол-чания, скрывающую повседневные практики людей, вовлеченных в выполнение различных трудовых обязанностей на промышлен-ных предприятиях и в сфере управления производством. В этих текстах можно увидеть богатство «народных смыслов», которые вкладывают в производственный процесс акторы (деятели) раз-личного уровня. Тем не менее в серии интервью, в беседах с не-типичными и интересными собеседниками, создается не система-тическая, а лишь частичная картина производственной жизни со-ветского предприятия.
В 1990-е годы в отечественных исследованиях шире стали применяться качественные методы, в том числе этнографические.Исследование М. Ильиной посвящено изучению специфической профессиональной группы – кондукторов общественного транс-порта [Ильина, 1996]. Автор показывает, как падение уровня производства на промышленных предприятиях, ухудшение усло-вий оплаты труда, в том числе длительные задержки заработной платы, привели к тому, что на рынке труда оказалось значитель-ное число работников с высоким уровнем образования, готовых на снижение своего социального статуса. С. Алашеев рассматри-вает неформальные отношения как культурный феномен в аспек-те изучения трудовых отношений «советского» типа [Алашеев,1995]. Его детальное этнографическое исследование позволило выделить особую роль института неформальных отношений и их специфику для нерыночной экономики. Уникальный опыт полно-го включенного наблюдения положен в основу этнографии част-ного коммерческого предприятия с точки зрения секретаря [Киб-лицкая, 1997]. Исследователь помещает себя в контекст жизни одной частной компании, сочетая точку зрения аналитика, внеш-него по отношению к происходящим событиям, но также их включенного, эмоционального участника.
В последние годы увеличилось количество работ, в которых этнографические методы используются для изучения профессий и занятости. Отечественные социологи, этнографы и социальные антропологи обнаруживают неявные правила, фоновые знания,
43
повседневные ритуальные практики, способы рефлексии и само-идентификации различных профессиональных групп: журнали-стов [Сосновская, 2004], медиков и учителей [Щепанская, 2003], художников [Магидович, 2004], геологов [Федосеенко, 2003], ак-теров [Зайцева, 2003], магов [Паченков, 2001], программистов [Шумов, 2003], социальных педагогов и социальных работников [Романов, 2005; Социальная политика… 2002, Ярская-Смирнова,2001а], военных [Банников, 2002; Михайлин, 2001]. Некоторые из этих исследований выполнены в русле критического анализа.«Этнографический» подход становится орудием социальной кри-тики, позволяющей представить взгляд снизу вверх и переосмыс-лить управленческую рациональность с использованием прямой речи, текстов интервью и голосов представителей профессио-нальных групп и сообществ. Другие подходы носят прикладной характер и направлены на развитие управленческих методов, тре-тьи наполнены гуманистическим намерением авторов донести до общества тихие голоса закрытых маргинальных групп.
* * *Мир профессий изменчив и многообразен; их символические
границы, охраняемые традициями и буквой инструкций, посте-пенно стираются или заново перечерчиваются. Одни профессии канули в лету, другие лишь укрепляют свой статус, третьи оказа-лись вытесненными на обочину. Классическим социологическим взглядам на профессиональные группы как на узкий круг избран-ных, обладающих высоким статусом, властью и достатком, ан-тропологи предпочитают перспективу, позволяющую прибли-зиться к повседневной жизни любых видов занятости. Антропо-логический взгляд на профессии стремится не подравнивать из-менчивую и многообразную реальность под идеальные схемы,а приблизиться к пониманию жизненных миров и способов дей-ствий тех людей, которые эту реальность конструируют. Совре-менная антропология профессий развивается в направлениях фе-номенологии и социальной критики, опираясь на полевые этногра-фии и социокультурный анализ символических форм повседнев-ности профессиональных групп и сообществ, изучает феномены
44
в исторически и географически выверенном контексте, подвергая пересмотру сложившиеся уклады властных отношений. Главные акценты при этом делаются на разделяемом, общем знании, спе-цифике жизненного мира, стилевых особенностях, идентичности занятых тем или иным видом работ субъектов.
Символические и поведенческие элементы профессиональ-ных субкультур выявляются при помощи участвующего наблю-дения, предполагающего естественные способы коммуникации с информантами или проведение специально организованных ин-тервью. Исследователи пытаются распознать и понять смысл тех неформальных отношений и культурных практик, что скрыты от посторонних. Повседневная трудовая деятельность, регламен-тированная комплексом правил и инструкций, содержит массу неопределенных ситуаций, требующих принятия решения, под-час в обход существующих правил. На основе этого опыта воз-никает житейская мудрость, которая облекается в форму тради-ций, обычаев, фольклорных жанров и позволяет людям воспроиз-водить свою трудовую или профессиональную культуру, переда-вая ее вновь прибывающим в группу неофитам. Эти разнообраз-ные сюжеты повседневной жизни профессий и профессиональ-ных сообществ и становятся предметом интереса антропологов,которые стремятся получить доступ к изучаемым феноменам,растворенным в дымке рутинных забот, незаметным подчас и са-мим инсайдерам.
Этнография, требующая от исследователя сближения с по-лем, сталкивает нас с методологическими и этическими пробле-мами. Нет ничего лучше для исследователей, задумавших нари-совать этнографическую картину одного из занятий, которым люди зарабатывают себе на жизнь, чем самим перейти на эту ра-боту, скажем, официантами или бортпроводниками, чтобы в те-чение пары-тройки лет иметь возможность испытать на себе все прелести и горести другой профессии. Это вдыхает жизнь в соз-даваемое полотно, придает ему сочную текстуру, насытив новы-ми и очень точными деталями, делает критику более взвешенной,поставленные вопросы – остроумнее. Слишком быстрое знаком-ство с Другими рискует быть поверхностным, кроме того, куль-тура, удаленная от нашего собственного опыта, испытывает
45
и шокирует, побуждая судить и оценивать ее с внешних позиций.В свою очередь, длительное соучастие создает риск «стать тузем-цем», снимая антропологическую дистанцию, то есть снижая рефлексивность, критичность взгляда. Став своим, трудно и не-прилично критиковать то, что делают и как рассуждают твои со-трудники. Будучи чужим, останешься при своих предубеждениях «туриста», знающего лишь то, что положено знать. Иногда даже нельзя с точностью сказать заранее, что именно ищет антрополог в профессиональной культуре, поскольку приближаться к иссле-дуемой среде с готовой теоретической схемой чревато риском «ускользающего феномена». Так в традиции качественных ис-следований называют несоответствие между поставленной уче-ным целью найти запланированное заранее явление и его отсут-ствием в изучаемой культуре. Вряд ли можно считать антрополо-гическое исследование полным и достоверным жизнеописанием какой-либо профессиональной группы. Скорее, это лишь одна из возможностей приоткрыть этот мир посредством сближения,участия и интерпретации.
Аберкромби Н., Хилл Ст., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер.с англ.; Под ред. С.А. Ерофеева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997.
Алашеев С. Неформальные отношения в процессе производства: взгляд изнутри // Социологические исследования. 1995. № 2. С. 12–19.
Александрова Т.Л. Методологические проблемы социологии профессий // Социологические исследования. 2000. № 8. С. 11–17.
Банников К.Л. Антропология экстремальных групп: Доминантные от-ношения военнослужащих срочной службы Российской Армии. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2002.
Батыгин Г.С. Профессионалы в расколдованном мире // Этика успеха:вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып. 3. Тюмень; Мо-сква, 1994. С. 9–19.
Буравой М. Углубленное кейс-стади // Рубеж. 1997. № 10–11. С. 147–154. Bеб-дизайнер и HTML-кодер – Новые профессии? 25.05.2001 // http://space.
novgorod.ru/read/194/. Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер Избранные про-изведения / Пер. с нем.М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.
Владимиров В.Н., Силина И.Г. Историческая демография на XV между-народной конференции AHC // http://kleio.dcn-asu.ru/aik/konfdem.html 2001.
46
Гиртц К. В поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997.
Гиртц К. С точки зрения туземца: о природе понимания в культурной антропологии // И.Ф. Девятко. Модели объяснения и логика социо-логического исследования. М.: Ин-т социологии РАН, 1996.
Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Профессионалы – портрет на фоне ре-форм // Социологические исследования. 2005. № 2. С. 28–36.
Гуревич Л.О. В мире переводческих профессий // Мир перевода. 1994. № 4 // http://www.ets.ru/arc09-r.htm.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда.М.: Канон, 1996. Зайцева Н.В. Этнографические наблюдения в театре имени Ленсовета // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI. № 1. С. 162–166.
Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и пост-советкого обществ. 1917–1996 гг.: Опыт конструктивистко-структу-ралисткого анализа. Сыктывкар: Сыктывкар. ун-т, ИС РАН, 1996.
Ильина М. Частный извоз в провинциальном городе: самоорганизация социальной группы // Рубеж. 1999. № 13–14. С. 201–218.
Ионин Л.Г. Социология культуры.М.: Логос, 1996. С. 77–125. Квале С. Исследовательское интервью / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2003.
Киблицкая М. Русский частный бизнес: взгляд изнутри // Рубеж. 1997. № 10–11. С. 210–222.
Кириллова Н. Оплата, мотивы и стимулы труда: Оплата труда бюджет-ников: новая модель: Беседа с д.э.н. Ю. Кокиным // Человек и труд.2003. № 2 // http://www.chelt.ru/2003/2-03/kokin-2-03.html.
Кокорева А.В. В России появились новые профессии и должности // Кадры предприятия. 2003. № 8 // http://www.dis.ru/kp/arhiv/2003/8/1.html.
Магидович М.Л. Профессиональная идентичность художника // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 2. С. 138–152.
Мансуров В.А., Юрченко О.В. Перспективы профессионализации рос-сийских врачей в реформирующемся обществе // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 66–77.
Михайлин В. Между волком и собакой: героический дискурс в ранне-средневековой и советской культурных традициях // Новое литера-турное обозрение. 2001. № 47. С. 278–320.
Мир профессий // О работе. 2005 // Thttp://www.vdvkomi.ru:8101/info/textT
/rabota-160205.html. Паченков О. Рациональное «заколдовывание мира»: современные рос-сийские «маги» // Невидимые грани социальной реальности: Сб. ст.по материалам полевых исследований / Под ред. В. Воронкова,О.Паченкова, Е. Чикадзе. СПб.: Труды ЦНСИ, 2001. Вып. 9. С. 96–109.
47
Распутин В. Новая профессия // Наш современник. 1998. № 7. С. 3–23. Романов П. Процедуры, стратегии, подходы «социальной этногра-фии» // Социологический журнал. 1996. № 3/4. C. 138–149.
Романов П.В. Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб // Социологические исследования. 2005. № 4. С. 101–110.
Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Делать знакомое неизвестным: эт-нографический метод в социологии // Социологический журнал.1998. № 1/2. С. 145–160.
Сакс М., Олсоп Дж. Социология профессий: государство, медицина ирынок в Великобритании // www.ecsocman.edu.ru/db/msg/30074.html.
Смирнова И. Чем сложнее работа, тем выше разряд: Интервью с Н.А. Со-финским // Кадровое дело. 2003. № 10. // http://www.kdelo.ru/kd.pl? page=state&id=1269.
Сосновская А.М. Профессиональная идентичность журналиста (анализ случаев) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 3. С. 116–138.
Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России / Под ред. Е. Ярской-Смирновой и П. Романова. М.: ИНИОН РАН,2002.
Федосеенко С.Ю. Проявление неформального фактора в профессио-нальной среде геологов-полевиков // Журнал социологии и социаль-ной антропологии. 2003. Т. VI. № 1. С. 167–173.
Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»: Уни-верситетская книга, 2004.
Хьюз Э. Исследование занятий // Социология сегодня: проблемы и пер-спективы.М.: Прогресс, 1965. С. 499–501.
Шумов К.Э. Профессиональный миф программистов // Современный городской фольклор.М.: РГГУ, 2003. С. 128–164.
Щепанская Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 2003. Т. VI. № 1. С. 139–161.
Ярская-Смирнова Е.Р. Неравенство или мультикультурализм // Высшее образование в России. 2001а.№ 4. С. 102–110.
Ярская-Смирнова Е.Р. Понятие скрытого учебного плана // Гендерные исследования. 2001б.№ 1(5). С. 295–301.
Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в Рос-сии // Социологические исследования. 2001в.№ 5. С. 86–95.
Adler P.A. Wheeling and Dealing. N. Y.: Columbia University Press, 1985. Alvesson M., Berg P. Corporate culture and organizational symbolism: de-
velopment, theoretical perspectives, practice and current debate. How-thorne; N. Y.: Wolter de Gruyter, 1992.
Applebaum H.A. Royal Blue: the Culture of construction workers. N. Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1981.
48
Baba M.L. The anthropology of work in the fortune 1000: a critical retrospec-tive: History of Workplace Anthropology: A paper prepared for the An-thropology of Work Review 1998 // http://www.practicalgatherings.com /workplace_anthro/history.html.
Becker H., Geer B., Hughes E., Strauss A. Boys in White. Chicago: Univer-sity of Chicago Press, 1961.
Blau P. The Dynamics of Bureaucracy: A Study of Interpersonal Relations in Two Government Agencies. Chicago: University of Chicago Press, 1953/1963.
Braverman H. Labor and Monopoly Capital. N. Y.: Monthly Review Press, 1974.
Burawoy M. The Anthropology of Industrial Work // Annual Review of An-thropology. 1979. № 8. P. 231–66.
Cunnison S. The Manchester Factory Studies, the Social Context, Bureau-cratic Organization, Sexual Divisions and Their Influence on Patterns of Accommodation between Workers and Management // R. Frankenberg (ed.) Custom and Conflict in British Society. Manchester: Manchester University Press, 1982. Р. 117–135.
Durkheim E. Professional Ethics and Civic Morals. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.
Ehrenreich B. Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America. N. Y.: Henry Holt and Company, Metropolitan Books, 2001.
Etzioni A. Modern Organizations. Englewood Cliffs; New Jersey: Prentice Hall, 1964.
Freidson E. Professional Dominance. Chicago: Aldine Publishing Company, 1970.
Gamst F. The Hoghead: An Industrial Ethnology of the Locomotive Engi-neer. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
Goffman E. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. Garden City; N. Y.: Anchor Books, Doubleday, 1961.
HISCO – Historical International Standard Classification of Occupations: Web-Based Information System on the History of Work. Last updated: October 11, 2001 // http://www.iisg.nl/research/hisco.html.
Holzberg C., Giovannini M. Anthropology and Industry: Reappraisal and New Directions // Annual Review of Anthropology. 1981. № 10. P. 317–360.
Jorgensen D.L. Participant Observation: A Methodology for Human Studies. Newbury Park; London; New Delhy: Sage, 1989.
Kusterer K.C. Know-How on the Job: The Important Working Knowledge of Unskilled Workers. Boulder, CO: Westview Press, 1978.
Lamphere L. Fighting the Piece Rate System: New Dimensions of an Old Struggle in the Apparel Industry // Case Studies on the Labor Process. A. Zimbalist (ed.) N. Y.: Monthly Review Press, 1979. P. 257–276.
49
Mills C. Wright. White Collar. N. Y.: Oxford University Press, 1953. Nash J. The Anthropology of the Multinational Corporation // The Politics of
Anthropology: From Colonialism and Sexism Toward a View from Be-low / G. Huizer and B. Mannheim (eds.). Paris: Mouton, 1979. P. 421–446.
Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. N. Y.: Oxford University Press, 1995.
Orr J. Sharing Knowledge, Celebrating Identity: War Stories and Commu-nity Memory Among Service Technicians // Collective Remembering: Memory in Society. D.S. Middleton and D. Edward (eds.). L.: Sage Pub-lications, 1990.
Owen M.J. Studying Organizational Symbolism: Qualitative Research Meth-ods Series. L.: Sage, 1996.
Parsons T. The Social System. L.: Routledge and Kegan Paul, 1951. Pilcher W.W. The Portland Longshoreman. N. Y.: Holt, Rinehart & Winston,
1972. Reeser L.C., Epstein I. Professionalization and Activism in Social Work: The
Sixties, the Eighties, and the Future. N. Y.: Columbia University Press, 1996.
Richardson F.L.W., Walker C. Human Relations in an Expanding Company: A Study of the Manufacturing Departments in the Endicott Plant of The International Business Machines Corporation. New Haven: Yale Univer-sity Management Center, 1948.
Rosaldo R. Culture and Truth: The Remarking of Social Analysis. Boston: Beacon, 1989.
Schwartzman H.B. Ethnography in organizations. Newbury Park: London: New Delhi: Sage, 1993.
Snyder B.R. The Hidden Curriculum. N. Y.: Knopf, 1971. Strauss A., Schazman L., Ehrlich D., Bucher R., Sabshin M. The hospital and
its negotiated order // E. Friedson (ed.). The hospital in modern society. N. Y.: Makmillan, 1963. P. 73–130.
Turner B.A. Exploring the Industrial Subculture. L.: Macmillan, 1971. Van Maanen J. (ed.) [Special issues on qualitative methodology.] Adminis-
trative Science Quarterly. 1979. № 24. Van Maanen J. Observations on the Making of policemen // Human Organi-
sation. 1983. № 32. Р. 407–418. Van Maanen J., Barley S. Occupational Communities: Culture and Control in
Organizations // Research in Organizational Behavior. 1984. № 6. P. 287–365. Whyte W.F. Human Relations in the Restaurant Industry. N. Y.: MacGraw-
Hill, 1948. Wright S. Culture in Anthropology and Organizational Studies // S. Wright
(ed.). Anthropology of Organizations. L.; N. Y.: Routledge, 1994. P. 1–34.
50
КОНСТРУКЦИИ ГЕНДЕРА В НЕФОРМАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ ПРОФЕССИЙ
Татьяна Щепанская
Эта статья написана по материалам полевых этнографиче-ских исследований профессий, осуществляемых на кафедре куль-турной антропологии и этнической социологии СПбГУ начиная с 1998 года TP
1PT. Были опубликованы: общий очерк проекта, неко-
торые материалы и первые результаты исследований [Щепанская,1999. С. 218;Щепанская, 2002. С. 134–151; Щепанская, 2003].
Феномен неформальных традиций в профессиональной среде
Программа полевых исследований предусматривает фикса-цию повседневных практик и дискурса профессиональной среды,особенно их стереотипных, устойчивых элементов, транслируе-мых посредством механизма традиции. Такой подход позволяет представить повседневную жизнь профессиональной среды, с ее специфическими культурными характеристиками, особенностями коммуникаций, жизненного стиля. При этом в поле зрения попа-дают как институционально закрепленные, предписанные офици-альными правилами стороны профессии, так и неформальные.Последние обычно ускользают из поля зрения и макросоциоло-гических моделей, и проводимых на их основе исследований, за-то хорошо улавливаются этнографическими методами, а потому и будут предметом нашего особого внимания. В эту «теневую»сферу функционирования профессии входят: неформальные связи
TP
1PT Полевые записи (наблюдения и интервью) сделаны как автором настоящей
статьи, так и студентами кафедры, в рамках учебного антропологического прак-тикума, работавшими под руководством и по программам автора. В ряде случаев программы были модифицированы студентами в соответствии со спецификой изучаемой профессиональной среды или их исследовательскими интересами. По-левые записи, сделанные в рамках практикума, хранятся в электронном архиве кафедры. При цитировании в скобках указаны сведения об информанте: пол, воз-раст, затем (после указания «ПМ» – полевые материалы) – фамилия собирателя,год и место записи.
51
и механизмы их поддержания; неофициальные правила, нормы,стереотипы поведения; символика, опосредующая эти связи и выражающая эти нормы; способы интерпретации символики,объяснительные модели, приемы легитимации тех или иных дей-ствий; профессиональный фольклор. Этот комплекс может быть описан как субкультура, в отличие от «профессиональной куль-туры», акцентирующей степень освоения и осуществления скорее официальных правил профессиональной деятельности.
Под субкультурой профессии, таким образом, мы понимаем совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса,сложившихся в профессиональной среде, функционирующих на уровне повседневности и транслируемых посредством меха-низмов традиции в рамках повседневных практик, специальных ритуализованных действий (например, коллективных застолий,капустников, посвятительных обрядов), профессионального фольклора. Носитель такой субкультуры – профессиональная среда, разделяющая если не весь символико-нормативный ком-плекс, то, по крайней мере, совокупность культурных кодов, опо-средующих его понимание. Иногда такой носитель определяется как «профессиональное сообщество», куда включаются по умол-чанию обладатели данной профессии, имеющие соответствующее образование и работающие по специальности. В этом случае сле-дует сделать два замечания. Первое: описывая структуру такого сообщества, следует учитывать не только официальные позиции (должность, формальные характеристики профессионального статуса: образование, степени, звания, знаки отличия), но и не-формальные отношения. Субъект профессиональной субкульту-ры – не конкретная организация или зарегистрированное профес-сиональное объединение, а скорее сообщество, рассматриваемое как сеть неформальных связей. Второе замечание вытекает из первого: границы такого неофициального сообщества – реаль-ного носителя традиции, в рамках которой она транслируется, –могут не совпадать с формальными границами профессии (опре-деляемыми такими критериями, как полученное образование,квалификация, формальная лицензия, дающие право заниматься
52
данной деятельностью) TP
1PT. В передаче традиций, как и вообще
в повседневной жизни профессиональной среды, нередко участ-вуют люди, занимающее маргинальное положение или вообще не принадлежащие к профессии, например, актерские традиции пе-редаются при участии обслуживающего персонала – билетеров,гримеров, работников сцены, – которые играют значительную роль в поддержании театральной мифологии (своеобразной мо-дели мира, системы объяснений и легитимаций, на которую опи-раются непосредственно актерские традиции). Следуя принципам этнографического подхода, мы должны в качестве носителя про-фессиональной традиции описывать именно ту среду, в рамках которой она реально транслируется, а не придерживаться границ,определенных по формальным, теоретическим критериям. Чаще всего трансляция традиций происходит в рамках определенной сферы деятельности (авиация, грузоперевозки, театральная среда и т. д.), нередко объединяющей несколько профессий (например,в гражданской авиации – летчики, стюардессы, диспетчеры), ка-ждая из которых имеет собственную субкультуру, но разделяет общие для всей сферы деятельности культурные коды.
Итак, предметом нашего исследования служит комплекс (не-формальных) традиций, определяющих повседневное функцио-нирование профессиональной среды. Какие области профессио-нальной деятельности и коммуникаций регулируются данными традициями? Каковы средства регуляции (нормы, стереотипы,обоснования, легитимации, санкции) и моделирования поведения (символика и основанные на ней структуры: фольклор, ритуалы)? В рамках нашего проекта профессии рассматриваются в сравни-
TP
1PT Как замечает Р.Мэттьюз [Matthews, 1991], в настоящее время «нет общепри-
нятого определения профессий», но, суммируя многочисленные варианты, опреде-ляет два признака, которые принимает большинство: обладание определенной ква-лификацией, полученной посредством экзаменов или других формальных тестов (лицензирования), и существование кодекса поведения (профессиональной этики), нарушение требований которого в качестве крайней санкции может повлечь утрату лицензии. И процедура лицензирования, и профессиональная этика могут быть вразной степени формализованы, однако они обеспечивают существование профес-сии в качестве особой среды или сообщества, обладающего определенной автоно-мией.
53
тельной перспективе. На первом этапе каждый из собирателей изучает определенную профессию как отдельный «случай». Наша цель – на базе их сопоставления смоделировать феномен профес-сиональной субкультуры: вычленить общие элементы и характе-ристики, позволяющие сопоставлять традиции различных про-фессий. В данной статье сосредоточим внимание на их элементах этих традиций, относящихся к гендеру (как символическому кон-структу). Их анализ позволит судить также о соотношении кон-структов гендера и профессионализма.
Таким образом, предметом нашего исследования является в первую очередь пласт профессиональных традиций (поведенче-ских и дискурсивных стереотипов), сложившийся на неформаль-ном уровне: его состав, структура, порождающие правила (или – шире – механизмы порождения). В данной статье мы задаемся вопросом, каким образом в рамках этих неформальных традиций моделируется гендер. Мы рассматриваем случаи моделирования гендера в неформальном дискурсе профессий – сами модели,средства их репрезентации и механизмы порождения. Настаивая,что мы исследуем именно модели и процесс моделирования ген-дера, мы обращаем внимание читателя, что не следует ожидать их буквальной реализации в повседневной практике. Мы вычле-няем моделирующие гендер структуры аналитическим путем и иллюстрируем их конкретные проявления в традициях различ-ных профессий конкретными эпизодами повседневных взаимо-действий. Однако это не должно означать, что такого стереотипа придерживаются все представители данной профессии или что это единственная доступная им модель – мы фиксируем только существование ее как культурного образца, о котором известно и на который ориентируются, в одних случаях принимая его как само собой разумеющееся, в других – отталкиваясь от него и от-рицая его. Фиксируя случаи реализации данной культурной модели, мы обнаруживаем эту модель как одно из правил органи-зации поведения (не всегда осознаваемое и вербализуемое), факт его существования или даже возможности в данной среде – но не факт обязательности и даже единственности этого прави-ла. Затем, суммируя совокупность моделирующих гендер зна-ковых структур, обнаруженных в дискурсе различных профессий,
54
мы можем перейти к поиску общей матрицы (организованной совокупности моделей) гендера, как составляющей символиче-ского конструкта «профессионализма». Такая матрица неизбежно будет реконструкцией, поскольку в каждой конкретной профес-сиональной среде, вероятно, будет проявляться только часть ее элементов и правил. Наша задача – выявить правило, которое по-зволяет объединить в одну матрицу максимально возможное чис-ло выявленных эмпирически элементов конструкции гендера, об-наруженных в ходе сравнительного изучения профессий.
Итак, мы рассматриваем неформальный дискурс профессий,фиксируем в нем символические конструкции гендера, ищем принцип или правило порождения, выполняющийся для макси-мально возможного числа из этих конструкций, обращая внима-ние особенно на те из них, которые являются общими для разных профессий (то есть могут быть истолкованы как элементы общей структуры феномена «профессиональной традиции»). Таким об-разом, мы не только воссоздаем схемы моделирования гендера в рамках профессиональных традиций, но и получаем материал для суждений о соотношении символических конструкций генде-ра и профессионализма.
Гендерная тематика в применении к профессиональной сфе-ре обычно обсуждается в связи с проблемой сегрегации и обу-словленного ею разрыва в доходах между работниками по при-знаку пола. Среди механизмов сегрегации важное значение имеет представление о разделении профессий на «мужские» и «жен-ские», транслируемое как в обыденном сознании, прессе, так и в социологической литературе. В исследованиях гендерной сег-регации в понятие «женской» / «мужской» профессии (или рабо-ты, сферы деятельности) вкладывается либо количественный, ли-бо символический смысл. В первом случае в качестве «женской»рассматривается профессия, где женщины численно преобладают среди работников. Социологи Б. Хайнтц и Е. Надаи в работе «Пол и контекст», например, для сравнения «мужских» и «жен-ских» профессий выбрали такие сферы профессиональной дея-тельности, как информатика (программист / аналитик) и уход за больными (медсестры / санитары), где «доля женщин и муж-
55
чин составляет примерно 10 % соответственно» [Хайнтц, Надаи,2002. С. 295, примечание*]. В символическом смысле под «жен-ской» / «мужской» профессией понимается такая, где «делание работы» означает одновременно и «делание гендера» [Хайнтц,Надаи, 2002. С. 292–293] TP
1PT, то есть профессиональная деятель-
ность предполагает демонстрацию качеств и выполнение ролей,приписываемых определенному полу. В качестве примеров обычно приводятся профессии военного или пожарника как сфе-ры, где профессионализм ассоциируется с маскулинностью, и ра-боту, например, стюардессы, где требуется демонстрация «жен-ских» качеств.
В нашем исследовании мы не могли не учитывать символи-ческую идентификацию профессии как «мужской» или «жен-ской». Приводя данные о множестве разнообразных профессий,мы отобрали для более внимательного изучения несколько, рас-сматриваемых как примеры типично «мужских» (физики, про-граммисты, водители такси) или «женских» (стюардессы) – как в статистическом, так и в символическом отношении; наряду с этим отобраны и промежуточные варианты – профессии, где ста-тистически преобладают женщины, но на символическом уровне воспроизводятся элементы образов как «мужской», так и «жен-ской» профессии (врачи, учителя).
Анализируя механизмы исключения женщин из наиболее престижных и высокооплачиваемых сфер, современные исследо-ватели отмечают их деинституционализацию (Б. Недельман), под которой понимается «переход механизмов воспроизводства от ру-тинного протекания к осознанному и целенаправленному дейст-вию» [Хайнтц, Надаи, 2002. С. 286] TP
2PT. Взамен институциально
закрепленных механизмов формального исключения (отсутствие доступа к высшему образованию, определенным профессиям, ог-раничение дее- и правоспособности женщин), на первый план вы-ходят культурные механизмы поддержания гендерной иерархии
TP
1PT Авторы статьи приводят формулу «doing gender while doing the job» [Leidner,
1991]. TP
2PT Авторы статьи опираются на концепцию деинституциализации Бригитты
Недельман [Nedelmann, 1997].
56
(в данном случае – неравенства в распределении ресурсов, матери-ального вознаграждения, статуса профессионала, – в зависимости от его пола). Отсюда – повышенный интерес к сфере повседнев-ности и практикам, в ходе которых происходит конструирование гендера. Ряд таких практик мы и рассмотрим в настоящей статье.
Профессионализм и маскулинность Начнем с описания фольклорных конструкций мужского
гендера, поскольку они явно преобладают в большинстве про-фессиональных традиций. Разделение на «мужские» и «женские профессии» утвердилось как в общественном мнении, так и в на-учном дискурсе, тем не менее, между этими понятиями сущест-вует заметная асимметрия. Во-первых, количественный перевес «мужских» на уровне симовлических конструкций. Проведенное Т.Б. Котловой и А.В. Смирновой исследование гендерных сте-реотипов в наиболее распространенных в России учебниках рус-ского языка и математики для начальной школы показало, что
частота обращений к мужским профессиям намного превышает упо-минание женских (соотношение 88:12), причем спектр «мужских»профессий намного богаче… как «мужские» в учебниках представле-ны 93 % профессий физического труда и 79 % – интеллектуального.
По данным этого же исследования, мужчины заняты работой в 71 % упоминаний, а женщины – только в 39 % [Котлова, Смир-нова, 2001]. Судя по результатам этого исследования, в учебни-ках для начальной школы запечатлен стереотип, ассоциирующий профессионализм скорее с маскулинностью, чем с фемининно-стью. Важно отметить, что этот стереотип продолжает трансли-роваться институтами социализации.
Показательны данные, приводимые Ж. Черновой по резуль-татам исследования представлений о «мужской работе» в попу-лярной прессе. Автор анализирует публикации в мужских журна-лах, мужские образы, предлагаемые читателям в качестве эталон-ных. По заключению автора, в качестве «настоящих мужских»профессий описываются наиболее высокостатусные и высокооп-лачиваемые. В рамках одной и той же профессиональной сферы
57
дополнительно маркируется (как «мужское» качество) высокий уровень профессионализма,
который операционализирован в таких показателях, как: высокое ква-лификационно-должностное положение, подтвержденное набором сер-тификатов; высокий уровень профессиональной креативности и авто-номии деятельности: широкая сфера ответственности, контроль над функциями и свобода от рутинной работы [Чернова, 2003. С. 279–280].
В публикациях мужских журналов, таким образом, профес-сионализм включается как важная составляющая в символиче-ский конструкт маскулинности.
Символическая связь профессионализма и маскулинности прослеживается и в фольклорном дискурсе целого ряда профес-сий, причем эта связь всегда положительная: высокий профес-сиональный статус означает и высокий мужской. В фольклорном образе профессий подчеркивается мужская сексуальная привле-кательность их представителей. Типичный пример – очень широ-ко распространенный текст об особой привлекательности пред-ставителей разных профессий:
Мама, а я лётчика люблю.Замуж я за лётчика пойду:Лётчик высоко летает,Много денег получает – Вот за это я его люблю.
Песню про летчиков я слышала еще в своем детстве, в при-волжском летном городке, в начале 1970-х годов. Варианты этой широко бытующей песни посвящены представителям разных профессий – от физика и доктора до повара, дворника и сантех-ника TP
1PT. Наряду с качествами профессионала (высокий доход
и статус), куплеты акцентируют и чисто мужские:Мама, твердотельщика люблю.Я за твердотельщика пойду:Он мужчина в самом деле И всегда при твёрдом теле – Вот за это я его люблю! –
TP
1PT Несколько вариантов см.: сайт «KARAOKE.Ru» // http://karaoke.ru/song/3824.htm;
сайт «Фольклор советских студентов» // http://folklor.kulichki.net.
58
гласит куплет песни, которую я слышала от студентов физфака СПбГУ; физика твердого тела – одна из физических специальностей и кафедра на физфаке университета. В песне были куплеты, по-священные преимуществам каждой из кафедр. Мотив мужской привлекательности, приобретаемой вместе с профессией, транс-лируется и в повседневный дискурс:
Когда я говорю, что так и так… будущий врач, – говорит о своей про-фессии студент Первого медицинского университета (СПб.), – даже де-вушки смотрят по-особенному [муж., 20 лет. ПМ: В.Монич, 2000]. Певец А. Буйнов, рассказывая о своей профессиональной
карьере, когда играл на бас-гитаре в ансамбле «Веселые ребята», подчеркивает как значимую деталь: «Все девчонки тогда мои бы-ли» [Рослова, 2003], – причем подобные заявления, часто встре-чающиеся в дискурсе поп-исполнителей, преподносятся как свиде-тельство драйва, важнейшей составляющей профессионализма [Ворохов, 1999]. Женщина-архитектор, характеризуя свою профес-сию, акцентирует мотив сексуальной активности коллег-мужчин:
Интересно, что мужчины-архитекторы обычно падки на женщин (как и все творческие люди), а старички любят и женятся на молодых де-вочках [ПМ: О. Аверичева, 2002]. Характерно, что рассказчица специально подчеркивает связь
мужской сексуальной активности с творческой профессией.Подобного рода высказывания актуализируют схему, в которой
профессионализм и маскулинность находятся в положительной корреляции. В то же время мотив сексуальной несостоятельности используется в фольклоре как инвектива, снижающая образ про-фессии и ее обладателей. Это очень хорошо видно в частушечных текстах из шутливой перепалки между факультетами медицинско-го вуза. Студенты лечебного факультета сообщали собирателям:
Они [студенты стоматологического факультета. – Т.Щ.] иногда гово-рят: – Мы врачи-стоматологи. – А мы в ответ: – Вы – стоматологи,а врачи здесь мы! По этому поводу даже стишки всякие есть, сейчас вспомню… лучше трахаться с кастратом, чем с уродом со стомата [ПМ: В.Монич, СПб., 2002].
59
В большинстве зафиксированных нами случаев моделирования гендера в профессиональном фольклоре акцентируется мужской гендер, конструкт маскулинности. Особенно это заметно в ситуа-циях наибольшей ритуализации, таких, как коллективное засто-лье или посвящение в профессию.
Посвящение в профессию – комплекс действий, включаю-щих как официальные церемонии, инициируемые администраци-ей учреждения, так и неформальные мероприятия, которые отме-чают приход новичка в профессию одновременно как сферу дея-тельности и сообщество коллег.
Неформальные посвятительные обряды ярче всего представ-лены в профессиях, считающихся традиционно «мужскими» (во-енные, милиционеры, пожарные), а также в фольклоре медиков TP
1PT.
Для этих обрядов характерны формы демонстрации маскулинно-сти – акцентирование мужских гениталий, физической силы,умения много выпить и т. п. Включение символов пола в эти об-ряды соотносит вхождение в профессию с моделью мужского по-священия – превращения в «настоящего мужчину».
В контексте обрядов посвящения работников правоохрани-тельных органов, пожарников, рабочих и медиков отмечено мар-кирование мужских гениталий. Например, выпускники одного из вузов системы МВД в Санкт-Петербурге, вспоминая оконча-ние учебы, рассказывали, как начищали до блеска тестикулы ко-ню Петра I у скульптуры Медного всадника. По замечанию рас-сказчиков, это обычно делал тот выпускник, «кто считается в училище лидером – чтобы он ушел, о нем слава гремела» [ПМ:Н. Бравичева, 2002]. Комментируя эти действия, рассказчики го-ворили о «мужском братстве» (речь идет о будущих бойцах СОБР), которое формируется за годы обучения и «сохраняется на всю жизнь». Отметим, что актуализация мужской генитальной символики здесь впрямую связана с демонстрацией высокого
TP
1PT Сейчас это статистически скорее женская профессия, но на символическом
уровне сохраняется ряд конструкций профессионализма как проявления маскулин-ности, особенно в отношении ряда специализаций, таких как хирург и патологоана-том.
60
статуса в курсантском, а затем и профессиональном сообществе,которое обозначается как «мужское братство».
У студентов-медиков роль посвящения приписывается заня-тиям в анатомическом отделении, где будущие врачи знакомятся со строением человеческого тела. С посещением анатомички свя-зан обширный студенческий фольклор, в основном байки в жанре черного юмора. Один из мотивов студенческих баек – перемеще-ние хирургическим путем мужских половых органов препарата,которые пришиваются будто бы к другому участку тела, а иногда вкладываются в его внутренние полости. Этим манипуляциям придается смысл «прикола» – испытания для новичков: студенты следующей группы, которые будут работать после шутников, долж-ны отыскать спрятанные органы [ПМ: В.Монич, 2002].
Акцентирование мужских гениталий отмечено и у предста-вителей исследовательских профессий, связанных с «полем», – выездами в экспедиции. У них функцию посвящения выполняет обычно первая экспедиция. Ритуальному посвящению, которое проводится в середине или конце экспедиции, предшествуют различные испытания новичка, в частности приколы. У геологов и этнографов в качестве прикола бытует рассказ о «меховом гульфике»: перед поездкой в Сибирь или на Север новичка пре-дупреждают, что там даже летом бывают холода, поэтому, мол,следует сшить меховой гульфик во избежание обморожения.Предупреждают в порядке розыгрыша, но ходят рассказы о том,что некоторые коллеги на этот розыгрыш попадались и в дейст-вительности приносили собственноручно сшитый элемент снаря-жения. Похоже, что этот мотив также взят из армейского обихода.
Отмечены случаи, когда в посвятительных обрядах актуали-зируется символика женских гениталий, но в контексте именно мужского посвятительного сюжета приобщения ко «взрослому»знанию = «познания женщины». Выпускники Военно-медицин-ской академии до недавнего времени начищали до блеска грудь медной статуи Гигеи, стоявшей в скверике рядом с кафедрой;по рассказам военных медиков, они одевали на статую новый бюстгальтер, на который скидывались всей группой [ПМ: Т. Ще-панская, Л. Ипатова, СПб., 2003]. Отметим, что складчина и кол-
61
лективный характер придают манипуляциям со статуей смысл демонстрации единства профессионального коллектива.
Вариация сюжета профессионального посвящения как «по-знания женщины» отмечена и в среде заводских рабочих. В кол-лекции московского исследователя Д.В. Громова есть история,рассказанная бывшим мастером, работавшим на заводе им. Вла-димира Ильича:
Там была распространённая шутка, что посылали какого-нибудь мо-лодого совсем мальчика к какой-то женщине – там была женщина, ог-ромная тётка такая, басовитая, матерная. И говорили: «Возьми ведро,спроси, есть ли у неё менструация. Пускай она тебе ведро нальёт». Ну,тот шёл там, а она ему говорила всё, что думает по поводу его, по поводу там всех рабочих этого цеха и так далее [ПМ: Д.В. Громов,М., 2003]. Шутка основана на демонстрации некомпетентности новичка –
незнания им как производства, так и женщин; соответственно,вся процедура должна была обозначать приобщение его к обоим видам знания – то есть одновременно профессиональное и муж-ское посвящение. Имеется и другой вариант шутки, когда нович-ка-рабочего просят принести полную банку «компрессии», играя на непонимании им профессиональной терминологии. Профес-сиональное и генитальное знание в этом примере взаимозаменяе-мы, занимают одну и ту же структурную позицию, то есть ритуа-лы профессионального посвящения воспроизводят матрицу муж-ской инициации. Аналог описанной шутки отмечен в среде сол-дат срочной службы, которой прямо придается значение мужско-го посвящения [Лурье, 2001]. К. Банников приводит такую ар-мейскую шутку:
Старослужащий [дед] посылает молодого солдата, вручая ему трёх-литровую банку, «в санчасть за клитором»… Фельдшер говорит, что уже всё разобрали, и посылает его на склад, на складе говорят, что на-до попросить в штабе. И так далее, пока кто-нибудь из посвящённых в эту шутку не пошлёт его «за клитором» к какому-нибудь высокому начальнику, желательно из недавно переведённых в эту часть. Его ре-акция на просьбу солдата непредсказуема, и это есть кульминацион-ный момент [Банников, 2000].
62
В контексте посвятительных действий, шуток и испытаний освоение профессии обыгрывается как становление мужчины.Профессионализм символически соотносится с маскулинностью,между ними устанавливается прямая корреляция: повышение про-фессионализма усиливает маскулинность и само воспринимается как элемент доминантной маскулинности – статуса «настоящего мужчины» [Чернова, 2003. C. 279–280]. Обратных примеров – когда бы освоение профессии воспринималось как утрата муж-ского статуса – нами не зафиксировано.
Мужская идентификация профессионала Приведенные выше примеры посвятительных действий, во-
первых, моделируют образ профессионала как мужской, во-вторых, явно указывают на мужскую среду своего бытования.Курсанты МВД говорят о «мужском братстве», будущие пожар-ные (по материалам К.Э.Шумова) шутя называют свое учебное заведение «мужской монастырь» [Шумов. Традиции…]. Высокий статус в таких профессиональных коллективах осознается имен-но как мужской статус, то есть в основе профессионального ста-туса – качества, оцениваемые по шкале маскулинности: «Это ра-бота для настоящего мужчины», – как высказался о своей про-фессии пожарника майор Н. Голопапа в интервью газете «Вечер-ний Рубцовск» [Барной, 1998].
Очевидно, вышеописанные обряды должны отмечать посвя-щение не просто в профессиональное сообщество, а именно в та-кое «мужское братство» – отсюда и акцентирование мужской символики. Любопытно, что происходит, когда подобные про-фессии начинают осваивать женщины. Приведу пример одного из учебных заведений системы МВД в Санкт-Петербурге, в кото-ром обучаются курсанты обоих полов. Среди курсантов сущест-вует обычай вести блокноты, аналогичные блокнотам солдат срочной службы. Заполняются они как служебными записями,так и фольклорными текстами. Ведение таких блокнотов служит одним из средств освоения неформальных традиций, лексики,фольклора, то есть может рассматриваться в контексте посвяти-
63
тельных действий. В моей коллекции имеется блокнот TP
1PT девуш-
ки-курсанта, который открывается следующим текстом (л. 1): Открой блокнот мой друг или подруга И пробеги глазами по строкам Они написаны в часы досуга в тоске по дому,по родным местам И если ты мужского пола И этих мук не испытал Закрой блокнот,не мни страницы Не для тебя я их написала.
В целом в блокноте девушки курсанта воспроизведен текст,характерный для мужских блокнотов (как курсантских, так и сол-датских); речь в нем ведется явно от мужского лица. Измененная последняя строчка, учитывающая пол хозяйки блокнота, не риф-муется и выпадает из текста.
На еще один пример подобной переделки имеется на л. 7 то-го же блокнота:
Кто жизни солдатской не знает Солдатских сапог не носил Пусть сразу блокнот закрывает Я солдату его посвятила.
Здесь видно, как девушка адаптирует текст к своему случаю,но типовым все-таки остается мужской образец, то есть на уровне символического конструкта, модели образ курсанта остается (по умолчанию) мужским.
Конструирование фигуры профессионала как мужской (по умолчанию) проявляется иногда на уровне повседневного
TP
1PT TБлокнот получен автором в январе 2003 года в Санкт-Петербурге от брата хо-
зяйки блокнота, которая училась в училище МВД несколько лет назад. Блокнот форматом в 1/8 листа А4, из 14 листов, скреплен белой металлической пружинкой,с одной задней картонной обложкой. Листы с одной стороны оформлены бледной (так что сверху можно писать) картинкой из диснеевского фильма «Аладдин» (изо-бражение Аладдина верхом на ковре-самолете, рядом с ним джинн). Записи, отно-сящиеся к курсантскому фольклору, располагаются на украшенной стороне. На обо-роте – планы учебных помещений, разные телефоны и т. п. записи.T
64
общения – уже в профессиональных сообществах. Приведу ха-рактерный эпизод, рассказанный женщиной физиком, сотрудни-цей Физико-технического института РАН в Санкт-Петербурге:
У меня был один смешной случай, – вспоминает она. – Значит, я там была в мужской компании одна в тот момент, ну, мы там что-то вне-дряли… нас было – ну, не помню точно, сколько человек, но в основ-ном,… мужчины, я одна была. И… [один из коллег мужчин. – Т.Щ.]говорит: – Ну, – говорит, – мужики, – будем… [общий смех слуша-тельниц. – Т.Щ.] будем, значит, активнее действовать, надо нам это всё пробить… [жен., 60 лет. ПМ: Т.Щепанская, СПб., 2005]. «Мужики» звучит как собирательное обращение к коллегам-
профессионалам, даже несмотря на присутствие в их числе жен-щины. В иркутском выпуске «Комсомольской правды», вышед-шем к Женскому дню, была опубликована статья про «Женщин мужских профессий», одна из героинь которой – молодая свар-щица – «руководит целой бригадой “матерых” сварщиков. – Они меня своим мужиком называют, – смеется она, – я у них вроде авторитета» [Инешина, 2004]. В таких («мужских») профессиях круг принадлежности очерчивается термином «мужики». Даже если реально в числе работников есть женщины.
Восприятие своей профессии как «мужской» характерно для программистов, водителей такси (в том числе маршрутных). Во-дители маршрутных такси в Санкт-Петербурге почти исключи-тельно мужчины – собирателям сообщали об «одной женщине-водителе», но найти ее в Санкт-Петербурге они так и не смогли (сообщения были неконкретными). На вопрос, какие качества не-обходимы в их профессии, водители отвечали: «Опыт водитель-ский иметь… не знаю, мужиком надо быть, короче», замечая, что женщину в этой роли просто нельзя представить: «Ну, я даже не знаю… а как иначе-то? Ты себе представляешь женщину-маршрутницу? Я – нет. Это работа для мужика» [муж., 41 год.ПМ: Е. Лебедева, СПб., 2004]. Идентификация профессии проис-ходит в терминах маскулинности. Те же мотивы отмечены и впрофессиональной среде программистов: «Программирование –исключительно мужская работа (да простят меня дамы), – пишет один из посетителей Интернет-форума. – Девушка-программист –
65
это нонсенс, почти как ёж-альбинос» TP
1PT. Так же, как и водители
маршрутных такси, программисты упоминали об «одной женщи-не», которая работает сисадмином (системным администрато-ром). Мотив «одной женщины», о которой «вроде бы ходит слух», – это указание на исключительный статус женщины в профессиональной среде. Работа по специальности и образова-ние не всегда достаточны для признания профессиональной идентичности:
Есть женщины, которые работают программистами, – признает моло-дой представитель этой профессии, – а женщин-программистов не бы-вает, как не бывает женщин-водителей, есть женщины, которые во-дят… они не знают, что надо, как надо… мы говорим про женщин-программистов… я говорю, что нет ни одной из наших… [муж., 24 го-да. ПМ:М.В. Чунаева, СПб., 2004–2005]. Идентификация означает признание принадлежности к про-
фессиональному сообществу, а не только работу по профессии.Скепсис относительно возможности принадлежности к нему женщин, даже работающих по специальности, должен означать,что это сообщество воспринимается говорящим как мужское. Это мужское сообщество внутри профессионального, основанное на неформальных связях и мужской этике, вероятно, и является носителем традиций, фольклора, о которых выше шла речь,и которые способствуют сохранению образа «мужской профес-сии» даже в тех случаях, когда значительную часть ее составляют женщины. В приведенных выше примерах есть профессии стати-стически представленные, в основном, мужчинами: программи-сты, водители маршрутных такси, пожарные. Среди научных со-трудников ФТИ женщины составляют около 20 % [Шмидт, Ку-ницына, Мурашова, Соколова, 2004], а среди медиков – боль-шинство. Тем не менее в фольклоре образ профессионала во всех этих сферах моделируется как мужской.
Коллективное застолье – еще одна ситуация, где можно об-наружить моделирование гендера. Если в рабочей обстановке не
TP
1PT Форум на сайте «TCarneValeT», тема «мужчины и женщины», сообщение от
27.12.2004 // http://www.karnawal.ru/forum/index.php?showtopic=22.
66
везде, но действует норма организационной культуры, ориенти-рованной на «бесполого» работника (точнее, предусматривающей нормы общения, независимые от пола), то во время коллектив-ных застолий, как и других форм досуга, эта норма уже не дейст-вует, и происходит разыгрывание «традиционных» (принимае-мых за таковые патриархатных) сценариев репрезентации пола,словно в компенсацию гендерно нейтральной трудовой повсе-дневности. Это проявляется в распределении ролей при подго-товке застолья (мужчины отвечают за выпивку, женщины готовят закуску) и уборке помещения после торжества, в распределении мест за столом и порядке провозглашения тостов.
Смысловой пласт застолья концентрируется в тостах, среди которых есть специфичные для каждой профессии. Прежде всего,это тосты собственно «за профессию», причем в части из них профессиональная деятельность соотносится с моделью «сексу-альной связи». Примеры – тост связистов: «За связь без брака!» или «Лучше связь без брака, чем брак без связи!» [Сергеев, 2003]. А.Д. Сахаров цитировал в своих мемуарах тост, который произ-нес М.И. Неделин, военный руководитель испытаний термоядер-ного «изделия», по поводу успешного проведения испытаний в ноябре 1955 года:
Разрешите рассказать одну притчу. Старик перед иконой с лампадкой,в одной рубахе, молится: «Направь и укрепи, направь и укрепи». А старуха лежит на печке и подает оттуда голос: «Ты, старый, молись только об укреплении, направить я и сама сумею! Давайте выпьем за укрепление» [Сахаров, 1990]. Имелось в виду, конечно, укрепление военной мощи Отчиз-
ны. Метафорой профессионального успеха становится мужская сексуальность. Если же профессионал оказывается в противопо-ложной – «женской» – позиции, это воспринимается как насмеш-ка. К.Э.Шумов цитирует тост пожарников: «Давайте выпьем за пожарную охрану, которая, как старая дева, никому не нужна,но всегда готова» [Шумов, Традиции…]. В тосте электриков «женская» позиция профессионала как объекта означает профес-сиональную неудачу:
67
Расспрашивают одного электрика, интересная ли у него профессия? –Профессия у меня, конечно, интересная, но опасная. Соединишь,к примеру, не те провода, и тебя трахнет! Так выпьем же за то, чтобы в Новом году жизнь не вступала с нами в интимные отношения![Стопка.ру]. Все это нехарактерно для «женских» профессий. Бухгалтеры,
большинство которых составляют женщины, поднимают тост:«За ваше счастье личное, наличное, безналичное», – ставя в один ряд предмет своей профессиональной деятельности (наличные)и личное счастье, то есть семью, брак, отношения с близкими.Учителя (еще одна статистически «женская» профессия) в качестве завершающего торжественную часть застолья тоста отмечают тост «За любовь!». Впрочем, последний тост отмечается в разных средах и, как кажется, не связан с определенной профессией.
Другая тема профессиональных тостов – за отсутствующих за столом (находящихся в отъезде или погибших) коллег – сим-волически восстанавливает полноту профессионального сообще-ства: у моряков – «За тех, кто в море!», у рыбаков – «За тех, кто на промысле!», у этнографов, геологов и представителей других полевых профессий – «За тех, кто в поле!». Военные пьют этот тост: «За мужиков!», причем в боевых частях, понесших потери,пьют стоя, не чокаясь – вспоминая тех, кто погиб. В более мир-ной обстановке военные пьют: «За нас, за мужиков!» Этот тост может быть поднят и просто за всех коллег: «За тех, кто работает в профтех!» [Старцев, Львов, 2001] – и за профессию в целом:так, коллектив театра поднимает тост: «За святое искусство!».
Примечательно, что если за столом присутствуют как муж-чины, так и женщины, то вместо этого (или после него, как свя-занный с ним) может быть поднят тост: «За милых (вариант: при-сутствующих здесь) дам!» (как коллег, так и прочих женщин,оказавшихся за праздничным столом). Этот тост неспецифичен для разных профессий и структурно замещает специфические профессиональные тосты «за тех, кто…». Женщины чествуются независимо от их профессии, то есть акцентируется не их про-фессиональный, а гендерный статус. В то же время тост: «За му-жиков!» – стоит в одном ряду с профессиональными («за тех,кто…»), не замещая их (поскольку этот тост специфичен для во-
68
енных), а продолжая и маркируя весь ряд. Уместно вспомнить,что в неформальном дискурсе одной из самых распространенных моделей профессиональной деятельности является «бой», а воен-ная служба, в свою очередь, моделирует идеал «настоящей муж-ской» профессии. Тосты «за женщин» и «за профессиона-лов / профессию» воспринимаются как гомологичные, нередко взаимозамещаемые. Их соотношение хорошо иллюстрирует тост,который был провозглашен на банкете по поводу одной из кон-ференций, где присутствовали представители разных социо-гуманитарных наук, от этнографов и социологов до фольклори-стов и искусствоведов. Тост звучал так:
В театре, в котором я работал… третий тост принято было пить за свя-тое искусство. Но, поскольку сегодня, вчера и позавчера действо сугу-бо маскулинное, я предлагаю выпить самый маскулинный тост из всех имеющихся: за присутствующих здесь дам! [общий одобрительный смех] [муж., ок. 35 лет. ПМ: Т.Б.Щепанская,М., 2003]. Собственно, оба варианта конструируют позицию профес-
сионала (провозглашающего тост) как мужскую. Тост «за про-фессию» пьется от имени «нас, мужиков» («мужики» стоят в ряду других профессионалов); «за дам» – тоже от имени мужчин,а женщины оказываются в роли «иных». В некоторых «сугубо мужских» сообществах (например, в археологической разведке,на маршруте) пьют: «За отсутствующих здесь дам!», что уже яв-но выдает мужскую природу этого тоста. Если учесть, что кол-лективное застолье является формой экспликации неформальных отношений и структур профессионального сообщества, то прихо-дится признать, что на символическом уровне структурная осно-ва этого сообщества моделируется как «мужская» (мужская по-зиция профессионала моделируется как нормативная, подразуме-ваемая по умолчанию).
Инструментарий: проекция гендера
Рассматривая символические репрезентации гендера, обра-тим внимание на символику материальных атрибутов профессии,прежде всего, инструментария. Последний в фольклоре и просто повседневном дискурсе нередко одушевляется и, мало того, ра-бочим инструментам приписывается пол.
69
Так, у рок-музыкантов отмечен обычай давать музыкальному инструменту имя или название, указывающее на мужской или женский род.
Один владелец бас-гитары называет её «басом» и обращается с ним по-мужски, а другой… свой инструмент называет «басухой» и будет общаться с ним как с гёрлой [герла, от англ. girl – «девушка, девочка», в молодежном сленге обозначение девушки или молодой женщины своего круга] [ПМ: З. Бредова, СПб., 1998–1999]. Приписывание пола связано с одушевлением инструмента,
приданием ему качеств партнера по коммуникации, как бы живого существа. Теоретически «пол» может быть и мужским, и жен-ским, но в имеющихся в нашем распоряжении интервью музы-канты мужчины говорят об инструменте как «женщине».При этом отношения со своим музыкальным инструментом мо-делируются как любовные или супружеские, в терминах «люб-ви», «верности», «близости». «Лютне, как женщине, нужна вер-ность» – так озаглавила И. Бондаренко интервью с исполнителем музыки барокко Антоном Бирули.
Как-то я хотел бросить играть на лютне и поделился своими мыслями с другом. И он мне сказал: «Ты знаешь, это всё равно, что сказать женщине: может быть, завтра я тебя брошу, а может, не брошу… сам понимаешь, что тогда будет». Надо быть верным, и всё получится [Бондаренко, 2000. С. 5]. К той же модели описания своего отношения к инструменту
обращается и рок-гитарист В. Гапонов:
Понимаешь, когда в твою жизнь входит гитара, то всё остальное, кро-ме неё и музыки, отходит на второй план. Разве можно бросить лю-бовь? Да и работа приносит ни с чем не сравнимый кайф [ПМ:Н. Выродова, Е. Задорожная, 2002]; Вот я недавно купил новую гитару, – говорит другой гитарист, Алек-сей Летуновский, лидер рок-группы «Ливень». – Не скажу, конечно,что у меня с ней роман, но что-то похожее. Бережёшь её, конечно, ле-леешь [ПМ: Н. Выродова, Е. Задорожная, СПб., 2002].
70
Собственно, гитарист здесь обсуждает не столько пол, сколь-ко свое отношение к инструменту, а пол появляется постольку,поскольку это отношение моделируется по образцу любовно-брачных отношений.
В рамках этой модели приписывание рабочему инструменту женского пола означает конструирование маскулинной позиции профессионала. Это хорошо видно в интервью с водителем пе-тербургского такси. Описывая отношение профессионала к ма-шине, он говорил об уважении, необходимости «любить и ухажи-вать», и о том, что на заботу машина откликается как живая:«Намоешь машину, там, протрёшь, – и такое ощущение – она идёт иначе: легче движения, ну всё это». Услышав о «любви»и «заботе», я решила проверить возникшую у меня ассоциацию и задала вопрос, есть ли у машины пол, и если да, то какого она пола.
Ну вообще для меня – женского, – уверенно ответил мой собесед-ник, – потому что я мужчина… естественно, для меня она женского рода, может, потому, что я мужчина… она для меня девочка: «девоч-ка, поехали!» – бывает, просто в хорошем настроении – там, «девочка,ну…»; это интересно, это игра, так же, как в жизни своя игра, чем она будет приятней, тем легче… [муж., ок. 35 лет. ПМ: Т.Щепанская,СПб., 2005]. Здесь «женский» род автомобиля представлен как элемент
маскулинности, «мужского» отношения к машине как «женщи-не». Суть этого отношения – власть, патерналистски понимаемая как власть-забота, позволяющая рассчитывать на ответную бла-годарность, выражающуюся в хорошей работе. Моделью такого рода власти служит отношение к женщине.
Настаивая на том, что приписываемый «род» машины зави-сит от пола водителя, мой собеседник утверждает, что водители-женщины обращаются к машине по-другому и даже по-другому гладят ее.
Женщина-водитель, даже как бы на этом сама женщина акцентирова-лась, – она вот: сидишь в машине, что-то разговариваешь – руки, и…они гладят машину иначе… сама женщина зафиксировала. Она, изви-
71
ните меня за такое сравнение, почему-то в основном гладит, э-э… пе-реключение передач. Понимаете? А мужчина просто руль, и на руле есть выемки – и вот поглажу. Многие садятся в машину и сначала по-гладят. Я, бывает… заводишь, как скажешь: «Ну, заинька, поехали». Естественно, для меня она женского рода, может, потому что я муж-чина [муж., ок. 35 лет. ПМ: Т.Щепанская, СПб., 2005]. Таким образом, «пол» инструмента конструируется в данном
случае как проекция гендерной идентификации самого его вла-дельца. Подобный феномен отмечен и в других профессиональ-ных средах. Физики, например, говорят о личном – «более, чем техническом» – отношении к установкам, на которых проводят эксперименты:
Мы разговаривали, как с одушевлённым… ну, например, вот у нас один технолог называет её – у нас две установки: одна моя, другая его – он называет «моя девочка»: «Ну что ты, моя девочка, сегодня за-хандрила?» [жен., 40 лет. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. «Пол» инструмента, однако, может быть не только проекци-
ей, но и продолжением идентичности своего обладателя, когда,например, инструмент профессиональной деятельности метафо-рически изображается как один из органов тела.
В фольклоре программистов [Маслов] компьютер может об-ладать как женскими, так и мужскими характеристиками. С од-ной стороны, женскими: компьютер ласково называют писишка (от PC – personal computer), а его составные части – мама (мате-ринская плата) и клава (клавиатура); процесс работы на клавиатуре обозначается выражением батоны жать, заимствованным из тю-ремного сленга, где означает эротическое взаимодействие с жен-щиной. Программист, работающий на языке программирования Си, обозначается шутливо насильник, а само программирование соотносится с любовью: «Программирование (как и любовь) всего лишь одно слово. Но за ним скрывается множество занятий»[Маслов]. В этом случае женская метафорика компьютера предпо-лагает мужскую позицию работающего с ним программиста TP
1PT.
TP
1PT Некоторые тексты дублируются в мужском и женском варианте. В противовес
тексту: «Почему компьютер лучше женщины» – появлялись феминистские пере-делки типа: «Почему компьютер лучше мужчины» или даже «огурца». Однако та-
72
С другой стороны, тот же компьютер имеет и мужские иден-тификации: электронного друга называют писюк (от того же PC), а когда он перестает реагировать на запросы пользователя, гово-рится, что он повис. Наличие связи между двумя машинами через модемы называется карьер, и лучшее пожелание тем, кто работа-ет в электронных сетях, – «Чтоб всегда карьер стоял!» (модифи-кация известного мужского тоста: «Чтобы (…) всегда стоял!» – с пожеланием устойчивой потенции). В программистском фольк-лоре имеются и более прямые указания на мужскую идентификацию электронной машины:
Вопрос: что общего между ЭВМ и половым членом? – Ответ: оба имеют два устойчивых состояния – либо стоит, либо висит [Маслов,Шумов, 2003]. В этом случае «пол» приписывается машине уже не как
«партнеру» программиста по коммуникации, а как вынесенному вовне его «рабочему органу», то есть «мужская» характеристика машины здесь не подразумевает женской позиции работающего на ней человека, поскольку вообще не предполагает партнера.Следовательно, и в данном случае позиция программиста конст-руируется как маскулинная, а «пол» инструмента только усили-вает, достраивая, его маскулинность, является вынесенным вовне ее продолжением и символом.
В программистском фольклоре мужская идентификация ра-бочей машины обыгрывается как продолжение образа самого программиста, внешний «орган» его тела, в то время как женская метафорика ЭВМ отводит машине место (зависимого) «партне-ра» по коммуникации. В том и другом случае метафоры «пола»поздразумевают (а следовательно, поддерживают конструкцию)позиции профессионала как маскулинной. Надо заметить, что профессия программиста до сих пор остается одной из тех, где ярко выражено мужское доминирование как по численности ра-ботников, так и на символическом уровне («мужская» профессия).
кие переделки имеют вторичный характер. Идентификация же машины с «люби-мой» или «женой» – весьма продуктивный мотив, реализующися во множестве раз-нообразных вариантов.
73
Приписывание «пола» рабочему инструменту означает, что конструкции гендера размещаются в материальной среде профес-сии и тем самым включаются в комплекс профессиональной дея-тельности. Выполнение работы (программирование, мойка и пе-реключение скоростей машины, игра на гитаре) одновременно становится и «деланием гендера».
Несмотря на то, что приписываемый рабочему инструмента-рию пол может быть как «мужским», так и «женским», нет пол-ной симметрии между мужскими и женскими образами профес-сионала, которые подразумеваются такой метафорикой. В боль-шинстве имеющихся в нашей коллекции случаев профессионалу остается мужская позиция. Варианты отношения к инструменту с позиции женщины конструируются по аналогии или контрасту с мужскими, но как производные от них и чаще всего логически незавершенные. Так, в приведенном выше примере с водителями такси женщины, как утверждает рассказчик, по-другому гладят свою машину, но он ничего не говорит о «мужских» именах ав-томобиля и т. п. Любопытно было бы наблюдать, как подобная система идентификаций может измениться со временем, скажем,по мере возрастания числа женщин среди программистов или во-дителей и по мере того, как эти профессии будут становиться ме-нее «мужскими».
Пока, однако, можно заметить, что метафоры «пола» инст-румента характерны именно для мужских (на символическом и численном уровне) профессий. Вероятно, фемининность конст-руируется другими путями, не через символизацию инструмента профессиональной деятельности.
Обобщая приведенные материалы, можно заметить, что в об-рядах посвящения, застольных текстах, символике инструмента-рия обнаруживается одна и та же доминирующая тенденция: об-раз профессионала моделируется (по умолчанию, то есть в нор-ме) как мужской. Можно предположить, что описываемые тради-ции формировались в мужской профессиональной среде и даже в условиях притока женщин продолжают поддерживать образ профессии как «мужской».
Табуирование женского
74
Конструкции гендера включаются и в контекст представле-ний о пространстве, где протекает профессиональная деятельность.Сохраняются проявления его табуированности для женщин.В числе профессиональных примет бытуют приметы об опас-ности женщин, причем речь может идти как о посторонних жен-щинах, так и родственницах, и клиентах, и даже женщинах-про-фессионалах.
Табуированность для женщин пространства профессии нахо-дит выражение в известном поверье о «женщине на корабле»(к несчастью). Оно переносится на самые различные корабли,средства передвижения – от воздушных до космических. У по-жарных отмечен запрет брать женщин в пожарную машину. Кро-ме того, накануне дежурства нельзя вступать с женщинами в ин-тимные отношения и даже просто спать в одной кровати с женой [Шумов, Традиции…]. У космонавтов, по свидетельству К. Козеева,присутствие женщин на космодроме расценивается как дурная примета:
Это ещё со времен Королёва пошло. Он запрещал появляться женщи-нам на стартовом комплексе, около ракеты. Сейчас с этим не так стро-го, ведь сколько женщин побывало в космосе! Но всё равно этого не-гласного правила стараются придерживаться [Никулин, 2001]. Как утверждает К. Козеев, до сих пор не принято приглашать
на старт родственников: жен и родителей участников космиче-ского полета. Запрет на присутствие в профессиональном про-странстве женщин здесь сопрягается с запретом на присутствие родственников, членов семьи, смысл которых – поддержание разделения, символического барьера между семейной и профес-сиональной сферами. У бортпроводников гражданской авиации существует негласный запрет брать с собой фотографии близ-ких – считается, это «очень нехорошая примета». В полете не принято также обсуждать личную жизнь, семейные отношения – все это можно, но только на земле [жен., 24 года. ПМ: Т. Щепан-ская, СПб., 2005]. Семья, точнее, жена, в некоторых поверьях фи-гурирует как источник мистической опасности. У летчиков суще-ствует поверье о «черной вдове» – женщине, похоронившей од-
75
ного или двух мужей. Женитьба летчика на такой женщине мо-жет стать причиной необъяснимых авиапроисшествий и катаст-роф [Старобинец, 2001. С. 11]. Работники аэропорта Пулково рассказывают, что у футболистов петербургской футбольной ко-манды «Зенит» существует обычай не брать на борт женщин – они будто бы приносят несчастье (проигрыш, неудачную игру). Поэтому «Зенит» сопровождает специальная мужская бригада бортпроводников [жен., 24 года. ПМ: Т.Щепанская, 2005]. По-добные представления конструируют символический барьер ме-жду сферами профессии и личной жизни профессионала.
Однако запрет на появление в пространстве професии, на-правленный на знакомых и родственниц, в ряде случаев перено-сится и на женщин, занятых профессионально в данной сфере деятельности. Так, в водительской среде очень распространено представление об опасности женщины за рулем, подкрепляемое поговорками типа:
Женщина за рулём – это обезьяна с гранатой [ПМ: М. Морева, 2002]; Баба за рулём хуже, чем фашист на танке!; [она] на пяти цилиндрах едет [имеется в виду, что двигатель четырехцилиндровый] [Соколов,1999]. Эти представления проецируются в сферу профессиональной
деятельности, например, водителей такси.
В наше время это вообще модно: женщина за рулём, – говорит опыт-ный водитель такси [мужчина]. – Они ездят вообще непонятно… Ну,у женщины своя логика, и мне трудно объяснить, никогда не внедрял-ся в изучение этого, поэтому… ну, я не знаю, почему-то именно жен-щины путают «лево» с «право». Почему – не могу объяснить. Она включит правый поворот, может поехать налево… это природа. По-этому, может быть, и играло свою роль, когда действительно, раньше не давали возможность женщине учиться на водителя. Ну, на катего-рии-то точно… [муж., ок. 35 лет. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Характерно, что ссылки на мифологему «особой природы»
женщин служат здесь обоснованием профессиональной сегрега-ции, ограничения доступа женщин в профессию. Среди профес-сионалов-таксистов распространено представление об опасности
76
женщины и в другой профессиональной роли – инспектора до-рожного движения. Обсуждая тему взаимоотношений таксистов с сотрудниками дорожной инспекции, я задала вопрос: есть ли сотрудники, которые пользуются у водителей нехорошей славой?И получила ответ:
Ну да, какое-то время на Московском проспекте дежурила женщина, ядаже знал имя-отчество её – именно женщина была сотрудник ГАИ, –был вот такой слух, что это очень жёстко: если уже остановила – всё:ни деньги, ничо не поможет. – А что – штраф что ли? – Да, именно штраф жёсткий, и составление протокола и так далее [муж., ок. 35 лет.ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Отдельный пласт профессиональных примет связан с клиен-
тами, точнее, с первым клиентом. Женщина и в этой роли марки-руется отрицательно. У торговцев, официантов, водителей такси,врачей зафиксировано поверье, что первый клиент мужчина – хорошая примета, сулит удачный день. У торговцев, если первую покупку сделал мужчина, считается, что «будет торговля», «ак-тивная продажа», товар «легко уходит» [Петрова,1998]. Среди занимающихся мелкой торговлей, особенно в уличных павильо-нах, распространен обычай после первой удачной и крупной по-купки обмахивать полученными деньгами оставшийся на прилав-ке товар: считается, после этого он легко «уйдет». По некоторым свидетельствам, обмахивать товар можно только в том случае,если первую покупку совершил мужчина [эта и целый ряд других примет, связанных с торговлей см. на сайте О. Винокурова, 2003]. У таксистов, если первым сел пассажир-мужчина, не будет кида-лова (отказа клиента платить по счету), «минималок» (близких и невыгодных поездок), а будут дальние поездки и клиенты, го-товые платить, не обсуждая стоимость поездки. Официанты, если первыми за столик сели мужчины, ожидают, что весь день будут хорошие чаевые. У хирургов, если первым пациентом был муж-чина, то, как говорят, весь день операции будут проходить удач-но, без осложнений, будут хорошо срастаться раны [Чередникова,Кром, 2004] [ПМ: И. Ивлева, СПб., 1998; ПМ: О. Козина, Сара-тов, 2004; В.Монич, СПб., 2000; Т.Щепанская, СПб., 2004]. Пер-вый клиент женщина сулит, соответственно, неудачный день.
77
У хирургов особенно плохая примета связана с пациенткой-блондинкой [см.: Сайт О. Винокурова, 2003]. Предпочтение кли-ентов мужчин у медиков закладывается, по всей видимости, еще в период обучения в медицинских институтах. С занятиями по препарированию трупа в анатомическом отделении у студен-тов связана примета, что сдача зачета и вообще хирургические манипуляции проходят удачнее, если препаратом служит тело мужчины [жен., 26 лет, 4 курс ПМУ (1-го Мед. ун-та), СПб. ПМ:В.Монич, 2000].
Рассматривая приметы об «опасности» женщины в роли кли-ента, можно обратить внимание на то, как пол клиента соотносят с полом и брачным статусом профессионала. Приведем пример из воспоминаний одной из девушек, обучавшихся вождению ав-томобиля. Инструкторы, как правило, мужчины, рассматривают женщин как трудных клиентов:
Инструктор был мужчина. Да, причём, когда у меня был экзамен,очень волновался и как-то сказал, что ужасно учить женщину водить – это настолько страшно.
При этом инструктор высказывал неудовольствие тем, что его ученица все время хваталась за его кресло в автомобиле,и говорил, «что он мне не муж ведь, ничего» [жен., 20 лет. ПМ:Е.В. Лебедева, СПб., 2004], очевидно, указывая на недопусти-мость переноса в профессиональную сферу образцов поведения,характерного для любовных или супружеских взаимоотношений мужчины и женщины.
Другой пример – из практики учителя иностранного языка в средней школе. Придя в школу совсем молодым человеком (на момент интервью ему 20–22 года, и он работает в школе око-ло года), мой собеседник столкнулся с так называемым «трудным классом». Причем более опытные коллеги ему предсказывали эти трудности заранее:
Когда я после первого же или второго урока пришёл в курилку, я ска-зал: «Насколько интересен класс “В”». От некоторых преподавателей тут же я услышал смешки в мою сторону... они сказали: «А. [имя], “В” класс, конечно, хороший, но, тем не менее, ты с ними намучаешь-ся»… Это был раз. Потом после третьего урока, я имею в виду, после
78
третьего дня в школе, я пришел и сказал: «Как же мне сложно общаться с седьмым “В”». В ответ мне сказали: «Естественно. Там же одни девочки»,
то есть «трудным» признан (причем заранее) «женский» по со-ставу класс. Характерно, что коллеги связывают эту «трудность»с полом и молодостью самого учителя: «Они мне сказали: – А.,ты молодой, они все в тебя влюбились». Затем, уже наедине, одна из учительниц сказала:
Это нормально совершенно. Когда… училась в школе, к нам пришёл один молодой учитель – мы в него были влюблены… это естественно,воспринимай это как непременное условие [муж., ок. 20–22 лет. ПМ:Т.Щепанская, СПб., 2004]. Трудности, возникающие у молодого учителя, его коллеги
с готовностью интерпретируют исходя из пола учащихся. В этой интерпретативной схеме (задействованной и в первом примере)различие пола профессионала и клиентов автоматически означает проецирование на их отношения матрицы брачных отношений (супругов или возлюбленных) и одновременно их табуацию.
Обратим внимание, что вся эта схема действует, когда в роли профессионала выступает мужчина, то есть клиент и профессио-нал разнополы. Но, например, в мелкой торговле, где получила распространение примета о первом покупателе, большинство продавцов – женщины, и, казалось бы, это противоречит выстро-енной выше схеме. Однако в их фольклоре также можно видеть моделирование представление о продавце как мужской роли.Один из магических приемов: «Раскладывая товар, сказать: “То-вар мой лицом, сам(-а) я молодцом”» [см.: Сайт О. Винокурова,2003] [курсив мой. – Т.Щ.]. Кроме того, в женской среде та же примета получает иную мотивировку: считается, что первый по-купатель женщина – плохая примета, особенно если эта женщина «скандальная», иногда таким женщинам приписывается дурной глаз. Таким образом, в интерпретации уже не используется мат-рица отношений между полами, зато актуальными оказываются представления о неуживчивости женщин и их магических спо-собностях.
79
Однако по умолчанию в отношениях «профессионал – кли-ент» роль профессионала считается мужской, что может быть символическим выражением асимметрии (иерархичности) тради-ционных во многих областях деятельности патерналистских от-ношений. Характерный пример реализации такой модели из шу-точного текста, озаглавленного «Библия» программистов:
Но надоело Ему создавать программы самому, и сказал Бог: создадим программиста по образу и подобию нашему, и да владычествует над компьютерами, и над программами, и над данными. И создал Бог про-граммиста, и поселил его в своем ВЦ, чтобы работал. И сказал Бог: не хорошо программисту быть одному, сотворим ему пользователя, соот-ветственно ему. И взял он у программиста кость, в коей не было мозга,и создал пользователя, и привёл его к программисту; и нарёк програм-мист его юзером [Сайт «Санкт-Петербургская региональная…», 1998]. Пара профессионал (программист) – клиент (юзер) описывается
по образцу сюжета о сотворении первых людей; программисту да-ется «власть» и мужской статус, пользователю-клиенту – соот-ветственно, женский. Бытование примет о женщине как «труд-ном» клиенте в разных профессиональных средах (как с числен-ным преобладанием мужчин, так и женщин профессионалов) мо-жет быть частью этой матрицы, где роль профессионала в общем виде рассматривается как «мужской» (властный, субъектный) по-люс патерналистски организованных отношений.
Несмотря на различие мотивировок, в дискурсе разных про-фессий сохраняются признаки символического исключения жен-щин из пространства профессии. По всей вероятности, речь идет об отрицательном маркировании женского как такового, как части общей стратегии символического конструирования барьера между сферами профессиональных и семейно-брачных отношений.
Деконструкция фемининности Итак, в неформальном дискурсе профессий маскулинность
находится в прямой корреляции с профессионализмом: повыше-ние профессионального уровня одновременно означает и утвер-ждение маскулинности. По отношению к фемининности наблю-дается обратное соотношение. Демонстрация профессиональных
80
успехов может быть истолкована как дефеминизация: актуализи-руются такие фольклорные схемы, как приписывание женщине «мужского склада ума», «мужского видения» или «мужского ха-рактера». Опытнейший профессионал, доктор технических наук,работающий в ФТИ, не отрицает убеждения в том, что мужчины,как правило, в технике разбираются лучше. Не отрицает он и на-личия исключений:
Я знаю женщин, которые в технике понимают не меньше, чем мужчи-ны. Я знаю таких женщин. Но у них такой склад мышления, я бы ска-зал, мужского. Они рационально смотрят на… глазами мужчин вот на данный предмет [муж., ок. 60 лет. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Работник-мужчина, совершенствуясь и продвигаясь в профес-
сии, тем самым утверждает и свой мужской статус. Ситуация женщины-профессионала асимметрична: рост профессионализма и даже признания ее как профессионала отнюдь не означает автома-тически повышения ее женского статуса. Молодая петербурженка,работающая в аппарате одной из политических партий, рассуж-дает о статусе женщины в политике:
Я слышала одну шутку. Она относится к двум: женщине-политику и женщине-физику. Чем схожа женщина-политик и морская свинка?Подобно тому, как морская свинка не имеет отношения ни к свинке,ни к морю, так же женщина-политик не имеет отношения ни к поли-тике, ни к женщине… Мне это вообще-то говорили про женщин-физиков в моем институте. Но я переделала, и всем очень понравилось [жен., 1983 г. рожд. ПМ: Д. Лапатухина, 2002]. Любопытно отметить, что эта шутка звучит из уст молодой
женщины, обучающейся в техническом вузе (ИТМО) и участ-вующей в политической деятельности; видно, как стереотип про-фессиональной среды, усвоенный в процессе обучения техниче-ской специальности, транслируется в другую сферу деятельно-сти – политику.
Стигма дефеминизации включается уже при вступлении женщины в профессиональную сферу, давая себя знать еще на этапе обучения, в студенческом фольклоре. Женщине-профессионалу в дискурсе разных профессий приписывается недостаток или от-
81
сутствие красоты, способности к материнству, – то есть качеств,составляющих традиционный конструкт «женственности».
Архитектура – не женская профессия, – говорит в интервью женщина-архитектор, поясняя: даже среди молодёжного сленга «архитектор» –«некрасивая девушка», так как из-за постоянного напряжения портит-ся зрение, очки с большими диоптриями… нет времени следить за со-бой – на голове наспех собранный пучок волос… Пальцы в мозолях от карандашей. В общем, не очень привлекательная картина [ПМ:Аверичева, СПб., 2002]. Мотив «некрасивости» коллеги женского пола присутствует
и в студенческом фольклоре инженерных и физических вузов:
Проходят два парня мимо двух девушек на физтехе: – Физтешки! –Сами уроды!!! Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски (из фольклора МАИ) [Сайт студентов Московского…]. Неожиданным для меня было появление подобных мотивов
у будущих медиков: «Лучше сесть на кучу шлака, чем <…> девиц с лечфака», – это из фольклора Медицинского университета [ПМ:В.Монич, СПб., 2000].
Мотив «некрасивости» женщины может быть связан с отсут-ствием мужского взгляда, формирующего образ «красивой жен-щины». В профессиональной сфере взгляд мужчины обращен к предмету его деятельности, он занят работой – «красота» не то чтобы деконструируется, она просто не начинает существовать.К этим мотивам прибегают, например, программисты, объясняя малочисленность в своей среде женщин:
Женщине нужно внимание, от программиста какое внимание, он си-дит, вот, монитор, в него смотрит. Женщина может хоть раздетой хо-дить, мало кто заметит сначала. Программисты конторы типично си-дят и смотрят в компьютер [ПМ:М.В. Чунаева, СПб., 2005].
В этом варианте отсутствие мужского взгляда означает не-сформированность самогó женского образа – отсутствие женщин в среде коллег представлено как ее результат. Любопытно отме-тить онтологизацию символической конструкции (точнее декон-струкции) фемининности: отсутствие образа женщины (который в данном понимании может быть сформирован только мужским
82
взглядом, восприятием сотрудницы «как женщины») отождеств-ляется с отсутствием женщин-работников в реальности. Мотив «отсутствия взгляда» / дефеминизации актуален как в «мужском»сообществе программистов, так и в «женском» учительском кол-лективе – там из-за отсутствия или малочисленности мужчин.Фольклорный образ учительницы не избежал дефеминизации,проявляющейся чаще всего в подчеркнуто бесполом стиле одеж-ды. Тема одежды учительниц обыгрывается в профессиональных байках и анекдотах. Приведу пример – рассказ, представленный рассказчиком как случай «с одной учительницей»:
Приходит одна учительница в магазин и спрашивает: Сколько эта кофточка стоит? – а продавщица ей отвечает: Вы что, женщина, такие же только учителя носят! Вы что, учитель что ли?! [муж., ок. 20–22 лет. ПМ: Т.Щепанская, СПб., 2004].
Сами женщины этой профессии в интервью нередко призна-ют существование «клейма» учительницы, стремление, но невоз-можность от него избавиться:
Стараюсь не иметь отпечатка преподавателя в одежде, но это не все-гда получается. Лишь летом я позволяю себе освободиться от серой одежды. Вещи покупаю только для работы, предпочитаю классический вариант, на века, два-три костюма [жен., ок. 40 лет. ПМ: М.В. Пшенай-Северина, 1999]. Женщинам, посвятившим себя профессии, приписывается
утрата (или опасность утраты) и других значимых женских ка-честв, прежде всего, способности к материнству. Так, в среде акушеров-гинекологов бытует представление,
что трудно принимать роды у педагогов, женщин творческих профес-сий и врачей, – это говорит женщина-гинеколог с большим стажем ра-боты в системе родовспоможения. – Педагоги все нервные, экзальти-рованные и ведут себя очень шумно. Творческие люди очень эмоцио-нальны: увидят какую-нибудь медицинскую аппаратуру и сразу в слёзы,да ещё неадекватно на просьбы реагируют. Про врачей я вообще мол-чу – у них почему-то чаще всего случаются осложнения [Кудрявцева]. Убеждение в том, что женщинам их профессии особенно
трудно рожать, отмечено отнюдь не только у представителей
83
профессий, символически относимых к «мужским». Наиболее распространено оно в среде медиков, а также у стюардесс, про-фессия которых как раз считается «женской»:
Наша работа, она сажает вот жизнедеятельность женщины, в принци-пе, и сажает также почки, – утверждает молодая бортпроводница. –Высота, перепады такие давления, естественно, вот. И, ну, вероятно,мы какую-то долю радиации все-таки схватываем… большинство просто женщины в семьях не имеют своих детей. И по статистике…семьдесят процентов, которые берут из детдомов, и не по одному, а да-же по два [улыбается]… происходят конечно же внутренние, говорят,жуткие изменения [жен., 24 года. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. «Красота», «фертильность» – элементы фемининности – ис-
ключаются из образа женщины-профессионала или представлены в фольклоре как противоречащие профессионализму. Эта страте-гия может проявляться в реальных ограничениях, накладываемых на проявления феминности правилами профессиональной дея-тельности.
Существуют правила, определяющие внешний вид работни-ка, причем заложенные в них ограничения касаются, в первую очередь, внешних проявлений фемининности. Для некоторых профессий подобные ограничения фиксируются в виде формаль-ных инструкций. Так, стюардессам положена
по уставу «форменная фирменная одежда», – говорит молодая пред-ставительница этой профессии, подчеркивая, что инструктор, присут-ствующий на борту, проверяет даже мелкие детали костюма. – Строго платочки должны быть завязаны на один манер в бригаде. То есть ес-ли две рядом бригады вылетают, у одной бригады так платочки (но одинаково), у другой так – ничего страшного. Но на самолете должно быть одинаково. В этом высший профессионализм считается,что полное совпадение… Это видеть надо, здесь очень сложно [смех]. Не допускается длина юбки выше колен. Не допускается высокий каб-лук… Вот. Очень строго относительно причёски. Мне вообще очень сложно, потому что тот, кто составлял в своё время эти критерии, –видимо, это была женщина со стрижкой, потому что мне мои косы убирать в маленькую, аккуратно, чтоб она… – ну, делается хвостик аккуратный или заплетается кичка красиво, всё шпилечками это об-рамляется, вот, причёска не должна касаться воротничка рубашки.
84
Вот. Очень обидно, что тоже ногти должны быть определённой дли-ны… потому что мы вроде как связаны с питанием по санитарным нормам, вот… [жен., 24 года. ПМ: Т.Щепанская, СПб., 2005]. У этнографов и фольклористов, особенно молодых, сущест-
вует стереотип того, как должна выглядеть женщина в экспеди-ции, во время работы с информантами: длинные ситцевые юбки,платочки на головах; сами они посмеиваются, но, тем не менее,исправно воспроизводят этот стереотип. Не принято появляться в деревне в шортах или короткой юбке, – считается, что это мо-жет настроить местных жителей против приезжих и не способст-вует успешной коммуникации.
Устоявшийся стереотип внешнего облика связан с професси-ей школьной учительницы. На этот счет не существует таких формальных инструкций, как у бортпроводниц – определенные требования к внешности поддерживаются самой профессиональ-ной средой и разделяются большинством представителей этой профессии.
Учитель в рамках должен, более строго так одеваться, – говорит учи-тельница математики. – Чтоб такой пестроты не было. Ещё не хватало,чтобы голое что-то торчало. Я всегда сама признаю тёмный тон, чтобы кофточка была. Как раньше в кино мы видели: учитель в основном в костюмчике. И старалась тоже так одеваться [жен., 66 лет. ПМ:А. Воронина, СПб., 2004]. Примечательна ориентация на культурные образцы, образы
профессионалов, созданные масс-медиа.В интервью упоминаются случаи, когда открытая демонст-
рация женственности может привести к прямым санкциям,вплоть до увольнения. С такой ситуацией столкнулась студентка СПбГУ во время работы гидом в одной из туристических фирм:
Посещала… курсы гидов-переводчиков. Там тоже преобладали де-вушки. Но могу рассказать случай из своей рабочей практики. Вот на курсах я и моя подруга были самыми лучшими, мы лучше всех сда-ли экзамены, получили лицензии. Когда дело дошло до работы, мы однажды пришли в каких-то броских костюмах на встречу с нашими туристами. И потом нас выгнали из этой фирмы, сказав, что: «Девуш-ки, если выглядят так легкомысленно, значит, наверное, у них за ду-
85
шой, там, ничего и нет, никаких знаний уж подавно» [жен., 20 лет.ПМ: Е. Лебедева, СПб., 2004]. Надо заметить, что в данном случае говорится отнюдь не
о «мужской» профессии – большинство гидов женщины, как,к слову, и большинство учителей. Однако это не снижает степень регламентации внешности в направлении исключения маркеров фемининности. Примечательна интерпретация:
Ну, здесь я просто, вот, сделала для себя вывод, что нужно вести себя прилично, никак свою индивидуальность не проявлять, особенно в одежде, потому что… ну, такой стереотип существует: если девушка нормально выглядит, там, следит за собой, как-то ярко одевается, то значит нужно её… значит у неё какие-то провалы в знаниях, потому что, ну, такой стереотип – если девушка привлекательна, то значит,она не очень умная [жен., 20 лет. ПМ: Е. Лебедева, СПб., 2004]. Личный опыт исключения здесь интерпретируется через сте-
реотип, устанавливающий обратную зависимость между женской привлекательностью и оценкой профессиональных качеств.В другом интервью содержится указание на то, что подобный стереотип транслируется системой образования, в том числе высшего:
Я помню, по философии был преподаватель, который у нас был, он как-то сказал: ну, в общем-то, я считаю, что девушки заботятся только о том,чтобы их голова была красивая – причёска, макияж и всё такое, а вот чтобы умные – вряд ли [жен., 20 лет. ПМ: Е.В. Лебедева, СПб., 2004]. Если судить по этим примерам, возможны ситуации, когда
«некрасивость» профессионала-женщины не только приписыва-ется как стереотип, но в некоторых случаях и предписывается как требование. Стремление «нормально выглядеть» (речь идет, ве-роятно, о «норме» женственности, принятой в повседневном об-щении участниц исследования) в профессиональной сфере расце-нивается как нарушение нормы (профессиональной) и способно повлечь санкции, вплоть до потери работы. Стереотипы, бытую-щие на уровне неформального дискурса и транслируемые в фольк-лоре, как показывают эти примеры, способны оказывать влияние и на принятие формальных решений, как основания для исклю-
86
чения женщины или, по меньшей мере, накладывания на нее до-полнительных ограничений.
Вернемся к стереотипам фольклорного дискурса. Анализируя фольклор целого ряда разнообразных профессий, мы могли на-блюдать, что фиксируемые в нем конструкции гендера базируют-ся на общем принципе: между профессионализмом и маскулин-ностью фиксируется положительная, а между профессионализ-мом и фемининностью – скорее отрицательная корреляция. Ины-ми словами, профессионализм включается в символический кон-структ маскулинности как одна из ее характеристик, но в то же время разрушает фемининность как характеристика, ей противо-речащая. Шкала маскулинности однонаправлена со шкалой про-фессионализма (повышение оценки по одной из них означает и повышение по другой), шкала же фемининности – напротив,обратна ей.
Характерно, что этот принцип действует как правило поро-ждения текстов – конкретных конструкций гендера – как в про-фессиях, имеющих репутацию «мужских», так и в «женских»статистически (учительницы) или символически (стюардессы). В «женских» профессиях он имеет несколько иные мотивы, чем в «мужских», но как порождающий принцип продолжает дейст-вовать, генерируя фольклорные тексты и мотивировки в конкрет-ных ситуациях. Проявлений противоположного принципа, когда бы профессионализм повышал оценку по шкале фемининности,либо проявления женственности автоматически повышали бы статус работницы как профессионала, не были зафиксированы в фольклоре ни одной из профессий. В целом, фольклорные ком-плексы разных профессий структурно однотипны, и в части мо-делирования гендера – в том числе.
Возникает вопрос, кто же является носителем профессио-нального фольклора? Профессиональная среда в целом или замк-нутые мужские сети в рамках этой среды? Может быть, это дис-курс доминирующей (мужской) группы, как всякий доминантный дискурс, выдающий себя за общий для данной среды? Поскольку мы записывали тексты как мужчин, так и женщин, то следует за-ключить, что женская часть профессиональных сообществ обыч-но разделяет те же фольклорные модели и участвует в их транс-
87
ляции. Но это характерно для любого гегемонистского дискурса,который, выражая интересы доминирующей группы, претендует на репрезентацию позиции всего сообщества.
Можно предположить, что описанный выше массив текстов сформировался на базе мужских неформальных сетей, занимав-ших доминирующее положение среди профессионалов, и что сложившаяся именно на базе этих сетей профессиональная иден-тичность включала и маскулинность как один из важных пара-метров. Если так, то в фольклоре профессиональных сообществ под видом профессиональной идентичности моделируется иден-тичность, основанная на принадлежности к мужским неформаль-ным сетям.
Среди матриц, по которым в фольклоре профессий конст-руируется маскулинность, можно отметить систематически вос-производимую маскулинность военного характера, представлен-ную как вариант «традиционной».
Матричная функция армейского дискурса по отношению к профессиональному проявляется и на официальном уровне (некоторые формы организации, управления, символики профес-сий строятся по армейскому образцу), но нас сейчас интересует влияние армейских традиций в неформальном дискурсе. Можно отметить две формы этого влияния. Во-первых, прямые заимст-вования текстов и ритуалов из армейской субкультуры, примеры которых были отмечены и в нашем обзоре. Во-вторых, ориента-ция на армию как моделирующую структуру – источник легити-маций, объяснений, мотивировок, а в конечном счете – ценно-стей, обосновывающих те или иные действия профессионала. Та-кая ориентация проявляется в систематически употребляемых метафорах, представляющих профессиональную деятельность как военную. Торгующие на рынке и водители такси употребля-ют «военные» метафоры применительно к конкурентным отно-шениям (ср.: «торговые войны»). «Я не помню, в каком году мы собирались на Исаакиевской площади… до этого целая война,битвы даже были… с частным извозом», – рассказывал таксист из Санкт-Петербурга, вспоминая, что иной раз конкуренция меж-ду профессиональными таксистами и частниками, работающими без лицензии, выливалась в реальные столкновения:
88
Раньше было вот так: частник останавливался, берёшь, подлетаешь, он быстренько раз по газам – и убегает. Потому что считалось, что он просто ворует: это твоя работа! Ты занимайся своим делом или иди купи лицензию. Купи лицензию! Поставь шашку и те никто слова не скажет. Здравый смысл в этом есть, понимаете? Мы как бы работаем – мы за всё платим. Все налоги и так далее. А он без ничего. Чисто во-рует, грубо выражаясь, он вдобавок ворует твой хлеб [муж., ок. 35 лет.ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. К «военной» метафорике обращаются и представители вра-
чебной профессии, особенно работающие в системе «Скорой помо-щи». Работники 12-й реаниматологической подстанции «Скорой помощи» в Санкт-Петербурге считают элитой своего коллектива четыре реанимационно-хирургические бригады (РХБ), называя их еще штурмовики [Бойцова, 1999]. Армейские ассоциации об-наруживаются и в интервью с сотрудниками Института им. Скли-фосовского. Врач первой Градской больницы (Москва) И. Ласка-вый проводит параллель между правилами медицинской профес-сии и воинским уставом: «Говорят, воинский устав написан кровью, – говорит он корреспонденту газеты. – Но медицинские правила тоже пишутся кровью…» [Светлова, 1999]. О том, что правила их профессии «написаны кровью», говорят не только во-енные и медики, но также и водители, подводники-аквалангисты (в том числе гражданские), летчики и другие работники авиации,электротехники, работники металлургии, пожарники [см. приме-ры таких метафор: Стратегия развития… 2002; Хомутов, 2001]и даже экономисты – специалисты по управлению капиталом:
Без преувеличения можно сказать, – полагают представители этой профессии, – что правила управления капиталом написаны кровью трейдеров и помогут выбрать объём торговых сделок, определить максимальный уровень потерь и построить торговую тактику в кон-кретной рыночной ситуации [Сайт Самарского представительства]. «Военные» метафоры эксплицируют ориентацию на армей-
ские образцы как моделирующие по отношению к профессии.Подобная ориентация проявляется иногда и на формальном (ин-ституциальном) уровне, например, в организации научных экспе-диций: в наименованиях подразделений («отряды»), повышенной
89
субординации – принцип единоначалия, некоторых особенностях снаряжения. Это не кажется случайностью, если вспомнить, что еще в 30-е годы XX века научные экспедиции в отдаленные районы (например, в Среднюю Азию) выезжали в сопровожде-нии военного отряда (или, скорее, наоборот, сопровождали его)[Прищепова, 2000. С. 138–139]. В наше время военные метафоры экспедиции сохраняются скорее на неформальном уровне.Из стенгазеты, висевшей в конце 1990-х годов на кафедре этно-графии и антропологии исторического факультета СПбГУ, по-священной поездке в Тихвинский район Ленинградской области:
Четвёртый десантный легион, он же поющая эскадрилья, он же Тих-винский отряд… Используется для заброски в особо глухие участки Ленинградской области с целью разведывательной работы и быстрой атаки [ПМ: Т.Б.Щепанская, запись, 1999]. Воинские метафоры обычны в экспедиционном фольклоре.
Каргопольская экспедиция Института этнографии АН СССР (те-перь МАЭ РАН) в 1986 году работала в районах Архангельской области, которым угрожало затопление по проекту переброски на юг воды северных рек. Проект тогда активно продвигался Минводхозом:
Но заслон им тут поставлен прочный,Кафедралы здесь толпой стоят.Всем, чем можно и нельзя, порочный,Здесь стоит Архангельский отряд.
«Кафедрал» – здесь: выпускники кафедры этнографии СПбГУ.Песня написана на мотив известной песни о пограничниках («На границе тучи ходят хмуро…») [авторство текста приписыва-ется С. Старостенкову].
Еще одна экспедиционная песня, также по матрице военной песни («Вставай, страна огромная»), написана в конце 1990-х го-дов участниками студенческой экспедиции кафедры этнографии:
Вставай, страна огромная,Вставай на смертный бой С забвенья силой тёмною,
90
С тоскою неживой.Пусть пламя предрассветное Играет в стременах.Идёт война заветная,Священная война.Дадим отпор грабителям Преданий и знамён,Творцам и истребителям,Хранителям времен.
Подобные метафоры систематически появляются в песнях,шутках и байках археологических, искусствоведческих и прочих экспедиций.
Вместо шелома кепочка,Но дерётся, как лев – На позиции Глебушка,На позиции Глеб.
(из археологической песни, посвященной Г.С. Лебедеву, петербург-скому археологу; запись, 1999). Воинские метафоры переносятся и на внеэкспедиционную повседневность научных сообществ.Следующие строчки из текста капустника, посвященного 50-летию Института этнографии АН СССР, посвящены его тогдашнему директору, Р.Ф. Итсу:
Рука тверда! Перо отточено!Равненье держит ряд страниц!На неизведанные вотчины Ведёт нас в бой фельдмаршал Итс!
«Военные» метафоры, а в особенности их систематическое повторение, обнажают роль армии как образца, по которому строятся целые пласты профессионального фольклора. Не еди-ничны и случаи прямых заимствований из армейского фольклора,в особенности, как мы выше видели, текстов, связанных с ком-плексами посвящения.
«Воинские» метафоры, актуализируясь как элемент роман-тизации и героизации профессии, вносят вклад в поддержание
91
символической идентификации профессионализма и маскулин-ности.
Итак, рассмотрев фольклор разнообразных профессий, мы обнаружили, что конструкции гендера в нем соотносятся с про-фессионализмом по одному и тому же правилу: профессионализм моделируется через конструирование маскулинности / декон-струкцию фемининности. Иными словами, профессионализм в фольклорном дискурсе моделируется через символы маскулин-ности. Это наблюдение сделано в результате рассмотрения тех мотивов и тем, которые обнаружены в неформальном дискурсе разных профессий, повторяясь как сквозные, а потому и вклю-чаемые нами в гипотетическую общую модель профессиональной субкультуры.
Однако следует задаться вопросом, а как обстоят дела в «женских» профессиях? Отчасти ответ уже содержится в пред-ставленных материалах: в основном, они воспроизводят стерео-типы, утвердившиеся в «мужских» средах: либо на уровне кон-кретных тем, либо – с большей вероятностью – на уровне обще-го принципа, может быть, с некоторыми особенностями выра-жения его.«Женские» профессии и производство фемининности
Нужно отметить еще одно обстоятельство, с которым мы столкнулись в ходе полевой работы: в «женских» профессиях (в поле нашего зрения попадали бухгалтеры, операторы пей-джинговой связи, манекенщицы, женские сообщества торговцев на рынке и др.) профессиональный фольклор вообще слабее вы-ражен. Во всяком случае, нашим собирателям (в основном, жен-щинам) не удалось сделать сколько-нибудь систематических за-писей – надеюсь, это еще впереди. Самый развитый и обширный фольклор, с устойчивой стереотипизацией, ритуализацией запи-сан от представителей профессий, имеющих репутацию «муж-ских», или «мужских» специализаций внутри профессии. Хотя сами записи делались в этих средах нередко от женщин, которые бывают замечательными хранителями традиций (делают и хранят стенгазеты, альбомы, осуществляют подготовку к ритуалам
92
и т. д.). Говорит ли это о недостатках записи – или о том, что женщины в профессиональной деятельности в меньшей степени образуют неформальные структуры (а следовательно, и базу для формирования фольклорного дискурса), ориентируясь главным образом на официальные связи?
Этому предположению в некоторой степени противоречит обнаруженный собирателями в женских коллективах фольклор – но только иного рода: не собственно профессиональный (воспро-изводящий символический конструкт профессионализма), а ско-рее связанный с символикой семьи, воспроизводящий этику се-мейных ролей. Например, И. Ивлева, исследуя женские сообще-ства на уличных рынках, обнаружила там ориентацию на этику материнства и ссылки на нее в качестве средства легитимации в разных конфликтных ситуациях [Ивлева, 2001]. Встречается в женских сообществах и апелляция к архаическим ритуальным схемам, таким как гадания, обвинения в колдовстве, бытовой ма-гии. Иными словами, вместо того, чтобы создавать особую суб-культуру профессии, они склонны в профессиональной деятель-ности апеллировать к опыту семейных ролей, как к разделяемому ими общему опыту, на базе которого появляется возможность сформировать «женскую» субкультуру в рамках профессиональ-ной среды, но неспецифичную для конкретной профессии.
Тем не менее есть профессии (или отдельные рабочие места), где «правило дефеминизации», как кажется, не выполняется:профессиональная деятельность не табуирует, а, напротив, требу-ет производства фемининности. Следует ожидать, что речь идет о «женских» (в символическом смысле) профессиях, где «делание профессии» есть и «делание (женского) гендера». Действительно,на рабочих местах официантки, секретаря-референта и других «женских» – в число требований, явно или неявно предъявляе-мых к работнику-женщине, входит внешняя привлекательность.По свидетельствам офисных работников и официанток, отклоне-ние от представлений работодателя о красоте может привести к увольнению работника:
93
Если девушка не нравится чисто внешне, её могут уволить, – говорит в интервью официантка. – С мужчинами такого не бывает? – Нет, не бывает [жен., 20 лет. ПМ: Е.В. Лебедева, СПб., 2004]. Демонстрация феминных качеств ожидается и от стюардес-
сы. Выражением этого, среди прочих, служат, как говорила пред-ставительница этой профессии,
два требования, за что тоже могут отстранить от рейса: отсутствие ма-никюра, то есть если лаком не покрыты светлым ногти, – и отсутствие губной помады [жен., 24 года. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. В то же время внешняя привлекательность не связана с воз-
можностью профессионального роста:
Если приходит в коллектив мужчина, то его чаще продвигают по службе,там, через полгода он уже может быть администратором, хотя никаких качеств администратора не имеет, вот, а девушек – девушки, в основ-ном, как бы красивая часть интерьера [жен., 20 лет. ПМ: Е.В. Лебедева,СПб., 2004]. Внешняя привлекательность, открывая доступ в профессию,
может быть препятствием в дальнейшем профессиональном про-движении (видимо, из-за актуализации противопоставления «феминности» и «профессионализма» – повышение оценки по шкале феминности прочитывается как снижение – по шкале професионализма).
Несмотря на то, что определенные феминные качества (акку-ратность, ухоженная внешность, спортивная форма) входят в чис-ло профессиональных требований, предъявляемых к стюардессе,нельзя сказать, что они способствуют ее карьерному продвиже-нию. В стандартной бригаде бортпроводников пять человек («номеров»): первый номер – руководитель бригады, пятый но-мер принимающий «коммерческой загрузки», обычно мужчина;остальные три выполняют основную работу по обслуживанию пассажиров в салоне воздушного судна. Пятый номер в салон обычно не ходит. Возможности профессионального роста для бортпроводников ограничиваются (как правило) возможностью занять должность инструктора бригад – но эта возможность ре-
94
альна для стюардов, так как, по словам работницы АК «Пулко-во», «как правило, инструктора – это мужчины», то есть больше вероятности перейти туда из «пятых номеров». Пятыми номера-ми ставят чаще мужчин из-за ответственности, связанной с прие-мом дорогостоящего груза, – «Поэтому эта ответственность с де-вочек снимается», то есть мужская работа ассоциируется с боль-шей ответственностью, чем женская (отнимающая больше вре-мени и сил во время полета). Для них остается еще одна возмож-ность карьерного продвижения (хотя и очень незначительного) –перейти в «первые номера», то есть стать руководителем бригады бортпроводников. Однако в последние годы наметилась тенден-ция ставить и «первым номером» мужчину. По мнению моей со-беседницы, стюардессы (24 лет), работающей в «Пулково», нали-чие двух мужчин благоприятно как для коллектива (снижается конфликтность), так и для отношений с пассажирами. В особен-ности на рейсах по территории бывшего СССР, как она говорит, –
там необходим, я считаю, первый номер… мужчина. – Да? – пере-спрашиваю я. – А с чем это связано? – С безопасностью и с пассажи-рами. Со спецификой пассажиров… тут нужна такая бригада, где больше мужчин, потому что рейс на Душанбе, где одни молоденькие девочки [стюардессы. – Т. Щ.], – это невыносимо. Ты чувствуешь себя голой, босой и совершенно теряется чувство профессиональности,абсолютно у всех… это летят наши гастарбайтеры… они по своей ментальности [улыбается], как мне сказал один: – Молчи, женщина! –тут женщина не указ… у него нет ассоциации, что я здесь работник,вот в чём дело, несмотря на то, что у меня форма… [жен., 24 года.ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Мужская позиция здесь ассоциируется с властью, функциями
руководства, влиянием, ответственностью. Профессия стюардес-сы воспринимается скорее как женская, определенные женские качества входят в число как официальных требований, так и не-официальных ожиданий. Однако именно ссылки на феминность служат обоснованием ограниченности и даже тенденции к пол-ному перекрытию возможностей профессионального роста.
Нужно отметить, что несмотря на требования демонстрации феминных качеств на рабочем месте, они продолжают высмеи-ваться или осуждаться в профессиональном фольклоре, как вы-
95
смеивается в авиационных анекдотах женская привлекательность стюардесс.
Разберем другой случай – профессии физика, «мужской»по статистическим показателям и символическому восприятию,в том числе самими профессионалами:
Если говорить о средней женщине и среднем мужчине – то, конечно…в общем-то, это мужская работа. Мужская, – говорит сотрудница ФТИ [жен., 60 лет. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Однако и в этой профессии некоторые проявления феминин-
ности поощряются как качества хорошего работника. По общему мнению четырех собравшихся (из разных лабораторий ФТИ), больше всего женщин в группе, занимающейся технологией (в противоположность «фундаментальной науке»). В этой облас-ти женщин ценят:
У нас заведующий лабораторией – он просто считает, что женщины работают лучше, он просто говорит неоднократно. То есть в техноло-гии женщины – лучше. И он как-то с большим таким уважением отно-сится, – утверждает сотрудница технологической лаборатории (жен., 40 лет). Другая участница разговора высказала предположение:Вот мне кажется, что всё-таки потому что… так как много технологов женщин – это какая-то специфика всё-таки женской натуры – ну вот…(жен., ок. 60 лет). Заметили, что больше всего женщин в такой области техно-
логии, как
фотолитография, где вообще все зависит от рук уже человека.– ну и чутья. Терпения больше.– терпения больше, мелочи какой-то, важно тщательно очень всё сделать там, сто раз протереть, обмыть, нанести очень тщательно…– вот, я думаю, для мужчин это не очень характерно…– вот этим мужчины вообще, как правило, не занимаются. Они могут быть – руководить просто фотолитографией, просто организовать это дело, проследить, чтоб всё сделали как надо, – а руки – это женские,совершенно. Но там не только руки. Потому что на самом деле – это отработка режима. И, в общем, если только руки без вот этого, – то это
96
бесполезное дело совершенно [жен.: 40, 60, ок. 60 лет, ФТИ. ПМ:Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Ценными качествами работника в обсуждаемой сфере (тех-
нологии, особенно фотолитографии) дружно признаются качест-ва, одновременно рассматриваемые и как типично феминные:тщательность, терпение, чутье, готовность все многократно по-вторить, отработать режим – качества хорошего исполнителя,в то время как мужчинам приписывается отсутствие этих качеств и, соответственно, пригодность только для руководящей работы в этой сфере. На мой вопрос: «А какие работы считаются дейст-вительно мужскими работами – в институте и даже…» – я полу-чила ответ:
Умственные [общий смех]. – Я только хотела сказать: мозги, – подхва-тила вторая из присутствующих женщин. – Мозги! [жен., ок. 60 лет.ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. Есть работы, считающиеся «мужскими», и в сфере технологии:
Там у нас больше мужчин, потому что там у нас, в основном, установ-ки уже там достаточно сложные, и там, конечно, больше мужчин, хо-тя женщины тоже есть…. Как уточнили участницы разговора, отличие «мужской» технологии – «там техника. – Да, там в чистом виде тех-ника. Там загружают образец, и дальше идёт работа с машинами, фак-тически. Это нужно следить, программирование обеспечить процесса.Вот такие вот вещи», – в отличие от «женской» технологии, где «всё зависит от рук уже человека», а также терпения и чутья [жен.: 40, 60, ок. 60, ок. 60 лет, ФТИ. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. В ходе беседы выяснилось, что группа фотолитографии чаще
всего работает в рамках чужих проектов и редко выступает ини-циатором своих собственных, то есть выполняет, главным обра-зом, обслуживающие функции. «Женские» качества – терпение,тщательность – в данном случае расцениваются как положитель-ные с точки зрения профессии, но одновременно и служат обос-нованием концентрации женщин в сфере, где им уготована ис-полнительская позиция. Поощрение «феминных» качеств в дан-ной ситуации означает консервацию позиции исполнителя как
97
той, к которой у женщины имеется «природное предназначение». Это происходит постольку, поскольку феминными представля-ются именно качества исполнителя. За счет этого отождествления происходит натурализация подчинения.
Ссылка на «природные свойства» женщины возникла в той же беседе еще раз – в связи с обсуждением неформальных меха-низмов принятия решений – например, подготовки к выдвиже-нию кандидатур в ученый совет (на момент обсуждения вышло так, что от всего коллектива ФТИ в ученом совете не было пред-ставлено ни одной женщины). Речь зашла о неформальных обсу-ждениях кандидатур, о людях, которые поддерживают более тес-ные отношения с руководством и т. п. внутриинститутской «по-литике». Как говорили мои собеседницы, женщины в подобных обсуждениях практически не участвуют:
(1): И потом я ещё одну вещь хотела бы добавить, что женщине более свойственно сидеть на рабочем месте и работать… – (2): И делать свою вот… дело. А… они [мужчины. – Т.Щ.] должны знать больше.Вот по статусу внутреннему. То есть они стремятся к этой информа-ции. Я когда загляну куда-то внутрь – ну я и закрою дверь, мне даже не хочется… у меня нет комплекса, что я не участвую. – (1): Я не думаю,что там обсуждают женские кандидатуры [улыбается скептически]. – (2): Нет! Они обсуждают всё по отделу, всё хорошо. – (3): Но, в прин-ципе, на самом деле естественно для большинства мужчин стремле-ние ну, как-то расти. А сейчас-то это ещё вопрос денег. На самом деле.То есть, если не заниматься вот этой всей политикой, то очень трудно иметь и гранты, и какие-то – потому что просто не знаешь… [жен.: 60 лет, ок. 60, ок. 60 лет, ФТИ. ПМ: Т.Б.Щепанская, СПб., 2005]. «Свойствами» женщины объясняется ее отстранение от уча-
стия в принятии решений, то есть речь идет о натурализации (ле-гитимации как природно заданного) отстранения женщин (неред-ко добровольного) от управленческих функций.
Как в «женской» профессии стюардессы, так и в «мужской»профессии физика обнаруживаются в целом однотипные законо-мерности. Поощрение феминных качеств оборачивается консер-вацией исполнительской, подчиненной позиции работника жен-щины. Но если вспомнить, что составляющие профессионализма –
98
автономия в принятии профессиональных решений, ответствен-ность, высокий статус, – то приходится признать, что «делание гендера» в случае, если он женский, не означает продвижения по шкале профессионализма, а скорее стагнацию. Случаи производ-ства фемининности в процессе профессиональной деятельности имеют место, но, по крайней мере, в рассмотренных случаях про-изводство фемининности означает одновременно и производство предела профессионального роста, в то время как производство маскулинности, наоборот, находится в положительной связи с повышением профессионального статуса. Эти примеры «дела-ния гендера» (женского) не опровергают принципа, сформулиро-ванного нами в начале статьи: символические конструкции ген-дера находятся в асимметричном отношении к конструкту про-фессионализма (маскулинность имеет тенденцию к прямой, а фе-мининность – к обратной зависимости по отношению к профес-сионализму).
Это правило достаточно стабильно воспроизводится в рамках того пласта неформального дискурса, который сами его носители опознают под названием «профессиональный фольклор»: речь идет о стереотипизированных, прошедших сквозь фильтр обще-ственного мнения текстов, само воспроизведение которых отчасти ритуализованно и воспринимается как отражение профессио-нальных традиций. Структуры, запечатленные в фольклоре, сле-дует воспринимать не как реальное состояние дел в том или ином профессиональном сообществе, а именно как моделирующие структуры, образцы, на которые ориентируются как на самооче-видные по умолчанию, но вовсе не обязательно их буквально воспроизводят – не менее распространена и другая стратегия: от-торжения, критики, пересмотра этих образцов. Анализируя этот дискурсивный пласт, мы не можем получить информацию о сию-минутной реальности гендерных отношений, но мы получаем информацию о структурах, моделирующих гендер, и воспроизво-димых в рамках повседневной коммуникации. Структуры, транс-лируемые в неформальном дискурсе, разумеется, не исчерпывают моделей гендера – есть еще официальные предписания, должно-
99
стные инструкции, законодательные акты, государственная и кор-поративная политика и т. п. Но фольклорные модели, как наиме-нее заметные и с трудом поддающиеся управлению, способны исподволь оказывать влияние как на официальные решения, так и в особенности на практику их исполнения (иной раз до неузна-ваемости модифицируя ее).
Банников К. В армии, как на зоне: насилие и унижение стало нормой // НКП (Новая Камчатская правда). 2000. № 12. 30 марта.
Барной В. Мужская профессия: Одна, но пламенная страсть // Вечерний Рубцовск. 28.10.1998 http://www.rubtsovsk.ru/press/vrnews/0113103/ part004.htm.
Бойцова М. Один день из жизни медицины катастроф // Петербургский час пик. 1999. № 9(61). 10 марта. С. 11.
Бондаренко И. Антон Бируля: лютне, как женщине, нужна верность // Смена. 2000. 28 янв. С. 5.
Ворохов С. Саша Васильев: «Нам тоже лифчики на сцену бросают» // Аргументы и факты. Петербург. 1999. № 18. Май. С. 10.
За тех, кто работает в профтех! Фоторепортаж К. Старцева, М. Львова.Амурская заря. 31.10.2001 // http://www.amursk.ru/az/01/1031/n1.htm.
Ивлева И. Уличный рынок: среда петербургских торговцев // Невиди-мые грани социальной реальности: Сб. ст. по материалам полевых исследований / Под ред. В. Воронкова, О. Паченкова, Е. Чикадзе.СПб.: Труды ЦНСИ, 2001. Вып. 9. С. 83–96.
Инешина Т. Женщины мужских профессий // Комсомольская правда.Иркутск. 05.03.2004 // http://www.irk.kp.ru/2004/03/05/doc16171/.
Котлова Т.Б., Смирнова А.В. Гендерные стереотипы в учебниках на-чальной школы // Женщина и общество: информационный портал.www.owl.ru. Впервые опубликовано в журнале «Женщина в россий-ском обществе». 2001. № 3–4.
Кудрявцева Е. Принимающая первой // Большой город. www.bgorod.ru /print/article.asp?ArticleID=17669.
Лурье М.Л. Служба в армии как «воспитание чуств» // Мифология и по-вседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах:Матер. науч. конф. 19–21 февраля 2001 г. СПб.: Алетейя, 2001. С. 247–259.
Маслов А. Жаргонарий // Сайт компьютерного фольклора и сленга // zzz.land.ru.
Никулин А. Константин Козеев: разговор перед полетом, или Космонав-тика с человеческим лицом // Новости космонавтики. 2001. Окт.
100
Петрова М. Любовный роман № 172 занял второе место // Смена. 1998. 17 февр. С. 2.
Прищепова В.А. Коллекции заговорили: История формирования коллек-ций МАЭ по Средней Азии и Казахстану (1870–1940). СПб.: МАЭ РАН, 2000.
Рослова Л. Александр Буйнов выходит на сцену, как боксер на ринг // Советский спорт. 2003. 27 марта.
Сайт «KARAOKE.Ru» // http://karaoke.ru/song/3824.htm. Сайт «Фольклор советских студентов» // http://folklor.kulichki.net. Сайт Олега Винокурова // oleg-vinokurov.narod.ru/20.htm. Материалы датированы 03.05.2003.
Сайт Самарского представительства «TeleTrade» D.J. International Con-sulting Ltd // samara.teletrade.ru.
Сайт Санкт-Петербургской региональной молодежной обществен-ной организации развития информационных технологий. 1998 // Twww.ruxy.org.ru.T
Сайт Стопка.ру // http://www.stopka.ru/toast/nyear04.shtml. Сайт студентов Московского Авиационного института // www.mai.ru
/leisure /dk/zerkalo/m_folk.htm. Сахаров А.Д. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. А.П. Чехова, 1990. Гл. 13. Электронная публикация доступна на сайте библиотеки Чис-тополя // http://lib.chistopol.ru/read.php?id=1611&page=631.
Светлова Е. Врачебная ошибка // Совершенно секретно. 1999. № 7. Сергеев И. Пиарщик в шоколаде // Московский комсомолец.М., 23.06.2003
// www.sovetnik.ru; см. также в сообщении на одном из форумов // www.kyrgyz.uz.
Соколов М. Трудная судьба: Библиотека правого клуба // Драйв. 1999. № 5. 1 авг.
Старобинец Ю. Военный летчик // Петербургский час пик. 2001. № 30(184), 25–31 июля. С. 11.
Стратегия развития ОАО «Новосибирскэнерго»: интервью генерально-го директора ОАО «Новосибирскэнерго» В.Д. Соловьянова // Налоги и экономика. 2002. № 1–2. Март.
Форум на сайте «TCarneValeT», тема «мужчины и женщины», сообщение от 27.12.2004 // http://www.karnawal.ru/forum/index.php?showtopic=22.
Хайнтц Б., Надаи Е. Пол и контекст: деинституционализация и половая дифференциация // Соременная немецкая социология: 1990-е годы.СПб.: Социол. общ-во им.М.М. Ковалевского, 2002. С. 282–309.
Хомутов Л. Правила воздушного движения написаны кровью // Сайт «Средства массовой информации Челябинска и области» // www. chelpress.ru. 17.08.2001.
101
Чередникова М., Кром И. Не возите больного ногами вперед! Ему-то по барабану, а врач может окочуриться // Мегаполис-Экспресс. 2004. № 11(738) // www.megapolis.ru/about/me/2004/11.
Чернова Ж. «Мужская работа»: анализ медиа-репрезентаций // Гендер-ные отношения в современной России: исследования 1990-х годов:Сб. науч. ст. / Ред. Л.Н. Попкова, И.Н. Тартаковская. Самара: Самар.ун-т, 2003. С. 276–293.
Шмидт Н.М., Куницына Е.В., Мурашова А.В., Соколова З.Н. Участие сотрудниц института в развитии основных научных направлений ФТИ им. А.Ф. Иоффе // Программа и сборник тезисов III Междунар.конф. «Женщины в фундаментальной науке»: Памяти И.П. Ипатовой.25–27 нояб. 2004 г. СПб.: ВВМ, 2004. С. 76–77.
Шумов К. Традиции пожарной охраны // Сайт «Фольклор и постфольк-лор: структура, типология, семиотика», в рамках проекта «Вирту-альные мастерские в общественных науках» // www.ruthenia.ru /folklore/alphabet.htm.
Шумов К.Э. Профессиональный миф программистов // Современный городской фольклор.М.: РГГУ, 2003. С. 128–164.
Щепанская Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 2003. Т. VI. № 1. С. 139–161.
Щепанская Т.Б. Мужская магия и проблема концептуализации профес-сиональных субкультур // III Конгресс этнографов и антропологов в России. 8−11 июня 1999 г.: Тез. докл.М.: ИЭА РАН, 1999.
Щепанская Т.Б. Прагматика некросимволизма (по материалам сравни-тельно-антропологического исследования профессиональных тради-ций) // Компаративистика: Альманах сравнительных социогумани-тарных исследований / Под ред. Л.А. Вербицкой, В.В. Васильковой,В.В. Козловского, Н.Г. Скворцова. СПб.: Социол. общ-во им. М.М. Ко-валевского, 2002. С. 134–151.
Leidner R. Serving Hamburgers and Selling Insurances: Gender, Work and Identity in Interactive Service Jobs // Gender and Society. 1991. № 5.
Matthews R.C.O. The economics of professional ethics: should the professions be more like business? // The Economic Journal. 1991. July. P. 737–750.
Nedelmann B. Die Entinstitutionalisierung des Wohlfahrtsstaates und Kon-fliltentstehung – der Fall des Lohnfortzahlungsgesetzes // Europaische In-stitutionenpolitik / Hrsg. T. Konig, E. Rieger, H. Schmitt. Frankfurt am Main: Campus, 1997.
ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ:
102
РИТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
Ольга Андреева, Анна Кимерлинг
Тема ритуалов или, точнее, ритуальных форм поведения дол-гое время являлась частью исторической этнографии. В текстах Л.Моргана, Дж. Фрезера, Б.Малиновского, реконструировавших архаичную культуру, были представлены особые поведенческие комплексы, лишенные, на первый взгляд, какого бы то ни было практического значения, но исполненные символическим смыс-лом, не разгадываемым извне. Для их описания использовались самые разные термины: обряды, церемонии, наконец, ритуалы.В первых социологических исследованиях, им посвященных, ри-туалы рассматривались в контексте религиозного поведения. Так,Э. Дюркгейм не только трактовал религию как систему ритуали-зированных практик, но и находил религиозное содержание во всех праздничных актах, символизирующим единение людей,их социальную связь [см: Durkheim, 1925]. В исследованиях М. Элиаде ритуал также интегрирован в религиозные институты [см: Eliade, 1965].
В этнографических и социологических исследованиях, вы-полненных в первых десятилетиях XX века, подчеркивается еще один аспект ритуальных практик: их надличностный и внелично-стный характер. И в этом смысле ритуал выступает в качестве одного из конституирующих элементов формирующейся челове-ческой культуры. «Цивилизация, как таковая, начинается там, где заканчивается индивид» [Kroeber, 1917. P. 192].
И впоследствии проблема ритуалов обсуждалась, по пре-имуществу, в двух плоскостях: в пространстве философского дискурса, обсуждавшего общие принципы человеческого обще-жития (Э. Канетти), и в пространстве исторической культуроло-гии (школа анналов). В первом варианте ритуалы рассматрива-лись в контексте формирования, стабилизации и развития соци-альных институтов, по преимуществу, политических [см: Canetti, 1960]. Историки в свою очередь выявляли символическое значе-
103
ние ритуалов для повседневной жизни людей в эпоху Большого средневековья.
Что касается изучения ритуалов в индустриальном обществе,а в особенности на промышленных предприятиях, то здесь дли-тельное время действовал интеллектуальный запрет. В духе ран-них концепций модернизации современное общество рассматри-валось через призму рациональной культуры, изживающей черты традиционализма и архаики. Наследие прежних времен нашло свое убежище в архетипах (К.Юнг), способных к актуализации только в эпоху кризисов.
Очагом новой рациональной культуры считалось промыш-ленное предприятие, подчиняющее своих работников технологи-ческой дисциплине и эффективной экономической организации.Социологи, принадлежащие к разным школам, замечали рутин-ность и повторяемость трудовых операций и символическое на-полнение социальных актов (производственных советов, проф-союзных собраний и пр.), однако, интерпретировали либо в духе социального функционализма, технического, или классового де-терминизма, не обращая особого внимания на связь существую-щих практик с поведенческими моделями, сложившимися на заре человеческой истории. Говорить, а уж, тем более, писать о ритуа-лах было возможно только в контексте насаждения особой кор-поративной культуры, иначе говоря, адаптации японского ме-неджмента, традиционалистского по своим основаниям, к реали-ям европейской и североамериканской социальной среды.
Интеллектуальную ситуацию изменили усилия социальных антропологов, обнаруживших на предприятиях самые разнооб-разные по своему культурному генезису социальные практики, не исчерпывающиеся ни исполнением заданных производственных технологий, ни требованиями социальной организации.
В отечественной социологической литературе тема ритуалов обсуждалась в тесной связи с изучением структуры неформаль-ных отношений на производстве. Именно так они представлены в исследованиях В.И. Герчикова, Е.Ю.Мещеркиной, Е.Л.Шерш-нева. На наш взгляд, такой подход представляется избыточно же-стким, не в полной мере учитывающим тесное переплетение
104
формализованных и спонтанных производственных актов, взаим-ное проникновение разнородных социальных институтов.
Мы выдвинули гипотезу: ритуальные формы поведения оп-ределяют, хотя и в разной мере, все стороны социальной деятель-ности работников на современном предприятии.
Мы решили проверить эту гипотезу на примере офис-работ-ников пермских фирм – не только потому, что эти участники тру-довых отношений остались вне поля зрения отечественных ан-тропологов. Более весомым аргументом, на наш взгляд, является их значимость в процессе складывания новых постсоветских тру-довых сообществ. Мы предполагаем, что именно сотрудники ма-лых и мельчайших частных фирм образуют ядро нового рабочего класса не столько по виду производственной деятельности,сколько по реализуемым ими социальным технологиям.
Мы изучали ритуальные формы взаимодействия офисных работников при помощи качественных методов. Исследование проводилось в ходе учебного процесса. Участникам исследова-ния было предложено написать сочинения-эссе на тему «Ритуалы моего рабочего коллектива». Мы получили более двухсот под-робных эссе, отражающих современное положение дел в рабочих коллективах офисов. Такой вид получения исследовательских материалов следует определить как вариант биографического со-чинения, применяемым в гуманитарных науках с начала ХХ века.Исследование проводилось два года подряд (2002–2004) среди сту-дентов-заочников, имеющих опыт офисной работы в различных организациях и фирмах города Перми. Все учились в техниче-ском университете и все они работали менеджерами разных уровней: это офис-менеджеры, менеджеры по продажам, менед-жеры по работе с клиентами, просто менеджеры, то есть руково-дители небольших подразделений. Их объединяет кабинетный характер работы, нормированный рабочий день, в их поведении не ощущается социальной потребности в высшем образовании.Они идут учиться на заочное отделение за дипломами. Знания здесь дело второстепенное, даже побочное. На занятия такие сту-денты приходят не регулярно, а лишь тогда, когда работа позво-ляет, очень радуются, если преподаватель немного раньше отпус-
105
тит их с лекции, и всегда просят об этом. Если им представляется возможность списать контрольные работы из Интернет, они с удовольствием этим пользуются.
Разнообразие производственных ритуалов, выявленных в про-цессе исследования, может быть подвергнуто различным анали-тическим процедурам. Рассматривая представленные ритуалы в первом приближении, можно разделить их на два типа: ритуа-лы, которые широко распространены и истоки которых можно увидеть в традиционной культуре, а потому являются общерас-пространенными, и ритуалы новые, изобретенные кем-то из со-трудников, без видимых аналогий в прошлом. Повторяющиеся,то есть воспроизводящиеся ритуалы, чаще всего преследуют цель стабилизации коллектива и воспроизводства сложившихся внут-ренних норм, а ритуалы, создаваемые данным коллективом с ну-ля, могут преследовать двоякий результат. Во-первых, они также могут выполнять функцию сохранения идентичности коллектива и его внутренних правил. Во-вторых, эти действия могут приво-дить к смене сложившихся взаимоотношений, к проверке адек-ватности имеющихся групповых межличностных и межпрофес-сиональных связей. Выявленные в ходе исследования ритуалы выполняют, в соответствии с нашей типологией, следующие функции: стабилизации и сплочения, инициации, компенсации,поддержки статуса, воспроизводства гендера.
Традиции совместных чаепитий, праздников и выходных стабилизируют и сплачивают коллектив. Эта функция осознается как руководством предприятия, так и сотрудниками. Иногда рас-ходы на проведение профессиональных праздников оплачивают-ся из фондов организации, иногда самими работниками. Некото-рые предприятия имеют собственные базы отдыха или теплоходы для совместных выездов на природу, другие – ежегодно платят за эти же удовольствия. В любом случае, в сочинениях наших информантов часто описываются выходные, проведенные вместе с коллегами по работе, различается лишь частота и содержание совместного отдыха. Инициаторами таких мероприятий обычно выступают руководители организаций.
106
Крупные праздники, такие как Новый год или 8 марта, тоже зачастую оплачиваются из фондов организации. Это может быть большой банкет в столовой или ресторане, предназначенный для работников всех подразделений, или фуршет прямо в офисе.Подарки тоже могут быть оплачены организацией. Показателен пример одного крупного автотранспортного предприятия. Для организации Нового года там задействуются все кадровые ресур-сы и подразделения:
Всем начальникам подразделений даются задания, список дел состав-ляет отдел кадров, вкусным и красивым столом занимается директор столовой, меню утверждает генеральный директор, закупкой спирт-ных напитков и фруктов занимается отдел снабжения, они же приво-зят артистов на вечер, менеджер по рекламе приглашает ведущего.
Чаще организационные расходы, связанные с праздниками,несут сами работники. Они приносят выпечку, сласти, фрукты,вино, накрывают стол для всего коллектива на личные праздники (день рождения, сдача экзаменов или сессии работниками, заочно обучающимися в вузах). На подарок принято скидываться всем коллективом. В редакции одной газеты принято, чтобы подарок от коллектива приобретала бухгалтерия. Как сообщил автор эссе,где рассказывается об этой практике, никто даже не спрашивает,все ли хотят участвовать в покупке, просто напрямую берут деньги из еще не полученной зарплаты. Характерно, что никако-го недовольства этим фактом автор не выказал. Одним словом,праздники в рабочих коллективах отмечаются повсеместно, вне зависимости от формы собственности предприятия, и размеров зарплаты его сотрудников.
Не менее часто практикуются и посиделки в будние дни.На рабочем месте создаются условия, поощряющие чаепития и обеды в коллективном кругу. Для этого руководством может быть приобретена микроволновка или нанят повар, готовящий обеды для всех сотрудников офиса, покупается чистая вода, элек-трочайники, устанавливаются кофейные автоматы. Для проведе-ния перерывов на работе могут иметься шахматы, шашки, нарды,бильярд.
107
На некоторых предприятиях существуют специальные ри-туалы инициации, позволяющие новому сотруднику влиться в трудовой коллектив. Среди сочинений-эссе встретились пять упоминаний о таких ритуалах. Не все они подробно описаны,но можно выделить, как минимум, инициации двух видов. Во-первых, это прохождение разного рода испытаний, например – шуточное запугивание нового сотрудника рассказами «о злобном шефе», причем сам шеф в этом с удовольствием участвует, устраи-вая демонстративные «разносы» своим сотрудникам. Во-вторых,это разного рода «знакомства» с функциональными обязанностя-ми и с формальными и неформальными традициями коллектива.Например, когда новый работник приходит в одну из организа-ций, его или ее отводят к главному менеджеру, который расска-зывает о фирме, а затем знакомят с коллективом. А потом посы-лают новичка за тортом для общего вечернего чаепития. Следует отметить, что включение нового сотрудника в коллектив в про-цессе совместной трапезы наиболее распространено.
Ритуалы, выполняющие компенсаторные функции, доста-точно многообразны, но их бывает труднее выделить в текстах сочинений-эссе, поскольку они часто скрыты от глаз внешнего наблюдателя. В ситуации, когда содержание труда рутинизиро-вано, обеднено по содержанию, деятельность не находит профес-сионального признания, не соответствует компетенции работника и освоенным им технологиям городской культуры, возникает не-обходимость в компенсации при помощи ритуалов, не связанных с профессиональной деятельностью. Наличие этих ритуалов объясняется тем, что иерархия, сложившаяся на предприятии или в фирме, порой выстроена не на рациональных принципах. Это,с одной стороны, мешает эффективному руководству и планиро-ванию, а с другой стороны, создает трудности в продвижении со-трудников по служебной лестнице. Ярким примером такой си-туации служат фирмы, в которых внешнее устройство организа-ционной структуры соответствует формальным признакам ра-ционально устроенной бюрократии, а внутреннее распределение должностей детерминируется семейными связями, в результате чего на верхних ступенях иерархии оказываются, например, чле-
108
ны семьи, а в подчиненном положении – привлеченные специа-листы. В таких организациях возникают ритуалы, поддерживаю-щие и проверяющие крепость соответствующей статусной пози-ции в том или ином звене иерархии. Здесь наблюдаются процес-сы, позволяющие иерархии быть проверенной на прочность,и дающие возможность вертикальной социальной мобильности,то есть новичкам можно занять в ней более значимые места. Од-новременно работники, не нашедшие себе достаточно высокого (по собственному мнению) места в официальной структуре, мо-гут проявить себя во внепроизводственных отношениях и быть замечены коллективом и руководством безотносительно к их профессиональным навыкам. Для этого существуют различные возможности. Чаще всего используются спортивные мероприя-тия, смотры самодеятельности, КВНы и т. д., демонстрирующие физическую подготовку, интеллект, артистизм и чувство юмора.Так, на одном крупном заводе практикуются регулярные выезды летом на природу:
выбирается солнечная поляна… обустраивается лагерь с сотнями че-ловек, разбитых на команды с палатками, костром, флагом и названи-ем. Команды соревнуются в игре «КВН», происходят различные спор-тивные мероприятия, конкурсы и концерт.
А в небольших фирмах (или в отдельных подразделениях большого предприятия) довольно часто встречается игра в шахма-ты, шашки, нарды и бильярд в обеденный перерыв, а также посеще-ние боулинга всем коллективом (например, каждый понедельник). Иногда можно встретить достаточно экзотические способы со-ревнований, даже автопробеги по дорогам России. Регулярно в текстах эссе офисных работников встречаются сезонные виды совместных времяпрепровождений – поездки за грибами и сорев-нование на звание самого лучшего грибника. Для проявления своих способностей могут быть выбраны и иные способы при-влечения внимания:
изо дня в день активные сотрудницы привозят с собой еду для двух собак (которые охраняют территорию и офисное здание) и кормят их.
109
Остальные сотрудники выступают в роли наблюдателей и сочувст-вующих.
Результатом участия в компенсаторных ритуалах становится приобретение сотрудником особого, неформального статуса «са-мого сильного», «лучшего певца (танцора, гитариста)», «лучшего игрока в…», «самой хозяйственной», «лучшего грибника», «лю-бителя животных» и т. п., что заменяет недостаток статуса произ-водственного. Такие мероприятия можно использовать и для продвижения по работе. Чаще всего влияние на начальника (а за-тем и повышение по службе) приобретается после совместных походов в баню, причем сексуального подтекста явно не наблю-дается. В рамках одомашненной производственной культуры карьерный рост обычно не связан с профессионализмом работни-ка. Ему приходится компенсировать недостатки предшествую-щей социализации. Человек, не принадлежащий к категории род-ственников или друзей детства, увеличивает свои шансы на про-движение по службе, если устанавливает с руководством личные неформальные контакты. Совместный поход в баню может быть своеобразной инициацией, которая в рамках современной куль-туры становится повторяющейся процедурой. В ней работник подтверждает вновь обретенный статус, замещающий исходный статус, например, члена семьи.
Компенсаторные ритуалы могут накладываться и перепле-таться с системами наказаний и поощрений, сформированными в коллективе, могут под них маскироваться при слабо выражен-ной иерархической структуре, особенно в малом бизнесе. Эти ритуалы также имеют и дополнительную функцию – они запус-кают процесс потери статуса тем или иным сотрудником в кол-лективе. Сотрудника научного коллектива, прекратившего по соб-ственной инициативе участвовать в днях рождения коллег, внача-ле перестали привлекать к участию в хорошо финансируемых проектах, а потом усомнились в его профессиональных качест-вах, начали активно критиковать при любом удобном случае. По-стоянно проверяя взаимоотношения на прочность, данные ритуа-лы позволяют сформировать эффективную межличностную сис-
110
тему взаимоотношений. Если при этом она соотносится и под-держивает формальное распределение должностных обязанно-стей, то устойчивость такого коллектива к внешним и внутрен-ним катаклизмам повышается.
Ритуалы, исполняющие функцию поддержания сложившейся гендерной структуры в текстах эссе немногочисленны, возможно,потому, что также растворены в системе иных взаимодействий.Чаще всего встречаются заметки и том, что
почти каждую пятницу наши мужчины едут в один и тот же ресторан,чтобы поужинать, выпить, пообщаться в неформальной обстановке.Жен не берут;ходят на работе в баню с пивом. В ответ на это женщины в коллективе ходят по воскресеньям в сауну и бассейн.
Обобщая материалы сочинений-эссе, оказавшиеся у нас в распоряжении, можно классифицировать ритуалы по степени совпадения существующих формальных и неформальных норм,и по источникам их происхождения. Согласно первой классифи-кации, выделяются три варианта соотношения между двумя вы-шеозначенными пластами корпоративной культуры: преобразо-вание формальных производственных норм в неформальные; во-площение неформальных ритуалов в формальные правила; па-раллельное существование формальных и неформальных норма-тивов поведения. Оптимальным для эффективной деятельности компании является симбиоз формальных и неформальных произ-водственных ритуалов, приспособление безликих нормативов к живой ткани человеческих взаимоотношений, когда трудовой процесс окрашивается смягчающими оттенками. Это происходит в результате проявления «инициативы сверху». В этом случае распоряжения начальства принимаются коллективом в преобра-зованном для него варианте и становятся в этом облике понят-ными и работающими:
на листках пишем должностные обязанности,… чтобы каждый был в них компетентен. Вытягиваем и выполняем то задание, которые ка-ждый получил на игре;
111
на утреннем чаепитии мы обсуждаем план рабочего дня. Вроде пла-нёрки в неформальной обстановке.
Но часто встречается и иной вариант развития отношений.Руководство может вводить требования, непонятные работникам,иррациональные с их точки зрения. Часто это случается в резуль-тате стремлений ввести некоторые «научные» (то есть вычитан-ные у авторов, типа Д. Карнеги) приемы организации, не соответ-ствующие культурным установкам работника. В одной из фирм:
человек, который выполнил норму работы, может звоном сообщить об этом другим… ударом в колокол, который стоит в главном зале.
В другой фирме в конце дня необходимо всем встать в круг и обменяться пожеланиями. Респонденты часто пишут об этом с иронией и даже с сарказмом.
Не менее эффективными для внутрипроизводственных от-ношений является и случаи, когда так называемые «инициативы снизу» поддерживаются начальством, облекаются в канцелярский слог и становятся рядовой нормой, но уже прошедшей проверку в реальной жизни. Здесь тоже можно выделить практики, кото-рые органично принимаются всеми работниками, и те, которые воспринимаются как абсурдные. К органичной можно отнести случаи, повышающие эффективность работы в организации и без-болезненно встраиваемые в имеющуюся систему отношений:
Некоторые сотрудники нашего офиса (секретарь, юрист, начальник отдела кадров и др.) добираются до места работы на служебной маши-не. Когда-то кто-то из сотрудников попросил водителя, живущего непо-далёку, забирать его по дороге на работу. Вскоре к этому сотруднику присоединились ещё несколько, изменился и маршрут движения ма-шины. Сейчас для водителя это стало нормой, хотя формально это ему в обязанности не вменяется. Данная традиция в нашей организации в скором времени приобретёт вполне формализованный характер – в планах руководства приобретение служебного автобуса;Овальный стол раньше стоял в кабинете генерального директора. Он при перестановке оказался не нужен. Во время ожидания перевозки на другой объект он стал любимым «местом сбора коллектива». Охва-чены и финансовые отношения: «очень нравится “чёрная касса”».
112
В день зарплаты каждый скидывается по 100 рублей. Жребий – 1 000 рублей к зарплате – и так, пока все не получат.
«Абсурдные» практики возникают, по-видимому, вследствие неспособности руководства дистанцироваться от подчиненных:
тот, кто приходит первым, вешает верхнюю одежду у начальника на вешалке, а остальные, позже приходящие сотрудники, – у себя в комнатах.
Третий, параллельный, вариант существования норм стано-вится наиболее разрушительным для коллектива. Ни одна систе-ма действий не поддерживает другую, профессиональные обязан-ности и личные интересы до поры до времени «не замечают» друг друга. В ситуации кризиса (любого масштаба), когда придется сде-лать выбор, одни интересы будут уничтожены другими. При этом с большой степенью вероятности можно предположить, что выбор будет сделан в пользу неформальных, нелегитимных ритуалов:
Обед в магазине не предусмотрен, но в 14.00 часов на цокольный этаж закрывается дверь и предварительно кто-то готовит, например салат.Покупатели упорно не замечают вывески «Обед», а если видят, то не-которые предпочитают этому не верить, угадывая в этом шутку. Они открывают двери, заходят: «Здравствуйте, я только цены посмотрю», «Мы только посмотрим, есть ли это у вас, а вы кушайте, мы вас отвле-кать не будем». В этот момент одна из продавцов начинает играть роль грозного стража порядка.
Попытаемся выяснить источники происхождения ритуалов рабочих коллективов офисов. Существенное влияние на вид ри-туалов формирующихся в коллективе, имеют различные, подчас коренящиеся в далеком прошлом, культурные практики, которые воспроизводятся в явном или скрытом виде в современном обще-стве. Здесь можно выделить ритуалы, возникшие в условиях тра-диционной культуры в далеком прошлом; ритуалы, сохранив-шиеся с советских времен; ритуалы зарубежные, чаще всего – западные.
Источником происхождения первого вида ритуалов является традиционная культура, характеризующаяся такими свойствами,
113
как патернализм, смешение профессиональной и частной сфер жизни, праздность, систему особых символических поощрений и наказаний. В современной корпоративной культуре мы наблю-даем такие ритуалы чаще всего.
В традиционную культуру уходит корнями модель взаимоот-ношений с начальником, выстроенная по «семейной» схеме,в рамках которой руководитель воспринимается как отец-попечитель, а все его действия выглядят как естественные поощ-рения или наказания отцом своего ребенка. Такие отношения предполагают лояльность и преданность, с одной стороны, по-кровительство, заботу и помощь – с другой. Примечательно заяв-ление одного из руководителей старой закалки: «Для меня глав-ное – счастливые глаза моих работников». По мнению автора этих слов, именно таким должно быть отношение начальника к подчиненным.
«Семейные» отношения в производственном коллективе включают частную сферу работника в круг трудовых отношений.Менеджер по управлению персоналом в одном из отделений поч-ты отмечает: «Во время обеденного перерыва мы собираемся дружной семьей, обсуждаем, я знаю личную жизнь каждой».
Личные отношения начальника и подчиненных подкрепля-ются ритуалами оказания внимания. Руководитель автосервиса,например, начиная рабочий день, обязательно подходит к каждо-му менеджеру, лично приветствует его, искренне интересуется делами и проблемами каждого и только потом дает план заданий на день.
В ответ и работники предприятий, построенных по «семей-ной» схеме, оказывают своим начальникам ритуальные знаки уважения. В день рождения директора одного акционерного об-щества все сотрудники, собравшись в его кабинете, дарят заго-товленные подарки и читают текст поздравлений. При этом при-сутствует и супруга директора. Прямым аналогом такого рода ритуалов являются, скорее всего, традиция преподносить дары вождю, монарху, императору в надежде на прощение и покрови-тельство в делах. Начальник здесь воспринимается как воплоще-ние всей организации, ее персонификация, а потому и рассматри-
114
вается как источник благосостояния. Поэтому дары и слова по-здравлений должны помочь снискать расположение, установить особые, эмоциональные отношения.
«Семейные» отношения в коллективе превращают рабочее место в родной дом. Это проявляется в возникновении традиций,которые есть в собственном доме. На рабочем месте создается уют, приносятся цветы, вышитые или связанные салфетки, к чаю приносится домашняя выпечка. Переход профессиональных от-ношений в частную сферу подкрепляется совместным проведе-нием досуга. Зачастую к корпоративному отдыху присоединяют-ся члены семьи работников. Примечательно, что никто из авторов эссе не усомнился в полезности перечисленных ритуалов и не упоминал о возможности отказаться от участия в них. Это свиде-тельствует о том, что коллективный отдых на самом деле практи-чески обязателен для всех работников, хотя это нигде не указано специально.
Авторитет начальников подкрепляется системой поощрений за заслуги, зачастую лишь косвенно связанные с производствен-ной сферой. Так, на одном из частных предприятий человек, про-работавший пять лет, получает в день рождения денежную пре-мию, размер которой увеличивается с годами работы в двойном размере. На другом предприятии лучшего работника года награ-ждают премией и путевкой в Италию или Грецию. А руководите-лю строительной службы крупного автосервиса в канун Нового года был вручен ценный подарок – машина иностранного произ-водства бизнес-класса. Если менеджеры выполняют финансовый план, то руководство снимает для всех сотрудников бар, боулинг,горнолыжную базу либо площадку для игры в пейнтбол. Более всего это напоминает ритуалы одаривания, символически укреп-ляющие связь между главой «дома» или «двора» со своей дружи-ной, домочадцами, челядью. Не менее символична и практика наказаний. Например, за опоздание в одной фирме положено по-купать бутылку воды, в другой – выплачивать 100 рублей. Любо-пытно, что все респонденты считают такие штрафы правомерны-ми, но продолжают опаздывать. «Бутылки с водой становится не-куда ставить», а изъятые 100 рублей потом «тихо» возвращаются.
115
Особое отношение к праздникам также следует считать при-знаком традиционности. Большинство предприятий празднует все возможные собственные юбилеи – от одного года до тридцати и пятидесяти. Отмечаются все общероссийские, профессиональ-ные и личные праздники. Часто проведение праздничного обеда протекает в рабочее время, что ни сколько не смущает руководство.
Патерналистские отношения складываются по обоюдному согласию руководства и коллектива. Начальники стремятся таким способом контролировать все аспекты жизни в организации,а работники вполне искренне заявляют, что
в любом коллективе должны быть дружеские, тёплые отношения, то-гда и на работу будешь ходить как на праздник.
С советской культурной традицией связаны ритуалы, выра-жающие пренебрежение к работе.
Рабочий день начинается в 9 часов утра, но все мои коллеги приходят к 9.30. К этому давно привыкли и перестали замечать.
Формально установленное начало работы сдвигается (это на-блюдается на большинстве, попавших в рамки данного исследо-вания, предприятий) при помощи утреннего чаепития. Особенно интересно читать эссе руководителя одной небольшой организа-ции, в котором эти факты описываются с плохо скрываемым раз-дражением. Перерывы делаются и в середине дня. На предпри-ятии по монтажу турбин «дамы, придя с обеда, пьют чай целый час». А сотрудники одного из пермских автосервисов всем кол-лективом весело проводят время в курилке, несмотря на негатив-ное отношение руководства к традиции частых перекуров.
Некоторые авторы сочинений-эссе стараются найти рацио-нальное объяснение частым перерывам в работе. Представитель военного учреждения пишет:
Наукой предусмотрено проводить перерывы в работе каждые 50–60 минут. В своём коллективе мы придерживаемся научной точки зрения и пьём чай всем коллективом.
116
Другие объясняют чаепития тем, что они помогают сделать коллектив дружным.
Еще один элемент советской культуры – это нарушение ра-мок окончания рабочего дня. Чаще всего переработка связана с тем, что на работе задерживается начальник. В крупном авто-сервисе еженедельные собрания для менеджеров, на которых об-суждаются производственные проблемы, длятся буквально до ночи.Выход на работу в выходной тоже довольно часто превращается в норму, уклониться от которой невозможно. Переработки посте-пенно превращаются в традицию, отказы не принимаются, ком-пенсации отсутствуют. Видимо, большинство респондентов вос-принимают это как нормальное явление.
Помимо ритуалов традиционных и советских, в современной корпоративной культуре были обнаружены ритуалы и традиции,которые, вероятно, заимствованы из западной индустриальной культуры. Чаще всего они связаны с западными разработками в области организации рабочего времени и трудового процесса.Во-первых, это перерывы в рабочее время (маленькие десяти-минутные перерывы – время релаксации в редакции газеты). Во-вторых, разные психологические тренинги, например сотруд-ники офиса дистрибьюторской кампании встают в круг и обме-ниваются шутками.
Таким образом, ритуализированные формы трудовых отно-шений как внутри рабочих коллективов, так и между работника-ми и руководителями, сложившиеся в современных российских организациях, обладают особыми, специфическими чертами. Мож-но, говорить, в частности, о преобладающем традиционализме в деловых отношениях. Традиционализм здесь определяется в веберовском смысле – чаще всего ритуалы возникают не в ре-зультате целенаправленных действий руководства, озабоченного достижением экономической эффективности, устойчивости, сни-жения рисков, но спонтанно, в результате переноса привычных форм поведения в рамки современных экономических институтов.
Доминирование неформальных норм взаимоотношений над нормами организационными. Воспроизводство привычных ри-туалов, заимствованных из традиционной и советской культуры,является типичным явлением. Даже в тех случаях, когда руково-
117
дитель может рационально обосновать пагубность таких практик,в повседневном поведении он не может переломить ситуацию,продолжая в них участвовать. Как пишет один из руководителей с плохо скрываемым раздражением: «А они всё пьют и пьют свой чай». Можно говорить о преобладании патриархальных, патерна-листических практик над практиками рациональными, договор-ными. Иерархия организации закреплена в сознании работника в образе семьи. Воля начальника, так же как и его забота, его гнев, его право главенствовать, воспринимается как проявление естественного положения вещей. Таким образом, сфера трудовых отношений еще более, чем политическая, закрыта для проникно-вения и укоренения отношений гражданских. Не случайно не удалось обнаружить никаких реальных признаков присутствия профсоюзного движения, готовности отстаивать свои права, уме-ния противостоять нарушениям закона. Отмечается также отсут-ствие профессиональной этики в складывающейся корпоратив-ной культуре. Только один раз удалось зафиксировать подчине-ние рабочих ритуалов неким этическим нормам в деятельности одной фирмы, когда дистрибьюторы договаривались между со-бой относительно правил работы с клиентами. Мы полагаем, что в настоящее время в сфере торговли, производства, услуг профес-сиональных кодексов не существует, по крайней мере, для самих работников.Место профессиональных норм чаще всего занимают нормы коллективизма, сиюминутного успеха, благополучия.
Durkheim E. Les formes elementaries de la vie religieuse. P., 1925. Eliade М. Rites and Symbols of Initiation. N. Y., 1965. Kroeber A. The Superorganic //American Anthropologist. 1917. Vol. XIX. Canetti E. Masse und Macht. Muenchen, 1960. ОФИСНЫЙ МИР И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Андрей Кабацков
«Все сохранилось: грамоты, дипломы, запи-си в трудовых книжках. И все потеряло зна-
118
чение. Оборвались социальные карьеры.Обесценились социальные достижения».
[Национальный вопрос… 2003. С. 43–44] Наблюдение за изменениями ситуации на отечественном по-
ле образовательных услуг демонстрирует нам тенденцию роста числа студентов, обучающихся в высших учебных заведениях самого разного профиля. В реальности статистические данные уже говорят о приближении числа абитуриентов, поступивших в вуз, к количеству ежегодных выпускников общеобразователь-ных школ.
Рост числа студентов и выпускников учреждений высшей школы происходит самыми разными способами. Появилось неко-торое число негосударственных коммерческих вузов, работаю-щих на рынке образования как обычные коммерческие предпри-ятия. Выросло число филиалов именитых столичных учрежде-ний, решивших направить собственную экономическую экспан-сию в регионы страны, где их бренд обладает определенной сим-волической привлекательностью, формируемой столичным кон-текстом названия. Все это варианты расширения образовательно-го рынка как пространства, приобретающего собственное эконо-мическое измерение. Новые фирмы-вузы вынуждены выходить на уже существующие рынки услуг. Поэтому новые игроки должны были подчинить свою стратегию требованиям неудовле-творенного спроса, что означает не только открытие новых спе-циальностей, но и выстраивание образовательного процесса так,чтобы привлечь потребителей, оставшихся неудовлетворенными традиционными предложениями со стороны местных вузов.
Несколько иначе смотрятся здесь изменения в технологиях подготовки специалистов традиционными образовательными уч-реждениями. Именно они вносят основной вклад в масштабный рост сообщества студентов. Речь идет о государственных вузах,сформировавшихся в областных центрах еще в годы советской эпохи и опирающихся на унаследованный символический капи-тал. Хотя они переименовались из «институтов» в «университе-ты», украсили вывеску красивыми словами: «классический», «уральский» и т. п., но сохранили в основном дорыночную мо-
119
дель институциального устройства, только в увеличенном разме-ре. Если промышленные социалистические гиганты сократили и численность персонала, и номенклатуру производства, то вузы,напротив, наращивают и то и другое. Увеличился и прием сту-дентов, и количество штатных мест для профессорско-преподава-тельского состава. Изменился и перечень специальностей, по ко-торым готовят бакалавров, инженеров и магистров.
Обратим более пристальное внимание на эти изменения. Ма-териал, на который опираются предлагаемые далее рассуждения,накоплен в ходе комплексных исследований и наблюдений за из-менением ситуации в ряде университетов города Перми, целена-правленно ведущихся автором и его коллегами в течение послед-них пяти лет TP
1PT. Основной базой настоящей работы будет матери-
ал, который собран автором в течение 2003–2005 годов, когда ме-тодом включенного наблюдения велась фиксация изменений,происходящих в профессиональных ориентациях и ценностных мотивациях студентов при прохождении ими обучения на заоч-ном отделении университета TP
2PT.
По результатам конкретных наблюдений составляются свод-ные таблицы, содержащие такие категории: лицо, группа, воз-раст, профиль трудовой деятельности, трудовые установки, про-фессиональные ожидания, впечатления от образовательного про-цесса. В настоящий момент собрано 27 таблиц, содержащих информацию о 135 лицах. Среди них мужчин – 43 человека,женщин – 92 человека. По возрастным группам информанты де-лятся на 3 когорты: до 20 лет – 15 человек; от 20 до 25 лет – 57 человек; старше 25 лет – 63 человека. По профессиональной деятельности они делятся на офис-работников – 64 человека; ра-ботников промышленных предприятий – 14 человек; работников
TP
1PT Эти наблюдения послужили основой для научных публикаций [см.: Лейбович,
Шушкова, 2004. С. 139–156; Андреева, Кимерлинг, 2002. С. 18–20; Смоляк, 2005. С. 207–211].
TP
2PT Описываемый проект носит незавершенный характер, поэтому предложенные
вниманию читателей выводы и замечания носят предварительный характер. Нача-лом проекта стали эссе, в которых студенты-заочники должны были сделать анализ своей профессиональной деятельности (с 2003 года). Затем было решено формали-зовать сбор информации посредством специальных таблиц (с 2004 года).
120
сферы торговли и услуг – 38 человек; нигде не работающих – 19 человек.
Дополнительными материалами являются эссе, которое пи-шут студенты-заочники. По форме – это личностные наблюдения по теме: «Моя профессиональная деятельность сегодня и завтра». Объем эссе 9–12 тыс. знаков. Эссе требуется написать по особому плану, который включал такие пункты: 1) род деятельности;2) квалификация (профессиональное признание и самооценка); 3) содержание трудовых операций в их последовательности;4) способы повышения квалификации; 5) образ личностных пред-ставлений о будущей профессии. Таковых эссе на настоящий мо-мент – 172 единицы.
Анализ фраз, употребляющихся для объяснения причин об-ращения к образовательной деятельности, позволяет выделить три вида мотиваций для получения профессионального образова-ния в стенах университета.
Первую когорту, условно ее можно назвать «традиционной»,символически представляют следующие высказывания из эссе:
Учусь, потому что начальство требует (эссе 1); Все должны учиться!(эссе 2); Я в школе хорошо училась (эссе 3).
Во вторую когорту, называемую «карьерной», входят сле-дующие высказывания:
Без высшего образования сейчас никуда (эссе 4); Зарплату может быть повысят (эссе 5); Не век же мне за прилавком стоять (эссе 6); Одна у нас училась, ей зарплату повысили (эссе 7).
Третью когорту составляют высказывания, подобные сле-дующим:
Шеф не отпускает на сессию (эссе 8); Знаете, как работать и учиться тяжело. А еще семья ведь есть (эссе 9); Свекровь ворчит (эссе 10). Их можно обозначить как резистентные. На основании таких
эссе и обработанных таблиц происходит реконструкция жизнен-ного мира студента-заочника в той его части, где можно обнару-жить его связь с образовательной деятельностью.
Темой исследования является антропологическое описание офис-работников, получающих заочное высшее образование
121
в техническом университете. Исходной установкой выступает концепция жизненного мира. Мы намереваемся реконструиро-вать повседневные практики изучаемого контингента через приз-му присвоенного ими социального знания с учетом специфики предметного пространства.
В качестве методологической традиции для этой реконструк-ции используется традиция научных исследований и интерпрета-ций полученных результатов, восходящая к А.Шюцу. В рамках шюцевского подхода категория жизненного мира обозначает пе-реработанный, освоенный и интериоризированный жизненный опыт. В этот жизненный мир входит социальная среда, подвер-гающаяся со стороны индивида периодической интериоризации,что делает ее присвоенной и личностно-ориентированной для че-ловека. В процессе формирования своего жизненного опыта ин-дивид расставляет символические ориентиры и выделяет специ-фические области значений, которые в своей устойчивой сово-купности обозначают для него стратегии социального поведения [Шюц, 2004].
Вуз, созданный полвека назад в иных социальных условиях,готовит сейчас специалистов, ориентированных на рыночное по-ле производственной и экономической активности. В фокусе внимания, таким образом, оказывается тактика действий индиви-да, проходящего через «социально устаревший» институт, но ре-шившего именно в этом институте найти корреляцию с новыми экономическими реалиями профессиональной деятельности.
Согласно логике нашего методологического подхода, вначале опишем институциональное поле, в котором предстоит действо-вать студенту. Обратим внимание на то, каким предстает техни-ческий вуз в современной городской среде, куда он интегрирован историей своего создания и развития. Технический университет,в котором проходят обучение наблюдаемые студенты, относится к типичным вузам советской эпохи. Технологии и процедуры об-разовательной деятельности оформились в условиях государст-венного заказа на подготовку инженера, то есть человека, спо-собного управлять производственным процессом, организовать работу оборудования на промышленном предприятии. Современ-ный облик вуза был порожден социалистической эпохой. Именно
122
тогда была сформирована репутация вузов, накоплен ими симво-лический капитал и выстроены социальные коммуникации с го-родским сообществом как социальной средой, в которой вузы появились и функционируют.
Взглянем подробнее на историю городского технического университета. Это позволит выделить структурные черты соци-ального института, в котором проходят образовательную дея-тельность и современные студенты. В годы советского прошлого этот технический вуз, называвшийся тогда институтом, обучал в своих стенах ежегодно 6–8 тыс. человек. В основном это были студенты дневного отделения – более 60 %. Кроме них обучались группы заочников и вечерников. Выпускники дневного отделе-ния готовились для работы на советских предприятиях машино-строительной и нефтяной отрасли. В целом, эти предприятия и составляли производственную среду г. Перми. Они, в большин-стве своем, работают и сейчас: Мотовилихинские заводы (завод им. Ленина), завод им. Свердлова, завод им. Орджоникидзе, Ки-ровский завод, НПО «Искра», ЛУКойл-ПНОС (Пермнефтеорг-синтез) и др. Именно оттуда поступали заявки на выпускников института, и многие из них могли рассчитывать на уверенную карьеру на этих промышленных предприятиях. Отметим тут же,что именно местные индустриальные предприятия формировали социальный заказ на вечернюю или заочную формы обучения,где без отрыва от основной производственной деятельности мог пройти профессиональную подготовку их работник. Ностальгия по этим временам иногда воспроизводится в студенческих текстах:«Раньше было вечернее образование, было удобнее» (эссе 11).
Выпускник технического института вполне мог рассчитывать на распределение и в другие города страны, где также были вос-требованы инженеры машиностроительного, авиационного или другого профиля. В системе профессиональной подготовки выпускники политехнического института котировались несколь-ко ниже Ленинградского механического института, или МВТУ им. Н.Э. Баумана, но не более. Кроме кадров для городской и отечественной индустрии велась подготовка работников смеж-ных областей: строителей, автодорожников.
123
В целом, можно говорить о том, что институт был системно интегрирован в модель советского индустриализма и занимал в нем вполне определенное место. Студент, проходивший через образовательные процедуры в его стенах, получал стандартный набор знаний и навыков профессиональной и общественной дея-тельности, он мог рассчитывать сделать карьеру после получения искомого диплома. Его социальный статус был признан и обла-дал собственной престижностью, подтверждением чему служили наблюдаемые карьерные достижения выпускников прежних лет,занимавших должности начальников цехов, главных инженеров идиректоров крупных предприятий, ответственных работников министерств и партийного аппарата. Об этом успешно доводи-лось до сведения студента в ходе пропагандисткой деятельности посредством наглядной агитации, расположенной на стенах кор-пусов института. Да и в частных повседневных коммуникациях советского времени непременным условием социальной характе-ристики, которую давали коллеги и знакомые своему окружению,было указание на учебное заведение, где прошел профессиональ-ную подготовку этот человек. Элементами корпоративной соли-дарности можно считать регулярные встречи выпускников вуза,считавшиеся значимым и обязательным мероприятием, в ходе которого происходила презентация социальных достижений по-слевузовской карьеры. Социальный статус технического образо-вания был признан в городском сообществе и позволял претендо-вать его носителю на стабильные социальные позиции: «У меня родители после политеха на заводе работали» (эссе 12).
Опорным компонентом этого статуса было отличие выпуск-ника технического института от выпускников средних техниче-ских заведений профессионального профиля, готовивших спе-циалистов массовых профессий. К последним относились выпу-скники техникумов и ПТУ, освоившие специальности фрезеров-щика, сварщика, токаря, водителя, маляра-штукатура и др. Их специфической характеристикой было – невысокий уровень ин-формационной компетентности. Фрезеровщик был не обязан знать о сопротивлении материалов, физических и прочих свойст-вах металлов, из которых были изготовлены детали, требующие его обработки. Информация о том, с каким уровнем допусков,
124
согласно какой технологической схеме надо проводить обработку детали сообщал ему на производстве мастер – эта должность бы-ла стартовой в карьере выпускника технического института. Ос-новным профессиональным требованием для работника массовой профессии было владение конкретными навыками непосредст-венной рабочей деятельности на производственном месте. Мас-совые профессии были сопряжены с физическим трудом.
Иногда выпускник вуза занимал должность по своему номи-нированию близкую работнику со среднеспециальным профес-сиональным образованием, которое предлагал техникум. Так,в 80-е годы XX века на заводах появились настройщики станков с программным управлением. Однако на эту работу брали ис-ключительно людей с высшим техническим образованием, так как несмотря на схожесть с обычной рабочей должностью, этот работник должен был программировать станки, используя зна-ния, выходящие за рамки обычного знания рабочего за станком.Стоит отметить, что в Перми, с его многочисленными промыш-ленными предприятиями и десятками цехов, в которых появи-лись станки с ЧПУ (числовым программным управлением), ква-лифицированные специалисты в этой области были, что называ-ется, наперечет. Для развития этого направления промышленного производства в политехническом институте в 80-х годах XX века была открыта соответствующая специальность, готовившая ин-женеров, владеющих технологией программирования и способ-ных настраивать соответствующий парк станков цеха промыш-ленного предприятия под меняющиеся нужды производственного процесса. С развитием этого направления в годы перестройки партийное руководство связывало планы перевооружения про-мышленного производства и надежды на серьезное повышение производительности труда на индустриальных заводах. Таким образом, технический вуз открывал новые направления техни-ческой подготовки специалиста, связанные с перспективными и социально престижными отраслями промышленного произ-водства.
В нынешних условиях социальная ситуация изменилась.Изменился и институт. Согласно веяниям времени он поменял название и стал именоваться университетом. При подготовке
125
к празднованию юбилея университета осенью 2003 года, ректорат заявлял о том, что в стенах университета вместе с филиалами обучаются свыше 20 тыс. студентов. В 2005 году их заново пере-считали. Получилось около 30 тыс. человек. Это в 4–5 раз боль-ше, чем обычный состав студентов в советское время. Отметим,что в начале 90-х годов XX века, когда происходили первые ры-ночные реформы и либерально-демократические преобразования в государственной системе власти, наметилась тенденция к со-кращению числа студентов, поступающих на инженерные специ-альности. Сокращение также происходило за счет полного отказа от вечерней и существенного сокращения заочной форм обуче-ния. Именно такая социальная реакция последовала в условиях кризиса, переживавшегося городской промышленностью в ходе приватизационных процессов и первичной адаптации к новым условиям работы, когда государственный заказ существенно со-кратился, а для некоторых предприятий и вовсе был отменен.
Рост числа студентов наметился в самом конце 90-х годов и стал весьма интенсивным в 2001–2004 годах. Появились новые факультеты. В 1993 году был создан гуманитарный факультет,который к 2004 году может считаться самым крупным в системе технического вуза. Ряд факультетов поменял названия. Бывший машиностроительный факультет, объединившийся с факультетом авиадвигателей, стал аэрокосмическим. Он планирует готовить кадры для российской авиационной промышленности. Откры-лись новые специальности. Расширился набор на прежние специ-альности, поэтому в редкой группе сейчас числится меньше 30 человек, образуя потоки даже не в 60 человек, а в 90 или 120. Возобновился и существенно вырос набор студентов на заочное отделение. Появились и набирают популярность новые формы образовательной деятельности – дистанционное образование.
Внешне все эти перемены связаны с коммерциализацией об-разовательной деятельности. Студент, который не смог или не захотел поступить на бюджетное место, может поступить на эту же специальность на коммерческой основе, внося ежегодно неко-торую сумму: от 24 до 36 тыс. рублей. Не все новые специально-сти стали официально платными. Специальности гуманитарного факультета, появившиеся в 90-х годах, частично сохраняют бюд-
126
жетное финансирование. Но в каждой группе до половины сту-дентов могут быть теми, кто заключил коммерческий договор с вузом. А заочное образование является платным почти полно-стью, сохраняя слабые очаги бюджетного конкурсного приема на отдельных технических факультетах там, где принимали заоч-ников еще в советское время.
В этом расширении номенклатуры специалистов, которых готовит современный технический вуз, и существовании коммер-ческих принципов этой подготовки, на первый взгляд, можно увидеть адаптацию учреждения высшего образования к новым рыночным условиям, его переход на рыночные отношения, его конкурентную борьбу на образовательном рынке. Готовность студентов (или их родителей) отдать деньги за образовательные услуги и получить право претендовать на заветный диплом о высшем образовании через 4–5 лет обучения можно интерпре-тировать как демонстрацию обществом социального доверия к престижному образовательному учреждению, предоставляю-щему профессиональные сертификаты. В этом контексте плата за образование представляет собой очевидный аргумент в пользу утверждения, что высшее образование обладает большим соци-альным престижем в современном обществе. Это логическое умозаключение можно расширить, сказав, что высшее образова-ние по-прежнему позволяет обладателю диплома претендовать на престижные социальные статусы в городском индустриальном сообществе. В таком случае социальные устремления наших ин-формантов вполне рациональны.
Предложим посмотреть более внимательно на номенклатуру новых специальностей, которые открылись в стенах современных вузов. Технический университет увеличил набор студентов не при помощи открытия новых направлений подготовки технических специалистов. Он сумел в 3–4 раза увеличить объем студентов только за счет появления и расширения форм образовательной деятельности на новых специальностях совершенно особого про-филя. Речь идет о подготовке будущих выпускников, которые смогут на рынке труда претендовать на должность «менеджера».
В многочисленных названиях специальностей, которыми пе-стрит рекламный плакат перед входом в главный корпус универ-
127
ситета, можно безошибочно угадать те, на которых подготовят к работе «менеджером», хотя в реальности они и называются иначе: специалист по связям с общественностью, лингвист-пере-водчик, маркетолог и т. п. В этой череде социально-гуманитар-ных вариантов такого образования свое место занимают и про-фильные вариации на тему «менеджер по…»: автоматизирован-ное управление жизненным циклом продукта, менеджер по не-движимости, экономика и управление промышленностью, эконо-мист социальной сферы, бухгалтер-экономист нефти и газа.
Всех этих студентов будет объединять будущая карьера. Она у них очень похожа. Их рынок труда создан в процессе рыночных реформ и располагается в офисах коммерческих фирм и предпри-ятий. Именно в этом сегменте трудовых отношений слово «ме-неджер» получило твердую прописку, как престижное обозначе-ние должности в офисе или места продавца-консультанта в мага-зине по продаже компьютеров, кондиционеров, материалов для ремонта квартиры. Можно говорить, что термин «менеджер» стал устойчивым обозначением новых массовых профессий, которые появились в народном хозяйстве вместе с частным бизнесом.Из прежнего набора у этих специализаций были исключены ос-новные промышленные и строительные области деятельности.А вместо навыков конструирования, управления технологиче-ским процессом и организации непосредственной работы людей,в профессиональном наборе менеджера осталось только управле-ние персоналом. Произошло сужение поля профессиональной активности, сведенного фактически к миру сервиса и услуг или управлению персоналом.
Подготовка человека к работе в офисе не требует освоения специфических навыков, входящих в рациональное профессио-нальное знание индустриальной эпохи. Требования к офис-ме-неджеру непритязательны: умение пользоваться настольным компьютером, коммуникабельность в отношениях с клиентами:«Клиенты любят поговорить, вот и треплешься с ними, иногда по полчаса» (эссе 13); спокойное сосуществование с коллегами в тесном помещении и лояльность начальству, проявляющаяся через исполнительность, неконфликтность и соблюдение времен-ного режима. Причем лояльность к начальству иерархически за-
128
нимает самое важное место. Если горизонтальные коммуникации с коллегами наши информанты описывали как естественным об-разом регулирующийся процесс:
С 9.15 до 9.30 мы с коллегами пьём чай (эссе 14); Если у кого-то в на-шем офисе день рождения, то мы обязательно дарим общий подарок.Именинник покупает торт, и мы вечером пьём чай. А начальник может подарить что-нибудь от имени фирмы (эссе 15). В последнем случае уже видно, что статус начальства выде-
ляется из общего восприятия, что подтверждается и высказыва-ниями относительно взаимодействия с ним, восприятие которого подчеркнуто иерархично:
Опоздание на работу воспринимается нашим начальником как личное оскорбление (эссе 16); Начальству не возразишь (эссе 17); Наш на-чальник очень много внимания уделяет здоровью сотрудников. Мы все записаны в спортивный центр. Там бесплатно можно заниматься (эссе 18). Соответственно образовательные практики для таких студен-
тов несут скорее организационную нагрузку, чем содержатель-ную. Диплом превращается в свидетельство, что выпускник про-шел через внешне установленные организационные процедуры испособен долгое время находиться в социально-принудительном взаимодействии с другими людьми в заданном пространстве. Не-которые высказывания относительно критериев компетентности человека в своем деле демонстрируют, что современные студен-ты-заочники уверены в том, что профессиональные достижения расположены за пределами их непосредственной работы:
Везде требуют диплом. …иначе только подчинённым будешь (эссе 19); Человек с образованием – это культурный человек (эссе 20); У него слова другие, он два диплома имеет. <…> Он всегда работу найдёт (эссе 21); С дипломом экономиста можно легче найти работу, началь-ство заметит, может зарплаты прибавит (эссе 18). Они демонстрируют сложившийся стереотип восприятия
своего профессионального поля, как не имеющего зримого карь-ерного роста. Отметим тут же, что отмечаемый в эссе карьерный рост часто связывают с личностной оценкой начальника: «Ведь оно как. Понравишься начальнику сразу – можно и зарплату хо-
129
рошую получить, и всё остальное» (эссе 22). Причем по контек-сту дальнейших рассуждений речь идет именно о карьерном профессиональном росте бухгалтера в фирме, насчитывающей более 100 сотрудников. Для наших информантов карьерный рост состоит из двух, иногда трех должностей, которые можно естест-венным путем пройти за 3–5 лет работы в фирме: «Я сейчас уже начальник подразделения» (эссе 23), – с гордостью сообщает работник торговой фирмы с общим количеством сотрудников в 17 человек. Его карьера закончилась. Получаемое им второе образование, в реальности являющееся переподготовкой по эко-номической специальности, является попыткой найти выход из тупиковой карьеры, у которой не может быть продолжения,так как переход в другую фирму заставит начинать все с самого начала.
Отметим, что в некотором виде ожидания студентов, посту-пивших на новые специальности по подготовке специалиста мас-совой профессии «менеджер», могут быть признаны вполне ра-циональными, особенно если вспомнить ранее упоминавшуюся когорту карьерной мотивации, сторонников которой довольно много. Прогнозируемое ими поле собственной трудовой деятель-ности будет включать работу в системе, где профессиональные достижения определяются ролью, которую играет человек в сети личностных отношений, выстроенных как по горизонтали, так и по вертикали. Именно модель социальной сети адекватно ха-рактеризует офисную среду современного бизнеса. В этом про-странстве нет условий и возможностей для формирования устой-чивых институциальных комплексов, подобных тому, что созда-ют индустриальные производства в современном мире. Жизнен-ный мир офисов подвижен и социально изменчив, но самое глав-ное, что в отечественных условиях содержит в себе существен-ную долю личностного отпечатка мировоззрения непосредствен-ного владельца-директора-начальника. Его уход или увольнение означают масштабную перестройку, затрагивающую прежние достижения и карьерные шаги:
130
У нас, когда начальник сменился, всё поменялось. Новая метла она по-новому метёт (эссе 24); Прежний начальник был лучше. Он премию мог дать (эссе 25). В последнем высказывании очевидна тоска по утерянным
достижениям, которые исчезли, когда изменился тот человек,с которым была успешно выстроена профессиональная коммуни-кация. Зависимость от начальства проникает в самые потаенные уголки офисной жизни, она повседневна и тотальна, что не скры-вают и сами информанты:
Наш – как бог! (эссе 26); У нас больничный не признают. Надо с Са-мим договариваться. <…> А ещё Василий Николаевич очень требова-телен к чистоте на рабочем столе сотрудников. Он постоянно проверя-ет у кого порядок, а кто всё побросал и с работы побыстрее убежал (эссе 27). Таковы последствия особого устройства современного офиса
малой и средней фирмы. Во многих городских фирмах офисное пространство настолько компактно, что от начальства сотрудни-ков фирмы отделяет лишь обычная дверь в соседнее помещение.В этих условиях институциализация отношений по вертикали и горизонтали встречает естественные препятствия. Поэтому корпоративный мир современной фирмы напоминает семейную модель социальной жизни. Она слегка организована по времени и пространственному расположению, но основные элементы культурной регуляции социального взаимодействия заимствуют из культурной среды семейных и личностных сфер. Показательно одно из высказываний в эссе, описывающее появление нового сотрудника в женском коллективе небольшой фирмы:
Вот молодая пришла. Она и жизнь не видела, ничего не умеет. А мы её всему научим… она нам как дочь (эссе 28). Можно сказать, что в современных офисах социальная диф-
ференциация жизненного мира разделена на две части: публичную и частную. В нем размыты границы между нормами личностного и публично-ролевого взаимодействия. Поэтому в массовых про-фессиях, порожденных этим социальным миром, нет жесткой
131
дифференциации на производственную и частную жизнь, не ус-певает сложиться традиционная рационализированная профес-сиональная культура, которая бывает оформлена в профессио-нальных ритуалах, обрядах и инициациях, то есть в институци-альных формах и статусах, закрепляющих систему социальной сегментации жизненного пространства человека.
Подготовка человека к профессиональной работе в этих ус-ловиях отличается от подготовки инженера-производственника не только по содержанию образовательной деятельности. Она требует изменений в технологии образования. Становится допус-тимым (и даже необходимым) упрощение образовательного про-цесса. Он может быть эпизодическим, так как освоение профес-сиональных навыков практической деятельности, что составляет основное институциальное содержание долговременного обуче-ния технического специалиста-инженера, переносится из вуза в мир офиса. Поэтому такая подготовка менеджера естественным образом сочетается с заочной формой образования. Установоч-ные лекции, контрольные работы и зачеты / экзамены, которые проходят два раза в год в течение четырех сессионных недель,становятся подобны популярным кратковременным курсам,на которых сообщают последние изменения, произошедшие в на-логовом законодательстве или бухгалтерском учете.
В то же время новые ориентиры подготовки менеджеров по-зволяют вузу иначе организовать распределение учебной нагруз-ки. Речь идет об эксплуатации аудиторного фонда. Можно орга-низовать процесс обучения разных групп таких заочников согласно модели заводского конвейера, придуманного еще Г. Фордом. Для этого необходимо всего лишь провести распределение учебных групп по разным месяцам. Так, например, в техническом универ-ситете зимняя сессия для заочников начинается в конце ноября,а заканчивается в конце февраля. За это время студенты должны успеть сдать по 4–6 зачетов и 3–4 экзамена, а также прослушать обзорно-установочные лекции по 7–9 учебным предметам. Пол-ное обновление потока различных специальностей менеджеров происходят за 4–5 недель. То есть за такие четыре месяца можно «пропустить» через аудитории университета в три раза больше студентов, чем за классическую зимнюю сессию в январе. При-
132
чем студентами такие изменения в учебном процессе восприни-маются как вполне нормальные: «У нас экзамены только на этой неделе и всё» (эссе 29).
Особенность этой подготовки менеджеров хорошо проявля-ется через зависимость такого учебного процесса от территори-ального распределения в учебных корпусах университета. Ус-пешно обозначенная модель образовательного конвейера смогла работать только в центральном учебно-административном зда-нии. Расположение его в самом центре города, в точке пересече-ния многочисленных транспортных потоков из самых разных частей города, позволяет таким студентам приходить / приезжать на образовательные процедуры в свободное от работы время,подчиняя процесс образования основному ритму рабочего дня.От этих студентов часто можно услышать в качестве объяснения причин отсутствия / опоздания на лекции или даже экзамен, что они были загружены на работе и не могли отпроситься у началь-ства: «У нас начальник строгий, он только на два часа отпустил»(эссе 30). Для студентов-заочников такое оправдание восприни-мается как универсальное и все оправдывающее разъяснение происходящему. Не случайно, что занятия для них очень часто ставятся в вечернее время или в выходные дни, что опять же по-зволяет повысить эффективность эксплуатации аудиторного фонда. Но эти студенты принципиально не согласны ездить для образовательных процедур на «комплекс», так как дорога туда-обратно будет отнимать около полутора часов на автобусе:
Туда далеко ехать, я не успеваю (эссе 31); На машине дорого каждый раз ездить (эссе 32); В этом автобусе на шубе как-то пуговицу оторва-ли, я больше там не езжу (эссе 33). А эксплуатация личного автотранспорта в этом режиме пред-
ставляется экономически затратной. То есть они не готовы к вре-менной организации учебного процесса как основной процедуре дневной деятельности.
На «комплекс» нельзя забежать на одну «пару», если удалось отпроситься у начальника, затруднительно оттуда возвращаться на работу, если поступил «срочный» звонок от руководства, тре-
133
бующего присутствия своего подчиненного на рабочем месте.Поэтому в техническом университете наблюдается специфиче-ская картина дифференциации учебной деятельности. Централь-ные корпуса полностью загружены с 8.00 до 20.00, в то время как аудиторный фонд комплекса работает в относительно свободном ритме и найти там днем пустую аудиторию намного легче, чем в городских корпусах. Обособленность ритма жизни комплекса,его дистанцированность от современной городской среды, прояв-ляющаяся в топографии, в ритмах передвижения, в лесном мас-сиве, начинающемся около дома, в ослабленном проникновении новых форм торгового капитала – все это позволяет в определен-ной степени сохранять и воспроизводить компоненты прежней идентичности в производственном процессе.
Указанная организация образования заочников может слу-жить только наглядной демонстрацией скрытых моделей пере-стройки технологии по подготовке специалиста в техническом вузе. Дело в том, что подчинение установкам подготовки выпу-скника на рынок новых массовых профессий оказывает серьезное воздействие на перемены в подготовке классических специали-стов. Они выглядят не такими масштабными и системными,но в той или иной мере соотносимы с описанной моделью.В корпусах комплекса просто невозможно применить модель об-разовательного конвейера в полной мере. Хотя соотношение сту-дентов в группе и преподавателей за последние годы сильно из-менилось: было 1:8–10, а сейчас приближается к 1:25.
Современное институциальное нормирование вузом поведе-ния человека утрачивает свою обособленность от ритма повсе-дневной городской жизни. Размывание этих границ означает по-тери вузом части своего символического капитала, накопленного за прежние годы. Симптомом этих процессов можно также счи-тать массовое распространение «второго образования», когда студенты технических специальностей стремятся получить еще одно «второе высшее» образование, например «маркетолог», «менеджер по экономике». Это дополнительное образование,по существу, представляет собой уход от рациональности в про-фессиональной сфере, возвращение в традиционалистскую куль-турную среду, совершаемые при помощи псевдорациональных
134
методов [Андреева, Кабацков, 2004. С. 126–138]. Отказавшись от профессиональной идентичности, эти студенты поддаются воздействию новых социальных ориентаций, от которых их ока-зываются не способными оградить стены современного техниче-ского университета. В конечном счете вполне оправданной будет выглядеть и их дальнейшее стремление выстраивать собственные карьерные стратегии без учета профессиональных знаний по спе-циальности, указанной в дипломе, а с опорой на жизненный опыт, на личные ощущения и семейные связи.
Парадокс ситуации в том, что эти процессы изменения структуры профессиональной подготовки, изменения в профес-сиональных карьерах, которые видны на примере новых «менед-жеров народного хозяйства» меняют содержание профессиональ-ной деятельности и соответственно одного из опорных элементов производственной жизни современного горожанина. То, что в рам-ках настоящей статьи рассматривается через трансформацию конкретной технологии подготовки технического специалиста в вузе, является лишь частью большого социального процесса изменения институтов, составлявших основу отечественной вер-сии индустриализма и промышленного города. Указанный про-цесс шире, чем изменения образовательного института. Он каса-ется формирования нового облика мегаполиса, его нового стиля жизни. В этом отношении в отечественных переменах можно об-наружить параллели с трансформацией в западных странах, когда заводское производство стало перемещаться в иные государства,и жизнь горожанина стала подчиняться менее индустриализиро-ванным нормам культуры [Бауман, 2002].
Главное отличие нашей ситуации заключается в том, что но-вые массовые профессии, в том виде как они наблюдаются в об-разовательной среде, становятся предвестником иной культуры,не обязательно воспринявшей рациональное мироустройство как естественный принцип социального взаимодействия.
Офис-работник сохраняет свои культурные черты, приобре-тенные в трудовой деятельности, а также и в образовательных практиках. Он ориентирован на прямое, беспредметное общение,на межличностные коммуникации, выстраивает психологическую защиту перед социальными импульсами, расходящимися с его
135
жизненным опытом. Для него вуз – продолжение офиса. И в сво-их образовательных поступках он подчиняется освоенным в фирме ритуалам, воспроизводит или старается воспроизвести разучен-ные церемонии, пытается обустроить учебное пространство по образцам, заимствованным на рабочем месте. Институт выс-шего образования уступает в своем влиянии институциализиро-ванным практикам офисного мира.
Андреева О., Кабацков А. Институциональный кризис образования через призму профессиональной культуры // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 2004. Т. VII. № 1(25). С. 126–138.
Андреева О., Кимерлинг А. Отношение студентов технического универ-ситета к профессиональному образованию // Актуальные проблемы развития университетского технического образования в России. Са-мара: СГУ, 2002. С. 18–20.
Бауман З. Индивидуализированное общество.М.: Логос, 2002. Лейбович О., Шушкова Н. На семи ветрах: институт высшего образова-ния в постсоветскую эпоху // Журнал социологии и социальной ан-тропологии. 2004. Т. VII. № 1(25). С. 139–156.
Национальный вопрос в городском сообществе: Социокультурные ха-рактеристики межнациональных отношений в большом уральском городе на исходе ХХ века. Пермь: ПГТУ, 2003.
Смоляк О.А. О Вечном студенте замолвите слово // Формирование гу-манитарной среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, школе.Пермь: ПГТУ, 2005. С. 207–211.
Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004.
Описание полевых данных Эссе 1. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 29 лет. 2004 год.Эссе 2. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 37 лет. 2003 год.Эссе 3. Студентка группы ЭУ. ПГТУ.Женщина, 19 лет. 2004 год.Эссе 4. Студент группы ЭУ. ПГТУ.Мужчина, 32 года. 2005 год.Эссе 5. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 22 года. 2005 год.Эссе 6. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 31 год. 2004 год.Эссе 7. Студентка группы УН. ПГТУ.Женщина, 26 лет. 2005 год.Эссе 8. Студентка группы УН. ПГТУ.Женщина, 24 года. 2005 год.Эссе 9. Студент группы 7Б. ПГТУ.Мужчина, 27 лет. 2003 год.Эссе 10. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 27 лет. 2004 год.Эссе 11. Студент группы АТз. ПГТУ.Мужчина, 36 лет. 2005 год.
136
Эссе 12. Студент группы ТКз. ПГТУ.Мужчина, 24 года. 2005 год.Эссе 13. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 27 лет. 2004 год.Эссе 14. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 25 лет. 2003 год.Эссе 15. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 37 лет. 2004 год.Эссе 16. Студентка группы УН. ПГТУ.Женщина, 28 лет. 2005 год.Эссе 17. Студентка группы ЭУ. ПГТУ.Женщина, 24 года. 2005 год.Эссе 18. Студентка группы ЭУ. ПГТУ.Женщина, 25 лет. 2005 год.Эссе 19. Студентка группы ТКз. ПГТУ.Женщина, 21 год. 2005 год.Эссе 20. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 29 лет. 2005 год.Эссе 21. Студент группы 7Б. ПГТУ.Мужчина, 22 года. 2004 год.Эссе 22. Студентка группы АТз. ПГТУ.Женщина, 33 года. 2005 год.Эссе 23. Студент группы ТКз. ПГТУ.Мужчина, 29 лет. 2005 год.Эссе 24. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 23 года. 2004 год.Эссе 25. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 25 лет. 2004 год.Эссе 26. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 24 года. 2004 год.Эссе 27. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 28 лет. 2005 год.Эссе 28. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, старше 40 лет. 2004 год.Эссе 29. Студентка группы 7Б. ПГТУ.Женщина, 22 года. 2005 год.Эссе 30. Студентка группы АТз. ПГТУ.Женщина, 26 лет. 2005 год.Эссе 31. Студент группы АТз. ПГТУ.Мужчина, 25 лет. 2005 год.Эссе 32. Студент группы ТКз. ПГТУ.Мужчина, 30 лет. 2005 год.Эссе 33. Студентка группы ТКз. ПГТУ.Женщина, 20 лет. 2005 год.
Раздел 2 КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ
«НАЧАЛЬНИК ЧАХОТКИ»: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ВЛАСТИ
Оксана Запорожец, Елена Баева
«Начальник чахотки», – именно так недавно назвал себя один из наших информантов – врач-фтизиатр. В этой предельно лако-ничной формуле, проходящей рефреном во многих интервью,помимо иных смыслов отчетливо звучала тема медицинской вла-сти. И хотя наша работа по изучению социального контекста ту-беркулеза изначально не была связана с темой медицинской вла-сти, проявления этой власти были так ощутимы на различных уровнях, что впоследствии превратились в самостоятельную тему анализа. Писать о медицинской власти после «Рождения клини-ки» М. Фуко – затея авантюрная и, возможно, сомнительная. Ка-жется, все или почти все уже было сказано, круг проблем очер-чен, выводы сделаны. Однако сама специфика посттоталитарного общества задает новую перспективу подобного анализа. Харак-терное для него нарушение единства действий институций, ранее объединенных государством, перераспределение власти
от единственного центра к многочисленным центрам, которыми ока-зываются дисциплинарные институты и действующая в их рамках бю-рократия: …эксперты-психиатры, медики, организаторы промышлен-ного производства и школьного образования [Михель, 2003. С. 94],
требует осмысления новых контуров медицинской системы и механизмов реализации власти.
Перераспределенная власть локализуется в строго опреде-ленных топосах, за пределами которых зачастую являет свою не-состоятельность и отсутствие рычагов контроля. Одним из подоб-ных топосов медицинской власти является больница, обладающая
138
status localis и выступающая «эссенцией» социальной ситуации.Именно здесь исследователь получает возможность на неболь-шом пространстве наблюдать многообразие властных проявлений носителей медицинских знаний по отношению к пациентам и приобретающих специфический статус больного.
Говоря об изменениях медицинской системы в посттотали-тарном обществе, нельзя не отметить динамику ее отдельных элементов, в частности системы профилактики и лечения легоч-ных заболеваний, осознающей уменьшение своего контроля над обществом в связи с сокращением государственной поддержки.Вынужденная реагировать на изменение общественной ситуации эта система выбирает различные способы противостояния. Один из них – сохранение власти вне своего топоса: в конце 1990-х го-дов особенно четко обозначились требования фтизиатров разра-ботать механизмы принудительного лечения туберкулеза. Иным способом стало удержание власти внутри топоса. Так родилась наша идея исследования практик власти в стенах фтизиатриче-ских клиник.
Для понимания социального контекста посттоталитарного общества и особенностей организации топосов медицинской вла-сти представляется оправданным обращение к идеям М. Фуко.Однако фукольдианская перспектива не была выдержана здесь в «чистом виде» в силу ее ограниченности. Нельзя не согласиться с Б. Тернером, отмечавшим однонаправленность такого анализа:«Фуко не анализирует феномены оппозиции и сопротивления ме-дицинской власти» [Тернер, 2001. С. 72]. Между тем именно прак-тики сопротивления во многом определяют подвижность границ власти, задают ее новые контуры. Мы полагаем, что конструиро-вание механизма принуждения представляет собой отнюдь не «улицу с односторонним движением», а сложное переплетение действий и противодействий всех участвующих агентов.
Иерархии как основания власти Власть в больнице во многом возможна благодаря сосущест-
вованию и взаимопроникновению иерархий, регламентируемых различными источниками: общими законодательными положе-ниями, внутренними предписаниями, моральными императивами.
139
Наряду с очевидной иерархией отношений «медики-пациенты», можно говорить о двух «внутренних» видах иерархий. Первая – корпоративная – дифференцирует медиков по объему и содержа-нию профессиональных знаний, выполняемых функций, опреде-ляет объемы власти и ответственность за нее. На уровне повсе-дневных практик медики выделяют две группы агентов цеховой системы: «старших» (врачи различного уровня) и «младших»(медсестры, лаборанты, санитарки). В медицинской иерархии,с одной стороны, поддерживается общая корпоративная иден-тичность («Все мы берёмся за сложнейшие вещи»). С другой сто-роны – осознается и поддерживается иерархичность системы:«Мы, в общем, исполнители, а не думающий орган» (медсестра).
С положением в иерархической структуре связана и сама возможность рассказа: право говорить о себе и состоянии дел в больнице принадлежит преимущественно «старшим» – глав-врачам, заведующим отделениями, отчасти практикующим вра-чам, но не медицинским сестрам. В частности, исследователи столкнулись с трудностью получения согласия на интервью с большинством медицинских сестер и некоторыми врачами, мо-тивировавшими свой отказ боязнью нарушить существующую служебную субординацию:
А главврач разрешил? (врач); Собственно говоря, этот вопрос уже не ко мне, это надо к заведующему. У нас есть зав. поликлиникой, это уже, конечно, к нему вопрос (врач). Наряду с этим всегда существует риск сказать что-то не то,
присвоить себе несвойственную статусу нарративную компе-тентность:
Ой, я даже не знаю. Это вам нужно к заведующему с таким вопросом обратиться, она вам, может, расскажет (врач).
В ряде полученных интервью «прочитывается» не только статусное право рассказа, сколько боязнь – подчас скрытая – рефлексии устоявшейся «системы»: внутрицеховых отношений,должностных функций, принципов взаимодействия с пациента-ми, включая неформальные, нерегламентированные цеховые практики селекции, давления и контроля. В качестве объяснения
140
«нормальности» устройства системы информанты ссылались на действующее законодательство: «Я лишь знаю, что есть закон,по которому мы работаем и всё» (медсестра); принятые практики профессионального сообщества:
Уже ко всему привыкла: ведь уже больше 20 лет здесь работаю, всякое повидала. Вот я и перевяжу, и мокроту вылью, уберу всё. И всё нор-мально. Здесь нет ничего такого. Да и не я одна, все медсёстры это де-лают (медсестра). Кроме того, наши собеседники проявляли склонность сужать
свои права до уровня выполнения должностных обязанностей:
Просто мне неохота трепать языком, что я вам сейчас буду рассказы-вать… Я не делаю выводов по лечению, моя работа – искать палочки (медсестра). Можно предположить, что рефлексия устройства клиники
и реализации власти может стать критической для существования самой системы, поскольку сделает явными неформальные, усто-явшиеся медицинские практики, а также потребует определенных изменений. Дистанцирование от заведомо опасного анализа вы-ступает в этой связи своеобразным механизмом самозащиты.
Вторая иерархия – иерархия пациентов (а именно здесь в полной мере реализовываются практики власти медиков) –представлена двумя классификациями больных собственно по болезни и по «социальной благонадежности». Первая диф-ференцирует пациентов по характеру и тяжести заболевания.Вторая оперирует немедицинскими, оценочными оппозициями:«порядочный» / «непорядочный», то есть соблюдающий / не со-блюдающий режим лечения, предписания врача, «нормаль-ный / асоциальный» – с отсутствием / наличием опыта тюремного заключения или вредных привычек. Различно и функциональное значение иерархий пациентов: на основе первой разрабатываются протоколы лечения туберкулеза, вторая выполняет селективную функцию.
Медики используют эти классификации для демонстрации эффективности работы системы стороннему наблюдателю. Именно «порядочные больные» изначально приглашались для разговора
141
с социологами, именно им давался голос медицинским персона-лом. «Лояльные пациенты» выступают своего рода «проводника-ми» решений и поддерживающей силой больничного порядка.
Контроль больных в топосе власти Вполне естественно, что медицина, как дисциплинарный ин-
ститут, обладает своими инструментами реализации власти, по-средством которых она
достигает решения прекрасной задачи внедрения в человеческую жизнь позитивных фигур здоровья, целомудрия и счастья [Фуко, 1998. С. 68]. К числу весьма очевидных и распространенных инструмен-
тов можно отнести ряд способов контроля над ситуацией внутри основного топоса системы – больницы. Контроль проявляется в самом начале пути, когда пациенту ставится и подтверждается диагноз, присваивается новая идентичность больного и предпи-сываются новые правила поведения. Другим проявлением кон-троля выступает регламентация временных рамок лечения по-средством определения длительности и режима лечения – «кол-лективный и обязательный ритм, навязанный извне» [Фуко, 1999. С. 221]. Следует упомянуть и регламентацию места лечения в рамках дихотомии больница / дом и дифференциации больнич-ного пространства, например – «плохая / хорошая» палата (коли-чество больных, их состав, бытовые условия). Важными институ-тами контроля выступают определение способа лечения (хирур-гическое вмешательство, консервативное или санаторно-курорт-ное лечение) и предоставление противотуберкулезных лечебных препаратов пациентам. Здесь важно отметить, что фтизиатриче-ские препараты не поступают в свободную и рецептурную про-дажу, поэтому медикаментозным ресурсом обладают только про-тивотуберкулезные учреждения. К контролю относится и цензура информации о заболевании и лечении. Она осуществляется в двух формах: во-первых, пациенту предоставляется «адаптиро-ванная» информация о заболевании, во-вторых, неполные сведе-ния о характере лечения и его побочных эффектах. Пациент не информирован в деталях об основных методах лечения, побочных
142
последствиях и не может сам выбирать лечение. Присутствуют и санкции за нарушения режима, и прямое принуждение:
Там, встал и пошёл, мимо столика с лекарствами не пройдёшь и мимо процедурного кабинета тоже не пройдёшь. Нет, если пройдёшь, так на тебя кричат. Вперёд. В столовую можно тоже сказать, загоняют, того,кто не ест, загоняют, не хочешь есть, «тебе надо», – говорят (пациент). Способы контроля больных дифференцированы и основыва-
ются на селекции пациентов как по медицинским показателям,так и по степени их «порядочности». Эти практики оказывают непосредственное влияние на характер медицинской помощи,предоставление информации и санкций в отношении пациентов.Медицинским персоналом формируется новый нормативный контекст, в котором происходит легитимация сортировки паци-ентов на «хороших» / «порядочных» и «плохих» / «непорядоч-ных» как в сообществе медиков, так и среди пациентов. С этим связано выделение специфических нормативно не регламентиро-ванных способов контроля больного. Речь идет, в частности,о практиках селекции больных в назначении лекарств по описан-ному критерию. Например, несмотря на выбранный протокол ле-чения, пациенту предлагается принимать лекарства менее доро-гостоящие и эффективные:
Тот, кто, конечно, не лечится, утром укол делают, а в обед денатурку пьёт. Правильно, что ему будут хорошие лекарства давать? Нет (паци-ент); Лекарственные препараты нового рода, они очень дорогие. И за-купить такие препараты мы можем на 10–15 человек… Приходится,конечно, выбирать: по формам течения, порядочный или нет больной,который хочет лечиться и будет, то есть мы действуем методом отбо-ра… (врач).
Медицинская власть: ответная реакция Властные практики реализуются уже на начальной стадии
отношений врач-пациент, когда врач навязывает потенциальному больному определенные ролестатусные позиции посредством по-становки диагноза. Однако жесткость, тоталитарность границ ме-дицинской власти не столь очевидна. Как уже отмечалось выше,фукольдианская традиция анализа не фокусируется на возможных
143
практиках сопротивления, в то же время уже на первой ступени коммуникации врача с больным возможны «осложнения» в при-нятии новой идентичности:
Больной пришёл на приём к врачу, он может не подумать, что у него туберкулёз. И для многих наш диагноз – как гром среди ясного неба…И даже начинают нас подозревать: чего придумали? (врач). Соответственно, от «правильной» коммуникации с больным
будет зависеть степень его подконтрольности медперсоналу:
Он говорит: «Вы меня обманываете»… Мы начинаем объяснять,сколько это стоит, что нам, типа того, лишней работы не надо… наша зарплата от количества пациентов не зависит (врач). Можно также утверждать, что властное поле формируется не
только медицинским персоналом, безусловно, обладающим своими инструментами власти. Смещая оптику анализа в сторону ответных реакций, мы признаем конструируемую природу власт-ных границ – их подвижность, зависимость не только от воли ме-дицинской институции, подкрепленной законом, но и от действий и противодействий иных агентов: пациентов, их родственников,общественных организаций. Внутри топоса власти особое значе-ние приобретают различные способы реакции пациентов на власть:безоговорочное подчинение, уход, противостояние и «параллель-ное» со-существование. Они могут воплощаться в «чистом виде», причудливо переплетаться или сменять друг друга, и если подчи-нение пациентов действующим правилам укрепляет границы ме-дицинской власти, то противостояние и параллельное существо-вание расшатывают их, меняют застывшие контуры.
В случае принятия пациентом правил «игры» – освоения но-вой идентичности, правил поведения и их трансляции другим па-циентам – можно говорить о вполне гармоничных отношениях между оказывающими и принимающими медицинскую помощь.Именно в этой группе пациентов медицинский персонал может реализовать всю мощь и изысканность властных инструментов,поскольку эти люди являются одновременно и носителями и во-площением представлений о «нормальном человеке». В данном
144
контексте к техникам подчинения пациентов можно отнести страхи физической и социальной смерти:
Задумался, потому что мне сказали, что и смерть может наступить от этой болезни... заболел и значит надо лечиться (пациент); Лишь бы вылечиться… Лишь бы быть здоровой и не думать об этом… быть дома с мужем (пациент). Эти пациенты, описывая мотивацию своего лечения, зачас-
тую используют речевые формы, конструкты, предлагаемые ме-диками. Можно предположить, что именно они, идентифицируя себя с категорией «нормальных», наиболее подвержены влиянию медперсонала, принимая его лексику, разделяя специфику его восприятия медицинской системы и процесса лечения. Особен-ностью таких нарративов является акцент на моральной ответст-венности больного перед окружением в целом и перед медиками в частности:
Моя цель – чтобы побыстрее вылечиться, поэтому я всё полностью принимаю, как мне прописали врачи: сказали в стационар лечь – я и лёг.Прошёл первый курс таблетированного лечения, так, кажется, они это называют?.. Ну, ингаляции ещё, заливки (пациент); Мне перед врачом неудобно: с этими съёмками она потом ездила… в Самару. Оттуда приехала и говорит: «Надо полежать». Ну, надо полежать – я безо вся-ких сопротивлений: тубозит пропил, и дальше не отклонялся (пациент). В ряде случаев построение «нормального» сценария базиру-
ется на имитации семейных отношений, когда врач выступает в роли отца / матери либо очень близкого человека, создается эм-патийная связь, благодаря которой все рекомендации врача вос-принимаются сквозь призму таких моральных категорий, как «благо» и «добро». Вряд ли можно сомневаться в эффективности подобных техник контроля над пациентами:
Они сейчас как родные уже стали (пациент); Даже больше скажу: мы дружили с медсёстрами, врачами. Я даже обращалась с личными во-просами… просьбами (пациент). В целом описанные тактики отношений между медперсоналом
и пациентами являются наиболее типичными, распространенными
145
в топосе власти и только подтверждают идеи М. Фуко о репрес-сивной медицине и пассивном подчинении больного. В то же вре-мя в рамках системы развертываются иные, альтернативные сце-нарии взаимодействия врачей и пациентов: противостояние ме-дицинской системе и «параллельное» со-существование.
Противостояние системе – сопротивление и неповиновение ее правилам – неоднородно, поскольку обусловлено диаметраль-но противоположными мотивами: как стремлением к скорейшему выздоровлению, так и сохранением статуса больного для извле-чения различных преимуществ:
Иногда он сознательно идёт на обострение своей болезни. Для чего?Материальный фактор, опять же. Он получает инвалидность, получает денежки… Он не работает, не работая, имеет деньги (врач). Несмотря на столь очевидное различие устремлений, они
имеют общее основание – желание человека самостоятельно рас-поряжаться своим здоровьем, телом, жизнью. Отметим, что факт противостояния может заставить медиков, представителей систе-мы, сомневаться в собственной монополии на создание нормы:«Они же в основном не преступники, вроде [туберкулез] не пре-ступление против общества» (врач).
Другие медики, оставляют за больным право выбора либо,напротив, стремятся усиливать репрессивные механизмы.
Одна из тактик противостояния медицинской системе – ре-альный или символический уход из нее: уход из больницы или нарушение режима, агрессия в отношении медперсонала. Это не вербализация протеста против системы, не рефлексия причин «ухода», не стремление к компромиссу своих интересов с прин-ципами функционирования медицинской системы. Подобную тактику вряд ли можно назвать «конструктивной», поскольку речь здесь идет не об изменении системы, а, как уже отмечалось,о стремлении распоряжаться жизнью, телом, эмоциями, временем по своему усмотрению. Это проявляется, в частности, в случаях усталости от лечения, у алкоголиков, больных, зависимых от наркотиков. Доминирующим в данном случае является жела-ние вырваться за рамки системы, погрузиться в свои привычные
146
повседневные практики. Такие люди, как правило, предпочитают не бороться с системой лечения, лишь стремятся убежать из нее:
Если человек не хочет лечиться, он найдёт тысячу методов не лечить-ся – за щёку положит, ещё куда-то, потом выплюнет (врач); Они [па-циенты] думают нас обмануть, они практически себя обманывают.Мне же по этому снимку всё видно… А пить-то хочется, душа просит.Значит, «таблетки в сторону, лучше я водочки попью» (врач). Очень часто такой «уход» спровоцирован не столько
стремлением к свободе от системы, сколько комплексом лич-ных проблем.
Тактика ухода вписывается в институциальный контекст ме-дицинской системы и, несмотря на нарушение установленного порядка, по сути, поддерживает ее устойчивость, поскольку в этом случае появляется возможность использования санкций за попытки нарушить границы власти и тем самым укрепить ее.В частности, медицинский персонал, руководствуясь положения-ми нормативных документов, применяет легальные санкции в отношении «нарушителей». Используется, например, выписка за нарушение режима:
Если нарушение режима – выписывают. Пьянка, самовольный уход,у некоторых – какие-то случаи в жизни: ему надо уехать, а больнич-ный ему не нужен. Уехал и всё – с концами. Потом ему хуже – и его уже привозят на скорой помощи (врач). Отметим, что санкции применяются, даже несмотря на ясное
осознание врачами перспектив выхода больного из системы – ухудшения физического состояния, усугубления болезни и смерти:«Эта игра в кошки-мышки заканчивается через 5, ну, через 10 лет смертью пациента» (врач).
В качестве наказания медиками используются и неформаль-ные, но легитимные в среде практики – дистанцирование от боль-ного, исключение его из списка «получателей» медицинской помощи:
Человек просто агрессивно настроен… или он напился. Или мы мед-сестру пошлём, чтобы она ему таблетки дала, а он ей: «Я тебя сейчас зарежу». А она скажет: «Что я, дура что ль, туда ходить?» (врач).
147
Активное противостояние институции проявляется в стрем-лении больного самостоятельно формировать траекторию пребы-вания в ней, расширять поле своих возможностей, ограничивая ее принудительную силу. Выстраивание собственной траектории в предельно регламентированном медицинском пространстве связано с возможностью самостоятельного выбора места, вида и способов лечения, обладанием необходимым объемом знаний для контроля медицинских манипуляций, а также самоконтроля развития болезни (ситуация, априорно не допускаемая системой,монополизирующей право на лечебную компетентность).
Меры противодействия системе, распространенные в боль-ничной среде, включают в себя отказы от оперативных вмеша-тельств:
А есть и другое мнение об операции. Я уж лучше так. В детстве была операция – аппендицит. И всё, хватит! (пациент). Другой прием заключается в попытках выбора альтернатив-
ных методов лечения (нетрадиционной медицины): «Не надо лишней химии туда запихивать» (пациент) или изменение места пребывания, в том числе переход к домашнему лечению или сме-ну больницы:
Вопрос: А почему Вы перешли в эту больницу? – Ответ: Мне посове-товал братишка. Он здесь был. Потому что, есть, говорит, другая,здесь грязно, сюда только вот этих, алкашей (пациент). Наличие знаний о болезни или обладание информацией
о системе изменяет статус пациента, превращая его из безропот-ного клиента в обладателя символического ресурса, сопротив-ляющегося существующим правилам. Конечно, определенная ва-риативность лечения и свобода выбора сегодня заложена в самой системе: на уровне правовых документов оговаривается возмож-ность пациента влиять на ход лечения. Однако реалии убеждают нас в декларативности этой возможности: инициативы пациентов далеко не всегда находят поддержку у врачей, продолжающих воспроизводить авторитарный стиль взаимодействия, продол-жающих лечение без объяснений, избегая посвящения больных в детали:
148
Вопрос: Вы хотели бы что-либо изменить в том лечении, которое вам здесь предоставляется? – Ответ: Ну, если бы я знал чего – можно, япросто спросил врача: «Можно мумиё, прополис, жир попить?» А он говорит: «Нет, не надо. Тебе достаточно антибиотиков, дай бог, чтобы организм справлялся, тебе вот так этого хватит. Не надо ничего по-бочного» (пациент). Поэтому столь значимыми становится постоянство в такти-
ках сопротивления, их массовый характер, подкрепленность дру-гими дискурсивными формами (к примеру, медийными). Обозна-чая позицию, противоречащую разделяемой институцией, паци-енты заявляют о своем изменившемся статусе, претендуя на рав-ноправное участие в собственном лечении. Достаточно показа-тельным в этом случае становится пример инкорпорации альтер-нативных методов лечения медицинской системой, подкреплен-ный мощной медийной поддержкой:
Вот мне понравился журнальчик, который называется «Народный ле-карь» № 13 за 2002 год. В этом журнале очень хорошая статья – «Ту-беркулез – борьба за выживание». Здесь о возбудителях, о сроках бо-лезни, народные советы (сборы трав), вот таких бы побольше статей (медсестра). Очевидно, такая популярность нетрадиционных методов ле-
чения в профессиональной среде (обусловленная совокупностью причин) в определенной степени проистекает из боязни медиков утратить свою «паству», страха потери статуса и власти из-за со-мнений больных в эффективности медикаментозного лечения:«Бывает, многие люди, уйдя от врача, начинают пользоваться на-родными средствами» (врач).
Вероятно, поэтому отчетливо проявляются стремления мед-персонала предотвратить переход больных к носителям другого знания.
Особую роль в поддержке противостояния играют больничные и семейные сети, транслирующие альтернативную информацию:
Ну, травы сестра какие-то мешала. Ну, намешала какую-то бурду, ло-пухи какие-то… Она где-то вычитала в журнале (пациент); Вопрос:Кто помогал Вам в течении болезни? – Ответ: В больнице только те,с кем лежишь, они же и помогают (пациент).
149
Предпочитаемые тактики сопротивления не затрагивают сферу врачебной компетенции – правильность постановки диаг-ноза, верность выбора медикаментозного лечения, они носят пре-имущественно неформальный характер, тем самым напоминая подполье: отдельные действия не выходят на поверхность систе-мы, не приводят к кардинальному изменению ситуации. Иначе говоря, сопротивление, в большинстве случаев, не переходит в плоскость открытого легального противостояния: официальные жалобы, судебные разбирательства не упоминаются ни пациен-тами, ни врачами. Конечно, это вовсе не означает отсутствие та-ких форм противодействия, однако система тщательно охраняет свои тайны: наши попытки получить доступ к архиву жалоб за-кончились безрезультатно – нам вежливо отказали. Можно ут-верждать, что медицинская власть до сих пор жестко поддержи-вается законодательными нормативами, предопределяющими модели взаимодействия медперсонала и их клиентов. В то же время просматривается и определенная гибкость властных гра-ниц, проявляющаяся в адаптации системы к тактикам сопротив-ления пациентов и созданию новых, преимущественно нефор-мальных, конвенций пациентов и врачей: без законодательного подкрепления и формальной поддержки внутренних инструкций.В этом плане жалобы пациентов являются одним из эффективных и одновременно легальных инструментов изменения контуров медицинской власти, поскольку предполагают обязательную ре-гистрацию, а также бюрократический процесс контроля и фикса-ции изменений инициирующей ее ситуации и удовлетворения выдвинутых претензий. Подобные тактики сопротивления власти превращают институцию из ригидной в структуры в подвижную,пластичную, а пациентов – из пассивных клиентов в тех, кто об-ладает легализованным ресурсом для трансформации системы.
Другим способом изменения властных границ пациентами становится параллельное со-существование, заключающееся в ком-промиссе с системой в назначенном лечении и одновременное вытеснение других форм медицинского вмешательства.
Жизнь пациентов и медиков в этом случае протекает фактиче-ски параллельно: больными не приветствуется иная коммуникация
150
кроме функциональной, не поощряется и установление более личных отношений:
Вопрос: Скажите, как персонал к Вам относится в диспансере? – От-вет: Лечат. Какие еще могут быть отношения??? (пациент). Этот способ противостояния системе, пожалуй, наиболее
пространственно объективирован: свой мир, привычные предме-ты (плитки, посуда, домашние вещи и многое другое) привносят-ся в больничные стены, не только компенсируя имеющиеся несо-вершенства, но и демонстрируя индивидуальность больного,уменьшая обезличенность больничной среды, формируя условия,более соответствующие требованиям пациентов. Особенно часто в «свою территорию» превращаются палата – «наша палата», по словам пациентов:
Вот у нас плитка стоит. Вы, наверное, видели, когда заходили в нашу палату? Мы сами тут готовим… приносим продукты… мясо там, кар-тошку, готовим. Мне уже – и не только мне – приелось, каша да каша,каша одна… а хочется чего-то другого, и картошку с мясом хочется (пациент). Параллельность существования находит свое отражение
и в воссоздании в больнице знакомого мира, поскольку для паци-ента важно в чем-то сохранить свою самость, реконструировать повседневное положение вещей. Для этого в больницу привно-сятся привычные практики:
Что за жизнь в больнице? В принципе, не объяснишь даже. Ну, как?Ну, как жизнь, как обычно, обыденная жизнь нормальных людей (па-циент). Среди этих практик есть такие, которые являются непозволи-
тельными, запрещаются системой:
А так по выходным сбрасываемся. Я, Иван Павлович, ну, иногда третьего кого найдем. Купим батончик… ну, и ещё что-нибудь вкус-ного (пациент). Иной взгляд пациентов на больничные условия отражается
и в собственном означивании происходящего, производстве
151
референций, не совпадающих с предлагаемыми системой. Другой язык выступает средством выражения и трансляции подобных значений, точнее даже – другие языки, поскольку больные тубер-кулезом сохраняют язык своих milleux, говоря и на тюремном сленге, и на повседневном немедикализированном языке:
Дышу там над аппаратом, паром каким-то (пациент); Они все эти мел-кие чишки (мы больницы чишками называем) решили собрать в одну болячку (пациент). Особенно отчетливо это проявляется в переименовании ле-
карств и процедур лечения: «горячие уколы», «переодозинит», «комбутол, пиразиномит, ремфамипитим», «пердинамид». Имея ограниченный доступ к информации или отличный от повседнев-ного опыт, пациент помещает незнакомое в привычный контекст.
Контроль туберкулеза вне топоса власти Как контролируется сегодня туберкулез за пределами боль-
ничных стен? Внешний контроль связан, прежде всего, с распро-странением и цензурой информации о болезни. Отметим, что ин-формация о туберкулезе зачастую не покидает стен больничного пространства: «Вот сидит врач, он принимает, а там сидят, чело-век 15–20, я вышла и всем им прочитала лекцию» (медсестра).
Предоставляя информацию, медики тщательно следят за ее «благонадежностью», стремясь «защитить» людей от эмоцио-нальных травм, монополизируя право распоряжения знанием:
Там висят щиты, там висят проблемы туберкулеза, информация, спе-циально рассчитана психологом, ну, чтобы и особо на психику тоже не давить (врач). Выход информации за пределы больницы достаточно огра-
ничен и ориентирован на «благополучные категории населения». Посещение предприятий, учебных заведений, выступления по телевидению и на радио не способствуют расширению поля знаний, а целевая аудитория подобных сообщений очерчивается кругом «нормальных людей». Вместе с тем по собственному при-знанию медиков, больные туберкулезом – зачастую люди, не включенные в деятельность экономических, образовательных
152
и медицинских институтов. Таким образом, вновь устанавливает-ся и укрепляется социальная норма, разделяющая население (в терминах медиков) на «социально адаптивных» и «дезадап-тивных»:
Постоянно у нас выходят бюллетени, статьи в газете, раз в квартал,по радио главврач выступает по проблемам туберкулёза. И 24 марта,когда Всемирный день фтизиатрии, абсолютно все больницы выпус-кают бюллетени, газеты, все начинают читать лекции и беседы. А вра-чи фтизиатры, особенно когда идёт отчётность, смотрят, на каком предприятии имеется большая заболеваемость, там читают лекции,объясняя, что и зачем (медсестра). Взаимодействие медицинских учреждений с другими инсти-
туциями усиливает их репрессивные возможности, чего стоит,к примеру, не допуск к сессии студентов, не прошедших флюоро-графию, и другие формы институциального принуждения: отказ от оказания медицинской помощи в больнице без предъявления результатов флюорографии, проблемы с трудоустройством. Без поддержки властных институций информация о туберкулезе фак-тически не распространяется.
Коммуникация фтизиатров с населением на сегодняшний день происходит, как правило, в лучших традициях советской медицины: это лекции, носящие добровольно-принудительный характер, предполагающие монологичный стиль подачи инфор-мации, или безличные нарисованные от руки стенгазеты.
В целом, медиками четко осознается ограниченность суще-ствующих средств контроля. Однако перспективы функциониро-вания институции отнюдь не связаны с необходимостью переос-мысления принципов собственной деятельности и взаимодействия с пациентами или с обществом в целом. Лейтмотив большинства полученных интервью – ощутимая потребность в усилении ре-прессивных методов реализации власти, принудительном лечении:
Мы бы хотели иметь поддержку, какие-то правовые основы, чтобы мы вот могли лечить при-ну-ди-тель-но (врач); Здесь должны быть… поч-ти судебные приставы, …кто-то должен этого человека арестовывать,…должны быть специальные тюрьмы, куда его надо от общества изо-лировать (врач).
153
Таким образом, можно утверждать, что в условиях посттота-литарного общества медицинская институция стремится укре-пить свои властные позиции в лучшем духе советских традиций как внутри топосов, так и за их пределами, путем расширения поля власти, усиления репрессивных механизмов.
В то же время можно предположить, что в развертывающих-ся тактиках противостояния пациентов системе, а также в ло-кальной восприимчивости к ним медиков, хоть и смутно, но уга-дываются основания будущих изменений принципов существо-вания медицинской системы. Для столь радикальных преобразо-ваний, однако, требуются не только успехи в «партизанской вой-не» больных с системой, но и изменение характера коммуника-ции с ней, приобретение влияния на ее действия правовыми ме-тодами. Контекстом, поддерживающим подобные преобразова-ния, может стать переход от институциальной заботы о «здоровье и счастье» к «заботе о себе».
Михель Д. Власть, управление, население: возможная археология соци-альной политики М. Фуко // Журнал исследований социальной поли-тики. 2003. Т. 1. № 1.
Тернер Б.С. Медицинская власть и социальное знание // Контексты со-временности-II. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2001.
Фуко М. Надзирать и наказывать.М.: Ad Marginem, 1999. Фуко М. Рождение клиники.М.: Смысл, 1998.
ПРОБЛЕМА СМЕХА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИКОВ
Наталья Масленкова
Современная медицина как субкультура (или особая культу-ра, если говорить на языке Cultural Studies) уже успела привлечь к себе внимание исследователей. Достаточно назвать такие фун-даментальные работы, как «Рождение клиники» и «История безу-мия в классическую эпоху» Мишеля Фуко, «Социальная история
154
медицины» Фредерика Картрайта и пр. Надо сказать, что меди-цинская антропология как отрасль гуманитарной науки достаточ-но давно существует на Западе, особенно в американской акаде-мической традиции (и даже имеет определенные специализации,например, антропологию родов). В последнее время в отечест-венной науке стали появляться интересные работы, посвященные исследованию «медицинских» субкультур. Например, в статье Д.В.Михеля «Медицинская антропология: что это такое?» очер-чено проблемное поле медицинской антропологии и определены возможности постановки медико-антропологических проблем в России [Михель, 2004].
Одной из подобных проблем может стать порождение смехо-вых форм профессиональной средой. Как показывают исследова-ния разных исторических форм смеха, он является одним из са-мых ярких маркеров границ социокультурных феноменов. Рас-пространено мнение, что юмор медицинских работников отмечен некоторой жестокостью. Но было бы небезынтересно исследо-вать текст, который порождает подобный смех, с социокультур-ной точки зрения. Социологический ракурс в соединении с куль-турологическим представляется особенно эффективным для изу-чения специфики некоторых современных форм смеха, так как позволяет исследовать текст с точки зрения социальной практи-ки, упорядоченной в пространстве и времени. Здесь необходимо остановиться на некоторых аспектах исследования данной про-блемы в их исторической перспективе, чтобы выяснить содержа-тельные и методические особенности рассмотрения данного фе-номена.
Дело в том, что, в отличие от теории корпоративной, профес-сиональной культуры, теория комического имеет давнюю тради-цию, начатую еще Аристотелем, который считал, что
...смешное – это некоторая ошибка и безобразие; никому не причи-няющее страдания и ни для кого не пагубное [Аристотель, 1976. С. 118–119]. Так, например, Шопенгауэр утверждал, что смех возникает
тогда, когда мы внезапно обнаруживаем, что реальные объекты
155
окружающего нас мира не соответствуют нашим понятиям и представлениям о них. В работах философов на протяжении почти двух тысячелетий прослеживается отчетливо эстетический подход к данной теме [см.: Рюмина, 2003].
На рубеже XIX–XX веков предлагается новый взгляд на про-блему. Теперь все концепции исходят из положения, что смех –это одновременно физиологический и социокультурный фено-мен, уникальный рефлекс, формирующийся только в человече-ской культуре, не имеющий аналога в природе. Поэтому он начи-нает вызывать интерес как проявление специфики человеческого.Существует также мнение, абсолютизирующее значение смеха в культуре. Одной из последних подобных работ является, на-пример, монография «Homo amfibolos: Археология сознания». Авторы считают, что именно смех проводит границу между че-ловеком и животными:
Это была истинная, высокая радость познающего разума, сопровож-даемая смехом, достойным мифологических богов-демиургов, творя-щих свою вселенную [Агранович, Березин, 2005. С. 76]. О том что человек смеется, мы узнаем по внешним призна-
кам – по реакции тела: приоткрытый рот, сощуренные глаза.Но все-таки многие характеристики смеха связаны не с физиоло-гией, а именно с особенностями функционирования его в социу-ме. В пример можно привести теории З. Фрейда, А. Бергсона, от-дельные высказывания Ф. Ницше.
К изучению проблемы смеховых форм можно привлечь не только теорию З. Фрейда, рассматривающую смех в качестве за-щитного механизма, но и трансактный психоанализ Э. Берна, фи-лософские работы Н.Монахова, А. Ахиезера, где смех рассмат-ривается как своеобразный биологический регулятор, как опре-деленный символ или как противопоставление серьезности.Можно также упомянуть теории К. Лоренца и А. Кестлера, в ко-торых смех связывается с агрессией, и эмпирическое исследова-ние С. Уайта и Э. Уинзельберга, выявивших ряд психологических особенностей смеха. Разумеется, невозможно изучение смеха без учета теорий таких историков культуры, как М. Бахтин, В. Пропп,
156
Д. Лихачев. Впрочем, подробное рассмотрение упомянутых кон-цепций не является целью данной работы и было проведено нами в другой статье [Масленкова, 2004. С. 88–98].
Можно привести еще один пример попытки осмыслить смех с социологической точки зрения, которая была предпринята в монографиях А.В. Дмитриева. В его работе «Социология юмо-ра: Очерки» [Дмитриев, 1996] делается попытка анализа общест-венной значимости и функциональности смеха. Но понятие юмор он рассматривает с социологической и политологической точки зрения. При этом он через анализ общественной значимости сме-ха исследует социальную реальность, изучает доминирующие ценности общества или особенности социализации индивида,а также многие другие особенности окружающей действительно-сти. Свою работу он начинает с очерка, посвященного генезису политического юмора: от древности, через средние века, к совет-скому времени, где в краткой форме описывается классическое философское и литературное наследие. Здесь А.В. Дмитриев по-казывает, что социальная сущность смеха с древнейших времен свойственна только людям, хотя такой феномен как смех можно наблюдать и в животном мире. Автор, исходя из психологиче-ской гипотезы, что смех – одна из форм скрытой и переключен-ной агрессии, предполагает, что происхождение смеха может быть прослежено из взаимодействия господства и подчинения.Очевидно, что любая эмоция, и смех в том числе, неотделимы отпорождающей ситуации и во многом определены ею. А следова-тельно, смех как эмоция имеет социальные характеристики и мо-жет быть рассмотрен с социологической точки зрения: то есть смех представляет собой не только социокультурный текст,но прежде всего – социальный текст. Смех всегда маркирует оп-ределенные явления: жизни, праздника, равенства, должного и т. д., следовательно, смех маркирует и социальное пространство.
Можно предположить, что смех вписывается не только в со-циальное, но и в социально-профессиональное пространство. Тем не менее профессиональные аспекты смеха изучены мало как в за-рубежной, так и отечественной науке. Мы попытались совместить заявленные выше физиологические, социальные и культурные
157
аспекты смеха и провели исследование этого социокультурного явления в профессиональной среде.
Объектом исследования являются особенности смеховых форм в среде медработников, потому что их профессиональная деятельность непосредственно связана именно с физиологией.Смех служит не только маркерами границ какого-либо класса или слоя, но и средством интеграции внутри них и в то же время от-деления друг от друга.
В той или иной группе используются различные маркеры для указания на идентичность с ней. Эти символы групповой иден-тичности – жесты, одежда, язык, прически, шутки – работают как основной признак, с помощью которого члены группы распозна-ют себе подобного и отделяют себя от других. Нашей целью бы-ло не сравнение мнений, характерных для конкретной специали-зации или людей конкретного возраста и пола, а выделение об-щих стереотипов и суждений. Поэтому в опросе принимали уча-стие медицинские работники разных специализаций: практикант,медсестра, врач-стоматолог, врач-дерматолог, врач-терапевт, врач-окулист. Причем возраст опрошенных тоже разный: от молодых (22 года) до тех, кто проработал в медицинской сфере более два-дцати лет. Было проведено десять интервью в самарской город-ской больнице им. Н.И. Пирогова в 2004 году.
Мы осознаем, что совмещение профессионального и физио-логического, профессионального и социального может вызвать известные возражения, но нам представляется интересным рас-смотреть особенности смеха людей, непосредственно работаю-щих с физиологией человека и вследствие этого имеющих опре-деленные особенности мироощущения.
В исследовании формулировалось несколько задач. Первая группа вопросов была направлена на выявление удовлетворенно-сти и степени комфортности в профессиональном самоощущении респондентов. Ответы опрашиваемых свидетельствовали, что бόльшая часть опрошенных получает удовольствие от профес-сиональной деятельности и чувствует себя в гомогенной профес-сиональной среде «как рыба в воде»: «вполне удовлетворён» (ин-тервью № 5); «удовлетворены полностью» (№ 7); «в основном удовлетворена» (№ 9).
158
Единственное «но», не вызывающее положительных эмоций,это «слишком низкая зарплата», которая в то же время не вызы-вает желания сменить работу:
нет, не представляю себя в другой должности (№ 5); нет, не собираюсь (№ 7); нет, не смогла бы куда-нибудь уйти (№ 9); может и смог бы, но не хочу (№ 10). Мотивом выбора профессии врача у многих респондентов
выступает престижность специальности для них самих и для ок-ружающих: «У меня в семье родители врачи и мне хотелось по-ходить на них» (№ 2). Для них важно, что они участвуют в про-должении семейных традиций. Кроме того, к этой профессии имеют склонность не все. Нужно много учиться. Работа трудно-доступна. Нужно чувствовать призвание, иметь желание. Их профессия заслуженна, они даже идут по стопам родителей.
Очевидно, что комфортность в профессиональном самоощу-щении тесно связана с восприятием миссиональности своей про-фессии. Оценивая работу с точки зрения цели, респонденты счи-тают ее полезной:
смотришь на тех людей, которым ты помогаешь, и радуешься за них,что у них всё хорошо (№ 2); я могу видеть результаты своего труда (№ 5); хочу быть полезным в нашей нелёгкой жизни (№ 6); хотелось получить полезную профессию (№ 9); помог человеку – и на душе спокойно, и внутри радуется (№ 6). Важно отметить также интерес к профессии:
работа мне нравится (№ 1); мне нравится область знаний (№ 2); меня устраивает всё (№ 5); просто нравилась работа врача (№ 7); мне очень нравится моя работа (№ 9). Респонденты изначально осознанно выбирали то, чем они
будут заниматься. Мотивацией может служить и удобный график работы (№ 7), и хороший коллектив (№ 4).
Но в то же время в интервью каждый из них оценивает свою работу как тяжелую. У медиков тяжелая жизнь, часто бывают трудности, о которых не хочется говорить: «К пациенту бывает
159
нужно найти определённый подход» (№ 1). Каждый из респон-дентов отмечает, что работа тяжелая, они очень устают. Напри-мер, очень трудно общаться с больными людьми:
Конечно, смех как-то разряжает обстановку, иначе бы все врачи, на-верное, ходили бы нервными и злыми на пациентов. Очень обижают некоторые слова больных. Для нас смех как защита от больных (№ 5). Самое важное отличие, с нашей точки зрения, заключается
в том, что они осознают свое профессиональное отличие от дру-гих: их работа «дает жизнь». Не каждый человек может быть врачом, лечить людей. Для этого надо пройти трудный путь, вы-держать определенные испытания, обладать необходимыми каче-ствами.
Подобное осознание проводит границу между медработни-ком и любым другим человеком, разделяя социальное простран-ство на «лекарей» и их реальных и потенциальных пациентов.Истории врачей всегда моделируют ситуации между больными и здоровыми, между больными и врачами. Медработники делят тех, кто находится в больнице, на «больных» и «врачей», на «боль-ных» и «здоровых».
Можно выделить три группы источников примеров смешных историй, рассказанных медиками: это истории, связанные с са-мим респондентом, истории, случившиеся с коллегой по работе,и истории по сути своей фольклорные. При этом надо отметить,что существенных отличий между реально произошедшим с рас-сказчиком случаем и фактически анекдотом сами респонденты не делают.
События, рассказанные медиками в смешных, с их точки зрения, историях, происходят в больнице: «у нас в клинике», «у меня в кабинете». Действующими лицами являются «боль-ные», «пациенты» и «врачи», «доктора». Тема рассказов – это си-туации, связанные с «больными»: «бабушка пришла на прием», «выписывал рецепт пациентке», «больная спрашивает у врача», «больной подошёл к врачу», «брали анализ крови у пациентки», «пригласил первую пациентку в кабинет».
160
Сюжетная схема данных историй тоже повторяется. Врачи здоровы. Пациенты больны. Врач здоров и знает, как быть здоро-вым. Пациент приходит за помощью.
Больной приносит ощущение страдания и боли:
Я выписывала бабушке, которая плохо слышит, лекарство от головной боли. Та несколько раз уточнила, как его принимать. Я не выдержала,а ещё день выдался тяжёлый, много больных было, и сказала ей: «Вы-пейте вечером одну, а утром, если проснетесь, ещё две». Но она меня плохо расслышала и попросила, чтобы я повторила, но на этом я по-просила её удалиться из кабинета (№ 2). Данный текст содержит даже удвоение страдания больной:
старушка не только страдает головными болями, но еще плохо слышит. Функционально врач переводит больного в пространст-во здорового. Врач – в одном пространстве, больной – в другом.
Пространство лекарей представляется в данном случае иде-альным, желаемым, но границу этого пространства больной мо-жет пересечь только при помощи врача, так как больной «не по-священ». При этом врач всесилен, бессилие больного подчеркну-то. На самом деле в тексте смоделированы две ситуации: одна разворачивается в пространстве больного, и эта ситуация не смешна. Врач находится сразу в двух ситуациях, прямо противо-положных по смыслу: с одной стороны, он помогает больному,с другой – «понарошку» делает еще хуже. В принципе эта антите-за по всем правилам комического и порождает смех. Как отмеча-ет Б. Дземидок, «комическое – одна из самых сложных и разно-плановых категорий эстетики» [Дземидок, 1974. С. 7]. Комиче-ское не обязательно подразумевает отрицание, это прежде всего оценка, хотя некоторые теории комического (в том числе кон-цепции А. Бергсона и З. Фрейда) основаны именно на способно-сти смеха отрицать, проявлять насилие. По мнению А. Бергсона,смех – «общественный жест», он не относится к области чистой эстетики, так как «преследует (бессознательно и в большинстве случаев нарушая требования морали) полезную цель обществен-ного совершенствования» [Бергсон, 1992. С. 21]. Условие коми-ческого – противоречие между «инстинктом должного» в субъекте
161
и внезапным обнаружением недостатков в объекте. Поэтому цель комического смеха – это отрицание недостатков во имя идеаль-ного, отрицание в чистом виде или же утверждение, возвышение субъекта смеха через отрицание (например, в архаическом смехе отрицания нет).
Подобным же образом «работает» и другой текст:
На 1 апреля мы повесили на дверь кабинета табличку [рассказывает стоматолог], на ней было написано: «Хорошо зафиксированный паци-ент в анестезии не нуждается» (№ 1). Две совершенно противоположные ситуации открыты врачу:
он одновременно выступает и в роли садиста, и в роли избавите-ля. Пациент, даже осознавая оба плана, все равно остается в пас-сивной роли, так как планы продуцирует не он.
Можно предположить, что цель работы, как это видят вра-чи, – создание идеальной жизненной ситуации, идеального про-странства. Характеристиками идеального для них являются по-лезность, необходимость, хорошие результаты работы и, как следствие, жизнь, здоровье.
Все респонденты отметили, что на работе у них бывают смешные ситуации, и согласились с мнением о том, что смех – обязательное явление в их профессии: «ни один день без них не обходится», «как без этого». Но более интересно объяснение зна-чения смеха для работы врача. Смех – это и способ установить контакт с больным (№ 1), и психологическая разрядка (№ 2,№ 5):
Смех облегчает работу, не замечаешь, как пролетает время (№ 3); смех как-то сглаживает все ситуации на работе (№ 6); смех успокаивает и расслабляет. Это точно (№ 8). И здесь очень важно обратить внимание на такую деталь.
Почти все истории, рассказываемые медработниками, могут быть отнесены к так называемому «черному юмору». Смех возникает в ситуации боли, страдания, смерти. Конечно, это не случайно.«Черный юмор» защищает от осознания неизбежного: человек хрупок и смертен, подвержен болезням и несчастным случаям,является игрушкой в руках стихий и судьбы. Когда несчастье
162
происходит с кем-то другим, мы сначала испытываем страх:«На его месте мог оказаться и я», который тут же сменяется бур-ной радостью: «Мог, но не оказался! Случилось, но не со мной!».
Пока еще не существует четкого определения сущности «черного юмора», и исследователи руководствуются скорее вку-сом, нежели четкими критериями при отнесении какого-либо яв-ления к «черному юмору». Существующие попытки очертить границы явления, мягко выражаясь, не носят научного характера.Например, «черный юмор», по определению бостонского словаря литературоведческих терминов,
обнаруживает предмет своей забавы в опрокидывании моральных ценностей, вызывающих мрачную усмешку …черный юмор вызывает смех там, где всякий другой способ описания пробудит лишь плач [Борисов, 1993. С. 139]. Анализ художественных текстов [см.: Борисов, 1993; Мань-
ковская, 2000] показывает, что этот вид комического создает вне-этические ситуации на основе внеэстетического – через нарочи-тое, грубое нарушение норм и ценностей. Смех медработника может показаться несколько жестоким, бесчувственным. Но, как видим, подобные свойства являются, во-первых, маркерами про-фессиональной группы, а во-вторых, составляющими определен-ного социального текста.
Благодаря своей независимости смех и может выступать в качестве особого регулятора поведения и человека, и его само-оценки. Причем не только наличие смеха, но и его отсутствие мо-гут оказать на человека очень сильное воздействие. Примером может служить случай с бабушкой в интервью № 4, где просле-живается явная жестокость: смех дает приемлемый выход для злости, позволяет выйти из состояния «убил бы» без ущерба для себя и окружающих. Смех в данном случае – одна из форм завуа-лированной или переключенной агрессии: вместо ненависти к «больным», смех позволяет почувствовать превосходство, удо-вольствие.
Таким образом, можно говорить о некоторых особенностях смеховых форм, порождаемых профессиональной средой меди-
163
цинских работников. Пространство смехового текста четко де-лится на две части – пространство врача, «лекаря» и пространст-во больного. Они различаются прежде всего функционально:врач идеален, здоров и, как следствие, находится иерархически выше больного. Кроме того, врач наделен знанием сакральным,недоступным для больного, и поэтому он обладает властью над больным, либо по своей воле переводя его из пространства боль-ных в пространство здоровых, либо удваивая его страдания.
Одновременное присутствие двух противоположных начал в тексте, а также подчеркивание непреодолимой границы между ними порождают тип смеха, близкий к комическому, оценочно-му. Однако данный вид смеха явно осложнен вынесением ситуа-ции за границы этического и эстетического и поэтому может быть также отнесен к «черному юмору».
Агранович С.З., Березин С.В. Homo amfibolos: Археология сознания. Са-мара: Бахрах-М, 2005.
Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. М.: Наука,1976.
Бергсон А. Смех / Предисл. и прим. И.С. Вдовиной.М.: Искусство, 1992. Борисов С.Б. Эстетика «черного юмора» в российской традиции // Из истории русской эстетической мысли: Межвуз. сб. науч. тр. СПб., 1993. С. 139–152.
Дземидок Б. О комическом / Пер. с польск. С. Свяцкого. М.: Прогресс,1974.
Дмитриев А.В. Социология юмора: Очерки.М.: Ин-т филос. РАН, 1996. Карасев Л.В. Философия смеха.М.: РГГУ, 1996. Маньковская Н.Б. Неклассическая эстетика: кризис или переход? // Кор-невиЩе 2000: Книга неклассической эстетики / Под ред. В.В. Бычко-ва, Н.Б.Маньковской.М.: Ин-т филос. РАН, 2000.
Масленкова Н.А. «Черный юмор» и типология смеха (к проблеме иссле-дования феномена культуры) //T Смех в литературе: семантика, ак-сиология, полифункциональность: Межвуз. сб. науч. ст. Самара: Са-марский гос. ун-т, 2004.T С. 88–98.
Михель Д.В. Медицинская антропология: что это такое? // www.countries. ru/library/authors/mihel.htm. 2004.
Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность. М.: УРСС, 2003.
164
ФОРМЫ КАПИТАЛОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ TP
*PT
Антонина Корнеева
Вот уже пятнадцать лет Россия погружена в рыночные отно-шения, связанные с высокими рисками, требующие юридическо-го закрепления, что обусловливает рост правосознания населения и частоту обращений за квалифицированной юридической помо-щью. В российском законодательстве часто происходят измене-ния, вводятся поправки, за которыми трудно уследить, соответст-венно, правоприменение затруднено без юриста. К этому можно добавить, что любой документ, обращение в суд, должны быть юридически грамотно оформлены, иначе их просто не примут.Даже в тех судебных разбирательствах, где юридически не тре-буется присутствие адвоката (гражданский суд), тяжущиеся предпочитают прибегать к услугам адвокатов. С адвоката люди часто начинают свое общение с законом, именно адвокат являет-ся главным транслятором правовых норм, своей деятельностью он формирует отношение к правовой системе в целом. Вот поче-му так важно разобраться в том, что стоит за этой ключевой фи-гурой судебного процесса.
Статья представляет собой результат полевого исследования адвокатского сообщества, проведенного автором качественными методами в период с 2002 по 2004 год. Поле исследования: пе-тербургские адвокаты. Выборка формировалась методом «снеж-ного кома». Адвокаты соглашались участвовать в исследовании,только если получали личные рекомендации об авторе от своих знакомых или коллег. С этим связаны значительные трудности при поиске информантов на начальном этапе исследования. Ха-рактеристикой поля можно назвать его закрытость и труднодос-тупность. В выборке равно представлены мужчины и женщины.Удалось охватить работников разных адвокатских образований:
TP
*PT Данная статья – результат дипломного проекта, успешно защищенного в 2005
году. Автор выражает благодарность научному руководителю дипломного проекта Тавровскому Александру Владимировичу, ассистенту кафедры социальной антро-пологии и этнической социологии СПбГУ, за содействие и помощь.
165
кабинет, бюро, коллегия, консультация, юридическая фирма,предприятие. В выборку попали представители разных возрас-тных групп, как много лет проработавшие адвокаты, так и недав-ние выпускники. Было проведено тринадцать глубинных интер-вью. Автор презентовал себя в роли исследователя-антрополога,объясняя информантам, что данные ими интервью лягут в основу дипломной работы.
Методы исследования: глубинные проблемно-ориентирован-ные интервью, анализ интервью адвокатов, данных СМИ; анализ публикаций адвокатов; наблюдение в суде.
Несмотря на свой 140-летний юбилей, адвокатура находится в процессе трансформации. В период с 2002 по 2004 год в рамках судебной реформы происходит законодательное преобразование адвокатуры (принятие нового Федерального закона «Об адвока-туре и адвокатской деятельности»). Более того, в 2003 году на Первом Всероссийском съезде адвокатов принимается кодекс чести адвокатов, закрепляющий основные этические ориентиры для представителей профессии. С 2004 года повсеместно приме-няется практика суда присяжных по уголовным делам. Для рабо-ты в суде присяжных адвокату необходимо приобретать новые умения и навыки.
Целью данной статьи является описание профессии адвока-тов на основе применения теории капиталов Пьера Бурдье.То есть, описывая механизмы приобретения и использования различных форм капитала (культурного, символического, соци-ального и экономического), мы раскроем вопросы вхождения в профессию, отношений адвоката с коллегами, клиентами, воп-росы ценообразования. При этом с помощью теории П. Бурдье мы опишем эти явления как взаимосвязанную систему, в которой осуществляется процесс конвертации форм капиталов друг в дру-га. Действие культурного, социального и символического капи-талов часто трудно разделить.
Для того чтобы выявить механизмы применения форм капи-талов в профессиональной деятельности адвоката, нам необходи-мо раскрыть понятия культурного капитала, социального капита-ла, социальной сети, символического капитала.
166
П. Бурдье принципиально выступает против сведения поня-тия «капитал» исключительно к экономическому. В соответствии с его концепцией существуют три состояния капитала:� инкорпорированное состояние – это «совокупность относи-тельно устойчиво воспроизводимых диспозиций и демонстри-руемых способностей, которыми наделен обладатель той или иной формы капитала» [Радаев, 2002. С. 22];
� объективированное состояние – «это принятие капиталом ове-ществленных форм» [Там же];
� институциализированное – «объективированные формы при-знания данного вида капитала в качестве ресурса» [Там же]. Понятие «культурный капитал» было введено П. Бурдье
и означает возможности, которые приобретаются благодаря обра-зованию и овладению различными гранями культуры и мировоз-зрения.
Для определения понятия «социальный капитал» необходимо рассмотреть две основные точки зрения на данный феномен – П. Бурдье и Дж. Коулмана.
Первым дал определение понятия «социальный капитал»П. Бурдье.
Социальный капитал представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее институциализированных отношений взаимного зна-комства и признания – иными словами с членством в группе [Бурдье,2002. С. 66]. Объем социального капитала конкретного социального аген-
та зависит от размера сети связей, которые он может эффективно мобилизовать, и от объема капитала (экономического, культурно-го или символического), которым, в свою очередь, обладает каж-дый из тех, кто связан с этим агентом.
Второе определение понятия «социальный капитал» было сформулировано Дж. Коулманом – ведущей фигурой в социоло-гии рационального выбора. Он рассматривал социальный капитал в контексте создания человеческого капитала. Социальный капитал
167
это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: обязательства и ожида-ния, которые зависят от того, насколько заслуживает доверия соци-альное окружение актора, информационные каналы и их пропускные способности, социальные нормы, не сопровождаемые санкциями [Coleman, 1988. P. 98]. Для того чтобы описать механизм выстраивания адвокатом
своей клиентской базы, нам необходимо познакомиться с теорией укорененности экономического действия, представленной М. Гра-новеттером, и разобрать понятие социальной сети.
В концепции укорененности М. Грановеттер подчеркивает роль конкретных межличностных отношений и их структур (или «сетей») в анализе экономического действия, он назвал это «структурной укорененностью». Согласно М. Грановеттеру, со-циальная сеть – это совокупность групп, внутри которых дейст-вуют сильные социальные связи, связанные между собой слабы-ми связями-мостами. Социальные сети представляют собой ис-точник информации и доверия, они могут продуцировать лояль-ность и кооперацию [Granovetter, 1973].
Понятие «символический капитал» было также введено П. Бурдье. Символический капитал
это кредит, но только в самом широком значении слова, то есть своего рода аванс, задаток, ссуда, которые одна лишь вера всей группы мо-жет предоставить давшему ей материально-символические гарантии;Этот кредит, зависящий от чувства чести и способности обеспечить неуязвимость своей чести… одним словом капитал материально-сим-волической силы, который может быть реально мобилизован [Бурдье,2001. C. 235]. Символический капитал Бурдье представляет собой имя
и репутацию.«Возможность конвертации различных типов капитала слу-
жит основой стратегий, направленных на обеспечение воспроиз-водства капитала» [Бурдье, 2002. C. 70]. То есть можно будет на-блюдать конвертацию культурного, социального, символического капиталов либо в экономический капитал, либо друг в друга.
168
Вхождение в профессию Для описания профессии необходимо определить – в резуль-
тате приобретения и воспроизводства каких навыков человек становится носителем профессии, на основании каких критериев он причисляется к группе носителей профессии, на основании каких критериев оценивается его больший или меньший профес-сионализм? Для того чтобы описать процесс превращения в про-фессионала, мы используем понятие «культурный капитал»П. Бурдье.
Культурный капитал может выступать в трех состояниях:инкорпорированном – это знания, умения, привычки, присвоен-ные человеком; объективированном – в виде предметов искусст-ва, культурных товаров; институциализированном – в форме ака-демической квалификации, то есть подтверждения и юридиче-ской гарантии наличия культурного капитала у данного индивида.
Для рассмотрения профессиональной деятельности адвоката наиболее важны инкорпорированная и институциализированная формы. Непосредственно образование, полученное на юридиче-ском факультете, и опыт, приобретенный во время практики, яв-ляются инкорпорированной формой культурного капитала адво-ката. Бурдье замечает, что если ребенок родился в семье, обла-дающей большим культурным капиталом, то ему понадобится меньше времени и усилий на приобретение собственного куль-турного капитала. Так, если будущий адвокат родился в семье юристов, то погруженный с детства в мир юридического языка ребенок гораздо легче освоит обучение в университете, то есть приобретет культурный капитал.
В качестве объективированной формы культурного капитала адвоката можно рассматривать специальную юридическую лите-ратуру, кодексы, исторические описания громких судебных про-цессов и т. п.
Институциализированное состояние позволяет отличать куль-турный капитал самоучки от
культурного капитала, санкционированного академическими средст-вами при помощи юридически гарантированных квалификаций, фор-мально независимых от личности их обладателя [Бурдье, 2002. C. 65].
169
Институциализированной формой культурного капитала ад-воката является, прежде всего, диплом о высшем образовании юриста широкого профиля или правоведа. Далее – документаль-ное подтверждение прохождения двухлетней практики в качестве помощника адвоката, и, наконец, членство в палате, зачисление в которую происходит на основе экзамена, то есть проверки ин-корпорированной формы культурного капитала.
Экзамен в палату адвокатов является нововведением, что связанно с разным уровнем юридического образования, предло-женным в непрофильных вузах, соответственно, с увеличением числа носителей культурных капиталов разных уровней. Легити-мация одних культурных капиталов и запрет на использование других введен палатой адвокатов в целях отслеживания качества членов палаты, а также является попыткой введения гарантии на оказанные юридические услуги, которая позволит приобрести институциальное доверие [Шрадер, 2004] общества к адвокатуре и повысить ее престиж. Однако же нововведенная селекция наце-лена не только на повышение престижа профессионального со-общества, но и на контроль количества действующих адвокатов.Не позволяя разрастаться сообществу, палата тем самым сохраня-ет эксклюзивное право на защиту только у определенной группы,при этом ограничение количества членов группы позволяет им диктовать ценовую политику. Меньшая конкуренция в сообщест-ве позволяет адвокатам специализироваться по областям права.
Основным процессом освоения профессии является профес-сиональная социализация. Профессиональная социализация адво-катов заключается в приобретении специальных знаний, освое-нии кодификаций, с помощью которых адвокат переводит быто-вое знание на юридический язык профессии. Профессиональная социализация меняет отношение адвоката к преступлению и пре-ступникам. Преступление для адвоката становится ежедневной рутиной. Во время профессиональной социализации адвокат по-гружается в определенный профессиональный круг, выстраивает отношения с коллегами, прокурорами, судьями, следователями.
Стандарты для занятия самостоятельной юридической прак-тикой определены в законе об адвокатуре. В частности, адвокатом может быть юрист, имеющий высшее юридическое образование,
170
не менее двух лет юридического стажа, сдавший единый экзамен,подтверждающий профессиональную пригодность, ставший чле-ном палаты адвокатов. На адвоката распространяются требования выполнения внутрикорпоративного этического кодекса. За испол-нением правил этического кодекса ведется определенный кон-троль со стороны палаты и клиентов, нарушения ведут к санкци-ям, вплоть до лишения статуса адвоката.
В результате исследования нам удалось выявить три пути вхождения в профессию:
1. Наиболее распространенный вариант, когда абитуриент выбирает вуз и специальность. Большинство информантов опи-сывают свой выбор юридического факультета как случайный.В основном он строился на методе исключения. Сначала инфор-манты делали выбор между гуманитарной и естественной обла-стью знаний. Все информанты подчеркнули, что они исключи-тельные гуманитарии, и не представляют себе обучения естест-венным или точным наукам в силу сложности их освоения. Вто-рой этап – это выбор между юридическим и экономическим, либо между юридическим и филологическим факультетами. Основа-ниями для выбора служили: сложность – простота вступительных экзаменов, конкурс и то, какие перспективы сулит профессия.Основными мотивами при поступлении на юридический факуль-тет информанты называют: легкие вступительные экзамены, от-носительную простоту обучения, и то, что на выходе профессия обещала быть доходной. Выпускник юридического факультета – это юрист широкого профиля либо правовед; для того чтобы стать адвокатами, юристы проходят стажировку в течение двух лет, а затем поступают в палату адвокатов.
2. Выпускники юридического факультета выбирают профес-сию судьи, прокурора, следователя, но через какое-то время реша-ют перейти в адвокатуру. Их решение может основываться на бо-лее высокой оплате за работу адвоката, на разочаровании в работе органов и по другим субъективным причинам. Основной приток в адвокатуру способом переквалификации происходит из следст-венных органов. Как правило, бывшие следователи – сегодняшние адвокаты – занимаются исключительно уголовным правом. Часто
171
это следователи, судьи или прокуроры пенсионного возраста,не желающие прекращать работу. Для того чтобы стать адвока-том, бывшему работнику следствия не нужно проходить стажи-ровку, но придется сдавать квалификационный экзамен в палату.
3. Выпускники неюридических факультетов, работающие в различных отраслях, сознательно меняют профессию, получа-ют второе высшее юридическое образование. Как правило, их решение связанно с высокими доходами или представлениями о высоких доходах адвокатов и, одновременно, с критической ситуацией, сложившейся в их отраслях.
Эти люди не стремятся в палату адвокатов либо потому, что не хотят тратить время на стажировку, либо потому, что, как пра-вило, совершают «перевоплощение» в адвоката под конкретное место, не требующее членства в адвокатуре. Таких людей пра-вильнее будет называть судебными представителями. Для этого необходимо разделить два, казалось бы близких, понятия: «адво-кат» и «судебный представитель».
Судебным представителем по закону может являться любой человек, который может не иметь высшего юридического образо-вания и, соответственно, не являться членом палаты адвокатов.Это человек, которому одна из физических сторон доверяет пред-ставлять свои интересы по гражданскому делу в суде. По закону судья может отстранить судебного представителя от участия в процессе в силу субъективных причин, но это бывает очень редко. Как правило, судебный представитель имеет высшее юридическое образование, но не является членом палаты адво-катов. Основное же отличие судебного представителя от адвоката в том, что первый не имеет права вести дела в уголовном суде,что значительно сокращает сферу его деятельности. Обычно су-дебными представителями становятся те люди, которые пришли в юриспруденцию из других профессий, никак с ней не связан-ных. Они находят себе применение, становясь юрисконсультами на предприятии, и нередко защищают интересы своего предпри-ятия в суде, где обыватель вряд ли сможет отличить их от адвока-тов. Интересы предприятий, то есть юридических лиц, судебный представитель может защищать будучи только официальным со-трудником фирмы.
172
Стажировка Обучение на юридическом факультете обычно не подразуме-
вает специализации на будущих адвокатов, судей, прокуроров,следователей. Студенты могут выбирать для специализации одну из областей права, например, налоговое право. После окончания вуза они могут продолжать специализироваться по выбранной области права. Если нет профессионального деления, что же то-гда определяет будущего судью или адвоката? Стажировка.
Стажировка для каждой профессии имеет свои сроки, для ад-воката ее длительность – два года:
Два года стажа – это селекция по принципу профессионализма и зна-ний, она на это направлена, чтобы человек, ничего не умеющий рука-ми, грубо говоря, не стал сразу адвокатом. То, что заставляют попрак-тиковаться, теоретически это хорошо, но на практике это можно обой-ти более или менее успешно (интервью № 5). Для прохождения стажировки выпускник должен прикре-
питься к адвокатскому образованию и участвовать в ведении ре-альных дел: собирать документы, работать со свидетелями, хо-дить в суд и так далее, то есть приобретать профессиональный опыт. На каком-то этапе стажерам предоставляется возможность самостоятельно вести дела. Так предписывается проходить ста-жировку, но в реальности ее проходят по-разному или вообще не проходят. Некоторые студенты прикрепляются на стажировку на старших курсах, закончив вуз, они одновременно заканчивают ее и не теряют при этом два года. Другие проходят стажировку в более краткие сроки, чем это требуется, при этом кураторы оформляют стажерам полный курс. Есть основания предполагать,что и стажерам, и действующим адвокатам не выгодно проводить стажировку в полном формате: первые теряют деньги, вторые – время и, соответственно, тоже деньги. Для организации стажи-ровки необходимы не только затраты, но и желание учить других,готовность к тому, что в свои дела необходимо посвящать мало что умеющих практикантов, на это способны не многие:
Это крайне полезная вещь, но не каждый может финансово содержать такую вещь, а потом мне совершенно не нужно, что бы кто-нибудь
173
в моих делах копался… когда только если какое-то неподъёмное дело,то тогда, может, и нужны помощники, а не вечно (интервью № 9). Проблема кадров для проведения стажировки будущим адво-
катам, по замечанию К.К. Арсеньева, знаменитого дореволюци-онного адвоката, стояла еще в царской России [Арсеньев, 2001. C. 195]. На данный период палата не ввела никаких стимулов для руководителей практик. Единственное, что получает руководи-тель, это помощника, труд которого может оплачиваться не в полной мере. Адвокаты старой формации утверждают, что вы-полнение необходимого условия – прохождения практики – под-держивается только за счет их работы с новичками, и что будет впереди, когда уйдут ветераны – не известно.
Есть и такие адвокаты, которые игнорируют прохождение стажировки, как правило, это не афишируется, так как может по-влечь исключение из палаты. Так, достаточно молодой адвокат на вопрос о стажировке сказал, что не может вспомнить, прохо-дил ли он ее или нет. Эти люди имеют официальное подтвержде-ние наличия стажировки, но реально не проходили ее.
По словам информантов, стажировка, направленная на при-обретение специального и незаменимого опыта, достигает своих целей:
Меня прикрепили к очень хорошей адвокатессе, которая меня как щен-ка натаскивала, и я вам откровенно скажу, что девять месяцев стажи-ровки мне дали больше, чем пять лет в университете (интервью № 7). Стажировка – это не только приобретение практических зна-
ний и опыта работы адвокатом, но и приобретение социального капитала, которое возможно только через введение в группу.От личности руководителя стажировки будет зависеть стартовая позиция практиканта, так как руководитель не просто дает воз-можность применять дела на практике, но и погрузиться в про-фессию, быть причисленным к группе. Руководитель практики включает новичка в свои социальные связи, закрепляя его в про-фессии, он непосредственно знакомит своего подопечного с основ-ными фигурами юридического поля, отдает ему своих клиентов,
174
помогает качественно выполнять работу – зарекомендовать себя.На этапе стажировки практикант использует социальный и сим-волический капиталы своего руководителя и далее, даже если молодой адвокат больше не работает со своим руководителем, онпродолжает использовать его капиталы. То есть прослеживается непосредственная зависимость, сформулированная П. Бурдье, раз-мера социального капитала актора от размеров различных форм капиталов своего окружения.
Пройденная стажировка должна увенчаться квалификацион-ными экзаменами, успешная сдача которых дает право бывшему практиканту называться адвокатом, стать членом палаты адвока-тов. Сдача квалификационных экзаменов и зачисление в палату адвокатов – это что-то вроде получения лицензии на ведение ад-вокатской практики на всей территории Российской Федерации.
Сегменты профессии У адвоката есть разнообразные возможности применения
своих профессиональных знаний в зависимости от выбора места работы. От выбора адвокатского образования будет также зави-сеть степень профессиональной свободы. В чем заключается сво-бода профессии адвоката? Мы имеем в виду свободу организации трудового процесса. Адвокат – это не государственный служа-щий, это не предприниматель. Адвокат, состоящий в палате, – это самоорганизующийся работник. Будучи сам себе хозяин, адвокат сам решает, чьи интересы он будет защищать, каким способом и к какому финалу он приведет дело. Свобода профессии заклю-чается в отсутствии начальства, фиксированного графика работы,давления и предписаний по совершению работы. Говоря о свобо-де профессии, необходимо отметить следующий момент: свобода касается только организации деятельности, но сама адвокатская деятельность жестко регламентируется законом об адвокатуре и адвокатской деятельности и различными процессуальными ко-дексами.
Понятие «сегменты профессии» мы заимствуем из статьи Р. Бачера и А. Стросса «Профессия в процессе». Авторы исходят не из единства профессионального сообщества, а напротив,
175
из конфликтов интересов внутри него, делая акцент на изменени-ях. Они определяют профессию не как общую идентичность или общие ценности, а как конгломерат сегментов, постоянно нахо-дящихся в процессе конкуренции и реструктуризации. Профес-сия – это процесс, а не застывшее положение вещей. На данный момент в Российской Федерации можно выделить следующие сегменты адвокатской профессии:� адвокат, состоящий в палате, который создал частный кабинет или является партнером в адвокатском бюро;
� адвокат, состоящий в коллегии, в юридической консультации;� штатный адвокат фирмы, предприятия;� адвокат в фирме, оказывающей юридические услуги P
1P.
Рассмотрим все вышеназванные варианты:1. Свободный адвокат, состоящий в палате, создавший част-
ный кабинет или входящий в бюро, – это адвокат, который пол-ностью самостоятелен в организации своего рабочего процесса, ввыборе дел, в распределении работы. Единственными его ориен-тирами выступают закон об адвокатуре, этический кодекс и если это адвокатское бюро, то договор с партнером. Работники данных образований обладают наибольшей профессиональной свободой.Они работают либо на дому, оформляя частный кабинет, либо снимают помещение:
Я ни перед кем не отчитываюсь. Я взял защиту клиента, я его веду.Я семь лет не был в отпуске только потому, что моя профессия мне позволяет летом, когда у всех всё спокойно, отдыхать. Свободная профессия подразумевает, что человек не завязан на жёсткие формы дисциплины труда: нет внутреннего распорядка, нет чёткого рабочего дня. Есть настроение, я поехал на работу или как сегодня, слякотно, я по-смотрел за окно, нет настроения, я не поехал на работу (интервью № 6).
2. Адвокат в коллегии или юридической консультации также сам решает для себя, как он будет проводить свою работу, но член-ство в коллегии, работа в консультации ограничивают его свободу.Адвокат обязан дежурить в консультации по установленному
TP
1PT О формах адвокатских образований смотри ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Российской Федерации».
176
графику, сидеть на приеме, то есть принимать людей, зашедших с улицы и попавших на прием случайно. Брать дела по распреде-лению, возможно, низкооплачиваемые. Проводить доходы через кассу и вносить своевременные взносы на существование кол-легии / консультации. Коллегия / консультация в свою очередь обеспечивает адвоката рабочим местом, то есть кабинетом, и ча-стью клиентов, которые в нее обратились. Работники юридиче-ских консультаций или члены коллегии обладают меньшей свободой:
Ну, в консультацию я должна приезжать, сдавать отчёт финансовый и получать зарплату. А так, в принципе, делаю себе дежурство в кон-сультации и тогда приезжаю (интервью № 8).
3. Штатный адвокат фирмы или предприятия. В данном слу-чае такой адвокат, если он представлен в фирме в единственном лице, будет выполнять обязанности юрисконсульта, то есть рабо-тать по решению различных вопросов, но в довольно узкой об-ласти интересов фирмы. Адвокат фирмы обычно имеет такой же фиксированный график работы, как и другие ее работники и, со-ответственно, меньшую свободу, чем свободный адвокат и адво-кат в юридической консультации или коллегии. Некоторые ад-вокаты являются адвокатами не одного предприятия, а сразу не-скольких, производят основную работу с документами на дому и занимаются развозкой или рассылкой своей работы по опре-деленным дням. Некоторые информанты говорили о работе ад-вокатом в фирме как о деградации. Правовые вопросы одной фирмы хоть и разнообразны (от составления документов до пред-ставления дела в суде), но тесно связанны со специализацией фирмы:
Я закончила факультет с отличием и некоторое время работала юрис-консультом, эта работа мало меня занимала, потому что это узкий круг вопросов. Я работала в строительной организации, и когда я поняла,что все правовые вопросы, связанные со строительством, я уже знаю,мне стало там скучно, и я ушла в коллегию (интервью № 8).
Штатные адвокаты и работники юридических фирм исполь-зуют потенциальную свободу профессии в самой меньшей степени.
177
Организация работы штатных адвокатов зависит от внутреннего распорядка фирмы. Работая в фирме, адвокат является частью целого и руководствуется теми правилами, которые предписыва-ются в тех или иных случаях.
4. Адвокат юридической фирмы.Отличие юридической фирмы от коллегии / консультации заключается в том, что фирма, как правило, обладает собственным уставом, собственным этическим кодексом, тогда как коллегия / консультация организуется по пра-вилам, продиктованным палатой. Исходя из организации юриди-ческой фирмы, можно говорить о том, что здесь адвокат практи-чески теряет все элементы свободной профессии, он ходит на ра-боту по графику, ему навязываются клиенты, он ведет дела, ис-ходя из концепции фирмы. Юридические фирмы предоставляют юридические услуги в основном фирмам и предприятиям, не имеющим своего штатного адвоката.
Описывая сегменты профессии, мы анализируем не только степень профессиональной свободы адвокатов в зависимости отучастия в одном из сегментов, но и обращаем внимание на то, что само сообщество адвокатов нельзя считать гомогенным, соответ-ственно нельзя вводить обобщения без оговорок и предъявлять единые требования ко всем представителям профессии.
Специализация по отраслям права В качестве одного из элементов инкорпорированного состоя-
ния культурного капитал адвоката можно выделить специализа-цию по отраслям права, то есть выбор адвокатом отрасли права,по которой он будет вести дела, консультировать, в то время как дела и вопросы по другим отраслям права будут им отсекаться.Адвокат из года в год ведет похожие дела, следит за всеми изме-нениями в законодательстве по своим вопросам, консультирует коллег. Возможностью правовой специализации пользуются да-леко не все адвокаты. Те, кто придерживаются выбранного курса,быстрее формируют репутацию и имя специалиста в своей отрас-ли, то есть приобретают символический капитал, чем те, кто бе-рут все дела подряд. Можно говорить о том, что инвестиции
178
в культурный капитал в виде специализации приносят символи-ческий капитал в виде звания специалиста в среде коллег, клиен-тов и судей. Специализацию нельзя считать иституциализиро-ванной формой культурного капитала, так как она не имеет ника-ких юридических гарантий.
Выяснилось, что специализация – это не всегда выгодно, так как она лишает адвоката части потенциальных клиентов. Один итот же клиент в течение времени может испытать потребность взащите и по уголовному, и по гражданскому делу, в котором не-обходимо применять разные отрасли права, например налоговое и земельное. Если же адвокат специалист по наследованию, то онбудет вынужден передать своего клиента либо другому узкому специалисту, либо специалисту широкого профиля. Современные условия конкуренции создают экономически невыгодную ситуа-цию для специализации. Если в советские времена большинство дел адвокат получал по распределению и, зарекомендовав себя вкакой-то области, мог рассчитывать на стабильную работу, то сегодня адвокаты вынуждены самостоятельно заботиться о кли-ентуре. Исчезновение распределительного механизма либо вы-тесняет специализацию, либо заставляет адвокатов создать новый механизм, в адвокатской профессии функцию перераспределения нагрузок выполняет социальный капитал.
Изменения, произошедшие в законодательстве Российской Федерации за последние десять лет, заставляют адвокатов стар-шего поколения отказаться от работы в тех отраслях права, кото-рые являются либо новшеством, либо претерпели наиболее сильное изменение. Для этих адвокатов происходит что-то вроде вынуж-денного сужения области работы, вынужденной специализации:
Была когда-то такая позиция, что надо специализироваться, и, навер-ное, это правильно. Вот сегодня нельзя знать всё, настолько измени-лось законодательство, что просто невозможно знать всё. Я, например,не занимаюсь вопросами, связанными с наследованием, землепользо-ванием, налогообложением (интервью № 8). Для некоторых адвокатов специализация – это просто скуч-
но, в своей работе они ценят разнообразие.
179
Отношения с коллегами Для того чтобы быть специалистом и при этом не гоняться
за делами в рамках узкой специализации, необходимо задейство-вать социальный капитал. Социальный капитал – капитал связей и отношений с другими специалистами, который позволит произ-водить определенные обмены на профессиональном уровне.
Коллеги, работники одного юридического образования, в ос-новном обеспокоены поддержанием своей репутации в глазах друг друга. Они стремятся приобрести имя специалиста, свой символический капитал в среде коллег, так как на основании об-ладания этим капиталом они будут получать клиентов. В кон-сультациях и коллегиях существует механизм распределения дел.Если адвокаты узко специализируются в этом образовании, то дежурный по консультации, к которому обращаются случайные клиенты с улицы, направляет этих клиентов к своим коллегам согласно правовой принадлежности дел клиентов, а также собст-венному представлению о профессионализме того или иного ад-воката. Дежурство по консультации / коллегии является обяза-тельным для всех работников данного образования, соответст-венно каждый адвокат занимается распределением случайных клиентов между коллегами. Распределение клиентов ведется как на основании символического капитала (звания специалиста в определенной отрасли права), так и на основании социального капитала (личные отношения с дежурным), что определяет выбор в пользу того или иного адвоката.
Нас интересовал вопрос, является ли работа адвоката корпо-ративной или эта работа одиночки? Исследование показало, что если адвокат не является работником юридической фирмы, то его деятельность независима, и он выступает как одиночка на рынке юридических услуг. В этом есть определенные минусы: так,в случае болезни или сильной занятости нет организационного механизма, который способен перебросить часть работы одного адвоката на других. Исходя из определения социального капита-ла, как отношений в группе, основанных на взаимных ожиданиях,мы определяем в качестве основной функции социального капи-тала перераспределение нагрузки. Адвокаты-одиночки берутся
180
помочь друг другу, основываясь на взаимности, то есть вере в то,что каждый получит помощь или услугу, когда ему это потребу-ется, услуги оказываются бесплатно. Социальный капитал под-держивается за счет обменов между акторами. В качестве основ-ных элементов обмена в социальном капитале адвоката можно выделить: консультирование по юридическим вопросам; реко-мендации относительно специалистов по неюридическим вопро-сам; переадресация клиентов; подмена в суде. Социальный капи-тал адвоката функционирует на основе символического призна-ния группы, то есть работа символической и социальной формы капитала тесно связанна.
Так как социальный капитал находится между акторами и воспроизводится в конкретной группе, то помимо типичного социального капитала мы выявили нетипичные формы капиталов новоиспеченных адвокатов, которые являются принадлежащими одновременно к двум группам, например, к группе следователей и к группе адвокатов. Такие адвокаты используют свой старый социальный капитал в новых целях. Они либо устанавливают об-мены с бывшими коллегами, помогая им обвинять, либо с новы-ми коллегами, помогая им получать сведения о расследовании и о других процессах, информация о которых обычно не доступ-на. Правда, надо оговориться, что такие адвокаты, которые полу-чили название «черных» адвокатов, оказывают свои услуги не на основе взаимности, а скорее за деньги. «Черный» адвокат, хотя и негативно оценивается адвокатским сообществом, но является не лишней фигурой в арсенале социального капитала адвоката.
Кодекс чести адвокатов 31 января 2003 года на Первом Всероссийском съезде адво-
катов был принят этический кодекс, в котором обозначены ос-новные этические нормы профессиональной деятельности адво-катов. За исполнением этических норм следит специальный орган палаты, который рассматривает жалобы, указывающие на их на-рушение. Совет палаты должен ответить на данную жалобу, онпроводит что-то вроде расследования, а далее приглашает сторо-ны для разбирательства. Если вина адвоката доказывается,
181
то против него применяются санкции, вплоть до исключения из палаты. Кроме того, нарушение приводит к понижению авто-ритета и престижа конкретного адвоката или фирмы, которую онпредставляет, а также, зачастую, к ущемлению интересов клиен-та. Этический кодекс – самоконтроль профессии, в результате принятия которого происходит отдаление адвокатуры от других контролирующих органов. Руководящий орган палаты самостоя-тельно решает вопросы наказания или исключения провинив-шихся адвокатов, а также вопросы защиты тех адвокатов, кого палата считает несправедливо обвиненными.
Принятие единого этического кодекса было продиктовано стремлением части адвокатов повысить престиж профессии в глазах коллег по судопроизводству, частных клиентов и обще-ства в целом. Кодекс прописывает основные этические правила,следование которым лишает адвоката возможности браться за определенную категорию дел, защищать своего клиента за счет клиента коллеги, оскорбительно вести себя по отношению к суду,следствию, адвокатуре и т. д.
Адвокатская деятельность функционирует в очень жестком поле столкновения интересов, прав и свобод. В результате судеб-ного разбирательства практически всегда есть проигравшая сто-рона, ставки в суде очень высоки. Когда высоки ставки, речь идет о жизни, свободе, имуществе, клиент готов отказаться от мораль-но-этических принципов. Адвокат, призванный защищать инте-ресы клиента, часто считает частью своей работы солидарность в отказе от следования морали и этике. Отказ от этики дает боль-ше возможностей адвокату доказать истинную преданность инте-ресам клиента, которой он иногда подменяет свой профессиона-лизм. Агрессия по отношению к противоположной стороне по-зволяет клиенту дать выход своим внутренним переживаниям.
Клиент первый, кто заинтересован в том, чтобы адвокат от-казался от соблюдения этики, потому что этика не позволяет ис-пользовать механизмы, которые ведут к победе кратчайшим пу-тем. Сам адвокат видит себя не способным противостоять систе-ме судопроизводства или даже отдельному коллеге, когда этиче-ский кодекс связывает его по рукам и ногам, так как он не верит
182
в то, что противоположная сторона также будет придерживаться этических воззрений. Если одна сторона высокоэтична, это на руку другой стороне, но не выгодно клиенту первой. Пока этика будет сдерживать адвоката, а не помогать ему делать верные шаги, ее нельзя будет рассматривать в качестве элемента, определяющего функционирование социального капитала, так как элементом со-циального капитала являются нормы, следование которым осно-вано на взаимном ожидании и не требует санкции. На взаимном ожидании, скорее, основано неисполнение этических норм. Отказ от этики – это стиль работы современных адвокатов, отойти от него довольно непросто, это, возможно, потребует воспитания нового поколения юристов. Как заявил один из информантов, ад-вокатура – это зеркало, в котором отражается общество, пока в обществе не будут воспроизводиться этические нормы между отдельными членами, нечего предъявлять претензий к адвокату-ре. Как в бедном обществе не может быть богатых адвокатов, так как они финансируются за счет населения, так и в неэтичном об-ществе не может быть этичных адвокатов.
Имя в профессии адвоката Специализация дает возможность адвокатам не только уве-
личить культурный капитал, но и приобрести символический ка-питал, утверждая себя в среде коллег и клиентов как специалиста.Имя специалиста – это символическое подтверждение культурно-го капитала. Необходимо разделить имя адвоката на имя, форми-рующееся в узком кругу коллег и клиентов, непосредственно ра-ботающих с данным адвокатом, и имя-бренд, формирующееся в общественном мнении через СМИ. С именем связываются осо-бые ожидания и формулируются перспективы развития дела. Имя может обладать репутацией как положительной, так и отрица-тельной. Под именем-брендом мы подразумеваем известность и узнавание адвоката, имя, говорящее о качестве услуг, о профес-сиональной истории и т. д.
Если говорить об имени и репутации в узком кругу коллег,клиентов, то информанты в качестве элементов, формирующих имя, отмечают: хорошую работу, результативность, общение.
183
Информантами выделяются качества профессионала, соблюдаю-щего этические нормы по отношению к клиентам и коллегам.Здесь, на наш взгляд, конструируется образ желаемого коллеги,с которым приятно работать в консультации, совместно вести де-ла, выступать в суде, даже если он представляет другую сторону.Сами адвокаты редко могут следовать этическим нормам в инте-ресах коллег, не ущемляя при этом интересов клиента, и наобо-рот. Адвокат вынужден выбирать: либо он завоевывает имя аг-рессивного защитника интересов клиента, что востребовано на рынке юридических услуг, либо он приобретает имя высоко-нравственного профессионала, которое ценится в среде коллег.
Помимо известности в узких кругах, адвокат озабочен при-обретением имени в обществе в целом. Основным способом за-работать имя-бренд, которое котировалось бы в широком кругу,адвокаты считают участие в громких процессах. В данном случае от публики практически скрыт профессионализм, этические убе-ждения или агрессивность, общественное внимание привлечено не к фигуре адвоката, а к делу. Вполне достаточно одного или нескольких процессов, за которыми по тем или иным причинам следят СМИ, чтобы адвокат стал узнаваемым, при этом результат процесса не всегда имеет значение, так как мало кто стремится отследить весь ход судебного разбирательства, которое тянется годами. Хотя не стоит преуменьшать значение исхода дела.
Если обратить внимание на громкие судебные дела, к кото-рым общественность не равнодушна, то можно обнаружить це-лый калейдоскоп фамилий адвокатов. Создается впечатление, что громкое судебное разбирательство – это кормушка, к которой ад-вокаты подходят по очереди и получают свою порцию известнос-ти (например, список адвокатов по делу М. Ходорковского). Ад-вокаты сменяют один другого, не доводя дело до конца, то есть до вынесения вердикта. Когда в процессе меняется большое ко-личество адвокатов, трудно оценить профессиональный вклад каждого из них в отдельности. Возможно, что участники таких «сериальных» процессов, когда в каждой серии защиту пред-ставляет новый адвокат, вообще не имеют внутренней заинтере-сованности в скорейшем завершении дела и не озабочены его ре-зультативностью именно в силу своего фрагментарного участия.
184
Что касается клиентов и их заинтересованности в смене адвока-тов, то можно только предположить, что дело нуждается в посто-янном притоке свежих сил.
Часто имя-бренд не имеет под собой профессиональных кри-териев. Иногда имя-бренд подкреплено именем специалиста,символический капитал такого адвоката обладает институциали-зированной формой, когда за адвокатом юридически закрепляют-ся символическое признание группы, например избрание в каче-стве главы палаты.
Победа в суде или победа над клиентом?Для многих адвокатов победы в суде также являются спосо-
бом приобретения имени. Для клиентов, которые выбирают к ка-кому адвокату им обратиться, убедительный список побед, про-веденных адвокатом, может быть весомым аргументом. Такой список обычно либо вывешивается на сайте адвоката, либо пре-доставляется клиенту по его запросу. Коллекционирование побед в суде напоминает бокс, когда перед состязанием ведущий объ-являет количество боев, проведенных обоими спортсменами,технических побед, побед достигнутых нокаутом, давая публике информацию, на основании которой публика делает ставки. Так-же и клиент делает ставку на того адвоката, кто смог в ходе своей деятельности продемонстрировать больший список побед, дос-тигнутых «нокаутом». Каким образом адвокаты зарабатывают победы и тем самым формируют имя непобедимого?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо опреде-лить, что есть победа в суде. Казалось бы, ответ очевиден: в уго-ловных делах победа – это оправдание, а в гражданских – это удовлетворение требований одной из сторон. Но не все так про-сто. Оправданием заканчивается небольшое количество дел, как правило, когда клиент адвоката является невиновным (бывают оправдания и полностью виновных) или когда запросы по иску очевидно справедливы. Но дела, разбираемые в суде, это дела,в которых правота сторон колеблется на весах Фемиды, «чисто “чёрных” и чисто “белых” дел практически нет, в основном все дела “серые”» (интервью № 3). Если говорить о гражданских де-лах, то победой может являться не полностью удовлетворенный
185
иск, а неудовлетворение встречного иска. В уголовных – это мо-жет быть не освобождение, а изменение меры наказания, напри-мер, снижение срока с 10 до 5 лет. Так что понятие победы в суде относительно, самое главное, чтобы адвокат сумел убедить кли-ента в победе, а иногда и создать ее видимость. То есть убедить клиента в том, что могло бы быть гораздо хуже и что результат работы адвоката – это именно тот максимум, который возможно было достигнуть. Как правило, клиент мало что понимает в су-дебных тонкостях, убедить его легко, даже если реальной победы нет. В качестве оправдания несостоятельности адвокатской рабо-ты адвокат может обвинить другую сторону в том, что она купи-ла судью, такое утверждение и выглядит правдоподобно, и не подлежит проверке.
Адвокаты не скрывают, что способны оценить исход дела на начальном этапе с вероятностью до 90 % и на кассационном TP
1PT
этапе – до 99 %. Взяв дело на ознакомление, адвокат просчитывает его потен-
циальный результат и сравнивает этот результат с пожеланиями клиента. Так как мало кто из клиентов имеет представление о за-конах и судопроизводстве в целом, то основная часть из них при-ходит к адвокату с желаниями, которые невозможно осуществить при раскладе их дел. Проще говоря, клиент хочет много, а адво-кат может сделать мало. Поэтому задачей адвоката на первом этапе принятия дела является работа с клиентом по формулиро-ванию окончательной цели разбирательства, которая впоследст-вии будет являться маркером победы, по достижению которой у клиента сложится впечатление, что по делу была одержана именно победа. Адвокат должен объяснить клиенту, что он может сделать, что он сделать попытается, а что сделать точно нельзя.Причем психологическое удовлетворение клиента, его уверенность
TP
1PT Кассация (от лат. quasso – разрушаю, разбиваю): 1) обжалование в вышестоя-
щем суде судебных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; 2) про-верка вышестоящим судом законности и обоснованности решений и приговоров нижестоящего суда, не вступивших в законную силу, по имеющемуся в деле и до-полнительно предоставленному материалу; 3) пересмотр, отмена судебного реше-ния нижестоящей инстанции по причинам нарушений нижестоящей инстанции законов или несоблюдения ею правил судопроизводства.
186
в победе часто достигается адвокатом на фоне потерянного иму-щества и получения сроков. Удовлетворение клиентов – это то,ради чего работает адвокат, так как только удовлетворенный кли-ент способен привлечь к адвокату новых клиентов.
Клиентская сеть адвокатов Используя сетевую теорию М. Грановеттера, можно описать
механизм выстраивания адвокатом его социальной сети, или кли-ентской базы. В качестве основного способа поиска адвоката лю-ди выбирают личные рекомендации своих знакомых, мнению ко-торых можно доверять. Главный критерий выбора клиентом ад-воката – это личная рекомендация. Соответственно, чем больше клиентов удалось убедить в победе (удовлетворить их сформиро-ванный интерес), тем больше положительных личных рекомен-даций будут передаваться по личным сетям клиентов. Причем наиболее эффективны для передачи подобной информации и преодоления большей социальной дистанции так называемые «слабые» связи, которые связывают двух людей, принадлежащих к разным группам. Адвокаты не оказывают юридических услуг своему ближнему окружению, которое связано с ними «сильны-ми» связями, потому что для успешной защиты необходимы субъектно-объектные отношения между адвокатом и клиентом.Если информация об адвокатах распространяется от близких ад-воката по сильным связям, то люди, связанные с близкими адво-ката сильными связями, будут связаны сильными связями и с са-мим адвокатом. Соответственно, так как адвокат не обслуживает людей из близкого круга, то сильные связи неэффективны для передачи информации. Эффективностью обладают слабые связи,с помощью которых информация из круга адвокатов транслиру-ется в другие круги общения. В тех кругах общения, к которым адвокат не принадлежит, информация может распространяться и по сильным связям между членами круга и по слабым связям в другие круги. Впоследствии личные сети клиентов становятся частью социальной сети адвоката. Социальная сеть – это элемент социального капитала адвоката. Социальная сеть адвоката, поми-мо клиентов, включает коллег адвокатов, судей, прокуроров.
187
Стоимость услуги адвоката В качестве основных экономических критериев, определяю-
щих стоимость услуги адвоката, мы выявили: простота / слож-ность дела; цена иска; длительность процесса. Прогнозируемость результата от этих критериев будет зависеть от того, насколько быстро адвокат может выполнить свою работу, то есть какое ко-личество «продукции» он сможет произвести в единицу времени.Также к экономическим факторам можно отнести среднюю цену по полю, цену иска, то, что получит клиент в случае выигрыша.К социальным критериям, определяющим цену, можно отнести:возможности клиента (адвокат субъективно оценивает их и вы-ставляет цену в зависимости от материального положения клиен-та, то есть сопоставляет свой доход с доходом клиента); пре-стижность фирмы или адвоката; субъективное отношение адво-ката к клиенту; понимание высокой цены как гарантии качества.Выделяя набор критериев, надо оговориться, что мы не предпо-лагаем, что каждый раз, берясь за дело, адвокат рассматривает и взвешивает все критерии, на основании которых формирует окончательную цену. Есть основания предполагать, что адвокат называет цену спонтанно, но благодаря уже сформированному конструкту определения цены в разных случаях. Набирая в тече-ние времени опыт соотношения цены за свои услуги и характери-стик дела, адвокат достигает некоторого знания, которое позво-ляет ему назначать цену.
Конвертация форм капитала Одной из задач нашего исследования являлось описание кон-
вертации капиталов различных форм друг в друга. Возможность конвертации является основой воспроизводства капиталов. Кон-вертация культурного капитала в экономический опосредована временем, необходимым для приобретения культурного капита-ла, в случае с адвокатом это пять лет обучения, два года практики плюс временные затраты на вступление в палату. Вложения в культурный капитал, связанные со специализацией, растянуты во времени, то есть происходят постоянно. Специализация в уз-кой правовой области позволяет конвертироваться культурному
188
капиталу в символический. Символический капитал – извест-ность адвоката – позволяют ему более простым способом форми-ровать свой социальный капитал, не прикладывая усилий, так как акторы из его окружения сами стремятся завязать с ним отноше-ния. Символический капитал позволяет закреплять даже незначи-тельные связи и не поддерживать их постоянными обменами.В свою очередь социальный капитал адвоката позволяет ему по-лучать квалифицированную помощь коллег, по вопросам как юридического, так и неюридического характера: получать не-ожиданных клиентов, рассчитывать на подмену в суде, то есть в результате социального обмена поддерживать свой экономиче-ский капитал. Обладая социальным капиталом, адвокат остается независимым, но погруженным в сеть отношений, дающих воз-можность пользоваться услугами коллег, как если бы все они бы-ли участниками одной корпорации.
Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре.М., 2001. Барщевский М. Адвокатская этика.М., 2000. Большой юридический словарь.М., 2001. Бурдье П. Практический смысл.М., 2001. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. Кодекс профессиональной этики адвоката // Адвокат. 2003. № 3. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4.
Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-сийской Федерации.М., 2003.
Шрадер Х. Доверие, сети и социальный капитал // Экономика и социо-логия доверия. СПб., 2004.
Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital // The American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. Supplement.
Granovetter M. The Strength of weak ties // The American Journal of Sociol-ogy. 1973. Vol. 78. Supplement.
Раздел 3 СТАРЫЕ ПРОФЕССИИ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР:на примере театра им. Ленсовета
Наталия Кондратьева
Театральный зритель обычно видит внешнюю сторону теат-ра, погружается в художественную реальность спектакля, сидя в уютном зрительском зале, прогуливается по красивым вести-бюлям. Для большинства социальных исследователей театр – это прежде всего спектакли, поставленные и сыгранные определен-ными творческими коллективами в конкретных условиях места и времени. Довольно долго наука о театре изучала, по преимуще-ству, историю драматической литературы, ее сценической интер-претации режиссерами и актерами, пытаясь в контексте поро-дившего его времени воссоздать театральный процесс, вопло-тившийся в творчестве важнейших представителей этого вида искусства. В этой работе мы следуем традиции изучения закули-сья, внутреннего мира профессии, представленного в данном случае актерскими традициями, актерской культурой и фолькло-ром [Зайцева, 2003; Щепанская, 2003]. Богатую пищу для такого анализа дают различные свидетельства историков и журналистов,собирателей традиций и фольклора театрального мира [Гиляров-ский, 1989].
Закулисье – это совершенно иная сторона актерского мира.Она связана с определенными традициями, приметами, особым языком и даже со своей мистикой. И любому человеку, хоть од-нажды посетившему театр, наверняка хотелось бы заглянуть за кулисы и ощутить неведомый доселе запах театра, который знаком лишь актерам. Представленный в этих заметках подход к изучению актерской среды опирается на изучение театраль-ного фольклора. В этой предметной области профессиональной
190
и организационной культуры можно выделить различные жанры,но здесь наиболее подробно будут рассмотрены приметы, байки,легенды.
Приметы В целях нашего исследования выделим несколько типов
примет. В первую очередь, это приметы, которые заключают в себе своеобразные правила поведения, которых необходимо придерживаться. Это своеобразные предписания относительно действий, которые нужно совершить для того, чтобы избежать неожиданностей или неприятностей, связанных с работой.
Если падает роль (текст пьесы), по которой репетируется пьеса, то на премьере будет провал. Чтобы избежать этого, нужно сесть на роль,постучать себя по голове и плюнуть. И не важно, где роль упала: на ре-петиции, на улице или в магазине – сядь и посиди на ней (Ю. Левакова). Другие приметы направлены на ограничения, связанные
с определенными действиями. Речь идет о чем-то, чего нельзя совершать в театре во имя избежания неудач:
Семечки грызть нельзя на сцене …даже во время спектакля, даже если во время спектакля есть сцена с семечками, актёры только делают вид,что что-то кидают в рот и выплёвывают. Семечки грызть [означает,что] сборов не будет (О. Андреев). Несмотря на все известные предосторожности, в театре рас-
пространено мнение о том, что существуют обстоятельства не-одолимой силы, для которых не существует в актерской среде каких-то особых ритуалов для того, чтобы избежать неудач. Речь,в частности, идет о судьбе «второго спектакля»:
Второй спектакль всегда обречён. Как бы мы ни старались, духи сце-ны сделают своё дело – спектакль не пойдёт. Поэтому, если хотите по-смотреть удачную премьеру – приходите либо на первый, либо на тре-тий спектакль (М. Пореченков). Другие приметы, казалось бы, не несут особой функциональной
нагрузки: «В театре надо здороваться со всеми… несколько раз в день… даже если ты не знаешь этого человека…» (О. Андреев).
191
Однако такие действия связаны и с традициями театрального мира, и с ключевыми аспектами профессиональной идентично-сти. Что последует из того, если актер с кем-то не поздоровается?Очевидно, что на работе (на спектакле) это вряд ли отразиться.То, что актер говорит «здравствуйте» всем несколько раз в день,свидетельствует о том, что этим он стремиться подчеркнуть свою принадлежность театру. Точнее, даже не просто конкретному те-атру с четкими физическими границами, а принадлежность всему пространству театральной культуры. Здесь «здравствуйте» явля-ется символом принадлежности, зн↵ком, которым актер подчер-кивает свою идентичность.
Байки В ходе исследования была предпринята попытка типологизи-
ровать байки по основным мотивам (о некоторых подходах к изу-чению мотивов в фольклоре [см.: Силантьев, 1999]). Один из мо-тивов связан с действиями, которые производятся в ходе спек-такля в несоответствующем контексте. Это происходит, когда актер или актриса выходит или заходит на сцену не в дверь, а че-рез любое другое, совсем не приспособленное для этого, место,например, через окно, через камин и т. п.
У нас шёл спектакль про Золушку, в котором она [Золушка] должна была выбегать на сцену с тросточкой и, приплясывая, петь. А актриса очень волновалась перед выходом на сцену. В итоге её выпихнули, но почему-то не с той стороны. Она вылетела на сцену через камин [в ко-тором горел огонь], схватила кочергу [вместо тросточки] и, приплясы-вая, запела: «Я Золушка, тра-ля-ля-ля…». Дальше никто уже играть не мог (В. Егоренкова). Отметим, что сходные мотивы встречаются в различным ме-
муарных источниках, связанных с театром, в частности в книге «Сто театральных анекдотов»:
Первый выход Е. Копеляна на подмостки. Он очень волновался. Его буквально силой вытолкнули с подносом на сцену, где сидел на троне Н.Монахов. Но Монахов почему-то смотрел не на Копеляна, а за него.Когда Копелян обернулся, то, к своему ужасу, увидел, что вошёл
192
на сцену в окно. Он бросил поднос и в панике убежал за кулисы.После спектакля пришлось идти извиняться перед Николаем Фёдоро-вичем. Тот с усмешкой посмотрел на молодого артиста и сказал: «То,что ты вошёл в окно – полбеды, а вот то, что ушёл в камин – беда!» [Сто театральных… 1990. С. 38]. Можно предположить, что в этом типе мотивов наблюдается
стереотипизация социального действия, проявляющаяся на уров-не формул.
Другой мотив связан с незапланированными ситуациями во время спектакля:
В нашем театре ремонт был, играли мы в БДТ спектакль «На бойком месте», уже отыграли, вышли на поклон, а декорация медленно,но с ужасным треском обвалилась. Ладно, ещё успели спектакль отыг-рать. Потом ещё долго смеялись: сцена в БДТ не выдержала такого позора, как наш спектакль (О. Андреев). Один из классических мотивов обусловлен требованиями
к определенной роли, например ситуациями, когда актер играет покойника.
…Отелло идёт по сцене и зацепляет своим плащом огромный канде-лябр, который, покачавшись, падает на «мёртвую старушку». «Мёрт-вая старушка» подскакивает со смертного ложа с криками: «Боже мой,Вася! Как больно!» (С. Стругачёв). Этот тип мотивов тоже часто встречается в мемуарных рас-
сказах, имеющих отношение к XIX – началу XX века:
На роль покойника взяли статиста [статист – человек для эпизодиче-ских ролей] – отставного солдата с шикарными усами. Идёт спектакль,статист лежит в гробу. На бортиках гроба горят свечи. А воск со све-чей капает на солдатский ус. Поднялся «покойник», сел, загасил свечу и спокойно улёгся обратно в гроб [Сто театральных… 1990. С. 37]. Вероятно, здесь идет речь не просто о стереотепизации мо-
тивов, а уже о стереотипизации сюжетов. Если ранее в байке говорилось о том, что происходит что-то незапланированное,то в данном случае – «покойник оживает».
193
Один из известных мотивов вызван неформальными отноше-ниями в закулисье, шутками и «приколами». Например, актер на сцене играет спектакль, а друзья за кулисами корчат ему рожи.Актер начинает сбиваться, путаться, смеяться и т. д. Этот мо-тив звучит в многочисленных рассказах об оговорках во время спектакля.
Специфика труда актеров, вынужденных по роду своей дея-тельности запоминать большие объемы текстов, страх того, что память может подвести и репутация пострадает, связаны с моти-вом, который можно назвать «белый лист», то есть ситуацией,когда актер забывает текст пьесы, по которой идет спектакль:
Бывает у актёров «белый лист», когда забывается весь текст полно-стью, и актёр даже импровизировать не может, так как не понимает,в каком спектакле играет. И вот тогда ему помогают абсолютно все:и друзья, и соперники. Потому что такое может случиться с каждым (К. Хабенский). Часто в байках звучат рассказы о нюансах и непредвиденных
событиях на сцене во время спектакля, о которых зритель не до-гадывается:
Апофеоз творческой деятельности в театре: попал как-то в немилость к Игорю Петровичу [Владимирову] из-за того, что что-то брякнул своевольно, повёл себя неадекватно. А у Камю есть пьеса «Двуглавый орел». Ставили эту пьесу, и мне роль дали – слуга принцессы. Я дол-жен был играть негра… глухонемого негра. Я стал изучать все жесты и жестикулировал как немой. Но обижаться на художественного руко-водителя нельзя, да никто и не обижался… У нас актёр один негра-арфиста играл… так он обычно мазал пол-лица морилкой и выходил на сцену с арфой боком к зрителям, отыгрывал свою роль и также бо-ком уходил… (А. Солоненко); В театре шёл спектакль «Победительница». И в этом спектакле я играл с Еленой Соловей, которая сейчас в Америке. У нас сцена с ней вдво-ём. Как бы я привожу её к себе домой, в гости, и говорю, мол, веди се-бя тихо, у меня мама дома, в другой комнате. А я играл такого при-думщика, хулигана. И, вот, пора прощаться. Она говорит: «Я останусь у тебя». Я говорю: «Нет, потом. Всё будет потом». Вот, мы с ней про-щаемся. Она говорит: «Я слышу, как бьётся твое сердце». Я говорю:«А что ему ещё остается делать?» И вдруг она смотрит мне через плечо,
194
у нее раскрываются глаза, и она говорит: «Саша, пожар!!». Я повора-чиваю голову и вижу, как по бархатной кулисе поднимается пламя…Полный зал народу!! Я её отпускаю, иду к кулисе и думаю: «Ох, сей-час такое начнётся!». Гул пламени. Я отдёргиваю вторую кулису, что-бы не загорелась. А первая кулиса горит вся. Высота-то огромная.Я был в состоянии какого-то транса. Я ожогов не получил никаких.Я схватился за занавеску, резко повис на ней и оборвал её. И она вниз упала. И костёр такой, радиусом два метра. Я кричу: «Кто-нибудь,кто-нибудь…» Никого. Ни одного человека. Стоит только на сцене Соловей, одна. А там, за кулисами, был какой-то половик. Я взял его,раскатал за край, кинул на пламя и стал топтать. Затоптал. Живого пламени нет. Правда, канаты, провода потрескивают. Я думаю:«На сцене же Соловей!» Я выхожу на сцену, играть-то надо дальше.И думаю, чем же это кончится? Я выхожу и говорю: «Э-э-э, у меня там мама чайник забыла выключить». И в зале раздалась овация просто.И Соловей бежала ко мне. У меня было ощущение, что она падала шесть метров. И я её с земли подхватил, я её поднял. Она стояла, её колотило, у неё градом текли слезы. У неё был шок. Я её так глажу,вытираю ей сопли, говорю, что всё будет хорошо, пожар потушен, ля-ля-ля… (А. Блок).
Легенды Театральные легенды – это особый жанр, который развивает-
ся в недрах культуры театра на протяжении многих поколений.Рассмотрим несколько типов этих образцов фольклора, выделен-ных на основании ключевых сюжетов. Речь может идти, в част-ности, о легендах – продолжении примет, то есть о том, что про-исходит с людьми, не соблюдающими правила поведения, не принимающими участия в общепринятых ритуалах, делающими то, что противоречит актерским нормам:
…Костя [Хабенский] однажды в «Калигуле» со сцены упал прямо в зрительный зал… второй спектакль тогда был [второй премьерный спектакль всегда неудачный, всегда там что-нибудь происходит]… Миша [Пореченков] ему говорит со сцены: «Гай, ты куда?» …а он от-вечает из зала: «Устал я, Геликон…» (А. Зибров); Все люди, которые уходили… [из театра], с ними что-то случалось…Возвращались как будто попрощаться… даже из других городов при-езжали… вот не понятно… они приходят сюда, отыгрывают спектакль и уходят из жизни… (В. Егоренкова).
195
В текстах капустников – особого театрального фольклорного жанра – есть стихи на тему преданности:
Мы безвозмездно популярны,Мы прозаически добры,Мы трепетно эпистолярны,Мы гармонически мудры.Нас упрекнуть никто не может – Мы музам созданы служить.И если денег нам предложат,То начинает нас тошнить…
Ходит множество историй о том, как актеры получали раз-личные травмы во время спектакля, но продолжали играть и до-игрывали спектакль.
А актёр Барков Дмитрий Иванович в своё время совершил подвиг. Он сломал себе руку в середине спектакля. После этого 45 минут ещё иг-рал спектакль. Вот это – преданность театру (А. Блок). Есть также история, которую актеры старшего поколения
любят приводить в пример молодым:
…во время спектакля у Михаила Боярского умерла мама, и он узнал об этом в антракте, но он доиграл спектакль. Вот это – высшая степень преданности! (Ю. Левакова). Характерный тип легенд связан со спектаклями, способными
вызвать неприятности и стать причиной различных несчастий (провал спектакля, разрушение декораций, болезнь и смерть актеров):
…[например,] «Макбет», которую англичане суеверно называют просто «пьеса» или «шотландская трагедия», полагая, что заклю-чённая в названии тёмная энергия приносит несчастья, и каждый соприкоснувшийся с «Макбетом» рискует жизнью и разумом…(Г. Траугот). По мнению актеров, существуют трагедийные спектакли,
имеющие далеко идущие последствия для всех участников:
196
…трагедийные не по драматургии, а по тому, что актёр, отыграв опре-делённое количество спектаклей либо заболевает, либо уходит из те-атра (А. Солоненко); …А ещё, когда ставишь «Мастера и Маргариту» или «Макбет», нужно быть готовым ко всему (Д. Пантелеев). Другой вид несчастий обрушиваются на режиссеров – либо
режиссеры становятся источниками бед, либо те актеры, которые у них заняты:
Существуют режиссёры с отрицательным обаянием. Они отрицатель-но влияют на актёров. Во время репетиций с этими режиссёрами абсо-лютно все актёры переболеют какой-то болезнью (А. Блок); Был такой случай: ставили спектакль «Вий». За полтора месяца репе-тиций у помощника режиссёра умерли два сына… главная героиня в суицид упёрлась… у одного обокрали всю квартиру… другой руку сломал… четвёртого из института исключили, студент был. Причем шесть человек всего занято было. Взяли, название поменяли и всё нормально стало (Д. Пантелеев). Типичными для театральной атмосферы, восприимчивой
к известности, славе, любви и в то же время полной интриг, яв-ляются рассказы о легендарных личностях. В театре, где мы про-водили исследование, центральными фигурами таких легенд яв-ляются И.П. Владимиров (бывший художественный руководи-тель театра), а также актеры театра, которые принадлежат стар-шему поколению:
…Игорь Петрович [Владимиров] всегда очень любил с нами повесе-литься… и строгий был. Однажды, после какого-то банкета – репе-тиция… ну, не идёт: все такие скучные, сумбурные, никто ничего не хочет… А он говорит: «Не послать ли нам гонца?» Все сразу оживи-лись. Принесена-то была всего одна бутылка, а нас человек 8–9 бы-ло. И была потрясающая репетиция, потому что мы раскрепостились так, что не помнили – кто актёр, а кто режиссёр… мы делали свой дом. Даже от этого был толчок, второе дыхание… мы не хотели ухо-дить, даже ночью репетировали… А на собрании, ну, те, кто против Игоря Петровича подписывался, – у них у всех судьбы не склады-вались… некоторые из них закончили в плохом положении…(В. Егоренкова).
197
Часть легенд относится к другим театрам, являясь формой построения дистанций свои-чужие, важных для сохранения и воспроизводства локальных идентичностей – «Балтдом (театр «Балтийский Дом») – проклятое место»:
…а в некоторых театрах актрисы друг другу стекло толчёное в пудру сыпали, а актёры ножки у стульев подпиливали – у нас такого нет…(О. Андреев); Я не знаю, как актёры работают в «Балтдоме». Я бы, например, не смог, зная историю этого театра. О «Балтийском Доме» бытует такая легенда. Не очень хорошая… Что в своё время там было кладбище,потом на месте кладбища был выстроен женский монастырь. И, когда этот монастырь рушили, бабка-монахиня прокляла это место. А в те-атре Ленсовета, насколько мне известно, был игорный дом. Так что недалеко ушли… (А. Солоненко).
Локусы фольклора В чем состоит различие между байками и легендами в тех
образцах театрального фольклора, которые стали предметом на-шего исследования? На наш взгляд, речь может идти об эмоцио-нальном контексте, о том, что байки, как правило, остроумные,шутливые, веселые, а легенды обычно заканчиваются трагически.Отметим также, что стереотипизация сюжетов встречается гораз-до чаще, чем мотивов, поскольку мотивы достаточно тесно пере-плетены между собой. Таким образом, несколько мотивов со-ставляют сюжет актерской байки или легенды. Рассматривая ак-терский фольклор, можно выделить следующие значимые локу-сы, которые несут в себе особое содержание.
В первую очередь это сцена, которая является для актера сакральным местом. Со сценой связаны определенные приметы,в которых указываются способы действий в тех или иных си-туациях:
…уважающий себя актёр никогда не выйдет на сцену в верхней одеж-де, в шапке или в уличной обуви… (А. Солоненко). Здесь нельзя громко разговаривать, плевать, ругаться. Любое
из этих действий может стать причиной каких-то несчастий:
198
На сцене нельзя свистеть и есть семечки – сборов не будет (С. Пись-миченко); У нас есть такая поговорка: актёр, не ходи по сцене – денег не бу-дет. Есть такие огромные карандаши, которыми софиты поправляют.И этот карандаш начал падать на молодого актёра во время спек-такля. Мы кричим: «Лёша, Лёша!!!» А он стоит, ничего не понима-ет, а карандаш медленно падает. А мы: «Лёша, отходи!!!» И этот карандаш ему ровно по голове – бум. Сотрясение мозга было (О. Андреев). Сцена – это своего рода храм для актеров. Поэтому великим
счастьем считается тот момент, когда на сцену выходит кошка.Актеры не могут объяснить причину этого, но упоминают про хороший знак:
…Очень хороший знак, когда кошка на сцену выходит… ну, почему…кошка на сцене – то же самое, что и кошка в церкви. Сразу домаш-ность какая-то начинается, уют какой-то… (Ю. Левакова). Сцена является для актеров продолжением их закулисной
жизни.
Наши мальчишки любят на сцене «поколоть» друг друга: часто гово-рят не те реплики, которые надо или вкладывают в эти реплики со-вершенно иной смысл, понятный только тем, кто играет на сцене.И очень им бывает трудно удержаться от смеха во время спектакля.А иногда актёр специально стоит за кулисами и строит рожи тем, кто в этот момент играет на сцене (Ю. Левакова). Сцена является сакральным местом в силу того, что на ней
происходит. На сцене идет спектакль, и актер боится провала,неудачи, какой-то неожиданности, которая может произойти во время спектакля и повлиять на его ход. Следовательно, для того чтобы избежать промахов, провалов, неудач во время рабо-ты, нужно придерживаться определенных правил, совершать оп-ределенные действия и не совершать запрещенные, то есть те,которые упоминаются в приметах и легендах.
Другим местом, в пространстве которого происходит множе-ство театральных историй, является гримерка: с ней связаны
199
определенные действия и ритуалы, которые актеры обычно со-вершают перед спектаклем:
Вот, у меня свечка стоит… Есть такой спектакль «Адский сад». И там меня вешают. Да, Боже мой… [крестится]. И я всегда перед спектак-лем зажигаю эту свечку, молюсь и говорю: «Боже, прости, это не я»(В. Егоренкова); Перед спектаклем мы всегда сбрасываем руки вместе, стоим какое-то время молча, подкидываем руки вверх, крестимся. И тут же говорим:«ни пуха, ни пера – к черту» (О. Андреев). С темой гримерки связаны байки, в которых повествуется
о событиях, произошедших с молодыми актерами, о ситуациях,в которых «бывалые» актеры подшучивают над новичками, про-веряют их: «…в гримёрку залетает актёр постарше и кричит но-венькому: “Ты знаешь, ты сейчас на сцене!” У молодого – шок».
В качестве значимого локуса выступает еще одно место – зрительный зал. Актеры обычно видят зрителей во время спек-такля до шестого ряда, но стараются не смотреть на них, чтобы не сбиться с хода пьесы. Тем не менее, существуют рассказы о том, как определенные зрители влияли на актеров и на спек-такли:
…была у нас одна зрительница, которая приходила на определённые спектакли и всегда садилась на одно и то же место, и никто бы не об-ратил на неё внимания, если бы после каждого спектакля она не вска-кивала и не начинала кричать: «Бравó, бравó!». Мы её так и звали – Бравó, она даже талисманом каким-то стала. Всегда у нас всё получа-лось на сцене, когда она в зале была… (О. Андреев). Благодаря тому, что приметы, байки и легенды указывают
актеру на правила поведения и нормы взаимодействия в сообще-стве, а также указывают на то, что нельзя делать, у актера возни-кает альтернатива в выборе: можно поступить «правильно» или «неправильно».
Был у нас такой спектакль – «Лицо». Три часа шёл этот спектакль,а в конце выходили семь полицейских, арестовывали главного героя,отдавали честь и уходили. Это ровно одна минута. Спектакль начинался
200
в семь часов, а мы приходили к девяти. Даже не переодевались, кепки надеваем и всё. И был у нас артист, который очень тщательно гото-вился к этой роли. Он пришёл заранее, за два часа, оделся, загримиро-вался. Повторил текст, которого нет. Мы, значит, выходим на сцену,выстраиваемся в ряд, делаем шаг вперед, а за нами – опускается зад-ник. [Задник – это полотно или фанера, на которой что-то нарисовано,пейзаж какой-нибудь… Задником перекрывают сцену.] Мы все шаг-нули, а тот артист не успел. Его задником и перекрыло. Мы так весе-лились все, а его потом уволили (О. Андреев). Эта история – яркий пример того, что актер поступил «не-
правильно» с точки зрения сообщества.
* * *Мы выделили в актерском фольклоре несколько жанров:
приметы, байки и легенды, которые были типологизированы по основным мотивам. Как было отмечено, театральные приметы заключают в себе своеобразные правила поведения, которых не-обходимо придерживаться. Также они предписывают ряд дейст-вий, которые нужно совершить для того, чтобы избежать неожи-данностей или неприятностей, связанных с работой. А также они предписывают действия, которые нельзя совершать в театре во имя избежания неудач. Байки – это истории из театральной жизни, всегда остроумные, высмеивающие отклоняющиеся пове-дение. Мы сделали вывод о том, что мотивы баек стереотипны.Также было замечено, что стереотипизируются не только моти-вы, но и сюжеты (несколько мотивов в одной байке).
Легенды являются в значительной степени продолжением примет. Они повествуют о том, что происходит с людьми, кто не соблюдает правила поведения, не принимает участия в общепри-нятых ритуалах, делает то, что противоречит актерским нормам.Легенды часто трагичны и выполняют функцию контроля над поведением, рассказывая о страшных происшествиях или герои-ческих деяниях.
Как можно увидеть из этого исследования, в театральной среде существует свой определенный порядок социального взаи-модействия. И этот порядок является результатом совместного определения правил поведения. Фольклор выполняет функцию
201
идеализации определенных ценностей. Он служит для того, что-бы создавать рамки в поведении актеров. Ценности задают опре-деленные модели поведения, к которым актер приспосабливает свое поведение, воспринимая определенные формы взаимодейст-вий как должное.
Гиляровский В.А. Москва и москвичи: Собрание в четырех томах. М.: Правда, 1989. Т. 4.
Зайцева Н.В. Этнографические наблюдения в театре имени Ленсовета // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. 6. № 1. С. 162–166.
Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии: Науч. издание. Новоси-бирск: Изд-во ИДМИ, 1999.
Сто театральных анекдотов // Союз театральных деятелей РСФСР.1990.
Щепанская Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 2003. Т. VI. № 1(21). С. 139–161.
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ:ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЯ ИНСПЕКТОРОВ СЛУЖБ
В ЗАПОВЕДНИКЕ
Татьяна Сафонова
Данная статья посвящена профессии инспектора заповедни-ка, а точнее вопросам социальной экологии профессиональной группы инспекторов [например: Shoemaker, Snizek, Bryant, 1977]. Путь экологических метафор в социальных науках можно срав-нить с траекторией бумеранга. Впервые использованные в поли-тической экономии понятия конкуренции и выживания наиболее приспособленного были внедрены в биологию Дарвином, а затем вновь вернулись в социальные науки в рамках экологического подхода Чикагской школы социологии. Особенно четко и строй-но эта модель подошла для исследований профессий, некоторые
202
ее черты можно проследить и в работе Дюркгейма об обществен-ном разделении труда. В западной традиции существует несколь-ко социологических исследований, проводившихся по материа-лам о схожих профессиональных группах [Дюркгейм, 1991]. Лю-бопытно, что внимание антропологов до сего времени было при-ковано, прежде всего, к местным жителям и группам аборигенов,населяющим природные парки и окрестности заповедников.Именно представители этих групп чаще всего и являются глав-ными клиентами (в качестве браконьеров) охранников заповед-ника. В данном исследовании впервые все внимание антрополога посвящено группе инспекторов. К классическим исследованиям,например, можно отнести те, которые основывались на опросах федеральных и государственных лесных и парковых рейнджеров в США. Во всех этих случаях предметом исследования станови-лась не сама профессиональная группа, а различные общие про-блемы профессиональной интеграции, мобильности и прочего.Идея о том, что все профессиональные группы взаимозависимы и разнообразны одновременно, позволяет использовать далее та-кие экологические понятия, как ниша, лицензия, мандат, пищевая цепь и прочее. Наиболее последовательно и подробно экологиче-ская модель в исследовании профессий была разработана Эверет-том Хьюзом [Hughes, 1958] в Чикаго. Также ее использовали в своих исследованиях этнометодологи, например, Дэвид Саднау [Sudnow, 1967] и Кристиан Хиф [Heath, Luff, Lehn atal., 2002].
Отношения инспекторов со своими клиентами, а именно на-рушителями территории заповедника, можно уподобить отноше-ниям крупного хищника со своей добычей. И здесь мы сталкива-емся с несколькими общими чертами, характеризующими подоб-ные отношения:
1. В рацион хищника входит довольно большое количество разнообразной добычи, при этом «цена» добычи зависит от ее калорийности, то есть размеров, и вкусовых качеств. Как бы ци-нично не прозвучало сравнение, но клиентура инспектора также различается по этим двум показателям, а именно прибыльности и характерности. Первое подразумевает размер ущерба, который наносит нарушитель природе, а соответственно и размер штрафа
203
и суммы возмещения, которые поступят в фонд заповедника по-сле его поимки. Эту черту можно уподобить калорийности.
…Количество протоколов не всегда от качества службы зависит, по-тому что цена протокола разная. Однажды поймал нарушителя люби-теля на удочку, другое дело с сетями, третье дело – просто кто-то за-шёл там отдохнуть, цветочек сорвал, или вообще не сорвал. Тоже на-рушитель, все нарушители, цена-то очень-очень сильно отличается TP
1PT.
К вопросам вкуса инспектора относятся предпочтения в ха-рактерности задержания, которую можно сравнить со вкусом до-бычи. К наиболее деликатесной добыче относятся редкие, прино-сящие славу, добытые «в бою» протоколы. Это может быть по-имка крупного начальника в заповеднике или же редкого бра-коньера. Вкус этой добычи можно охарактеризовать как чистый,без примесей сомнений и когнитивного диссонанса, добычи, по-лученной с помощью клыков и мускулов.
…Ну, если что касается меня, то мне больше нравится работа, пусть даже она и несколько более опасная, но это такая живая работа с ре-альными браконьерами, с живыми, это скажем те же охотничьи бра-коньеры, рыбные браконьеры. Нежели есть у нас такой вид наруше-ния, как сбор грибов, когда попадаются иногда бабушки какие-нибудь,конечно. Ну, знаешь, что эта бабушка получает пенсию там рублей, ну 1 000 может быть, в лучшем случае. И по нашим законам – это только штраф 500 рублей, это половину пенсии у нее отнять. Это минимум который, а так можно до 1 000 накладывать. А если ещё и грибы и ущерб предъявить – десятикратный размер рыночной стоимости,то эта бабушка – она вообще останется на одних сухарях. Конечно, та-кие, это меньше нравится, но, тем не менее, это делать надо.
2. Хищник контролирует определенную территорию, для этого он метит ее и постоянно обходит. Эту территорию он мо-жет контролировать в одиночку и стаей, во многом это зависит от численности и плотности добычи, от ее опасности, и от наличия
TP
1PT Здесь и далее в данном формате приведены цитаты из нестурктурированных
интервью с инспекторами заповедника, записанные в феврале 2003 года. Всего бы-ло собрано около 36 часов интервью, сопровождавшихся когнитивным картирова-нием, также в исследовании использовались архивные документы заповедника.
204
конкурирующих видов, хищников, также занимающих схожую нишу в экологической системе. Стратегия контроля над террито-рией, к которой прибегают инспектора, также может быть кор-донной (фортификационной TP
1PT) и рейдовой. Так как социальная
экология более подвижна и динамична, нежели биотическая, по-добные стратегии выбираются согласно изменениям внешних ус-ловий, а не наследуются.
…Раньше служба охраны и система охраны, она строилась немного по другому принципу. Вся территория заповедника была разделена как бы на маленькие кусочки, такие обходы, так называемые, и за ка-ждым обходом был закреплён инспектор, в его обязанности входило:ежедневный обход этого участка, смотреть, есть нарушения или нет,если нарушения есть, то он должен был составить протокол, вот.И в этих обходах, как бы это кордонная служба была, инспектора жи-ли на кордонах. И имели свой участок, за который они несли ответст-венность. Но, как оказалось, мало эффективная такая была работа, по-скольку нарушения были, люди жили, а нарушения были и было очень много, а меры никакие не приняты, и люди не могли переломить си-туацию, поэтому было принято решение, что мы пока отказываемся от этой системы обходов и создаем мобильно-оперативную группу [переходим на рейдовую систему. – С. Т.]. 3. Хищники, как охотники, регулируют численность своей
добычи, тем самым как бы охраняя сбалансированность отноше-ний во всей экологической системе. Пример из биотической сис-темы самого заповедника может проиллюстрировать данное ут-верждение:
Кабан, если у нас до 70 года его вообще не было, его в своё время привезли в республику, потому что это охотничий вид, чтобы он раз-множился, чтобы охоту на него можно было проводить. Ну, ему здесь понравилось, по вкусу пришлось, он как-то здесь обжился и в общем-то нормально стал размножаться, в заповеднике у нас здесь тоже всё перерыл и одной из причин того, что есть такое мнение, что гадюка пропала у нас, потому что кабан её сожрал, он перероет всё, особенно
TP
1PT В англоязычной литературе существует понятие «fortress conservation» (фор-
тификационная консервация), которое в последнее время подвергнуто довольно активной критике [Brown, 1998].
205
зимой, перекопает и кладки, не кладки, а места зимовок, муравейники тоже разоряет, зимой их расшвыряет, ложится и греется, прямо в му-равейниках. Даже порой бывает, на кабана охотник тоже, где вот охо-тимся не здесь, а в охотугодьях, кабана догонишь и от него пахнет прямо муравьиной кислотой, это он в муравейнике полежал и запах от него специфический. Ну, если он всё подряд роет в заповеднике,естественно, все наземногнездящиеся виды птиц, соответственно, то-же попадают под его рыло.
Так, излишне размножившиеся травоядные могут подорвать свою собственную кормовую базу. Слишком большое количество браконьеров и нарушителей границ наносит довольно ощутимый вред дикой природе, что ведет в итоге к разрушению биоценозов и оскудению. Отсутствие трофеев в итоге делает территорию ма-ло привлекательной для нарушителей. Постоянная и бдительная охрана же, наоборот, гарантирует сохранение дикого состояния природы, и привлекает нарушителей.
Конечно, городские – они лучше относятся к заповеднику, потому что заповедник для них – это что-то там такое на природе, куда можно за-ехать, или по телевизору посмотреть, какой он красивый. Куда уж красивей, чем есть на самом деле. Немножко по-другому. А здесь – если есть ягоды, значит надо их собрать, есть грибы, значит. Это, если бы у нас не было ягод и грибов – и проблем бы не было. У местного населения в голове, если вот в деревне Б***, какой-нибудь там или К***, где по близости только овраги, заросшие берёзой и кустарни-ком, где подберёзовики в посадках можно собирать, они и будут, так это и знают, они что такое клюква не знают. А наши знают клюкву,хотя её запрещено собирать даже вне заповедника, она у нас – крас-ный вид в республике ***. Если нет, скажем, здесь моря – значит нет красной рыбы, значит красная рыба в голову не лезет, потому что её нет в природе, для них она не существует, а грибы есть, значит надо лезть за грибами в заповедник.
Все вышеперечисленные параллели между миром животного и человека сталкиваются с одним фундаментальным различием,которое во главу угла ставит социальная экология. Этим важным обстоятельством была социальная основа отношений между ин-дивидами. Социальное взаимодействие включает четыре взаимо-зависимых процесса: соревнование, конфликт, приспособление,
206
ассимиляция [Park, Burgess, 1921. P. 785]. Сообщество (коммью-нити) и социальный порядок в рамках сообщества есть результат соревнования. Социальный контроль и обоюдная субординация индивидуальных членов перед сообществом имеют истоки в кон-фликте, который принял организованную форму в процессе при-способления, был консолидирован и принят в ассимиляции. Эти процессы постоянно воспроизводятся и воспроизводят социум.
Когда мы сравниваем отношения животных и людей и про-водим параллели в их взаимодействии, мы должны четко пред-ставлять себе, что существует два разных типа соревнования:борьба за выживание в естественной среде и борьба за средства жизни в социальной сфере. Отсюда берут истоки естественный и моральный порядок организации. Подобные размышления поз-волили социальным экологам вновь утвердить принцип по сути экономического соревнования, но на уровне менее абстрактном,нежели это было сделано в социологии Маркса. Так что экология скорее была социальной метафорой, нежели приложением биоло-гии. Социальная экология – это исследование пространственных и временных отношений человеческих существ, под влиянием избранных, распределенных и требующих приспособления воз-действий окружающей среды [McKenzie, 1924].
Следуя этой логике, пространственные отношения индиви-дов – результат соревнования и селекции. Так, экология города и паттерны поселения, экологическая сегрегация выступают с по-зиции социальной экологии наглядным примером подобной се-лекции. В нашем исследовании мы также имеем дело с прост-ранственными отношениями, выраженными в существовании ор-ганизации заповедника. Целью исследования является попытка рассмотреть, какие именно конфликты, соревнования и процессы селекции стоят за сложившимися отношениями инспекторов за-поведника и нарушителей, какое влияние на эти отношения ока-зывают изменения внешней среды. Здесь мы так или иначе под-робней разберем структуру и динамику профессиональной по-пуляции.
В фокусе данного исследования находится феномен интерак-тивно осуществляемого контроля над территорией, который
207
автор обозначила как genius loci (лат. «дух места» TP
1PT). За этим по-
нятием стоит определенная фигурация, в терминах Норберта ЭлиасаTP
PT[Элиас, 2001], состоящая из хозяина места (духа) и чужа-
ков, забредших на подконтрольную территорию. Граница территорииTP PT[о социальном конструировании границ см.: Simmel, 1908] в данном случае никогда не имеет материального воплоще-ния в виде заборов или иных форм огораживания, но всегда во-ображаема и существует только благодаря постоянному контро-лю, который осуществляет хозяин. Хозяин обладает полными правами на этой территории, в частности, он может требовать счужака выплату штрафа за пересечение этой самой иллюзорной границы. Чужак в свою очередь практически всегда осведомлен ориске, сопряженном со встречей с хозяином на его территории, ипоэтому либо уклоняется как может от этих встреч, либо не на-рушает территории вообще. Эта осведомленность и поддержи-вает существование воображаемых границ территории TP
2PT. По-
скольку хозяин заинтересован в нарушении его территории, так как это создает прецедент для выплат, он так или иначе старает-ся создать и поддержать ценность этой территории, чтобы как-то завлечь чужака.
Хозяину необходимо постоянно работать и не делать,по возможности, исключений для своих нарушителей, так как любое послабление может нанести серьезный ущерб. Малейшее подозрение в том, что хозяин ослабил контроль над территорией,и чужаки устремятся в запретные места такими потоками, что остановить их будет просто невозможно. Слова инспектора ил-люстрируют данный тезис:
Бабушки тоже хитрые бывают [смеется]: грибочки наберут-наберут,а потом с ними на базар, такие бизнесменки попадаются. Один раз
TP
1PT Этот термин в английской транскрипции (ghost of place) был предложен Бел-
лом для обозначения субъективно переживаемого опыта какого-либо места. В дан-ном исследовании этот термин используется для описания определенного инте-рактивного явления, в которое также входит специфическое переживание места [Bell, 1997].
TP
2PT Исследование поведенческих компетенций и повседневного зонирования
представлено в статье когнитивного антрополога Чарльза Фрейка [Frake, 1975].
208
поймаешь, смотришь, второй раз, а, милок, я на базар их несу прода-вать. Такие бабушки нам тоже не нужны, которые потом рассказыва-ют обо всём, я её простил, а кричат о том, что грибочки или ягодки она в заповеднике насобирала. Потом люди начинают думать, что в заповеднике можно собирать, приходится и бабушек тоже наказы-вать. Бабушки – они ведь разговорчивые, они и о плохом, и о хоро-шем, всё расскажут. Как бы они тоже наши помощники в этом плане.Накажем бабульку, а она потом тебя пусть и проклянет, но расскажет всем, что её там наказали. Как бы тоже дополнительная информация о том, что в заповеднике – нельзя.
В повседневности мы постоянно сталкиваемся с подобными территориями, поэтому практически каждому знаком опыт чужа-ка, и очень многим знаком опыт хозяина. Общественный транс-порт является, пожалуй, самым обыденным примером, где пасса-жиры исполняют роль чужаков, а контролеры – роль хозяев. Рэ-кет может являться иной формой того же феномена. В чистом виде мы можем наблюдать эту ситуацию в быту инспекторов за-поведников, которые осуществляют профессиональный контроль над территорией заповедника, которая, в свою очередь, никогда не может быть четко огорожена.
Полевое исследование проходило в одном из российских за-поведников. Подробнее случай будет описан по ходу изложения.Данный заповедник, как и все прочие заповедники России, отреа-гировал на процессы социальной трансформации TP
1PT. В частности
это выразилось в смене стратегии контроля и выборе источников власти, на которые ссылаются инспектора при исполнении роли хозяина места. Если раньше им достаточно было представлять государство, то теперь его авторитета недостаточно, и в работе инспекторов стала играть заметную роль ссылка на возможное применение физического насилия и апелляция к альтернативным моральным порядкам.
TP
1PT Также необходимо сразу отметить, что благодаря довольно успешной кадро-
вой политике, а также региональной финансовой поддержке, заповедник смог пре-одолеть трудности переходного периода и даже завоевать себе репутацию одного из лучших в сфере контроля над территорией. Отчасти поэтому исследуемый слу-чай нужно воспринимать как не вполне типичный.
209
Борьба за позицию хозяина территории С 1996 года, когда вышел закон об административной ответ-
ственности, инспектора заповедников получили право взимать штрафы за нарушения самостоятельно. При этом они могли де-лать это прямо на месте поимки. В годы, когда центральное госу-дарственное финансирование было довольно скудным и непосто-янным, подобный доход был весьма серьезным подспорьем для инспекторов и самого заповедника.
…Раньше какие-то дополнительные деньги, те штрафные, вот которые мы со штрафов и исков, возмещение материального ущерба, напри-мер, администрации, до сорока процентов этой суммы мы могли пус-кать на поощрение сотрудников и лиц, которые помогли выявить дан-ное нарушение. Могли эти средства направлять на дополнительную материальную. А сейчас у нас как бы это не практикуется…
В 2001 году был принят новый закон, по которому инспектор заповедника получал право облагать штрафом и обязательством уплатить возмещение ущерба заповеднику, но получить эти день-ги заповедник мог только через суд. Поэтому сейчас особое вни-мание уделяется правильному соблюдению всех бюрократиче-ских процедур задержания. Так как каждая незначительная ошибка в заполнении протокола может обесценить его в суде.Подобные бюрократические меры может и выглядят несколько нелепо посреди леса, например, шариковая ручка, которой дол-жен быть заполнен протокол, не всегда пишет на тридцатигра-дусном морозе, но они необходимы. В частности, они указывают на то обстоятельство, что инспектор является представителем го-сударства и, соответственно, власть инспектора в лесу черпается из власти государства над своими гражданами. Точно к таким же отсылкам к государственной природе власти инспектора относят-ся удостоверения, форменная одежда и прочие знаки отличия.
Чтобы описать всю ситуацию, воспользуемся вновь экологи-ческой метафорой Парка [Park, 1952] и Хьюза. Экологическую систему можно уподобить лестнице, на ступенях которой распо-ложены виды, или группы людей, в нашем случае. Основопола-гающим элементом этой системы являются отношения хищник –
210
жертва, которые конституируют иерархическую структуру. Быть жертвой означает находится на ступеньке ниже хищника. А быть хищником – стоять на ступеньке выше жертвы и охотиться на нее. Позиция в этой иерархии в природе определяется наличи-ем клыков и когтей, в социуме преимущество создают различные капиталы и власть. В социуме подчинение жертвы хищнику ста-новится аналогом питания в природе. В отношениях с нарушите-лями и чужаками инспектор занимает позицию хозяина террито-рии и хищника. Подобно хищнику, он контролирует территорию заповедника и охотится на нарушителей заповедного режима.Инспектор является представителем государственной власти, так как его статус прописан в законе, поэтому в такой ситуации его клыки – это корочки удостоверения, а его когти – шариковая ручка, заполняющая официальный бланк протокола. Привилеги-рованное положение инспектора сильно ослабевает в ситуации,когда ослабевает авторитет государства. Это произошло в сере-дине девяностых годов, когда инспекторам пришлось полно-стью реформировать прежнюю систему контроля над террито-рией заповедника, так как старые отсылки к власти государства в тот период больше не срабатывали. Нужно отметить, что для представителя государства некоторые альтернативные источни-ки власти и укрепления своей позиции хозяина территории не-доступны.
…В стране нашей, не знаю, хаос какой-то начался, как раз перестрой-ка, расцвет криминала, и людей ни за что ни про что просто стали убивать, и просто стало опасно нашим инспекторам, которые жили на наших этих кордонах и имели обходы. Ну, просто они были не в со-стоянии, их просто посылали куда подальше, если он предъявлял пре-тензии кому-то, или уходи отсюда, мы тебя тут убьём и сожжём твой дом, останешься ты у разбитого корыта. Вот, естественно, они не мог-ли ничего сделать и не предпринимали никаких мер к нарушителям…
В частности, инспекторам пришлось отказаться от единолич-ного патрулирования территории, теперь в лес они ходили груп-пами, минимум из трех человек. Отчасти эта мера создавала отсылку к физической силе, своеобразному альтернативному
211
источнику власти в период ослабления государственных меха-низмов. Полная апелляция к возможному насилию все-таки была не выгодна инспекторам, так как штат сотрудников был ограни-чен и отказываться от государственного статуса было опасно.А именно это происходит при полном использовании ресурса фи-зической силы.
…Несмотря на то, что работа инспектора – она достаточно жёсткая,вот вообще допускает и предусматривает порой воздействие физиче-ской силы на нарушителя, даже допустимо для нас применение ору-жия, мне кажется, прежде всего, инспектор должен работать головой,а не махать пудовыми кулаками и бряцать оружием. Поэтому, если инспектор, наверное, вынудил нарушителя или нарушитель вынудил,скорее всего, инспектора к применению физической силы, вот навер-но, это ошибка инспектора, будет считаться. Поскольку должен найти аргументы, чтобы словами убедить человека в том, что он не прав,в том что лучше... не делать этого. Оформить надлежащим образом всё. В то же время проявить твёрдость, жёсткость, должен инспектор настоять на своём, довести дело до конца. Доставить даже, может быть, в отделение милиции нарушителя, если при нём нет документов,как бы он не отпирался, но если он сорвался на физическую силу, на применение оружия, конечно, не самый лучший способ решения…
Необходимость выработки альтернативных государствен-ным, но постоянных источников собственной власти была тем более очевидна, чем непредсказуемее было поведение нарушите-лей. В отсутствии общей схемы интерпретаций властных позиций участников и последствий взаимодействия для сторон и наруши-тели, и инспектора теряли основу для типичного исполнения сце-нариев задержания, застрахованных от нелепых случайностей.
…Нет, ну, как нарушения они, тут, трудно сказать, можно порой из ничего иметь такую ситуацию, из которой трудно выйти. А есть на-рушения заведомо опасные, которые опасны для инспектора. Скажем,отлов браконьера в ночное время.Мы ведь едем ночью, ну, чего у него на уме, если это браконьер с оружием, ну, как его задержать. Он возь-мёт тебя из ружья шмальнет в лобовое стекло, убьёт и уедет, и ищи его свищи. Кто его там будет искать – не найдет никто. Конечно, это опасная работа. А порой бывает тут и проще такую работу выполнять,а бывает… У меня в практике было такое, казалось бы, задержали нарушителя, была корзина у него, а в корзине несколько грибов. Ему
212
стали говорить, дорогой, так нельзя, ты, нарушаете вы, а он из-за этих грибов схватил нож, которым грибы режут, и буквально бросился на нас с ножом. Дурачок что ли, из-за такой ерунды, из-за этих трёх грибов он практически готов был убить человека. Трудно сказать,чокнутый какой-то или психически неуравновешенный человек. Где с таким человеком встретишься, это…
Выходом из положения стало обоснование власти с помо-щью апелляции к моральным порядкам и справедливости. Было необходимо сделать нарушителей более дружелюбными. По-скольку инспектора имели дело с двумя различными группами нарушителей – местными жителями и городскими туристами –им пришлось разработать две различные линии легитимации сво-ей деятельности. В основе этих стратегий лежат манипуляции с пищевыми цепочками. Проблема состояла в том, что с самого начала и местные жители, и городские туристы воспринимали инспекторов с позиции жертв, исключительно как отрицательных персонажей. Чтобы перейти к новому положительному образу,инспекторам было необходимо перейти от пищевой цепочки, со-стоящей из 2-х элементов к 3-элементарной цепочке. Для мест-ных жителей они создали средний элемент, сославшись на тот вред, который городские туристы приносят окружающей среде и природе, в которой живут местные. Таким образом, они транс-формировали пищевую цепочку:
с: инспектора (плохие) → местные жители (хорошие)на: инспектора (хорошие) → городские туристы (плохие) →
местные жители (хорошие).
Моральным утверждением было: враги наших врагов – наши друзья. Совершить подобную подмену было не так сложно, так как уровень жизни местных жителей и городских был настолько различен, что симпатий к городским со стороны местных было довольно мало. Для городских туристов нужно было предложить что-то отличное, так как их отношение к местным было довольно нейтральным. Поэтому в этом случае инспектора использовали научный дискурс и экологические аргументы. Манипуляции со-стояли в том, чтобы заменить пищевую цепочку:
213
с: инспектора (плохие) → городские туристы (хорошие)на: инспектора (хорошие) → браконьеры (плохие) →
природа (хорошая).
Перевернув моральные оценки, инспектора заставили город-ских жителей чувствовать свою вину перед природой и выплачи-вать штрафы спокойно и без скандалов. Активная работа отдела экологического образования, репортажи и статьи в газетах о ра-боте заповедника способствуют закреплению новых пищевых цепочек и моральных оснований деятельности службы охраны заповедника. Способность в ситуации встречи лицом к лицу с на-рушителем перевернуть традиционные интерпретации и строго задать режим новых альтернативных обоснований действий ин-спектора очень высоко ценится в профессиональной среде.
[Он] работал там начальником опергруппы, у него опыт уже был та-кой. Всё, чему я научился в плане инспекторской работы, это, конеч-но, благодаря ему. Он мужик был такой, тоже что называется, беском-промиссный. С ним… даже было забавно смотреть. Когда он начинал работать с нарушителями, женщины после 15 минут общения с ним,они сразу пускались в слёзы, в рёв. А мужики даже, если здоровый – косая сажень в плечах, тоже максимум минут пятнадцать и всё, он вы-тягивался по струнке смирно и боялся сказать чего-нибудь лишнего,конечно, было такое. Забавно было.
Стратегии контроля над территорией Существует множество систем контроля над территорией,
основными элементами в которых выступают строительство фор-тов и проведение рейдов. Эти два идеальных типа контроля могут быть скомбинированы. Суть фортификационного метода сводит-ся к тому, что хозяин основывает в центре небольшого участка форт и совершает короткие вылазки в разные концы своей земли,чтобы предотвращать нарушения. Обычно такие вылазки стано-вятся постоянной и рутинной деятельностью хозяина, соседи и местные жители постепенно осваивают привычки хозяина, и мо-гут довольно точно предсказать время и маршрут его походов.Используя подобные возможности, местные могут совершать не-которое количество безнаказанных нарушений. Так как наказание
214
в данной системе получает тот, кто попался, а не тот, кто нару-шил. В то же время, общее количество подобных нарушений не должно быть слишком большим, так как в таком случае хозяину приходится изменять своим привычкам и проводить спонтанные вылазки и дополнительные меры. Нарушителям, конечно, подоб-ные изменения не выгодны, поэтому они сами ограничивают себя до некоторой степени. Такая система довольно устойчива, если не подвергается воздействию извне. Европейские средневековые замки можно сравнить с подобными фортами. Также именно эту систему составляли обходы в заповедниках в советское время.Вся территория заповедника была поделена на кварталы, которые назывались обходами. На территории обхода находилось зимовье или, в некоторых случаях, это строение называлось кордоном.За каждый участок отвечал конкретный инспектор, который дол-жен был постоянно там находиться. В это время инспектора, то-гда еще назывались лесниками, могли безбоязненно работать в лесу в одиночку, так как их статус был гарантирован очень сильным государством.
Второй идеальный тип контроля обычно был альтернативой фортам. Ужасные пиратские рейды на Карибском море держали в страхе не только побережья, но и основные форты, построен-ные на пересечениях различных торговых путей. Успех рейдов зависит от их неожиданности. Подобная непредсказуемость воз-можна только в случае, если в рейде участвуют люди, никак не связанные с местным населением. Пока пираты были иностран-цами без каких-либо планов интеграции в местные сообщества,их грабеж был безнаказанным. Но такая стратегия не может быть успешной долгое время. Подобные повторяющиеся рейды могут быть непредсказуемы только на очень большой территории. Рано или поздно рейдерам необходимо изменять тактику, чтобы не попасться самим и не упустить добычу. В девяностых годах от-делам охраны заповедников пришлось полностью изменить принцип своей работы. Так как фортификационная система пере-стала работать, инспекторам нужно было реорганизовать систему контроля над территорией и перейти к рейдовой системе. Эта ре-форма вызвала серьезную ротацию кадров. Было необходимо
215
набрать новый штат сотрудников, которые могли бы выполнять новые довольно тяжелые обязанности, а главное, не были бы свя-заны с местным населением, то есть были бы чужаками, чтобы предотвратить утечку информации.
Ну, потом многие сотрудники были такие там уже предпенсионного,пенсионного возраста, уже как инспектора им, наверно, тяжело было работать. Поэтому когда новый директор пришел, Г***, он уже наби-рал молодых. Старался таких набирать, которые были, что называется,лёгкие на подъём, могли в любое время собраться и выехать на не-сколько дней, не привязанные к одному месту. Поэтому наша опера-тивная группа – она достаточно удачно вписалась в работу. И были.Ещё один минус того, что инспектора живут осёдло на кордонах, они как бы привязаны, у них всё равно так или иначе образуются связи с местным населением или родственные связи или друзья, кто-то ко-му-то помог, они чем-то обязаны. Поэтому не всегда могли просто применять меры к нарушителям: просто среди нарушителей могли оказаться родственники, знакомые. А вот наша оперативная группа – она не имела никаких связей, нам было абсолютно всё равно, родст-венник ты чей-то, брат или сват. Это не имело значения. Мы приезжа-ли и просто оформляли всех подряд. И на нас никто не мог ни подей-ствовать, ни повлиять, мы никому не подчинялись, кроме директора заповедника.
На тот момент инспектора больше не заботились об отдель-ных участках леса, но участвовали в рейдах, который проводи-лись спонтанно и неожиданно. На тот момент данная тактика бы-ла более чем успешна, в течение пяти лет показатели работы ин-спекции были очень высокими.
…Ну, естественно, когда приезжаешь неожиданно, – всегда самое ин-тересное. Когда мы начинали работать, конечно, браконьер был непу-ганый ещё. Они просто не ожидали, что кто-то приедет и начнет здесь что-то охранять. Конечно, можно было, если едешь через р* участок,вот та дорога, которая через лес идёт, трасса вот вдоль этой дороги,на обочине стояли машины. В заповеднике либо кто-то там грибы со-бирал или ягоды, или просто сидят – пикник у них, костерок и так да-лее, отдыхают-пьянствуют. Без труда можно было составлять прото-колы, гонять, и работы было непочатый край. Выезжали, вот этот уча-сток дороги в заповеднике там, за конторой, с той стороны. Утром
216
по пути туда останавливаемся, одну группу, вторую там отлавливаем,составляем материал первичный, протокол. И вот мы к обеду, где-то пять километров, вот к обеду мы только доезжали до конторы. Ну,в конторе там приедешь, пообедаешь, и после обеда выезжали обратно в К*. И ещё обратно по этой же дороге – там народ накапливался но-вый, подъезжал, мы на обратном пути оформляли и к вечеру приезжа-ли в К*. Вот таким вот образом мы работали. Со временем народ уже привык, сейчас ни одна машина там не останавливается. Знают, что заповедник охраняют, штрафуют за это, наказывают, кроме того, уже знаки поставили, и гаишные знаки стоят: запрещена остановка.
Сейчас можно наблюдать первые признаки упадка такой сис-темы. Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации, от-части, поэтому даже неожиданные рейды перестают быть неожи-данностью для нарушителей. Также эффективность работы ин-спекторов сказалась на числе нарушений, так что такого легкого протокольного улова, как раньше, сейчас уже не бывает. Кроме того, местные жители также адаптируются к новой системе, на-пример, пускают в ход новые средства связи, объединяя свои усилия и координируя свои действия.
…Бывает так, что выезжаем просто неожиданно, когда какие-то вре-мена бывают. Вот период охоты, когда браконьеры активны, тогда мы ужℑ выезжаем просто. Выезжаем из К*, сюда приезжаем, никому не говорим, чтобы не было утечки информации. И работаем. И такая ра-бота тоже приносила свои плоды, выезжаешь. Ну, уж последнее время мало становится смысла – приезжать сюда на несколько дней, по-скольку даже взять вот этот элементарный телефон [показывает на мобильный телефон], он сейчас есть практически у каждого и в де-ревне, и если полдеревни живёт за счёт того, что ловит рыбу. Вторая половина деревни эту рыбу возит в город продавать, то конечно, ин-спектора для них – это как бельмо на глазу. Мы только приезжаем сю-да, а они тут же. Один увидел, они сразу же обзвонились, что всё, ин-спекция здесь, сидим тихо и никуда не вылезаем. Поэтому сейчас даже больше толку приезжать, ну сами планируем, когда выезжаем. Выеха-ли, допустим, часов в 12 ночи сюда, приехали, отработали и ночью же уехали.
Сейчас мы можем наблюдать процесс комбинирования двух вышеописанных систем на территории заповедника.
217
Поскольку заповедник имеет два участка, а у нас создана оперативная группа, мобильная. Кроме того, что инспектора живут постоянно,здесь в с* участке живут, пять человек, и в Р* есть инспектора, кото-рые живут постоянно там в посёлке С*. Кроме них была ещё мобиль-ная группа создана оперативная. И вот мы жили в К*, а ездили, выез-жали то в р* участок, то в с* участок, неожиданно, никому не говоря.
Идея комбинации строится на необходимости сочетать не-предсказуемость рейдера и информированность кастеляна. Не-предсказуемость может быть поддержана только изоляцией ин-спектора от местного населения. Так как это не вполне возможно для всего штата сотрудников, в данном случае изолированы наи-более активные члены оперативной группы, то есть люди, прово-дящие рейды. В основном, они живут в городе, а не в соседних с заповедником поселках, и выезжают в рейды на территорию заповедника как в командировки. Второй возможностью для под-держания изолированного состояния был обрыв старых связей с соседями и знакомыми по поселку и фокусирование всего вни-мания на сотрудниках заповедника. Часто члены семей таких ин-спекторов также работают в заповеднике в отделах науки, эколо-гического просвещения и на хозяйственных должностях. В такой ситуации предпочтения инспектора всегда будут на стороне за-поведника. Вторая задача, а именно информированность, требо-вала постоянного присутствия и наблюдения на территории. Для рейдеров это было невозможно. Подобную информацию обеспе-чивали теперь уже либо менее активные инспектора, либо быв-шие сотрудники заповедника, бывшие лесники, работники, не приспособленные по каким-либо причинам, например возрасту,к работе в патрульной группе. Кроме того, у каждого инспектора есть своя небольшая сеть осведомителей из числа местных жите-лей. Подобные связи гарантированы небольшими бонусами и хо-рошим отношением со стороны инспектора, и своевременными новостями – со стороны информатора.
Конечно, совсем отказаться от такой системы, когда люди постоянно здесь живут, должен кто-то жить. Они у нас сейчас как: живут, рабо-тают, в их обязанности не входит, мы уже не требуем составления про-токолов. Вступления в открытую такую конфронтацию, единственное
218
что – это вести наблюдение за участком, и если где-то что-то, есть на-рушение – своевременно подавать информацию, уже в управление за-поведником. А тут выезжает оперативная группа, другие люди, при-езжаем и уже не говорим, конечно, откуда информация к нам посту-пила, мы уже наказываем, уже работаем сами. Как бы осведомители такие местные, и всё.
Одним из важных аспектов профессиональной социализации инспектора является интернализация топографического знания и знакомство с картами территории. Это знание отличает инспек-торов от местных жителей, которые пользуются практическим,а не картографическим, знанием сети тропинок. Процедура за-полнения протокола включает в себя регистрацию места, где бы-ло совершенно задержание. Для этих целей, в частности, вся тер-ритория заповедника разбита с помощью просек на пронумеро-ванные кварталы. Специальная карта, на которой отражены все номера кварталов, называется квартальной сеткой. Инспектора очень активно используют этот план в своей профессиональной деятельности. Чем более опытен инспектор, тем лучше он знает эту карту и помнит номера кварталов. В то же время, знание опытного инспектора можно охарактеризовать как более практи-ческие. К примеру, когнитивные карты, исполненные молодыми сотрудниками, более подробно и точно воспроизводят кварталь-ную сетку. Однако более опытные сотрудники чаще используют номера кварталов как привязку для рассказываемых событий.
…Ну, теперь у нас уже не обход, но я должен знать как дважды два и тот участок полностью, а не только какой-то, и этот участок. Есть места более посещаемые, эти места в первую очередь надо знать. Есть места, которые труднодоступны и вообще не представляют никакого интереса для нарушителя. Все тропки надо знать, конечно, как подой-ти скрытно. Нарушитель тоже не всегда сидит и ждёт, когда придут его под белы руки возьмут. Тоже пытается убежать, естественно надо знать всё. Просто ориентироваться. Если человек элементарно не зна-ет, как определить стороны горизонта, просто такого человека опасно выпускать в лес, он заблудится, и ищи его свищи потом.
Если проанализировать зарегистрированные в протоколах номера кварталов, то можно описать используемый инспектором
219
принцип навигации. Не удивительно, что наиболее популярные кварталы находятся на окраинах заповедника. Патрулирование подобных периферий наиболее выгодно и прибыльно для ин-спекторов. Так как эти территории посещаемы людьми, наруши-телями и, как следствие, инспекторами, они не такие уж дикие.Это означает, что у местных жителей есть некоторое знание об этих местах и они, так сказать, социализированы TP
1PT. Централь-
ные зоны в заповеднике настолько дикие, что по большей части просто непроходимы ни для человека, ни для техники. О таких местах местные жители ничего не знают, и стараются туда не по-падать. Так, мы можем видеть связь между дикостью лесного ландшафта и социализацией места, то есть включением знания о нем в общий багаж знания сообщества. Так как нарушители стараются держаться цивилизованных и знакомых мест, навига-ция инспекторов также будет следовать этим маршрутам. Такую навигацию можно назвать каботажем. Подобное прибрежное плавание, сориентированное на движения торговых галеонов,привязанных к портам, также было характерно для пиратов-рейдеров.
Далее мы можем продолжить морскую тематику избранных метафор. Образ моря и острова будет нам полезен для того, что-бы охарактеризовать отношение инспектора к подконтрольной ему территории. Все инспектора изобразили территорию запо-ведника на когнитивных картах как замкнутый контур без каких-либо объектов снаружи него. Ни дороги, ни реки не пересекают этого контура, а остаются в рамках заповедника. Такие картины очень напоминают изображение моря или острова на физических картах. Здесь мы предлагаем два гипотетических объяснения по-добных образов. Образ острова наводит на мысль о статусном преимуществе инспектора на территории заповедника. Это пре-восходство подобно чувству земли под ногами, которое инспек-тор теряет, выходя за пределы территории. Как только инспек-тор покидает территорию, он теряет свою привилегированную позицию хозяина, и, соответственно, всю свою власть. Вторая
TP
1PT Периферия заповедника цивилизована, как выразился бы Элиас.
220
перспектива, идея моря, дает нам представление об интерактив-ном преимуществе инспектора на территории заповедника. Толь-ко инспекторам (и еще ученым-естественникам) разрешается свободно передвигаться по этой территории, и только они ис-пользуют наиболее подробные и детальные карты. Как результат,они являются знатоками этой территории и могут наиболее ус-пешно использовать свои знания для маневров. У них нет ника-кого страха потеряться или сбиться с пути, в то время как у на-рушителей он всегда присутствует. Это преимущество подобно знанию фарватера в минуту столкновения с противником, не знающим его.
Динамика профессиональной популяции Основной тенденцией девяностых годов было постоянное
снижение количества протоколов. Подобная тенденция говорит об эффективности работы инспекторской службы. Потенциаль-ные нарушители взвешивают все за и против, оценивают риски,перед тем как идти за трофеями в лес. И в последнее время после подобных калькуляций все чаще остаются дома. Исключения со-ставляют случаи, когда трофеи кажутся особенно привлекатель-ными или настолько обильными и легкими в добывании, что страх встретиться с инспектором не перевешивает подобной при-были. В табл. 1 представлены итоги работы инспекторской служ-бы за несколько лет.
Таблица 1 Годы Протоколы
1999 2000 2001 2002 2003 Всего Рыба 35 55 37 29 16 172 Грибы 36 31 68 9 87 231 Ягоды 0 4 36 7 0 47 Вторжение 20 44 34 19 23 140 Другое 25 14 18 14 15 86 Всего за год 116 148 193 78 140 675
Здесь мы видим три типа возможных трофеев: рыба, грибы и ягоды. В колонке вторжение отмечено количество протоколов,
221
составленных за незаконное нахождение на территории заповед-ника. Такой протокол составляют, когда конкретные цели нару-шителя не установлены либо он зашел просто отдохнуть и по-быть на природе. На примере 2000 года мы можем видеть, как обилие рыбы привлекло браконьеров, и как это сказалось на ко-личестве протоколов о вторжении. Можно предположить, что истинными, но не раскрытыми, целями вторгнувшихся наруши-телей была незаконная рыбная ловля. Воспоминания о грандиоз-ном клеве прошлого года привели некоторое количество рыбаков на территорию заповедника и в следующем, 2001 году, что вы-звало очередное отклонение от предсказываемой динамики сни-жения количества протоколов.
Очень удачным для инспекторов был 2001 год, так как запо-ведник был расширен и получил новые территории, ранее при-надлежавшие соседнему лесхозу. Рубка леса на этих участках в последние годы не была очень интенсивной, так как там прово-дились работы по восстановлению леса. Кроме того, в ландшафт этих мест входят болота с очень ценной и редкой флорой.До 2001 года местные и городские жители могли свободно посе-щать эти территории и собирать там ягоды и грибы. В 2001 году они пошли в привычные, но на тот момент уже закрытые к посе-щению, места, где были пойманы инспекторами. Как результат,количество протоколов по грибам и ягодам в 2001 году возросло.В 2002 погода была настолько неблагоприятной, что в лесу прак-тически не было ни грибов, ни ягод. И количество этих протоко-лов в этом году даже ниже ожидаемого. И наоборот, 2003 год был очень урожайным на грибы и ягоды, что, как мы видим, отрази-лось на количестве протоколов в колонках грибы и вторжение.
…При том, при сём, что ту волну нарушений, которая у нас здесь бы-ла, мы немножко сбили, и работы у нас здесь поубавилось. Наши по-казатели пошли на убыль – количество составленных протоколов.А тут очень кстати дополнительные территории приобрели [в 2001. – С. Т.], там были нарушения.Вопрос: А сейчас они опять вниз?Ответ: В прошлом году было, вернее в позапрошлом, немного мень-ше [2002. – С. Т.], в этом году опять немножко выросло. Потому что
222
у нас несколько лет подряд неурожайные года были на грибы, ягоды-то ещё были, а грибов у нас наверно года 3–4 не было. А прошлый год был очень урожайный [2003. – С. Т.], очень много грибов было, и вот за счёт этого, конечно, народ полез за грибами, тут мы протоколов больше, по сравнению с позапрошлым годом. С того дня, когда мы начали работать, с 96 года, у нас максимальное – 250 протоколов что ли и после этого постепенно, постепенно на убыль пошло, ну это нор-мально, закономерно. Результат – раз инспекция работает, результат-то должен быть. Снижение численности, числа нарушений. Было по-нижение, и вот потом прошлый год у нас опять подпрыгнуло.
Наблюдаемый заповедник состоит из двух больших участ-ков, которые удалены друг от друга на расстоянии 80 км. Эти участки различаются как с точки зрения представленных биоце-нозов, так и с точки зрения необходимого режима охраны. Один участок называется Р* и располагается на расстоянии 25 км от миллионного города К*. Администрация заповедника распола-гается в Р*. Этот участок славен очень старым и ценным лесом,также там располагается несколько озер. Р* окружена несколь-кими деревнями, один из поселков располагается в центре участ-ка, соединена дорогами федерального значения с городом К*. Че-рез заповедник также проходит дорога, ведущая во внутренние районы региона. Все эти обстоятельства определили специализа-цию участка на так называемых грибных и ягодных протоколах,а также протоколах о вторжении. Второй участок носит название С* и располагается дальше от К*, на расстоянии 64 км. Здесь сравнительно молодой лес и сама территория участка больше, как следствие, более разнообразно представлена фауна региона, в ча-стности млекопитающие. С* расположен на побережье несколь-ких рек и большого водохранилища, которое обеспечивает ра-боту крупной гидростанции. Рыба является основной специали-зацией данного места. Эти различные условия определяют раз-ное отношение инспекторов к своей работе и разные концепции этой работы.
…Но что касается меня, то мне как-то вот, я даже не ожидал, когда в заповедник пришёл работать. Знал, что есть р* участок, есть с*. Как-то поначалу мне хотелось к Р*, меня тянуло, в Р*, в Р*, а потом стал
223
работать и как-то незаметно-незаметно прикипело, для меня с* уча-сток – как дом родной. Мне больше нравится здесь. Выезжаю, мне как-то более интересны все эти в плане работы. Поскольку тут более живая работа, более интересно, ну и зверь есть. По крайней мере, вид-ны результаты своей работы больше, чем в р* участке. И живность.Раньше приезжали, кабанов тут такого количества не было, сейчас в любое время могу приехать и знаю, где они сидят, под каким кустом,могу привезти человека показать, кому интересно. Знаю, что это во многом благодаря тому, что охраняется заповедник, инспекция ра-ботает. Как-то вот не знаю, интересней как-то этот участок, вода здесь опять же.
Штат сотрудников негласно разделен на три группы: члены первой работают в Р*, сотрудники второй – в С*, а третья группа работает в обоих участках. Членов третьей группы мы можем обозначить как рейдеров, так как они используют информацию,которую им предоставляют представители первых двух, и прово-дят неожиданные рейды.Анализируя протоколы, мы можем выделить наиболее популяр-ные кварталы. С точки зрения инспектора, существуют кварталы,привлекающие наибольший интерес нарушителей, а следователь-но и инспекторов, кварталы средней посещаемости, и совершен-но неинтересные кварталы. В табл. 2 мы представляем самые по-пулярные кварталы, в которых было заполнено 35,1 % протоко-лов за пять лет.
Таблица 2 Участок Р* Участок С*
№ протоколов Количество протоколов, % № протоколов Количество
протоколов, %48–51 4,7 20 4,4 71–73 3,8 32 1,8 86–87 5,6 56 2,4 106 2,1 61–62 5,1 131 5,2 Всего 21,4 13,7
Здесь мы сталкиваемся с конфликтом профессиональных ролей инспектора как хищника и как genius loci. Хищник более заин-
224
тересован в количестве протоколов и объеме штрафов. Genius loci беспокоится о контроле над всей территорией, создании и под-держании воображаемой границы. Хищник обратит все свое вни-мание на наиболее популярные кварталы и не будет тратить вре-мя на непосещаемые. Genius loci, напротив, будет патрулировать всю территорию, чтобы сохранять постоянно определенную сте-пень риска встречи с ним в любом уголке заповедника.Доминирование стратегии хищника может привести к изоляции инспекторских триад TP
1PT и их конкуренции за наиболее популяр-
ные кварталы. Это обстоятельство может повредить режиму кон-троля над территорией, так как внимание к менее популярным кварталам будет сокращено. В то же время прозрачность дея-тельности инспекторов и их подчинение администрации может быть сокращено. Подобные проблемы мы можем наблюдать в других заповедниках страны, где имеет место практическая приватизация инспекторами наиболее прибыльных участков за-поведника. В подобных случаях инспектора могут зарабатывать эскортом во время валютных и привилегированных охот в запо-веднике. Подобный процесс изоляции инспекторов и их соревно-вания можно сравнить с феодальной раздробленностью, имевшей место в средневековой Европе.
Чтобы предотвратить подобные разрушительные тенденции внутри профессиональной популяции, администрация заповед-ника предприняла несколько мер. Нужно отметить, что подобная внутривидовая конкуренция свойственна каждому виду. В эколо-гии она объясняется тем, что представители одного вида наибо-лее всего схожи в наборе ресурсов, в которых они нуждаются,и не могут перейти на альтернативные источники, в случае не-хватки этих ресурсов. В интервью ни один из информантов
TP
1PT …сейчас даже приказом директора заповедника, инспектора, они меньше чем два человека, они в принципе не могут выходить. Ну и потом, для того чтобы задержать нарушителя, ну и составить на него протокол, кроме того, что про-токол составляет один человек, но, кроме того, должно быть два свидетеля,которые должны подписать протокол. Иначе вся эта писанина останется бес-полезной и ни в каком суде не удастся доказать, что этот нарушитель действи-тельно был нарушителем, если нет свидетелей. Поэтому уже получается, как минимум три человека должно быть.
225
не отметил отдельно опасность внутривидовой конкуренции и не проговорил отдельно мер по ее предотвращению. Тем не менее,можно наглядно видеть результаты успешной борьбы за нивели-рование отрицательных последствий. Отчасти это стало возмож-но благодаря харизматической природе власти директора запо-ведника, который является неоспоримым лидером и вожаком.
…Не знаю, что касается меня, я для себя сразу уяснил, что я работаю здесь не для того, чтобы цепляться за место. Какую-то маленькую зар-плату получать, копейки, и трястись из-за этого. Меня попросил Г*порядок навести. Стал работать. Если бы я потерял это место, в день-гах я много бы не потерял. А как на меня можно воздействовать, уво-лить с работы, да ради бога. Единственное, что я боялся потерять – это уважение Г*, поскольку я его хорошо знаю. Он достаточно принципи-альный товарищ и интересно с ним работать, и хотелось работать, язнал, что с его стороны я найду понимание всегда.
Здесь упомянем два обстоятельства, способствующих пре-дотвращению тенденций к приватизации. Первой такой мерой стало ограничение информации, доступной инспекторам, о ре-зультатах их деятельности, а именно о том, какие протоколы бы-ли затем успешно выиграны в суде и сколько штрафов по ним было выплачено. Ни один из моих информантов, кроме замести-теля директора, который единолично занимался всем судопроиз-водством в заповеднике, не знал, какие последствия имели со-вершенные ими задержания. Поскольку таким образом была уп-разднена четкая шкала оценки деятельности каждого инспектора,а именно сколько денег он принес заповеднику, конкуренция и соревнование между инспекторами было предотвращено.
Второй мерой стало поощрение формирования стабильных инспекторских рабочих пар, а не триад. Кластерный анализ дан-ных о протоколах показал, что за пять лет сложилось пять посто-янных и стабильных пар. Так как пара всегда нуждается в третьей стороне, и эта третья сторона всегда случайна и меняется от слу-чая к случаю, она никогда не станет также автономна и изолиро-вана, как могла бы быть триада. Диады привлекали особенностью своего строения социологов еще со времен Зиммеля. Говард Беккер,например, упоминает о четырех основных аспектах взаимодействия
226
в диаде, которые придают этой структуре особую стабильность [Becker, Useem, 1942]: 1. Основной тип взаимодействия в диадах – ситуация лицом к лицу. Все события, касающиеся диады, все участники всегда переживают вместе и одновременно.
2. Ограничения диад:� принцип личной ответственности перед друг другом вовле-ченных в ситуацию за последствия. Этот принцип выража-ется в невозможности высказывания «Почему никто ничего не сделал по этому поводу?». Так что в диаде заблокирован процесс деперсонализации и отстранения от ситуации взаи-модействия;
� определенность статуса всех участников взаимодействия.Чем ⊆же круг, тем отчетливее позиция каждого, и в диаде этот принцип проявляется максимально;
� важность потери каждого члена группы, то есть решающая роль каждого индивида в судьбе диады. С другой стороны,этот принцип проявляется в выражении: Каждая диада ко-гда-нибудь станет разбитой диадой.
3. Однозначность понимания и устойчивость взаимодействия достигаются в диаде совместным проживанием ситуаций.Большое количество общих опытов позволяет выработать до-вольно стабильную систему рутинного взаимодействия.
4. Разделение функций между участниками является результатом ясности и однозначности понимания, доверия и стабильности отношений.Все выше перечисленные возможности активно используют-
ся в повседневной работе инспекторских диад: стабильная работа в парах помогает выработать быстрые и отработанные, слажен-ные и скоординированные реакции на неожиданные и критиче-ские ситуации и события, которые нередко происходят в лесу.Поощрение стабильных диад (пар) при формальном разбиении коллектива на триады предотвратили изоляцию и конкуренцию,которые изначально свойственны профессиональной популяции,а также внесли сбалансированность и стабильность.
227
* * *В данной статье мы постарались рассмотреть реакцию попу-
ляции, то есть профессиональной группы, инспекторов на изме-нение глобальных условий внешней среды, то есть смену режима,своеобразного климата, и стратегии адаптации и занятия опреде-ленной ниши в экологической системе общества. Здесь основным сюжетом было манипулирование пищевыми цепочками как спо-соб подкрепления своих позиций в рамках альтернативных госу-дарственному систем обычного права. Далее внимание было уде-лено повседневным тактикам, которые применяются членами по-пуляции для удержания этой ниши, такими как, в частности, ком-бинирование фортификационного и рейдового способов контро-лирования территории. Также была описана роль топографиче-ского знания в работе инспектора.
В итоге, была прослежена динамика группы и ее зависимость от конкретных экологических условий на микроуровне. В частно-сти, зависимость прибыли от урожаев трофеев, таких как рыба или грибы. А также зонирование территории на более и менее урожайные участки, с точки зрения количества отлавливаемых там нарушителей. Были рассмотрены приемы, направленные на преодоление разрушительных для интересов всей группы тен-денций, таких, например, как внутригрупповая конкуренция и борьба за более прибыльные участки, а также приватизация по-добных участков, ведущая к процессу раздробленности всей тер-ритории. Подобные тенденции преодолеваются путем поощрения работы устойчивых пар, которые всегда дополняются постоянно сменяющимся третьим участником, а также ограничением досту-па инспекторов к информации, касающейся результата проведен-ных ими задержаний.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии.М.: Наука, 1991.
Элиас Н. Общество индивидов.М.: Праксис, 2001. Becker H., Useem R. H. Sociological Analysis of the Dyad // American So-
ciological Review. 1942. Vol. 7. № 1. P. 13–26. Bell M.M. The Ghost of Place // Theory and Society. 1997. Vol. 26. № 6.
P. 813–836.
228
Brown K. The political ecology of biodiversity, conservation and develop-ment in Nepal’s terai: Confused meanings, means and ends // Ecological Economics. 1998. 24. P. 73–87.
Frake C.O. How to enter a Yakan house. In Mary Sanches and Ben Blount, eds. // Sociocultural Dimensions of Language Use. N. Y.: Academic Press, 1975. P. 25–40.
Heath C., Luff P., Lehn D. vom, Hindmarsh J., Cleverly J. Crafting Participa-tion: Designing ecologies, configuring experience // Visual Communica-tion. 2002. 1. P. 9–34.
Hughes E.C. Men and their work. Glencoe, Ill.: Free Press, 1958. McKenzie R.D. The Ecological Approach to the Study of Human Community
// American Journal of Sociology. 1924. 30. P. 287–301. Park R. E. Human communities: The city and human ecology. Glencoe, Ill.:
Free Press, 1952. Park R.E., Burgess E. W. Introduction to the Science of Sociology. Chicago:
University of Chicago Press, 1921. Shoemaker D.J., Snizek W.E., Bryant C.D. Toward a Further Clarification of
Becker’s Side-Bet Hypothesis as Applied to Organizational and Occupa-tional Commitment // Social Forces. 1977. Vol. 56. № 2. P. 598–603.
Simmel G. Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaf-tung. Leipzig : Duncker & Humblot, 1908. S. 614–708.
Sudnow D. Passing On: The Social Organization of Dying. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967.
АСТРОНОМИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОЛОГИИ ПРОФЕССИИ
Екатерина Казанина
Подходы в изучении научного сообщества Идея изучения астрономического сообщества возникла не
случайно. Во-первых, астрономия одна из древнейших наук,и нет ни одного общества, в котором не было бы специалистов,обладающих знаниями астрономического характера: в традици-онном обществе это могут быть жрецы и волхвы, философы,в современном – научные сотрудники. Цели и задачи тех и дру-гих разные, но их объединяет общий интерес, поиск ответов на вопросы о существовании мира, Вселенной.
229
Одновременно астрономия – редкая и загадочная профессия.И, наверное, одна из немногих, общественное мнение о которой очень далеко от реальности, что, в свою очередь, порождает це-лый цикл рассказов о том, «что думают обычные люди» об ас-трономах. Прежде чем говорить об особенностях астрономии как профессии, хотелось бы коснуться специфики исследования на-учного сообщества, так как астрономия в первую очередь – нау-ка, и профессиональное сообщество может быть исследовано как научное.
Научное сообщество является объектом изучения многих дисциплин: историографии, социологии науки, антропологии науки. Но в подавляющем большинстве работ предметом являет-ся способ получения научного знания, а коммуникации рассмат-риваются как один из способов такой генерации знания [см. на-пример: Александров, 1994]. Исследуется также связь научного сообщества и социального окружения, но в рамках философского подхода [Роуз, 1994]. Кроме того, ведутся исследования по соци-альной психологии научной лаборатории, психологии ученых [Белкин, 1987; Кнорр-Цетина, 2003]. Среди перечисленных работ нет ни одного исследования астрономического сообщества (глав-ным образом – физики, биологи, геологи). Цель нашего исследо-вания – изучить астрономическое сообщество как профессио-нальное, рассмотреть особенности коммуникаций внутри сооб-щества, а также внешние связи; объединить два подхода – антро-пологию науки и антропологию профессии. Антропология про-фессий здесь подразумевает изучение практик как таковых,фольклора и прочих атрибутов деятельности. Антропология нау-ки в большей степени оперирует определением профессиональ-ного и научного коллектива, исследует способы коммуникации сообщества, производство научного знания, опирается на соот-ветствующую методологию.
Почему мы полагаем, что астрономия – это профессия? Мы отталкивались от соображения, что наличие специфической че-ловеческой деятельности, со своим предметом деятельности,местом работы и результатами труда, подразумевает наличие со-ответствующей профессии. В данной работе рассматривается не вся совокупность астрономов, а только их отдельная группа –
230
астрономы-наблюдатели. Мы опирались в своем анализе на рабо-ты Кнорр-Цетиной, в которой она изучала физиков-ядерщиков и биологов, подход в изучении этих областей деятельности как раз оперирует понятием научных групп. Антропология профес-сии и антропология науки, и в частности деятельности научных групп, как раз и отличается друг от друга в корне. А меня интере-совали конкретные практики и связанные с ними привычки,фольклор, байки. Поэтому в данном контексте правомерно гово-рить об астрономии как профессии, а не о науке. В связи с таким направлением исследования возникли методологические трудно-сти в том, чтобы оперировать терминами субкультуры, традиций и др., то есть тем, что характеризует антропологический подход в изучении профессии.
Исследование проводилось в рамках дипломного проекта «Астрономическое сообщество в Санкт-Петербурге: особенности профессиональных практик и специфики коммуникаций», про-должалось в течение двух лет (2002–2004) и состояло из различ-ных методик: включенное наблюдение (участие в повседневной деятельности – семинары, астрономические наблюдения), биогра-фическое, экспертное и полустандартизированное интервью. Био-графическое интервью проводилось с целью выяснить способы профессионализации, коммуникации с коллегами, особенности мировоззрения, путь в астрономии. Экспертное интервью прово-дилось с учетом того, чем занимается астроном, – практикой, на-блюдением и обработкой, или теоретической работой, научным моделированием объектов. И уже на основе полученных данных проводились полустандартизированные интервью.
Астрономия как профессия Как и любая профессия, астрономия определяется несколь-
кими главными чертами. Во-первых, это профессиональная от-ветственность за хранение, передачу и использование специали-зированной суммы знаний и часто – за расширение этих знаний.Именно обладание такими знаниями отличает профессионала от «непосвященных». Этим определяется другая особенность – высокая автономия профессии, так как осуществлять контроль извне, со стороны «непосвященных», нет никакой возможности,
231
профессия становится замкнутой на себе. В меньшей степени это проявляется в тех профессиях, которые определяются рабо-той с клиентом, – в этом случае контроль производится извне.Но в случае с научными профессиями, а в особенности, тех облас-тей, которые относятся к фундаментальной науке (физика, мате-матика, астрономия), ситуация складывается таким образом, что оценить работу профессионала может только коллектив, в котором он работает. Это и определяет высокую автономию профессии.
Информант: А что касается наблюдателя… можно конечно глянуть,ну опытный наблюдатель глянет на результаты и скажет: «Нет, этого не может быть, это ахинея!» Но нужно помнить, что может быть то,чего не быть не может. Это всегда надо помнить. То есть если такое случается, то результатом будет Нобелевская премия.Интервьюер: А как это проверить?Информант: Просчитать! И сказать: «Позволь, ты тут фигню насчи-тал, у тебя тут пять порядков не сходится!» Запросто! Чем экспери-ментальная работа… если она правильно сделана, то проверить ре-зультат можно только одним способом – перенаблюдать. Больше ни-как. У теоретика есть свои трудности… [здесь и далее приведены примеры из интервью личного архива автора] (интервью 1). Другая черта – установление между профессией и ее общест-
венным окружением таких отношений, которые обеспечивали бы поддержку и охрану от невмешательства в ее основные интересы,то есть система обменов, которая позволила бы профессионалам обеспечивать свою жизнь за счет только своих профессиональ-ных занятий. В случае с фундаментальной наукой основным кли-ентом является государство.
Мы же живём не потому, что народ интересуется астрономией. Не по-тому… мы живём, потому что… ну, вообще, может быть. Вообще,в сущности, очень трудно, очень трудно сказать, как продать результат деятельности фундаментальной науки, прикладнику проще. На базе его идей создаётся какая-то железка, он её ставит на прилавок и гово-рит: вот смотрите, я продаю эту штуку за десять миллионов. Нужна? –покупайте, не нужна? – хрен с вами, пойду на другой рынок и так далее.Результат фундаментальной науки – он не выглядит так. Ну, понима-ешь, ну, кому можно продать, вот результат, типичный результат фун-даментальной науки – Земля имеет форму чемодана. Допустим, я бе-русь доказать… (интервью 2)
232
В связи с этим хочется обратить внимание на то, что взаимо-действие «профессионал – клиент» в астрономии не является значимым или скорее персонифицированным, что в свою очередь не отражается в профессиональном дискурсе. Хотя одной из бо-лезненных тем в интервью проходит тема финансирования науки и взаимоотношения науки и государственного аппарата, чинов-ников, но это не определяет профессиональные практики самих астрономов. Безусловно, контекст этих взаимодействий форми-руется в связи с отношениями власти и борьбы за эту власть.
Другой важной темой является взаимодействие «профессио-нал – объект деятельности» (которая и является центральной в формировании традиций, норм и стереотипов поведения). Но нам представляется чрезвычайно трудным характеризовать астрономов как профессиональную субкультуру, так как эта про-фессия не имеет общего поведенческого комплекса для всех про-фессионалов, идентифицирующих себя как астрономы. Это свя-зано, прежде всего, с дифференциацией самой науки на теорети-ческую и практическую области. В астрономии имеется четкое разделение между теоретиками и практиками, или «наблюдате-лями» (как они сами себя называют), с одной стороны.
С другой стороны, существуют различные области исследо-ваний, отличающиеся по используемым методам, – оптическая и радиоастрономия, и по объекту исследования – Солнце, звезды,межзвездная среда, планеты... Профессионалы из разных облас-тей являются конкурентами в борьбе за капитал, и поэтому одной из ярких тем является антагонизм.
Информант: Да, да, да! Сёдня как раз вспоминала. Г. мне сказал эту фразу, написал то есть мне, что среди солнечников не популярны ра-диоастрономы, а среди радиоастрономов – солнечники [смех]. Интервьюер: Не популярны?Информант: Не популярны, да. Поэтому…Интервьюер: А ты где?Информант: А я? Я солнечник-радиоастроном, и он – тоже. И поэто-му мы, солнечники-радиоастрономы, как бы выделились в особый слой популяции, друг с другом общаемся, и нам хорошо, потому что нас не очень много, и мы можем сделать в этой области какие-то ве-щи… (интервью 3).
233
Поэтому в каждой отдельной группе существуют свои осо-бенности: специфические нормы поведения, общение, образ жиз-ни, формы повседневного дискурса.
Другой фактор, разделяющий астрономическое сообщество,который также определяет поведенческие особенности, – терри-ториальное расположение исследовательских институтов и об-серваторий. В замкнутом городке (Кавказ, Карачаево-Черкессия,Специальная астрофизическая обсерватория) есть свои характер-ные формы общения. Прежде всего это связано с тем, что в замк-нутом городке профессия приобретает скорее образ жизни, пото-му что теряется четкая грань рабочего и свободного времени.В Пулковской обсерватории, о которой главным образом и пой-дет дальше речь, замкнутость размывается близким расположе-нием мегаполиса, что в свою очередь приводит к более разнооб-разной повседневной активности.
Наблюдение как главный элемент профессиональной практики
Пулковская обсерватория расположена на юге в 10 км от го-рода на территории 154,4 га с защитной парковой зоной радиусом 3 км от центра Круглого зала Главного здания Обсерватории,предоставленная обсерватории в постоянное пользование. В ве-дении обсерватории находятся научно-производственные здания,инженерно-технические сооружения, а также жилые здания, гос-тиница-общежитие, магазин, баня, поликлиника, детский сад, яс-ли и др. Вокруг павильонов и Главного здания разбит парк.На территории обсерватории находится уникальное астрономи-ческое кладбище, оно расположено на северном склоне Пулков-ского холма. На нем захоронены все знаменитые астрономы, ди-ректора и сотрудники, работавшие в обсерватории с XIX века.Правда, научный поселок нельзя назвать изолированным, так как со временем инфраструктура его пришла в упадок: детский сад,медицинский пункт оказались закрыты, а один магазин полно-стью не обеспечивает спроса жильцов. Многие сотрудники жи-вут в городе и приезжают работать в Пулково. Также с развити-ем Интернет и компьютерных технологий стало возможным
234
приобретение персональных компьютеров и проведение научной деятельности по обработке астрономических данных в домашних условиях.
Что касается научных объектов, в рабочем состоянии сейчас находится восемь инструментов: Большой рефрактор, зеркальный астрограф (ЗА-320), зенитный телескоп, нормальный астрограф,Большой Пулковский радиотелескоп, Горизонтальный солнечный телескоп, астрограф короткофокусный двойной (Восточная баш-ня Главного здания), МАГИС (меридианный астрометрический горизонтальный инструмент им. Сухарева).
Итак, центральным в профессии астронома является теле-скоп. И то, какой области исследовательской деятельности астро-ном относится, определяет отношения «профессионал – объект деятельности».
Здесь разговор пойдет о наблюдателях-оптиках. Наблюдате-ли – это астрономы, которые непосредственно участвуют в полу-чении астрономических данных. Оптики – это специалисты, ис-пользующие оптические телескопы, с помощью которых наблю-дение проводится только при условии ясной погоды и ночью (если исследуются звезды, планеты) и днем, если исследуется Солнце.
Центральным понятием профессиональных практик является наблюдение, оно определяет и профессиональные практики, и образ жизни, и отношения к объекту деятельности.
Сам процесс наблюдения проходит с помощью механизмов и инструментов: самого телескопа и компьютера, который и осу-ществляет работу телескопа. За последние несколько десятков лет в технической наблюдательной базе произошли колоссальные изменения, вызванные развитием компьютерных технологий, что в свою очередь изменило сами практики. Однако некоторые ин-форманты говорили о телескопе и компьютере как о живом объек-те, о том, с чем (или с кем) они общаются во время наблюдений:
Про наблюдения… сейчас наблюдение сплошное удовольствие стало!Вот, скажем, как вот было раньше и даже уже на ЗА-320, когда мы только начинали первые два года, это всю ночь торчишь на морозе около инструмента, компьютер сидит в тёплом шкафу и через стекло на тебя смотрит. Вот, наводиться на звезды приходится глазом…
235
Ну, а потом днём приходится обрабатывать. С одной стороны, это де-лает компьютер, но он пока, мы пока не сумели всему научить его,чтобы он всё делал сам, так что приходится сидеть перед компьюте-ром, тыкать мышкой в звёздочки и говорить компьютеру, что с ними делать (интервью 4). Прозвучало и мнение, что телескоп надо чувствовать, и толь-
ко профессионал может это делать правильно:
Информант: Да, испытывали зеркало. Причём целый день пытались поймать автокандиционное изображение, то есть световой ряд. Ну,никак не могли. Народу там побывало! Больше 10 человек. Все пыта-лись, ничего не получилось. А мы эту калимацию, мы за 5 минут пой-мали это световое изображение, потом перевернули зеркало и ещё раз поймали... Это к тому, что астрометрист... вот были не астрометристы – они не чувствовали телескоп.Интервьюер: А кто они были?Информант: Они были конструкторами, инженерами. А астромет-рист – он сразу чувствует, где надо искать, в чём может быть подвох (интервью 5). Наблюдатель-астроном, таким образом, связан с объектом
своей деятельности. И если, как часто бывает, телескоп нахо-дится далеко от основного места работы, астрономы часто ездят в командировки на наблюдения (наблюдательная база в Светлом,в Кисловодске). В Пулковской обсерватории такой необходимо-сти нет, поэтому на образ жизни наблюдения влияют мало.
В связи с довольно устоявшимися традициями наблюдений в среде астрономов сложилась определенная лексика, которая частично состоит из специальных физико-астрономических тер-минов. Но самые простые и понятные имеют отношение к облас-ти, которой занимается астроном, – «наблюдатели», «солнечни-ки», «звездники», «оптики» и др.
Если говорить о наиболее повторяющих темах в интервью,то это тема – рассказы о «зеленых человечках», неопознанных летающих объектах, астрологии. Упоминание этих тем самими астрономами маркирует в разговоре непосвященных:
Но я не очень люблю про это говорить, потому что всё это очень про-гнозируемо получается. Человек спрашивает, получает ответ, что ты
236
астроном и дальше начинаются разговоры о зелёных человечках. Где-то они видели эти тарелочки… либо об астрологии, либо об иноплане-тянах – это просто невозможно! Это ужасно скучно, потому что всё время одно и то же (интервью 6). Один из информантов, тем не менее, рассказал историю, ко-
торая случилась с ним. Другие же отказывались говорить на эти темы, что опять же характеризует данную область как маркер не-профессионализма:
Наблюдая на фотографическом вертикальном круге, тогда это, навер-ное, был 83-й год, вот над крышей павильона, на севере, над главным зданием, я видел, как вверх поднимается такой конус, со светящейся точкой-лучом. Это было ночью, два часа ночи, причём ярко довольно,бесшумно поднимался. А на фоне ярко светящегося конуса – яркое го-лубое пятно, причём такого сочного цвета, дневного голубого… Это было явно физическое явление (интервью 7). Если обобщить то немногое, что удалось получить в резуль-
тате проведенного исследования, то вырисовывается следующая картина. Профессия астронома – не гомогенна, она состоит из раз-личных групп, связанных между собой научной парадигмой. Па-радигма характеризуется совокупностью знаний и особенностями подхода к решению научных проблем, принятых данным науч-ным сообществом. Единая парадигма создает условия для ком-муникаций между членами сообщества.
Она же влияет на идентичность, которая не зависит от повсе-дневных практик. Сами же практики в группах различаются на-столько, что можно говорить об отдельных субкультурах наблю-дателей-оптиков, наблюдателей-радиоастрономов, теоретиков-аст-рономов. В целом, образ жизни, традиции будут зависеть и от рас-положения обсерваторий и научно-исследовательских институ-тов. Все эти факторы необходимо учитывать при описании той или иной субкультуры астрономов.
Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // Вопро-сы истории, естествознания и техники. 1994. № 4.
Белкин П.Г. Социальная психология научного коллектива.М., 1987.
237
Роуз Дж. Что такое культурологическое исследование научного знания?// Вопросы истории, естествознания и техники. 1994. № 4.
Knorr Cetina K. Epistemic cultures: How the sciences make knowledge. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
Описание полевых данных Интервью 1. Муж., 68 лет, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, астрофизик, радиоастроном.Интервью 2. Муж., 68 лет, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, астрофизик, радиоастроном.Интервью 3. Жен., 33 года, кандидат физико-математических наук, астро-физик, радиоастроном, отдел исследований Солнца.Интервью 4. Муж., 40 лет, научный сотрудник, отдел астрометрических исследований, астроном, оптический отдел.Интервью 5. Муж., 45 лет, научный сотрудник, отдел астрометрических исследований, астроном, оптический отдел.Интервью 6. Жен., 33 года, кандидат физико-математических наук, астро-физик, радиоастроном, отдел исследований Солнца.Интервью 7. Муж., 40 лет, научный сотрудник, отдел астрометрических исследований, астроном, оптический отдел.
«ЭКСПРЕСС-АНТРОПОЛОГИЯ» СЕКСУАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ,ИЛИ ПОВОД НЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О НРАВСТВЕННОСТИ
Екатерина Антонова, Ирина Артёмова,Константин Мокин
В современном городе индустрия сексуальных услуг являет-ся элементом общегородской инфраструктуры. В каждом городе с достаточно большим числом жителей есть улицы (места), на/в которых осуществляется продажа сексуальных услуг. В от-личие от некоторых западных стран, в которых секс-индустрия выступает официально признанной формой занятости, в России проституция является нелегальным видом бизнеса. Никто не бе-рется оценить размер доходов от подобной занятости, но все эксперты сходятся в том, что речь может идти о миллиардах долларов [Романов, 2002. С. 201]. Только в Москве, по оценкам
238
экспертов МВД, нелегальный оборот от оказания сексуальных услуг превышает 1,5 млрд долларов в год.
В силу того, что данный вид деятельности в России является нелегальным, он представляет собой некое закрытое сообщество, –закрытое как для представителей официальных структур, так и для исследователей. Включение в систему общественных связей и от-ношений осуществляется, как правило, с помощью использования буферных зон (информационных посредников), через которые и передаются сведения о местах оказания сексуальных услуг,расценках, правилах пользования подобными услугами [Голо-сенко, 1997. С. 5]. Например, буферной зоной для уличных точек могут выступать таксисты, которые осуществляют доставку кли-ентов и их информирование о правилах взаимоотношений с про-ститутками.
Изначально мы воспринимали секс-индустрию как марги-нальный бизнес. Следует пояснить, что, используя этот термин,мы обращали внимание не столько на коммерческие характери-стики данного вида деятельности, сколько на организацию тру-дового процесса. И в этом ракурсе, конечно, более уместным бы-ло бы обозначить проституцию как маргинальную форму занято-сти. Тем не менее иногда было сложно отделить организацион-ную и непосредственно коммерческую стороны изучаемого фе-номена. Поэтому и в дальнейшем мы будем использовать именно термин «бизнес», подразумевая под ним не коммерческое дело,а совокупность трудовых практик.
В рамках данного исследования сообщество проституток рассматривалось как некая удаленная «культура» [Гиртц, 1997.С. 174], изучить которую можно было только с помощью гибких этнографических методов [Ярская-Смирнова, Романов, Михель,2004. С. 40].
В нашем случае мы решили рассмотреть проституцию, как одну из форм занятости населения города, через призму антропо-логии труда, пользуясь базовыми понятиями последней. Так,мы пытались учесть объективные и субъективные факторы от-ношения к труду (имеется в виду не только рационально-денеж-ный аспект), но и не следует игнорировать важный социально-
239
психологический фактор, поскольку проституция относится к эмо-циональной работе [Ярская-Смирнова, 2002. С. 241]. При этом мы использовали термин «трудовой коллектив» как метафору, объе-диняющую все группы секс-работников г. Саратова.
География исследования. Исследование проводилось в июле 2004 года в Саратове и являлось по своей сути разведыватель-ным. В силу ряда ограничений мы не смогли провести долговре-менного включенного наблюдения, поэтому считаем наш проект «экспресс-антропологией». Саратов – административный центр Саратовской области. Население города – около 900 тыс. человек.Были изучены основные точки концентрации секс-работников по улицам Астраханская, Большая Казачья, проспект 50 лет Ок-тября и на Привокзальной площади.
Существует множество взглядов на проституцию: от требо-ваний легализации до заявлений об ужесточении наказания за по-добную деятельность [Голосенко, Голод, 1998. С. 48]. В нашу за-дачу не входила моральная оценка данного явления. Иначе при-шлось бы прибегнуть к давно известным клише «за» или «про-тив». А это в свою очередь могло привести к предзаданности ис-следования и априорному моделированию ситуаций. Поэтому важно было абстрагироваться от каких-либо схем и просто изу-чить процесс секс-торговли изнутри. В данном случае целесооб-разно вспомнить общеметодологические установки феноменоло-гии. Адекватному отражению может мешать та культурная тра-диция, в которой мы существуем. Следовательно, необходимо провести феноменологическую редукцию, то есть попытаться изучить явление как «здесь и сейчас», воздержаться от суждений и «вынести за скобки» все схематизации, существующие в нашем сознании.
Методы исследования традиционны для антропологии – включенное наблюдение и интервью. Были взяты интервью у «работающих девушек» из разных типов работающих групп.Кроме того, был осуществлен эксперимент по трудоустройству в фирму досуга по объявлениям, расклеенным в городе. Было сделано несколько звонков с разных телефонов и с разными леген-дами. Кроме вопроса о том, насколько легко возможно получить
240
работу в секс-бизнесе, нас интересовали условия работы, размер заработной платы, меры безопасности, характер предлагаемых услуг и др. В связи с этим был проведен сравнительный анализ условий труда для девушек из разных социальных слоев, с раз-ным уровнем образования и другими различающимися характе-ристиками.
Большое значение имеет фокус исследования. Часто одни и те же данные приобретают разную трактовку в зависимости отконтекста, в котором проводится исследование. Рассмотрение единичного факта вне контекста приводит к мультипликации ин-терпретаций, каждая из которых претендует занять место наибо-лее адекватного объяснения повседневной реальности.
В ходе сбора эмпирического материала возникли, в том чис-ле, следующие фокусы рассмотрения изучаемого феномена:� состав и групповая стратификация;� характеристика трудового процесса и отношений купли-продажи;� организация пространства;� мотивы и практики включения и исключения из сообщества;� наличие пограничных зон, через которые осуществляется трансляция так называемого «тайного знания», необходимого для более успешного функционирования сообщества;
� наличие внутригрупповой культуры, позволяющей отличать «своих-чужих»;
� гендерный аспект;� взаимодействие с официальными структурами (прежде всего милицией). Подробно изучить все указанные проблемы экспресс-мето-
дом не представлялось возможным. Поэтому исследование огра-ничилось детальным рассмотрением первых двух аспектов и ме-нее глубоким – остальных.
Состав и групповая стратификация Вопрос выбора критериев стратификации и рассмотрение
вертикальной / горизонтальной мобильности представляется од-ним из наиболее важных. Исходя из полученных предварительных данных исследования, нами были выбраны критерии, напрямую
241
связанные с самоидентификацией информантов, а также с кате-гориями, определяющими, по их мнению, специфику их деятель-ности – уровень доходов, степень безопасности, готовность ока-зывать «нерегламентированные» услуги.
Рассматривая вертикальную стратификацию, следует сказать о четкой иерархии. В ходе исследования было выяснено, что секс-работники имеют собственную (внутреннюю) стратифика-цию. Условно, по уровню зарплаты и условиям труда, можно вы-делить следующие группы:
1) «вокзальные» (самый низовой уровень); 2) «уличные» и «фирменные» (то есть работающие в фир-
мах). По уровню зарплаты мало чем отличаются друг от друга,но есть существенные отличия в условиях труда. Тем не менее и в том, и в другом случае речь идет о среднем уровне;
3) «элитные», работающие при гостиницах.Объектом данного исследования стал, прежде всего, второй
тип. Причиной этого является, во-первых, более легкий «доступ»к девушкам, работающим на улице и в фирмах. Во всяком случае внешнее наблюдение не затруднено дополнительными преграда-ми (похожая ситуация и с девушками, работающими на вокзале). Во-вторых, этот слой наиболее «представительный». И в-третьих,именно эта группа часто воспринимается самими работающими девушками как «точка отсчета» для последующей «карьеры». Большинство секс-работниц начинают свой «путь» именно с этой страты, перемещаясь либо вверх (в категорию «элитных»), либо опускаясь вниз (в группу «вокзальных»).
Начнем с описания низового уровня данной общности. Это девушки, находящиеся в районе авто- и железнодорожного во-кзалов. Причем надо отметить, что в Саратове оба вокзала нахо-дятся рядом и образуют единый транспортный комплекс. Числен-ность группы неограниченна, варьируется в зависимости от неко-торых факторов, таких как наличие или отсутствие клиентов,погодно-климатические условия, «от его [сутенера] настроения и желания дать нам работу» (интервью 1). В эту группу попада-ют, как правило, девушки из среднего звена («фирменные») ставшие изгоями в своей страте, а также малолетние наркоманки,
242
сбежавшие из дома, скрывающиеся от следствия и т. д. Возрастные рамки – от 12 до 20 лет. Уровень образования – школа, реже – средне-специальное образовательное учреждение. Часть из них привлекалась к уголовной и практически все – к административ-ной ответственности (проституция, бродяжничество, хулиганст-во). Цены за секс-услуги варьируются от 20 до 70 рублей.
Важную роль в определении принадлежности девушки к группе является ее внешний вид, который напрямую соотносит-ся и с ценой за услуги. Одежда в подобном бизнесе фактически играет роль формы (разновидность ценника «за товар»). Предста-вители данной группы одеты в дешевую, как правило не очень чистую, одежду. Макияж отсутствует, либо незначителен. Из пя-ти респонденток, наблюдаемых автором, только у одной была нанесена косметика:
…она не нужна. Мы работаем ночью или в машине – там темно.Да и клиента можно испачкать… (интервью 2). Одним из основных критериев, характеризующих данную
прослойку, является фактор безопасности для девушки или точ-нее – его полное отсутствие. Это же и подтверждает водитель TP
1PT
(сутенер): А смысл её сопровождать, мне… не выгодно, ей цена – полтинник,я прокатаю больше... да знаешь, сколько здесь таких как она [говорит в полголоса] даже если… я в накладе не останусь, и они знают, я ни-чего не скрываю… (интервью 3). Девушки, которые являются составляющей данной группы,
могут изменить свой статус исключительно в пределах горизон-тальной мобильности, переходя в группу «изгоев» или одиночек.По мнению девушек, это изменение «статуса» (меняется внешний вид, цена за час), но вопрос безопасности стоит по-прежнему остро, и именно поэтому девушка практически не имеет реально-го шанса покинуть низовой уровень, по мнению информантки,
TP
1PT Как правило, респонденты старались избегать слова «сутенер», заменяя его
на более нейтральное слово «водитель», либо на местоимение «он».
243
это практически невозможно, только если… [улыбается] выйти удачно замуж… хотя кому нужна вокзальная… нами только, как говорит [указывает на молодого человека, стоящего неподалеку, видимо суте-нер, хотя открыто здесь его так никто не называет], кладбище попол-нять, самое большое на что, или как это… чего мы достойны… лечь с каким-нибудь братком по соседству, а то и… ладно. Мы иногда сме-ёмся, хоть там, но принц… (интервью 4). Клиентами данной группы являются мужчины и женщины
вне зависимости от этничности, рода деятельности и вероиспо-ведания.
Второй, или средний, уровень мы рассмотрим на примере де-вушек, которые работают на улице Астраханской и 50 лет Октяб-ря. Эта группа наиболее многочисленна. Средний уровень – это девушки, стоящие вдоль дорог на определенных улицах города,в вечернее время, как правило группами, редко по одиночке, ко-торые как раз и являются работницами коммерческого секса.Причем у каждой группы четко определенное место и очерченная территория расположения группы.
Цена для найма той или иной девушки в подобной группе варьируется от 170 до 450 рублей и является определяющим фак-тором в принадлежности девушки к данной группе.
Клиентами группы среднего уровня являются в основном мужчины и редко – женщины, вне зависимости от рода деятель-ности и вероисповедания, за исключением «кавказцев». Как пра-вило, это женатые мужчины «ну, знаешь, они [клиенты] – каж-дый первый с кольцом…» (интервью 2).
Иногда клиентами данной группы являются семейные пары,пытающиеся разнообразить свою сексуальную жизнь. Характер предлагаемых сексуальных услуг и цены на них во всех рассмат-риваемых группах практически одинаковые. В ряде групп суще-ствуют «продвинутые» работницы, готовые оказывать нестан-дартные (гомо- и бисексуальные) услуги, но это случается доста-точно редко и оговаривается с девушкой персонально. Цена при этом увеличивается вдвое или втрое.
Интересно, что девушки придают значение этническим при-знакам. Характерен категорический отказ от обслуживания «лиц
244
кавказской национальности». Респондентки объясняют это «не-чистоплотностью», скупостью, ссылаются на «горький опыт»подруг:
Я с кавказцем? Никогда! [категорично]. Да и он [в сторону сутенера]нас в обиду не даст. Они же даже сюда [показывает рукой вокруг,подразумевая место работы] приезжают и торгуются. Мы им – секс стоит 500 [рублей], они начинают торговаться. «Давай за сто…» – У них всё сто рублей. Будто других слов не знают. А мы что на рынке?Я им и говорю – вали отсюда на Сенной [название рынка, в районе ко-торого также оказывают секс-услуги] и там торгуйся. С ним поедешь – а там – они живут по сто человек в квартире. По рукам находишься…(интервью 5). Сложно сказать, является ли такое отношение следствием
широко распространенных мифов или это реальные практики,когда работающие девушки попадали в опасные ситуации. Также сложно сказать, влияет ли на самом деле этническая принадлеж-ность клиента на его запросы и поведение с девушкам, работаю-щими в сексуальном бизнесе.
Интересную градацию можно наблюдать внутри группы: са-ратовские девушки работают в офисах и считаются своего рода элитой данного сообщества (страты), на улицах работают девуш-ки либо проживающие, либо имеющие прописку в городе Эн-гельсе: «Да мы здесь все из Энгельса…» (интервью 5).
Энгельс – это город-спутник Саратова, расположенный на противоположном берегу Волги, через которую добираются городским транспортом по мосту. Это создает особую атмосферу взаимоотношений жителей этих городов между собой. Близость,связи и неравнозначность статусов двух городов накладывает от-печаток на восприятие городской идентичности работающих де-вушек: «мы из Энгельса» – значит приехавшие из другого города,хотя города разделяет между собой путь всего лишь в двадцать минут. В одной из групп, «энгельсской», как они себя называли,более половины составляли девушки из других районных городов области.
Иногородние девушки, работающие на улице, проживают,как правило, вместе по 3–5 человек, снимая квартиру или комнату
245
частного дома. Часто эта же квартира является и «местом обще-ния» с клиентом. В этом случае, за квартиру / комнату домовла-дельцам платит фактически сутенер, а клиент оплачивает допол-нительные расходы (как правило, в пределах 100–150 рублей)за «территорию».
Использование территориальной идентификации («мы из Эн-гельса») позволяет, в принципе в чужом городе, оставаться близ-кими подругами, тем более что доставка, в случае фактического проживания за пределами Саратова, к месту работы и обратно осуществляется централизованно, на машине сутенера. Сущест-вуют, по словам информантки, и другие элементы организацион-ной культуры, позиционирующие каждую конкретную группу.Например, если два клиента в одной машине приобретают де-вушку в одной группе и решили приобрести вторую в другой,то вероятнее всего им это не удастся сделать, так как работники из разных групп вместе по каким-то причинам не работают.К сожалению, точно сказать почему это так не представляется пока возможным. При этом, несмотря на четкие территориальные границы и групповую идентичность, конфликтов между группа-ми почти не бывает, так как, по словам респондентов «крыша у всех одна, клиентов пока на всех хватает…» (интервью 2). Под-разумевается, что существует более высокий уровень со-орга-низации, обеспечивающий самоорганизацию на текущем, меж-групповом уровне.
В этой группе девушки одеваются достаточно просто, ис-пользуется дешевая косметика, хотя, как выяснилось, доход в данной группе совсем не маленький.
Горизонтальная мобильность в этой страте возможна при пе-реходе девушки из уличного бизнеса в офис или наоборот. Также возможно передвижение в сфере улицы, тогда необходимо по-дойти к данному вопросу кардинально и сменить район, – пере-ход из одной фирмы в другую невозможен, так как существует своего рода картотека, в которой регистрируется каждая вновь прибывшая на работу девушка. Каждая фирма имеет такую кар-тотеку, поэтому практически невозможно остаться незаметной или незаметным, устраиваясь в фирму.
246
И наконец, третий уровень – «элита» – это девушки в возрас-те от 18 до 30 лет, обязательно имеющие высшее образование,работающие в элитных фирмах при гостиницах, крупных отелях,обслуживающие «высокопоставленных» (подразумевается – бога-тых) гостей. Стоимость сексуальной услуги варьируется от 700 руб-лей и выше. Горизонтальная мобильность невозможна; девушки за провинность, в зависимости от степени тяжести, изгоняются из бизнеса
в никуда… либо на улицу, либо навсегда приходится расстаться с ра-ботой – сюда ведь попасть легко, а выйти… работа держит тебя или…не работа [затем последовала долгая пауза, после которой девушка от-казалась продолжать разговор] (интервью 6). Лишь на данном уровне существует практика «стажировки»
(обучения), срок которой варьируется от 2 недель до 4–5 месяцев и находится в прямой зависимости от возраста девушки. Клиенты элиты – мужчины и женщины, любой этничности, различного рода занятий, главный критерий отбора клиентов – платежеспо-собность. Критерий безопасности является одним из основных.Вид и качество предлагаемых услуг – по запросу клиента: «Всё что он хочет… и как хочет…» (интервью 6).
Характеристика трудового процесса и отношений купли-продажи
В секс-индустрии, как и в любом бизнесе, особое значение имеет процесс «купли-продажи». И хотя речь идет о живых лю-дях, а не о неких бездушных объектах, этот термин наиболее полно отражает специфику таких отношений. По нашим наблю-дениям многие клиенты как раз не «видят» за девушкой человека,личности. И отношения купли-продажи секс-услуг превращаются в полную аналогию товарно-денежных отношений в иных сферах бизнеса. Здесь также существует система бонусов и скидок. На-пример, клиент, покупающий определенную услугу, может рас-считывать на получение скидок при повторном обращении к этой же девушке либо можно получить скидки при приобретении не-скольких видов сексуальных услуг за один раз. Существуют
247
и «оптовые» скидки при приобретении двух и более девушек (це-на при этом может быть уменьшена на 10–15 %).
Наиболее дешевые девушки, как уже отмечалось, располага-ются на вокзале. Дешевизна определяет внешний вид «товара»и качество предлагаемых сексуальных услуг.
Здесь, на наш взгляд, необходимо отметить, что в этой груп-пе работают в основном несовершеннолетние, причем многие из этих девушек являются носителями венерических заболева-ний. Возможно, факт заболевания является одной из причин от-меченной выше нисходящей мобильности, вытеснения девушек на периферию этого вида бизнеса, перевод в разряд «одиночек»и «изгоев».
Несмотря на «непрезентабельность товара», существует ус-тойчивый спрос на девушек данной группы. На данный момент не предоставляется возможным в полной мере выяснить причины существования спроса и механизмы его поддержания. Можно в качестве гипотезы предложить вариант, что эта категория де-вушек отвечает потребностям и возможностям малоимущих («новых бедных») клиентов. Кроме того, само расположение на вокзале, рядом с грузовыми терминалами позволяет a priori включить в группу клиентов приезжих и транзитных пассажиров.
Особенностями этой группы является то, что возврат «куп-ленных» девушек часто не предусмотрен. То есть, купив их на вокзале и увезя с собой (например, водители грузовых машин), после получения услуг их могут оставить (и часто оставляют)в других частях города или за городом.
По словам респондента (сутенера), его девушек часто ис-пользуют как некую «дорожную валюту». Приобретая здесь, их не возвращают: «Да ладно… сама придёт, куда она денется…»(интервью 3) и на трассе могут использовать в обмен на ночлег,топливо и другие услуги.
Вторая группа девушек – «уличные». Является наиболее многочисленной и наш взгляд именно она формирует отношение к проституции в городе как таковой. Опираясь на массовость это-го явления, мы склонны считать, что именно эту группу «улич-ных» и группу «фирменных» (работающих в фирмах) необходимо
248
рассматривать как элемент городской инфраструктуры досуга.Здесь еще в большей степени проявляется аналогия с «обычным»торговым бизнесом. Ценовая политика не случайна, изобилует разного рода скидками и определяется потребностями рынка.
Наблюдаемые формы организации проституции показывают,что преобладает групповая работа в точках спроса. Группа, как правило, состоит из работниц и «мамочки» (менеджера по про-дажам), который, как правило, вступает в контакт с клиентом,информируя о ценах на услуги, условиях и предлагает «товар на выбор». Общее управление группой, а также взаимодействие с официальными институтами и «крышей» осуществляет сутенер,имя которого вслух не называется. В разговоре девушек он фигу-рирует как «водитель» – человек, которому передаются деньги на глазах клиента. Он же осуществляет транспортировку «товара»к месту (квартире, комнате, сауне), и выполняет роль охранника (при необходимости). Надо отметить, что на изучаемой террито-рии (ул. Астраханская – от Сенного рынка до ул. Зарубина) суте-нерами являются мужчины в возрасте 30–40 лет. Однако знаком-ство с другими точками работы показывает, что есть и совмещен-ные роли – мамочка / сутенер / водитель (проспект 50 лет Октября).
Каждая группа располагает средствами связи (сотовые теле-фоны), автомашиной. Почти на всех автомашинах сутенеров на улице Астраханской наблюдали эмблемы такси (шашечки). Оче-видно, это один из механизмов обеспечения безопасности (мас-кировка). Сутенер, как правило, находится вне зоны видимости клиента и появляется лишь в момент передачи денег либо в си-туациях, требующих оперативного вмешательства (отказ клиенту в услугах, либо запрос нестандартных услуг).
Одежда проституток достаточно практична и функциональ-на. Как правило, все девушки одеты в брюки, джинсы, легкие футболки, в период дождя – легкие куртки. По данным наблюде-ния, девушки перед работой употребляют алкоголь (пиво, джин-тоник), позволяющий им «прийти в рабочее состояние».
Мы обнаружили систему «социальных гарантий» работни-кам. По словам «Мэм», работавшей еще полгода назад в Москве,«в Саратове намного лучше и спокойней…» (интервью 7).
249
Девушки стоят вдоль дорог, привлекая внимание проезжаю-щих машин. Их место расположения, безусловно, продумано, да-же не знающий города человек, передвигаясь по улицам, легко может увидеть секс-работниц. Машины с сутенерами стоят вдоль дороги, не привлекая к себе внимание, но недалеко, в случае не-обходимости они тут же появляются.Девушки, представляющие разные фирмы, находятся на раз-
ных сторонах улицы, разделяемые сквером. Одиночки стоят по-одаль и не являются основным резервом. Только проехав улицу полностью и не выбрав подходящую девушку, клиент сможет выбрать среди одиночек.Маленькие квадратики – это места сборов работниц коммер-
ческого секса.
По ее словам, здесь она ощущает свою безопасность, – ее привозят на работу и увозят с нее, ее сопровождают на своей (групповой) машине, в случае, когда существует потенциальная угроза со стороны клиента, ей выдают сотовый телефон для опе-ративной связи («Мэм» упоминала ситуацию, в которой ей
250
пришлось практически выпрыгивать из машины и звонить по те-лефону). По ее словам, «проблема была решена в две минуты». Платой за такие гарантии выступает процентное соотношение доходов сутенера и проститутки. В разных группах это соотно-шение разное. Так в одной из групп это 50/50 – половину получа-ет проститутка, остальную половину – сутенер. В других группах это соотношение 40/60 – 40 % проститутка, остальное – сутенер.Однако, по наблюдениям, ежедневно из этой суммы сутенер пе-редает «крыше» некую сумму. Сюда же необходимо приплюсо-вать расходы на содержание квартир (комнат), расходы на транс-порт и связь (в организованных группах).
По рассказу информантки, в Москве, при работе на улице у девушек почти отсутствуют все гарантии безопасности. То есть сутенер, получив деньги за товар, не обеспечивает ни безопас-ность, ни охрану. Девушка находится во власти клиента целиком и полностью. Получив опыт работы в Москве, «Мэм» не стала воз-ражать против дополнительных условий работы с клиентом в Сара-тове, в то время как другие девушки сразу и твердо отказывались.
В отношении отчислений «одиночки» находятся в более вы-годном положении, однако это скорее «ставка за риск», так как девушка, работающая одна, не включена в систему коллективной безопасности, и ее может ожидать при работе с клиентом все что угодно. Более того, у одиночек существует не самая выгодная,с точки зрения сбыта, территория продаж. Они находятся в сто-роне и соседствуют с «изгоями» – наркоманами, проститутками,по какой-либо причине выключенными из сети взаимопомощи коммуникаций.
Нашей исследовательской группой был проведен экспери-мент по трудоустройству в фирму досуга. Как правило, в реклам-ных объявлениях об оказании секс-услуг обязательно есть ин-формация о возможности трудоустройства (объявления вроде та-ких: «Требуются молодые, без комплексов девушки для работы в сфере досуга»). Случайным образом было отобрано несколько подобных объявлений. Дополнительной задачей эксперимента было выяснение того, насколько отличаются условия труда и оп-лата для девушек из разных социальных слоев.
251
Было выяснено, что указанные фирмы с удовольствием берут девушек на работу, причем совершенно не важно при этом, есть ли у желающих трудоустроиться саратовская прописка. Трудо-устройство в фирму досуга не сопровождается какими-либо трудностями, конспирацией или условностями. Независимо от со-циального статуса, образования, места жительства и пр. фирма готова взять на работу любую девушку в возрасте от 18 до 30 лет.Лицам, не имеющим прописки, предоставляется место в офисе или квартире, в которой живут другие девушки из фирмы (как правило, 2–5 человек). Для приезжих в среднем зарплата такая же, как и на улице (170–250 рублей в час), гарантии безопасности схожи. При этом наличие высшего образования необязательно.Интересно другое: оказалось, что есть существенная разница при приеме на работу девушек, проживающих в Саратове и имеющих высшее образование. Изначально девушкам из Сара-това предлагается более высокая оплата труда (от 700 рублей)и лучшие условия работы по сравнению с приезжими девушка-ми. Необходимый возраст для трудоустройства также – от 18 до 30 лет. Можно предположить, что местные девушки с выс-шим образованием составляют элиту, работающую в том числе в гостиницах.
В фирмах телефоны оснащены определителем номера и был случай, когда оператор после окончания разговора сама перезвонила нам, чтобы более подробно объяснить условия работы. При звонке в любую из фирм нам сразу же предлагали прислать за девушкой машину или спрашивали, когда можно будет это сделать. Иными словами, фирмы весьма заинтересо-ваны в рекрутировании новой рабочей силы и делают все воз-можное для того, чтобы облегчить девушкам процесс трудоуст-ройства.
Антрополог как клиент и клиент как антрополог Когда речь идет об «иных» социальных группах, неизбеж-
ным становится применение «своих» характеристик (зачастую обыденных), что затрудняет научный поиск. Рассмотрение объ-екта через призму собственных привычных взглядов искажает
252
реальность [Чуднов, 2001. С. 105]. Как ни странно, именно раз-бор клиентских отношений наиболее наглядно демонстрирует существование всякого рода предрассудков и схем. Уже первый выезд на улицу поразил нас как исследователей несоответствием сложившихся стереотипов и реальной действительности. В по-пытке освободиться от предрассудков и стереотипов мы прошли настоящую инициацию, работая в поле «под прикрытием», взаи-модействуя в роли «клиентов» с таксистами и начиная разговор с девушками.
В первый день стояла задача определения организации про-странства трудового процесса. Мы пытались выяснить не только местоположение групп, но и характер взаимосвязи между ними (если таковой имеется). Необходимо было выяснить и сравнить существующие прейскуранты (тип услуг и цены). Кроме того,было важно включиться в процесс купли-продажи, то есть почув-ствовать себя «клиентами». И когда мы сели в такси с целью уз-нать, где можно «заказать девушку», то общение с водителем по-ставило целый ряд новых вопросов о месте и роли таксистов в процессе торговли.
И. Гоффман говорит о том, что социальное взаимодействие напоминает нам театр, и чем ярче будет исполнение ролей его участниками, тем быстрее зрители идентифицируют их как акте-ров, профессионалов, принадлежащих к тому или иному сообще-ству. Для того, чтобы роль была наиболее успешной, люди при-бегают к использованию средств выразительности, которые «на-меренно или невольно вырабатываются индивидом в ходе испол-нения», например «внешние» атрибуты [Гофман, 2000. С. 54]. До того, как мы вышли в поле, мы предполагали, что работница коммерческого секса должна выглядеть вызывающе: короткая юбка, максимально обнажающая тело кофточка, яркий макияж,но даже при первом вхождении в поле нас поразил внешний вид секс-работниц. За редким исключением девушки выглядели со-всем не выразительно. Во всяком случае, на первый взгляд.В свою очередь, мы задумались и над вопросом о том, как дол-жен выглядеть клиент. Девушки из некоторых групп отказыва-лись подходить к нам: возможно, причиной этого послужил наш
253
внешний вид. По словам таксиста, когда мы поехали в первый раз, мы
выглядели слишком прилично для клиентов… вас могли принять либо за журналистов, либо за полицию нравов… (интервью 8). Как менялись наши представления и оценки? Здесь следует
отметить одну особенность. В начале нашего исследования одной из ключевых характеристик в нашем рассуждении о секс-работ-никах была категория «нормальности – ненормальности». И как-то вроде само собой возникли два мира – нормальный и мир дея-тельности по оказанию секс-услуг (ненормальный). Но с после-дующим нашим включением в поле этот стереотип изменился.Мы перестали воспринимать девушек на улице как «ненормаль-ных», мы почувствовали к ним эмпатию и поняли, что морализа-торское отношение ушло прочь.
Конечно же, мы оказались морально не готовы к полевой ра-боте. Выразилось это в трудностях при «покупке» девушек.Очень сложно отнестись к человеку как к товару, который следу-ет не просто выбрать, а выбрать как бы «для себя». Дальше мы лишь фиксировали потерю страха, постепенное включение в от-ношения купли-продажи и преодоление внутренних барьеров,когда для нас самих процесс покупки стал повседневностью.На самом деле мы покупали возможность взять интервью, но на-чинали мы контакт с девушкой в роли клиента, выбирающего «товар».
Одной из особенностей этой сферы услуг является ее очень интимный характер, что накладывает отпечаток на специфику коммуникации. Сначала было замечено, что девушки говорят так,что «режет слух», то есть называют вещи своими именами. И хо-тя это единственный способ адекватно определить, чего же хочет клиент, мы не сразу смогли поменять свою речь. Позже, когда исследование продолжилось, оказалось, что на откровенный язык перейти достаточно легко, но вернуться в сферу своей прежней риторики намного сложнее.
Особый вопрос составляют услуги гомосексуального харак-тера. Данный вид услуг на улице нов и еще не регламентирован.
254
Это выражается в разнице в ценах и оказываемых услугах. За-частую девушки вообще отказывались идти на контакт с кли-енткой. В подавляющем большинстве групп эта услуга не пре-доставляется.
* * *Таким образом, несмотря на то, что исследование носило пи-
лотажный характер, оно позволило получить важные данные и разрушить многие сложившееся стереотипы. Оно позволило обозначить проблемные поля и основные ракурсы исследования,был выявлен состав и стратификация работниц, рассмотрены возможности вертикальной и горизонтальной мобильности. Ис-следование позволило охарактеризовать организацию трудового процесса, отношения купли-продажи.
Одной из основных целей проведенного полевого исследова-ния являлась попытка вскрыть структурно-функциональные ха-рактеристики деятельности работниц коммерческого секса. Про-ституция – это хорошо отлаженный, высокоэффективный бизнес,в котором для достижения максимального экономического эф-фекта оптимизировано практически все – от процедуры сделки с клиентом, до инфраструктуры транспорта (доставки) и связи,в основе которого лежат категории спроса и предложения. Спрос определяет структуру и форму предложения. В этом нет ничего удивительного, как и в любом бизнесе этого требуют законы рынка (например, торговля наркотиками тоже высокоструктури-рованный бизнес). Удивительно другое – трудовые практики в секс-индустрии все-таки являются маргинальными по своему характеру, и поэтому можно было ожидать каких-то особенно-стей, связанных с этой спецификой. Тем не менее и организация трудового процесса, и отношение к нему девушек являются вполне типичными и мало чем отличаются (кроме своей этиче-ской составляющей) от своих аналогов в других видах занятости,касающихся сферы услуг. По словам Т. Забелиной, в России вы-ражение «секс-услуги» вошло в обиход вместе с наступлением рыночных отношений и часто трактуется как часть этих отноше-ний, признак свободы и близости к западному миру [Забелина,
255
2002. С. 203]. Секс-индустрия стала таким же элементом город-ской инфраструктуры, как и любой другой вид городских услуг,к которым мы привыкли (услуги связи, отдыха, клубы, медицин-ские услуги).
Кроме всего прочего нас интересовало, насколько легко или трудно в чужом городе можно включиться в систему купли-продажи секс-услуг. Как выяснилось, это достаточно просто.Для этого существуют определенные узлы социальной сети (мы их называли «буферными зонами»), которые позволяют безбо-лезненно соединяться двум пластам социальной реальности. Та-кой зоной являются в частности, таксисты. Они выполняют не только информативную функцию (в качестве каналов трансляции «тайного знания»), но и зачастую сами включены в этот процесс и могут получать от него прибыль (поскольку таксисты нередко являются посредниками).
Кроме того, исследование позволило выделить групповую стратификацию работающих девушек, включая три основных группы: вокзальные, уличные, элитные. Основным критерием стратификации стала, в первую очередь, стоимость предостав-ляемых услуг. Но в качестве критерия выступают и такие факто-ры, как специфика организации трудового процесса, разнообра-зие предоставляемых услуг, и что немаловажно, фактор безопас-ности секс-работы. Следует подчеркнуть, что данная типология не является исчерпывающей. Из зоны нашего внимания были ис-ключены девушки, работающие на трассах и в других недоступ-ных местах. Также мы допускаем, что типов (и подтипов) рабо-тающих групп может быть значительно больше, а критерии деле-ния их могут быть более разнообразны. Если говорить о мобиль-ности внутри слоя работающих девушек, то это, как правило,нисходящая мобильность.
Принципиально купля-продажа секс-услуг не отличается от купли-продажи любого другого вида услуг (это иллюстрирует-ся, в том числе, на примере существования в уличных группах девушек системы бонусов и скидок для клиента). Трудовой про-цесс, так же как и в других видах бизнеса, жестко регламентиро-ван, имеет свои особенности в разных типах групп, хотя в целом
256
типизирован (об этом позволяет говорить наличие четкого вре-мени начала и завершения рабочей смены и пр.). Группы рабо-тающих девушек фактически представляют из себя трудовые бригады с элементами взаимопомощи. Расчет сутенера с девуш-кой осуществляется, как правило, в конце рабочей смены.
Что касается организации пространства, то здесь следует от-метить следующее. Точки продажи располагаются достаточно близко к центру города на основных и/или транзитных магистра-лях. Расположение работниц зависит от вида предоставляемых услуг (к примеру, гомо- и бисексуально-ориентированные де-вушки концентрируются в других точках). Группы уличных ра-ботниц находятся в пределах визуальной видимости друг от дру-га (возможно, это делается в целях безопасности и оповещения своих «коллег»).
Исследование показало, что включение в сообщество секс-работниц происходит достаточно легко. Наиболее просто устро-иться в фирму, так как существуют легальные средства коммуни-кации с представителями фирмы. В данном случае достаточно просто позвонить по телефону. Надо заметить, что в Саратове вполне открыто рекламируются секс-услуги и возможность тру-доустройства в фирму досуга. Говоря о практиках исключения из сообщества, достоверно можно констатировать только то, что исключение происходит путем перемещения в низшие слои (нис-ходящая мобильность). Вопрос о том, как вообще возможно по-кинуть секс-бизнес остается открытым.
В целом, можно предположить, что специфика секс-индуст-рии в городе зависит от следующих факторов. Во-первых, чис-ленность населения города. Чем больше численность, тем боль-шее количество услуг этот город готов поглотить. Здесь также вполне уместен пример с так называемым «эффектом малых го-родов», где все друг друга знают. Кроме того, в больших городах возрастает интенсивность спроса. Можно предположить, что чем больше город, тем более оптимизирован (структурно оптимизи-рован) данный бизнес.
Во-вторых, уровень доходов населения города. Кроме оче-видного влияния данного фактора на развитие секс-бизнесса
257
в смысле роста покупательной способности населения, который стимулирует развитие самого бизнеса, есть и другие объяснения.Например, более открыт доступ в Интернет, который является источником информирования населения. В-третьих, уровень об-разования населения города. Думается, что этот фактор напря-мую влияет на разнообразие предоставляемых секс-услуг (в том числе на распространенность гомо- и бисексуальных практик). Чем более высок уровень образования населения, тем с большей вероятностью можно ожидать рост качественного разнообразия предоставляемых услуг, а также терпимость к нетрадиционным сексуальным практикам.
Общим в процессе всего исследования было наличие множе-ственных интерпретаций. Иногда очень трудно было прийти к общему мнению. И здесь интересным является различие интер-претаций в зависимости от пола исследователя. Мужской и жен-ский взгляды на одно и то же событие были подчас противопо-ложными. Практика показала, что этнографические методы наи-более оптимальны в тех случаях, когда не могут быть применены традиционные количественные методы. И они практически неза-менимы при исследовании маргинальных профессий.
Гиртц К. Насыщенное описание: о природе понимания в культурной антропологии // Антология исследований культуры. Т. 1. СПб.: Уни-верситетская книга, 1997.
Голосенко И.А., Голод С.И. Социологические исследования проститу-ции в России: история и современное состояние вопроса. СПб.: Пе-трополис, 1998. С. 18.
Голосенко И.А. Российская социология проституции (1861–1917 гг.). СПб.: Филиал ин-та социол. РАН, 1997.
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер.с англ. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
Забелина Т.Ю. Секс-торговля // Словарь гендерных терминов / Под ред.А.А. Денисовой.М.: Информация = XXI век, 2002.
Кон И.С. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. 2-е изд., перераб. и доп.М.: Айрис-пресс, 2005.
Романов П.В. Секс-работа // Словарь гендерных терминов / Под ред.А.А. Денисовой.М.: Информация-XXI век, 2002.
258
Чуднов И.А. Проституция и христианская мораль: краткая ретроспекти-ва // Социологические исследования. 2001. № 11.
Ярская-Смирнова Е.Р. Феминистский анализ труда // Словарь гендер-ных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. М.: Информация-XXI век,2002.
Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В., Михель Д.В. Социальная антропо-логия современности: теория, методология, методы, кейс-стади:Учеб. пособие. Саратов: Научная книга, 2004.
Описание полевых данных Интервью 1. Девушка, 14 лет, псевдоним «Киса», «вокзальная» секс-работа.Интервью 2. Девушка, 22 года, Света, «уличная» секс-работа.Интервью 3. Сутенер, молодой человек, 19 лет, Арсен, «содержит» деву-шек в районе авто- и железнодорожного вокзала.Интервью 4. Девушка, 13 лет, псевдоним «Лорена», «вокзальная» секс-работа.Интервью 5. Девушка, 21 год, псевдоним «Вишенка», «уличная» секс-работа.Интервью 6. Девушка, 26 лет, псевдоним «Николь», 26 лет, «элитная» секс-работа.Интервью 7. Девушка, 23 года, псевдоним «Мэм», «уличная» секс-работа.Интервью 8. Таксист, Андрей, 28 лет, стаж работы 4 года.
Раздел 4 НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
И ВИДЫ ЗАНЯТОСТИ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:ИССЛЕДОВАНИЕ «СКРЫТОГО ЗНАНИЯ»
Елена Ярская-Смирнова, Павел Романов
В статье речь идет о меняющемся характере профессии соци-альной работы в современном обществе. «Теория» социальной работы понимается в социально-конструктивистском и постмо-дернистском ключе, а практический опыт рассматривается как основа профессиональной экспертизы. Для теоретизации прак-тики исследователю необходим доступ к опыту специалистов и клиентов. Авторы приводят ряд методов и приемов, позволяю-щих приблизиться к непосредственному опыту людей, участ-вующих в процессах социальной работы. Подобный подход к теории и практике социальной работы позволяет пересмотреть властные иерархии, сложившиеся в области экспертизы социаль-ных проблем, и устоявшиеся, но далеко не всегда эффективные приемы, их решения.
Теория / практика в международном и историческом контексте профессионализации социальной работы
Если рассмотреть профессионализацию социальной работы в странах Северной Америки и Западной Европы, то можно отме-тить существование довольно четкой конвенциальной периоди-зации. При этом обсуждение ведется в рамках определенных со-глашений относительно атрибутов профессии [см.: Ярская-Смир-нова, 2001; Greenwood, 1965; Millerson, 1964]: в частности, теоре-тической подготовки, удостоверенной дипломом, а также самоор-ганизации, уполномоченной осуществлять контроль за деятель-ностью тех, кто работает от имени профессии. Периодизация
260
социальной работы в международной перспективе включает сле-дующие вехи: учреждение первых образовательных программ по социальной работе (конец XIX – начало XX века), развитие теоретических подходов (начало – середина ХХ века), создание ассоциаций (с конца XIX века), пересмотр теоретических подхо-дов и идеологии (1950–70-е годы), радикализация социальной работы (1960–70-е годы) [см.: Reeser, Epstein, 1996] и последую-щее снижение роли «политического компонента» TP
1PT, формирова-
ние «национальных» моделей социальной работы, отвечающих моделям социальной политики, наконец, тенденция к объедине-нию теоретических подходов, международная интеграция (евро-пеизация и глобализация профессии), акцент на интеграции тео-рии и практики.
В контексте тенденций европейской и глобальной интегра-ции, в современный период профессионализации социальной ра-боты на повестку дня выходит тема стандартизации: сегодня
самую большую значимость для профессии имеет способность при-знать разные точки зрения, разные подходы и методы, одновременно гарантируя четкие профессиональные стандарты [Юлиусдоттир,Петерссон, 2004]. История социальной работы в странах Восточной и Цен-
тральной Европы в целом развивается в том же направлении,за исключением того, что историография, касающаяся событий в этом регионе, свидетельствует о некотором разрыве в биогра-фии профессии, начинающейся с 1945 года и оканчивающейся в разное время в зависимости от характера отношений с СССР TP
2PT.
TP
1PT Политическая работа – участие социальных работников в деятельности, ориен-
тированной на социальное реформирование, влияние на общественное мнение, пре-одоление социального неравенства, разоблачение его структурных причин. Подра-зумевает работу в сообществе, в группе, сотрудничество с общественными органи-зациями, профсоюзами, лоббирование законов, участие в правозащитной деятель-ности для отстаивания социальной справедливости.
TP
2PT Например, в бывшей Югославии высшее образование по социальной работе
было открыто в университете Словении с 1953 года, то есть сразу после политиче-ской дискуссии между руководством СССР и Югославии, завершившейся разрывом отношений между странами, тогда как в Венгрии и Чехословакии такие программы открылись лишь в 1980-е годы [см.: Juhász, 2003].
261
Судьба отечественной социальной работы не столь очевидно поддается аналогичной периодизации. Можно, например, вести отсчет c первой образовательной программы по социальной ра-боте (1910 год), когда в Санкт-Петербургском психоневрологиче-ском институте была открыта кафедра социального призрения [Гогель, 1994. С. 178]. Или отсчитывать возраст российской со-циальной работы с петровских указов начала XVIII века, и тогда,как свидетельствуют публикации и праздничные мероприятия,можно гордиться более чем 300-летней историей профессии [Ис-тория российских… 2001]. Мы уже обращали внимание на рассо-гласованность классического набора атрибутов профессии в оте-чественной социальной работе: теоретическая подготовка и прак-тическая деятельность за редким исключением довольно далеки друг от друга; профессиональные ассоциации созданы по ини-циативе «сверху» и не имеют статуса и полномочий демократи-ческого управления [Романов, 2002; Социальная политика… 2002].
Профессионализация социальной работы во всем мире вклю-чает сегодня две разнонаправленные тенденции – специализацию и универсализацию. Внутреннее разнообразие профессии, безус-ловно, обусловлено тем, что она по своей природе контекстуаль-на и не может не задействовать ресурс специализации. Усиление статуса экспертных сообществ в различных сферах специализа-ции социальной работы выражается, в частности, оформлением различных ассоциаций профессионалов – социальных работников школ, ювенальных судов, клиник – в США, Канаде, Великобри-тании. Однако нельзя отрицать и важность общих, универсаль-ных знаний, навыков и принципов деятельности социальных ра-ботников, отвечающих стандартам профессии, национальным и международным нормам прав человека. Таким образом, необ-ходим «разумный» компромисс между ориентацией на специали-зацию и универсалистским типом подготовки [Юлиусдоттир,Петерссон, 2004].
В связи с этим исследователи ставят вопрос о совместимости и сравнимости навыков и знаний социальных работников в раз-ных странах Европы и мира – как тех условиях, которые позволят расширить возможности занятости и обучения. Формированию таких условий в странах, где атрибуты профессии – образование,
262
статус, возможности занятости – согласованы между собой, будет способствовать интеграция и стандартизация образования в об-ласти социальной работы. Что же касается России, то здесь от по-лучения образования, подтвержденного дипломом, до практиче-ской работы в социальной службе существует огромный разрыв в виде неадекватных размеров заработной платы, а обратный шаг – в сторону получения профессионального образования (для сотрудников социальных служб) – затруднен ввиду отсутствия системы соответствующих стимулов.
Интеграция академической подготовки и практической рабо-ты – это идеальная цель, которую разные страны и образователь-ные системы достигают разными путями и с неодинаковым эф-фектом. Например, даже в пределах одного региона, отличающе-гося сходной культурой и типом социальной политики – в стра-нах Северной Европы (Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции) – нет единой модели образования в области социаль-ной работы. Нельзя говорить об образовании по социальной ра-боте как о едином целом и в Великобритании, где различия меж-ду Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией в на-стоящее время, когда происходит развитие национальных авто-номий и налицо тенденции децентрализации, начинают приобре-тать ощутимые формы [Шардлоу, 2004]. При этом наблюдается продолжение постепенной диверсификации форм образования по социальной работе и развитие в каждом из регионов собствен-ных подходов к организации этого процесса. Ориентиры разви-тия локальных и глобальных моделей образования по социальной работе включают развитие более совершенных моделей связи с практикой, совмещение исследовательской (рефлексивной) со-ставляющей и нормативной (практико-ориентированной) компо-ненты в образовании по социальной работе, разработка моделей поддержания качества образования.
Рост менеджерализма в социальной работе В эпоху неоменеджерализма, начиная с 1970–80-х годов в За-
падной Европе и США [Spencer, 1961; Stein, 1971], как и в на-стоящее время в России [Ржаницына, 2004, Клепиков, 2004], –
263
усиливаются тенденции рационализации ресурсов и приемов управления в социальной сфере. Контекст этих тенденций – эко-номический подъем, ставший возможным благодаря политиче-ским реформам республиканцев в США и консерваторов в Вели-кобритании и осуществлявшийся за счет идеологии рационализа-ции и сокращения государственных расходов [Кларк, 2003.С. 86]. В сфере социальных услуг, как и во всех отраслях эконо-мики, резко повышается значение экспертного знания, направ-ленного на анализ и повышение эффективности работника, от-дельного проекта или организации, оказывающей такие услуги [Weimer, Vining, 1992. P. 12].
Британская исследовательница Лена Доминелли называет этот процесс «тэйлоризацией» профессиональной социальной работы, подразумевая тенденцию на увеличение роли технокра-тических подходов в профессии. Как когда-то в научном ме-неджменте производства в начале ХХ века «тэйлоризм» в соци-альной работе теперь означает переход к выполнению функций на манер конвейера в ущерб эмоционально-коммуникативной стороне деятельности, но в пользу кодифицированного профес-сионального знания и поведения, основанного на четко предпи-санных правилах. Концепция социальной работы как деятельно-сти на основе системы четко очерченных компетентностей пре-доставила менеджерам социальных служб возможность предъяв-лять инструментальные, технические требования к трудовому процессу и усиливать подотчетный, регламентированный режим в организациях, известный как неоменеджерализм [Dominelli, 2004. P. 56].
Для этого подхода характерна убежденность в том, что дос-тижение эффективности посредством интеграции работы отдель-ных людей – деятельность внеценностная и внеконтекстная, она может в равной степени характеризовать труд начальника цеха по сборке автомобилей, директора ресторана и дома престарелых [Peterson, Plowmen, 1959. P. 33]. Однако негативные аспекты при-менения технократических моделей к управлению социальной службой обесценивают все плюсы использования на этой работе «универсального менеджера» [см.: Социальная политика… 2002].
264
Питер Бересфорд и Сюзан Крофт поясняют, что переход на рыночные отношения в социальной сфере в 1980-е годы на Западе происходил на фоне накопившегося недоверия и не-удовлетворенности среди населения и политиков по отношению к прежним патерналистским моделям социальной политики. Од-нако теперь стало также очевидно, что новый рыночный коммер-циализм и связанный с этим менеджерализм были не свободны от недостатков, поскольку существенно ограничили гарантии доступности, адекватности, гибкости, равенства и справедливо-сти [Beresford, Croft, 2001. P. 311]. Гибкость и эмоциональность обслуживающего труда социальных работников в менеджерали-стскую концепцию не вписывались.
В результате усиления бюрократического контроля над соци-альными работниками, например, в Великобритании проявились противоречивые последствия. Негативным аспектом стали обма-нутые ожидания в отношении дополнительных ресурсов и серви-сов, необходимых для особо нуждающихся индивидов, семей,групп или сообществ, к появлению которых так и не привел не-оменеджерализм. Клиенты и социальные работники так и не бы-ли автоматически наделены новыми полномочиями или верой в свои силы, не произошло снижения тяжелой нагрузки, ограни-чивающей творчество и инновации специалистов. Не произошло и ожидаемой эволюции методов работы с клиентами, в том числе и в отношении особо сложных, деликатных или рискованных си-туаций.
С положительной стороны, неоменеджерализм сократил при-вилегии профессиональной автономии, потребовал большей под-отчетности в отношении скудных ресурсов в распоряжении соци-альных работников, стремился расширить возможности выбора пользователей услуг, попытался повысить стандарты практики и квалификации среди работников, которые ранее относились к своим профессиональным качествам как к личному делу и не заботились о получении соответствующей подготовки [Dominelli, 2004. P. 14–15]. Вот почему неоменеджерализм в социальной ра-боте проявился в переходе от патерналистской к партнерской мо-дели социальной работы, однако при этом изменения привели
265
к усилению бюрократических форм стабилизации и контроля за практиками, ранее работавшими в ситуации большей автоно-мии [Dominelli, 2004. P. 57].
В целом можно говорить о тенденции к формированию более жестких административных систем управления социальной рабо-ты. Этот процесс трансформации помогающей профессии имеет глобальный характер, и его черты мы наблюдаем не только в на-циональных контекстах, Великобритании и США, где усилились политические позиции неоконсерваторов, выступающих за со-кращение расходов на социальную политику. Изменения имеют место и повсюду в Европе, и в постсоветских странах, хотя моти-вы здесь различаются. В постсоветских странах рационализация социальной поддержки происходит в условиях глубокого эконо-мического кризиса и бюджетных ограничений, слабого и нечетко оформленного профессионального этоса. Это влечет увеличение рисков, связанных с расширением практик исключения и депри-вацией социально слабых групп, сужения поля деятельности со-циальных служб.
Формирование рефлексивного специалиста По мнению исследовательницы из Финляндии Кати Нэри,
в постсовременном (или позднесовременном) обществе профес-сии должны основываться на паблисити, коммуникации и дове-рии. Это значит, что от профессионального, экспертного знания ожидается его публичное обсуждение, вследствие чего эксперти-за становится открытой рефлексией, а не жестко зафиксирован-ным заранее выводом нормативного характера [Närhi, 2002. P. 334]. В условиях растущей неопределенности классический ландшафт зафиксированных профессиональных идентичностей сталкивается с новой ситуацией, артикулированной критическим подходом и концепцией «рефлексивного практика». Модель реф-лексивного практика необходима там, где «величайшую важ-ность приобретают проблемы равенства, соблюдения прав и нон-дискриминации» [Jones, Joss, 1995].
Эта модель делает акцент на важности обучающего опыта как средства достижения и оттачивания профессиональной
266
компетентности, предусматривая цикл практического обучения (experiential learning) [Kolb, 1984], которое включает конкретный опыт, рефлексивное наблюдение, теоретическую концептуализа-цию и активное экспериментирование, восприимчивое к специ-фическим контекстам и ситуациям профессиональной практики.Такой тип профессионализма, доказавший свою адекватность за-дачам социальной работы во всем мире, предполагает комбина-цию теоретического и практического знания, профессиональных ценностей, когнитивной и поведенческой компетентности в спе-цифических ситуациях, требующих достижения взаимопонима-ния и договоренности [Социальная политика… 2002; Ярская-Смирнова, 2001].
Процессы, происходящие сегодня в социальной работе как академической дисциплине и профессиональной практике, свиде-тельствуют о том, что характер этой профессии в современном мире меняется. Из специфической деятельности с четкими гра-ницами между теорией и опытом, образованием и практикой,между ролями специалиста и клиента она эволюционирует в на-правлении признания равных, партнерских отношений препода-вателя, специалиста и клиента, где практический опыт приобре-тает все больший вес наряду с академической подготовкой. Эти изменения, в частности, выражаются в замене термина «клиент»понятиями «пользователь услуг», «потребитель услуг», «участ-ник», «член группы поддержки».
Кроме того, в последние годы растет признание того, что от-ношения теории и практики в помогающих профессиях должны быть более близкими и взаимными: не только практика выстраи-вается согласно сформулированным теоретическим постулатам,но и теория развивается из осмысления опыта, благодаря анализу практики. Это происходит благодаря проводимым все чаще при-кладным исследованиям профессиональной деятельности, чьи результаты применяются на практике, а также посредством пар-тисипаторных исследований как особой технологии социальной работы. Выражение «рефлексивная практика» [Schon, 1983; Schon, 1987] в смысле деятельности, в которой сочетаются «мыс-ли и дела», известно еще не всем отечественным социальным
267
работникам и преподавателям, а за рубежом эта перспектива уже не одно десятилетие признана условием профессионального раз-вития наряду с более поздним «подходом, основанным на фак-тах» (evidence-based practice) [о последнем подходе см.: Shaw, 1996; Shaw, 1999].
Понятие профессионализации, рассматривавшееся ранее как позитивный рост «знаков отличия» – дипломов, теоретических знаний, статуса и зарплаты, – сейчас понимается в контексте вы-зываемых этим процессом противоречий и дилемм. В частности,разрыв между теорией и практикой уже не устраивает ни препо-давателей, ни студентов, ни специалистов в Швеции и Финлян-дии – здесь говорят о сенситивной кооперации между вузами и агентствами социальной работы. В Дании, Норвегии и Ислан-дии, напротив, оторванность практики и учебы по социальной работе от исследовательской деятельности тормозит развитие профессии, и поэтому здесь на повестке дня – рефлексивная ака-демизация [Юлиусдоттир, Петерссон, 2004].
В исследовании, проведенном в марте 2004 года, информа-ция собиралась методом полуформализованного интервью. Всего было собрано девять интервью, в качестве информантов высту-пили руководители и заведующие отделениями центров социаль-ного обслуживания шести районов города Саратова TP
1PT. Респон-
дентов просили поделиться их мнениями о том, что должен знать и уметь социальный работник и специалист по социальной рабо-те; какие ему (ей) необходимы личностные качества, теоретиче-ские знания и практические навыки. Кроме того, были заданы вопросы относительно уровня подготовки, а также необходимо-сти и возможности повышения квалификации сотрудников. Нас также интересовало мнение респондентов о студентах-практи-кантах, которые проходят стажировку в данной организации.
Необходимо отметить, что в Саратове специалистов по со-циальной работе готовят два вуза: Саратовский государствен-ный технический университет (СГТУ) и филиал Российского
TP
1PT Интервью собирала студентка Татьяна Ильина под руководством Е. Ярской-
Смирновой в рамках проекта по исследованию качества образования по социальной работе в СГТУ.
268
государственного социального университета (РГСУ, ранее МГСУ). Центры социального обслуживания предоставляют возможность прохождения практики студентам обоих вузов. Структура тек-стов интервью любопытным образом связывает мнение работ-ников социальных служб о профессионально важных навыках с представлениями о специфике подготовки специалистов в раз-личных вузах города: в СГТУ
уровень подготовки теоретический выше, но они, скажем так, более наукообразные; Но как-то попрочнее связи с МГСУ с министерством.Министерство там заинтересовано, и наши там обучаются, у них и группы всегда больше.
Одна из информанток сформулировала ключевую метафору,указывающую на трудности взаимопонимания двух разных жиз-ненных миров:
Очень мощная теоретическая подготовка есть на вашей кафедре,но когда мы начинаем разговаривать – мы разговариваем на разных языках.
Обратим внимание, что символическая дистанция между практическим учреждением и образовательной программой опре-деляется не только в аспекте несовместимых идеологий («разные языки»), но и в политических терминах («связи с министерством»).
«Разноязыкость» – это тот образ, который отражает замкну-тость и самодостаточность каждого из миров, воспринимаемых по контрасту, по принципу «у нас» и «у вас»: «У нас ведь все со-всем по-другому». Это автономные миры практики и теории,практики и образования, социальной службы и вуза. Преподава-тели, «ведя свой лекционный курс студентам, они ведут их в оп-ределенном направлении, вот, а у нас есть вопросы абсолютно конкретные». Практики же, даже получив образование, никакой пользы из этого так и не извлекли:
Ну, конечно, у нас таких знаний нет. Я, например, тоже пришла – ни-каких, так скажем, знаний. Вот только обретаешь в процессе работы…Я вот тоже заканчивала Московский государственный социальный университет. У меня юридическая [специальность]. Ну вот я хочу ска-зать, [полученные в вузе знания] вообще не помогают.
269
Администраторы социальных служб, с которыми мы беседо-вали в 2004 году о качестве вузовских программ подготовки спе-циалистов социальной работы, обнаруживали этот разрыв между практикой и теорией, рисуя образы изолированности разных ти-пов знания, разделенных непроницаемыми границами: «образо-вание-то оно образование, но здесь нужно быстро, здесь именно практика должна быть»; их разноязыкости («мы разговариваем на разных языках») и самодостаточности («мы сами себе психо-логи»). В этих фрагментах из интервью с администраторами со-циальных служб академическое знание рассматривается в качест-ве ненужного украшения, не востребованного в условиях практи-ческой деятельности. Герметичная система практических навы-ков совладания с критическими и повседневными ситуациями,с одной стороны, избегает академической кодификации, способ-ной поставить под вопрос стихийную экспертизу социальных ра-ботников, а с другой стороны, не видит отражения своего опыта в тех образцах теоретизирования, которые предлагаются в вузе,и потому воспринимает их как чужеродные и чрезмерно абст-рактные.
Опасным аспектом такого положения дел является риск ин-дивидуализации или приватизации социальными работниками проблем, имеющих социальную и групповую природу, игнориро-вание культурных различий, сужение ими арсенала возможных решений, ограниченный взгляд на миссию социальной работы как профессии. Одновременно, преподаватели и исследователи,изолированные от живой практики, проявляют неспособность в полной мере распознать и освоить недокументированное прак-тическое знание, отрефлексировать его и поместить в гуманисти-ческий контекст социального образования.
Типы знания в социальной работе Как указывают П. Бересфорд и С. Крофт [Beresford, Croft,
2001], в западноевропейской традиции социальной помощи в по-следние годы произошел ощутимый прогресс в процессах вклю-чения пользователей услуг в подготовку социальных работников,в совершенствование теории, исследований и практики, а также в разработку стандартов социального обслуживания. Все это
270
позволяет говорить о развитии профессии на принципах инклю-зии и социального конструктивизма. Если исследователи, препо-даватели и практики примут во внимание, что клиенты, или поль-зователи услуг, имеют право голоса, что они владеют уникальной перспективой, точкой зрения на проблему, своим собственным,очень важным и порой наиболее верным знанием ситуации, это будет один шаг в направлении конструирования инклюзивной социальной работы. Следующий шаг – это признание представ-лений и описаний опыта практиков в качестве важнейшего ис-точника профессиональной экспертизы. Каждый из этих типов знания, производимого пользователями, практиками и учеными (или преподавателями), необходимо осмысливать с точки зрения того, какими именно способами и на какой основе конструирует-ся это знание.
В современной дискуссии об основаниях знания в социаль-ной работе реальность признается контекстуально привязанной,а знание – социально сконструированным явлением [Dominelli, 2004]. Малькольму Пэйну [Payne, 2001] принадлежит идея о том,что контекстуально определенное знание – в конкретной стране или узкой специализации социальной работы – может оказаться камнем преткновения в более широких рамках или контекстах профессионального знания. Источником специфических знаний могут быть элементы местной культуры социального обеспече-ния, модели социальной политики, религиозные или иные ценно-стные системы конкретного общества, группы или общины [Payne, 2001. P. 142]. Если же специалисты окажутся достаточно чувствительными к другим культурам и дискурсам, эти камни преткновения станут основой для формирования новых знаний и подходов к решению проблемы. В этом случае, считает Пэйн,имеет смысл говорить о передаче и заимствовании знания, когда оно начинает жить собственной жизнью в иных контекстах, ста-новясь стимулом новой практики и углубления понимания. Изу-чение этих процессов интерпретации и реинтерпретации в разных странах, специализациях и культурах позволит нам понять, как конструируется знание в социальной работе [Payne, 2001. P. 143].
Кэролин Тэйлор и Сюзан Уайт говорят о рефлексивном действии социальных работников, когда те подвергают анализу
271
знания и практику [Taylor, White, 2001. P. 55]. Вопросами для критического анализа в этой связи являются такие: Как социаль-ные работники обсуждают между собой своих клиентов? Какие предъявляют к себе и к другим требования и какие выставляют упреки? Что именно в их рассказах делает их убедительными,звучат ли там истории, рассказанные клиентами? Тэйлор и Уайт совершенно верно отмечают, что очень трудно отрефлексировать то, что принимаешь как должное, проанализировать собственную практику работы. Поэтому, с нашей точки зрения, здесь на по-мощь могут прийти качественные методы исследования, и полу-ченные данные будут хорошим материалом для диалога исследо-вателей и практиков, как и между самими практиками, для по-вышения теоретической чувствительности социальных работни-ков и практической внимательности ученых.
Ввиду того, что практика социальной работы характеризует-ся высокой степенью непредсказуемости и противоречивости,специалист-практик всегда вынужден принимать решения и дей-ствовать в неопределенной ситуации [Närhi, 2002. P. 333]. Всю ту информацию, с которой ежедневно имеет дело социальный ра-ботник, очень трудно уложить в существующие теоретические построения, чтобы использовать их как руководство к действию.Для того чтобы совладать с неопределенностью, социальный ра-ботник как повседневный деятель подвергает ее типизации с точ-ки зрения здравого смысла [см.: Шютц, 2004], который формиру-ется на основе имеющихся представлений, ценностей, эмоций.В результате именно на основе осмысления повседневного опыта самими практиками строится профессиональная экспертиза, и хо-рошо, если это сопряжено с гибкостью, открытостью новому.Однако нередко выработанные с опытом представления и прие-мы работы превращаются в бастион между «цехом» профессио-налов и «обычными» людьми. При этом легитимность опыта и знаний пользователей подвергается сомнению как принадле-жащая области непрофессионального, ненаучного, а потому сим-волически менее ценного [Fook, 2000].
Одна из наших собеседниц отметила важность локального контекста для выработки необходимых в работе знаний:
272
Ну, конечно, у нас таких знаний нет. Я, например, тоже пришла – ни-каких, так скажем, знаний. Вот только обретаешь в процессе работы…
Нас интересует именно этот процесс формирования профес-сионального, экспертного знания на основе повседневного опыта.В терминах И. Гофмана [Гофман, 2004. С. 71] мы проводим ана-лиз фреймов – исследования опыта на основе, во-первых, прин-ципов социальной организации событий и, во-вторых, посредст-вом субъективной в них вовлеченности. Профессиональное зна-ние вряд ли можно рассматривать как некую фиксированную данность, существующую в научных статьях и учебниках, от-дельно от процессов понимания, от вырабатываемых ежедневно и ежечасно представлений о правильном и ошибочном поведе-нии, о достойных и недостойных клиентах, от тех разнообразных контекстов, в которых формируются и применяются как ценно-сти, так и знания.
Представления о знаниях, необходимых в социальной работе,в позднесовременную эпоху изменилось. Профессиональная экс-пертиза видится не столько основанной на структурном и уни-версальном знании, сколько создаваемой в процессе диалога и под влиянием различного рода дискурсов. В настоящее время акцент делается на так называемом практическом знании и по-вседневной мудрости практиков TP
1PT. Экспертиза рассматривается
как результат согласований, и знание становится скорее процес-сом (knowing), нежели продуктом (knowledge) [Närhi, 2002. P. 334]. Иными словами, понимание – это бесконечный процесс постоян-но меняющихся представлений и отношений, который осуществ-ляется посредством практики и рефлексии.
Рассмотрим понятие теории в перспективе социального кон-структивизма. Если в классической науке теория связана с каби-нетной деятельностью ученого, то в эпоху постмодернизма сло-вом «теория» называют объяснения, к которым прибегают в сво-ей повседневной жизни обычные люди, в этом случае зачастую применяют термин «наивные теории». Теории социальной рабо-ты в их классическом понимании можно подразделить на разные
TP
1PT В трудах по социальной антропологии этот тип знания известен как tacit
knowledge (внутреннее, повседневное) [см.: Polanyi, 1966].
273
классы в зависимости от их парадигмальной принадлежности [см.: Payne, 1991], содержательной направленности, целей и об-ласти применения.
Кроме того, среди теорий можно выделить те, что несут в се-бе знание о ситуации, а также о том, как это знание использовать для ее изменения или разрешения. Теории, кроме того, можно раз-личать по степени их генерализуемости, релевантности и фор-мальности. Есть «высокие» (grand) формальные теории, которые объясняют социальные процессы на макроуровне, их применяют (с различной степенью успешности) ко всем обществам и во все времена; есть так называемые теории среднего уровня, а есть теории, укорененные в контексте (grounded theory). Теория может представлять собой предсказуемый паттерн событий, с которым можно сравнивать наблюдаемое, или модель иерархических взаимосвязей между компонентами, или, напротив, сеть неиерар-хических отношений между связанными понятиями [Fook, 2000].
Привилегированные позиции в социологии, психологии и социальной работе заняты теориями, созданными из абстракт-ных рассуждений в отрыве от практик конкретных людей [Mor-gan, Scott, 1993]. В свою очередь тесная связь теории и практики основывалась целым рядом исследователей на отрицании теории как абстрактных форм. Взамен предлагались теории, основанные на понимании жизненного опыта, на признании субъектности изучаемых людей. Большое значение в этом производстве теории нового типа сыграло в 1960–70-е годы формирование Б.Г. Глэзе-ром и А.Л. Строссом [Glaser, Strauss, 1968; см. также: Страусс,Корбин, 2001] качественной методологии grounded theory, рас-пространение принципов акционистского и партисипаторного исследования [см. напр.: Hall, 1981. P. 6–19]. Более прочной связи теории с практикой способствовала и критическая педагогика феминизма, в которой, как и в научной деятельности в русле женских и гендерных исследований, «была интенция на неприня-тие дуалистического подхода к телу и сознанию» [хукс, 1999. С. 244].
Какие же типы знаний и теорий должны быть целью ис-следований профессии социальной работы? Следует ли нам создавать теории общего характера, валидизируя их научными
274
экспериментами? Будут ли они адекватны постмодернистским и меняющимся контекстам социальной работы в постоянно трансформирующихся условиях? Или же теории должны созда-ваться практиками и быть укорененными в специфических кон-текстах? [Fook, 2000].
А. Страус и Д. Корбин предлагают считать теорией наборы понятий и предполагаемых взаимосвязей между понятиями:сходные данные группируются и им присваиваются понятийные ярлыки, тем самым интерпретация данных ведет к теоретизации.Кроме того, понятия связываются в систему посредством форму-лирования, наименования взаимосвязей [Страус, Корбин, 2001.С. 26]. В качестве теоретических идей, позволяющих понять со-бытия или явления на микроуровне, могут выступать единичная описательная идея, понятие или метафора-«ярлык». «Называние»или маркирование какого-то явления или поведения, объясняя,связывает поведение или явление с теоретическими идеями.
Одним из таких ярлыков, прозвучавших в интервью с адми-нистраторами социальных служб, было слово «психология», применяемое, с нашей точки зрения, метафорой профессиональ-ной теории:
Психология, в том числе и психология пожилого человека. Уметь об-щаться с пожилым человеком; Социальный работник, я думаю, что,во-первых, он должен… иметь такой характер, который… ну, под-страиваться. Бабушки и дедушки – они, конечно, очень вспыльчивые и ругаются на нас. <…> Во-вторых, он должен знать элементарные навыки психологии. Уметь посоветовать.
К чему же надо уметь «подстраиваться», в чем состоит смысл «психологии» как некоего профессионально важного качества,необходимого работникам современной отечественной социаль-ной службы? Чтобы это понять, нужно знать особенности рутины социальной работы в центрах социального обслуживания, среди которых высокая нагрузка при неадекватном вознаграждении,неопределенный, нерациональный характер отношений работни-ка и клиента, уязвимость работника перед организацией и полу-чателем услуг, патернализм в отношениях с потребителями ус-луг, непрозрачность и трудность измерения обслуживающего
275
труда, риск пренебрежения потребностями клиента, завышенные требования со стороны клиентов. Добавим, что формула «знание психологии = умение общаться» в ситуации интервью выступает,пожалуй, одним из важных приемом категоризации деятельности социального работника как профессиональной.
Наш анализ выявляет фреймы повседневного опыта – то есть не только то, какое знание нужно практикам и другим акторам,конструирующим знания в процессах социальной работы, но и как оно применяется на практике, и как сама эта практика интерпре-тирует и понимает знание. Как пишет И. Гофман,
даже если мы поставим задачу использовать в гуманитарных науках «примеры», «иллюстрации», «яркие случаи», за которыми стоят обы-денные теории, это будет как раз тот случай, когда примеры и иллю-страции должны использоваться и в качестве объекта, и в качестве средства анализа» [Гофман, 2004. С. 72].
Повседневная теория социальной работы Дихотомия теория / практика для наших рассказчиков игра-
ет важную роль, хотя ее следует понимать не с позиции академи-ческой науки, а, скорее, в терминах здравого смысла. Процедуры интерпретации, применяемые информантами в ответ на вопросы интервьюера, позволяют выявить механизмы тематизации повсе-дневности в социальной службе. Так, отвечая на вопрос о том,нужны ли профессионалу социальной работы теоретические зна-ния, информанты с уверенностью указывали на важность норма-тивно-правовой базы социального обслуживания:
Знание основных документов. И конечно, все вот эти льготные поста-новления. То, что требуется для наших пенсионеров, чтобы для них оформлять документы, чтобы грамотно отвечать на их вопросы; Вот,например, наш специалист, она меняла… занималась паспортами. Ме-няла новые паспорта бабушкам. Ну а так, она более организационны-ми вопросами занимается. – Вопрос: Ну, а какие-то теоретические знания ей необходимы в её работе? – Ответ: Ну, конечно, новые по-становления, решения нормативные.
Очевидно, что понятие теории здесь информантами интер-претируется в значении сферы компетенции, области экспертизы.
276
Иными словами, теория нужна такая, которая непосредственное отношение имеет к конкретным практическим ситуациям. Теории метауровня, более понятные выпускникам вузовских отделений социальной работы, оказываются слишком удаленными от жиз-ни и потому не востребованными в период прохождения прак-тики, где необходимы прикладные и пригодные к применению знания:
Понимаете, практическая часть у нас есть. Нам необходимо подкреп-ление – теоретическая база, которая бы с этой практикой соприкаса-лась. То есть вот на этой точке обучение было бы эффективно. <…> Вот, например, технология работы с человеком без определённого места жительства или технология работы с людьми, попавшими в кри-зисные ситуации. Такого плана, то есть более узкие…
Студенты-практиканты, которые заслужили одобрение у ру-ководителей служб, квалифицируются следующим образом: это
девочки очень добрые и приветливые. Сразу же откликнулись. Одна бабушка попросила сходить продуктов купить – девочка сразу согла-силась, побежала в магазин.
Другим руководителям практика показалась
чисто формальной. Вот только в прошлом году у нас на практике де-вочка была. В течение месяца, кажется, она работала. Вот единствен-ная, кто… честно отработал. По четыре часа она у нас работала… Вы знаете, это вообще, первый курс была девочка. Она знакомилась как правильно акты составлять, как вести документацию. А остальные?.. Вроде бы мы им нужны, придут, а потом почему-то исчезают.
Отсутствие навыков консультирования и профессиональной коммуникации с людьми, слабое владение нормативной базой,а нередко и нежелание вникать в рутину социального обслужива-ния моментально переводит стажеров в категорию неуспешных «остальных» и несостоятельных «формалистов». Однако безраз-личное отношение студентов-старшекурсников к практике может быть связано и с другими причинами, в частности с тем, что про-фессиональная квалификация, приобретенная за годы учебы, «в по-ле» не востребована. Стажеры во время прохождения практики
277
не получают заданий, адекватных полученным ими знаниям и умениям. Так, в одном из центров социального обслуживания
социальный работник брал себе в помощь [студентов]. Они выходили в адреса и выполняли поручения всех бабушек. Кто-то за продуктами пошёл, кто-то за лекарствами в аптеку.
В другом центре задача была более высокого уровня сложно-сти – здесь состоялись посещения клиентов на дому с целью уточнения их потребностей:
[Студенты] на практику приходили. Мы с ними ходили по адресам.Знакомились. Бабушки обычно не любят когда всё время разные лю-ди. Поэтому мы ходили вместе с ними. Вообще наше отделение зани-мается контролем тех, кто одинокие, одиноко проживающие. Вот они все у нас в картотеке заведены. Мы выписываем, допустим, и идём конкретно по адресу и узнавали, нуждается он в нашей помощи или нет…
По данным упомянутого выше опроса студентов, чем старше курс, тем ниже оценки, которые дают студенты практике. Воз-можно, ожидания старшекурсников от стажировки становятся выше, а содержание практики не соответствует их знаниям и по-требностям. Администраторы социальных служб видят это со сво-ей стороны иначе, указывая на отсутствие мотивации к работе:
У нас в основном пятый курс приходит, уже когда преддипломная практика, и приходят после второго, после третьего. Вот ещё там – они более-менее. А после пятого приходят они… – Вопрос: Не хотят работать? – Ответ: Не то, что не хотят работать. Их никто работать не заставляет. Просто так: «Нет, мне этого не надо». По данным наших опросов, чем ближе к выпускному курсу,
тем лучше студенты знают, что собой представляет их профес-сия, и тем меньше уверенности в трудоустройстве по специаль-ности. Образ профессии подвергается деромантизации или деми-стификации, чему могут способствовать как контакты с реально-стью, так и рефлексивный критицизм, присущий идеологии обра-зовательной программы СГТУ.
278
Возникающая здесь дилемма заключается в следующем: сто-ит ли снижать планку теоретической рефлексии социальной ра-боты и, соответственно, амбиций будущих профессионалов, пока они еще сидят на студенческой скамье, или же поднимать квали-фикацию принимающей стороны – социальной службы, предос-тавляющей возможность прохождения практики? В собранных интервью, как и пять лет назад [см.: Ярская-Смирнова, 1999а; Яр-ская-Смирнова, 1999б], руководители социальных служб при-знают, что не владели специальными знаниями в области соци-альной работы, да и в настоящий момент многому предстоит научиться. Так же, как и ранее руководители социальных служб убеждены в том, что большую часть недостающих знаний можно приобрести в процессе работы, причем акцент делался на том,что любая профессиональная деятельность требует организаци-онной социализации, а не диплома как такового. Профессия при-обретается не в аудитории университета, а только в процессе трудовой активности. Поэтому опрошенные солидарны, говоря о примате опыта над образованием для специалиста по социаль-ной работе.
Недостаток теоретической подкованности сотрудников рас-ценивается как помеха лишь в связи с новыми и непонятными пока задачами проектной деятельности:
Я думаю, квалификации не хватает у сотрудников. Конечно, сейчас ястараюсь расшевелить, стараемся мы создавать программы социаль-ные, вот. Ну, в общем-то, мы только начали этим заниматься, вот.Я начинаю только представлять, как мы будем развиваться. А для грантов нам конечно ещё рановато. …ЭТО было бы очень интересно,если бы за нами был закреплён какой-то, я не знаю, преподаватель:профессор, там, аспирант, ещё кто-то – студент, с которым мы совме-стно разрабатывали вот эти все программы. Потому что у нас есть практика, а всё-таки теория… написание – лучше, чтобы всё-таки кто-то из науки сделал.
В этом случае теория понимается как наука заявок на гранты,умение готовить проекты, впрочем, и здесь «совместная» деятель-ность видится как механическое сцепление «нашей» практики и «их» теории. Кстати, старшекурсники, а особенно магистранты,
279
действительно нередко оказывают помощь в проведении семина-ров и круглых столов, разработке проектов.
Резолюция Комитета министров Европейских стран о «Роли,подготовке и статусе социальных работников» 1967 года не поте-ряла своей актуальности до сегодняшнего дня, и особую значи-мость ее положения имеют для России. Здесь говорится о важно-сти участия социальных работников в выявлении и решении со-циальных проблем, повышении статуса и уважения в обществе к представителям социальных служб и социальной работе как профессии, найма большего числа хорошо подготовленных спе-циалистов. Подчеркивается, что в целях повышения качества об-разования правительства должны поощрять социальные службы и учреждения на предоставление возможностей гарантированной инструктированной практики, устанавливать период общей под-готовки, который должен превосходить период специализации социальных работников, а также осуществлять продвинутое об-разование на базе университетов [Council of Europe… 1967]. При этом приоритетом является повышение статуса социальных ра-ботников, что достигается предоставлением им возможности карьерного роста и справедливой оплаты труда, высокой степени независимости в выполнении профессиональных задач, призна-нием и уважением работодателем деликатной и конфиденциаль-ной природы социальной работы. Среди требований, предъяв-ляемых к профессиональному социальному работнику в Велико-британии, сегодня значительное место занимает освоение теоре-тических знаний по социальной политике, умение решать кон-фликтные ситуации и этические дилеммы [Шардлоу, 2004].
Необходимо отметить, что дихотомия теория / практика на-ходится и в центре внимания зарубежных экспертов в области подготовки социальных работников. С.Шардлоу приводит целый ряд ссылок на проведенные в этой области эмпирические иссле-дования (в том числе, микромасштабные качественные исследо-вания нескольких учреждений; широкомасштабные исследования полевой практики и стратегии организации полевой практики;исследования образования по социальной работе, в которой прак-тическое обучение является неотъемлемой частью), но все же по-лагает их количество чрезвычайно недостаточным. Что же касается
280
России, то здесь анализ подготовки социальных работников, вклю-чая проблемы организации практики, осуществляемый на осно-вании эмпирических исследований, является большой редкостью,хотя и чрезвычайно необходимой задачей [см., например: Выс-шее профессиональное… 2002; Международное сотрудничест-во… 1998; Формирование конкурентоспособного… 2001; Обра-зовательные технологии… 2001]. За редким исключением [Холо-стова, Щукина, 2001], в основном работы носят «теоретико-мето-дологический», «концептуальный» и «методический» характер.
Автономия академической сферы образования и практиче-ской социальной работы отражается в дефиците соответствую-щих знаний и необходимых навыков как у практикующих работ-ников, так и у студентов и выпускников вузов. Болевая точка этих межинституциальных отношений – организация практиче-ской составляющей учебного процесса. На этом делают акцент и наши респонденты:
Практика планироваться немножко по-другому должна. Может быть,она должна быть более целевая; Если бы у меня была чёткая програм-ма практики… Но программы чёткой нет.
Программа практики должна быть индивидуализированной,прозрачной и ясной не только для студентов, но и для представи-телей принимающей организации. Нет в службах и ежедневного контроля за прохождением практики конкретным студентом.Оценивая студентов обоих вузов, руководители служб сожалели,что нередко те нерегулярно являются на работу или проявляют безответственность в выполнении поручений, хотя руководители учреждений все равно подписывают им дневники практики, тем самым подтверждая необязательный и нерациональный характер этих отношений. Следовательно, необходимо разработать такие приемы оценивания практики, которые могли бы, во-первых, по-зволить самому студенту увидеть соответствие поставленных за-дач и достигнутых результатов, во-вторых, создать заинтересо-ванность руководителей социальных служб в прикладной дея-тельности студентов в жизни организации, в-третьих, повысить ответственность всех институтов и индивидуальных участников в процессе и результатах практического обучения.
281
Кроме того, снижает качество практики и слишком большой размер студенческих групп, направляемых в организацию, а так-же недостаточно активные контакты с руководителями практики из вузов. Важно признать, что практика – это обучение, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, необходимо выстраивать тесные связи между деятельностью в социальной службе в период практики и знаниями, полученными на теорети-ческих лекциях и семинарах, которые, в свою очередь, обязатель-но должны учитывать опыт деятельности учреждений социаль-ной сферы, включая местный уровень. Особые требования долж-ны предъявляться к человеку, осуществляющему супервизию и обучение студентов-практикантов, к методам и содержанию обучения в период полевой практики. Наконец, важно стратеги-чески упорядочить проведение практики.
Скорее всего, от обсуждения дихотомии теория / практика нам стоит перейти к поиску и признанию разнообразных путей,которыми мы можем повысить качество практической подготов-ки социального работника и способствовать развитию теорий профессиональной практики. С. Юлиусдоттер и Я. Петерссон считают необходимым для региона Северной Европы развивать интегрированную модель, которая придает равное значение как практике, так и исследованиям. Тенденции в странах этого ре-гиона таковы, что образование, ориентированное в первую оче-редь на практику, сейчас оказывается под давлением требований рефлексивной академизации, тогда как университетские про-граммы, ориентированные на исследования, меняют свои при-оритеты в пользу так называемый чувствительной кооперации – сближения с практикой и диверсификации образовательных ус-луг, чтобы ими могли воспользоваться сотрудники практических учреждений. Этот новый компромисс следует рассматривать не только как идеальный тип возможной трансформации, но и в ка-честве реалистичного осмысления новейших тенденций в систе-ме образования [Юлиусдоттир, Петерссон, 2004].
Вряд ли кто-то из отечественных преподавателей, ученых и чиновников будет отрицать насущную потребность в эксперт-ном знании компетентного специалиста по социальной работе,
282
равно как и необходимость связи теории и практики, исследований и политики, образования и профессиональной деятельности.И хотя страх критики, так называемый антиинтеллектуализм, был характерен для представителей правительства и администрации во многих странах с переходной экономикой, анализируя наш опыт, мы можем заключить, что отношения между местной ад-министрацией и учеными меняются в течение последнего десяти-летия кардинальным образом в направлении зрелого взаимного интереса и реального сотрудничества.
Все более актуализируется и потребность в дебатах по пово-ду программ и мероприятий социальной политики, в оценке эф-фективности на всех уровнях ее реализации. Анализ политики на уровне принятия решений и их воплощения в конкретных учреж-дениях и проектах становится насущной потребностью. Полити-ческому деятелю нужно уметь объяснять на языке цифр, на языке исследований, в чем заключается та или иная стратегия, почему она была принята, доказать, что действия, осуществляемые в рамках этой стратегии, не навредят кому-либо. А директору ин-терната потребуется сделать расчеты и обосновать, на что истра-тить полученные фонды – на асфальтирование стоянки, финскую сантехнику или на развивающие игры для воспитанников и пере-подготовку сотрудников по новым методикам обучения детей,которых по старинке считают «необучаемыми». Руководитель социальной службы должен вскоре будет определять стоимость и качество предлагаемых его организацией услуг, учитывая мне-ние потребителя, ресурсы и квалификацию персонала. И наконец,лишь те социальные работники, которые будут располагать адек-ватными эффективными инструментами решения своих профес-сиональных задач, будут пользоваться уважением и спросом в обществе.
Сбор данных или приближение к опыту?Израильские исследователи А. Зейра и А. Розен считают, что
повседневное знание (tacit knowledge), которое не обязательно вы-ражается при помощи языка (его нужно ощутить, чтобы понять), играет большую роль в деятельности социальных работников
283
[Zeira, Rosen, 2000]. Это «практическая мудрость», «жизненный опыт», теория, неявно содержащаяся в повседневном практиче-ском действии, молчаливо подразумеваемые установления в ру-тине социальной работы. Это знание нам доступно только через опыт практиков.
А как быть, если в роли практиков выступают теоретики?Если практикующие профессионалы имеют навыки аналитиче-ской рефлексии и регулярно обсуждают свой опыт, прошли под-готовку в вузе или на специально организованных тренингах,имеют опыт преподавания и исследовательской работы? Некото-рые практики даже в ситуации неструктурированного интервью стремятся описывать их практику в терминах формальной тео-рии. Можно ли воссоздать картину практики в наиболее «сы-рых», приближенных к реалиям терминах, максимально прибли-зиться к опыту, не удовольствуясь клишеобразными ответами,которые можно прочитать в инструкциях или положении об ор-ганизации?
Для этого существуют так называемые естественные методы понимания ситуации: этнография, понимающая методология – конкретные контексты жизненного опыта людей; укорененная,или обоснованная, теория (grounded theory), формируемая из опыта респондентов; рефлексивная практика, поощряющая практикующих работников на создание теории; нарративный и дискурсивный анализ – развитие теорий, имплицитно содер-жащихся в практике, посредством интерпретации текстов, пред-ставляющих тот или иной опыт; акционистские методы, при ис-пользовании которых теории создаются в практическом контек-сте, в процессе постоянного взаимодействия и развития; парти-сипаторные и коллаборативные подходы, позволяющие создавать теории из практики посредством сотрудничества и диалога меж-ду исследователями и практиками. К опыту имеет смысл при-ближаться разными путями и с разных углов зрения, задавая во-просы на предельно эмпирическом уровне. Вот почему Жан Фук настаивает на выражении «приближение к опыту» взамен «сбора данных». Для этого применяются качественные, этнографические,рефлексивные методы, подход обоснованной, или укорененной,
284
теории (grounded theory), качественный анализ и интерпретация текстов, а также акционистские, партисипаторные и коллабора-тивные исследования.
Рассмотрим, например, следующий вопрос качественного интервью: «Каким образом Вы оцениваете потребности клиента в помощи?». Этот вопрос позволяет информанту обратиться к существующим и используемым в повседневной работе офици-альным, формальным инструкциям. Попробуем заменить его во-просами следующего типа: «Что Вы увидели (почувствовали, по-думали, произнесли), когда впервые пришли домой к клиенту?Почему именно такие слова (почему испытали именно такие чув-ства, почему прозвучали именно такие оценочные высказыва-ния)?». Ответы на подобные вопросы побуждают информанта активизировать воспоминания на уровне эмоций, ощущений, не-посредственно испытанных в конкретной ситуации, вспомнить первые впечатления, а также последующую рационализацию,теоретизацию увиденного и услышанного в доме клиента, кате-горизацию его (или ее) состояния или поведения в соответствии с выработанной на практике экспертизой. Подобный результат нам удалось получить в исследовании социальной работы с про-блемой бедности [Ярская-Смирнова, Романов, 2004], когда, на-пример, метафора «запах бедности» вывела нас на повседневные теории, используемые для «подгонки» сложной реальности чело-веческих отношений к жестким задачам классификации клиентов на достойных и недостойных.
Кстати, подобные подходы к классификации клиентов хоро-шо знакомы и зарубежным социальным работникам, на деятель-ность которых повлиял в конце ХХ века упомянутый выше ме-неджерализм. Лена Доминелли, ссылаясь на М. Фуко, аргументи-рует критику этого периода развития профессии следующим об-разом. Власть предполагает репрезентацию, и наименование предполагает акт применения власти репрезентации и инклюзии (или эксклюзии). Те явления, которые не названы, остаются не-видимыми и маргинальными. Категоризация людей на «достой-ных» или «недостойных» представляет яркий пример власти на-именований, которая затушевывает нужды тех, кто оставлен
285
без внимания, посредством простого акта маркирования их как «незаслуживающих» или «недостойных». Посредством наимено-вания социальные работники нормализуют определенные типы поведения и маргинализуют других. Доминелли вслед за Фуко в этой связи говорит о том, что клиенты становятся субъектами технологий управленитета, начиная контролировать себя само-стоятельно, относясь к себе как к фрагментированным и атоми-зированным существам, изолированным от остальных. Посредст-вом дифференцированной инклюзии социальные работники по-ощряют индивидов выбирать для себя такие модели идентично-сти, которые можно было бы назвать ограниченным типом граж-данства «достойных» бедных. Подобная инклюзия происходит за счет тех, кого маркировали как незаслуживающих. Дифферен-циация бедных как достойных и недостойных оказалась очень полезной для научной рационализации ресурсов. Будучи полез-ной для экономии ресурсов, идеологии управленитета создают разрыв между клиентами и социальными работниками. Ввиду этого клиенты относятся к практикам не как к источнику помощи в ситуации нужды, а воспринимают как преграду, которую им необходимо преодолеть, чтобы получить нужные им услуги [Dominelli, 2004. P. 43–44].
Австралийская исследовательница социальной работы Жан Фук указывает на опыт совместного анализа видеозаписи семей-ного консультирования: исследователь и семейный терапевт про-сматривают документальный материал и обсуждают критические моменты рабочей ситуации, причины, побудившие консультанта предпринять то или иное действие. Она же предлагает следую-щие принципы приближения к практике: стремиться к возможно более конкретным описаниям; избегать формальных теоретиче-ских терминов; снижать влияние существовавшей прежде фор-мальной теории; постигать и достигать практику разными спосо-бами; повышать соответствие между методом доступа к опыту и практическим опытом самим по себе, включать перспективы практиков и исследователей [Fook, 2000].
Вместе с тем мы полагаем, что, задавая вопросы метауровня,можно, во-первых, доверить практикующим профессионалам
286
право обобщать и анализировать, а во-вторых, понять, какие смыслы вкладывают наши информанты в понятия, не относящие-ся к их непосредственному опыту. Так, пытаясь выяснить смыслы понятия «теория» для практиков, мы задавали администраторам социальных служб вопрос о том, какие теоретические знания не-обходимы в работе им и их сотрудникам. Ответы указывали на специфическое понимание теории, отличающееся от такового у представителей академической науки:
Ну, конечно, новые постановления, решения нормативные; Знание ос-новных документов. И конечно, все вот эти льготные постановления.То, что требуется для наших пенсионеров, чтобы для них оформлять документы, чтобы грамотно отвечать на их вопросы.
Здесь теория предстает в виде нормативно-кодифицирован-ного знания правового характера. Это объясняется тем, что как повседневная деятельность, так и задачи значительной части со-циальных сервисов складываются в условиях решения задач на уровне простого социального обеспечения, когда от социаль-ного работника требуется только распределять льготы, пособия,материальную помощь. Критическая социальная работа, напри-мер, отстаивание прав клиентов в средствах массовой информа-ции, влияние социальных работников на процессы социальной интеграции, уменьшения эксклюзии на основании этничности,расы, дохода требуют других теоретических знаний и другого уровня рефлексии. Эти знания пока недостаточно востребованы профессией, однако вне такой рефлексии на уровне практики трудно ожидать повышения статуса и роли социальной работы в обществе, особенно в условиях социального кризиса, пережи-ваемого российским обществом.
Совладание с неопределенностью:вместо заключения
В заключении мы хотели бы обсудить сферу применимости теоретизации практики и полезность такого рода исследований.В других случаях лишь специально подготовленным исследова-телям под силу раскрыть те или иные вопросы в определенной теоретической перспективе. Некоторые теории могут быть развиты
287
и использованы только посредством совместных усилий практи-ков и исследователей. Но для кого и для чего может быть полез-ной теория, развитая из практики? Кому нужны результаты ис-следований, и как сделать, чтобы с ними считались?
Ввиду того, что разные акторы прибегают к различным спо-собам получения знания, приемы и задачи изучения практическо-го опыта должны соответствовать характеристикам исследовате-ля. Следует отметить, что в некоторых случаях постановка иссле-довательских задач такова, что их возможно решить только при помощи практиков, имеющих непосредственный уникальный опыт социальной работы. Кстати, в этом аспекте необходимо иметь в виду и то, что каждый из нас – практик или теоретик – может получить лишь частичный и выборочный доступ к целост-ному опыту, что обусловлено ограниченностью индивидуальной,профессиональной или методологической перспективы.
Теоретизация практики вносит важный социальный вклад в деконструкцию тех социальных иерархий, которые создаются и воспроизводятся в обществе благодаря неравному доступу к ин-формации и владению знанием. Традиционная власть профессио-нального знания придает больший вес исследователю в сравне-нии с практиком или практику в сравнении с клиентом. Любая профессия в классическом понимании предполагает монополию и привилегированность специализированного знания, тем самым все остальные виды знания полагаются более «низкими», «при-земленными» по сравнению с «высоким» знанием эксперта-профи. Качества подотчетности и прозрачности, отличающие подходы к теоретизации практики, позволяют передавать смыслы и трансформировать практику, деконструировать абсолютную власть академических исследований. Исследования в направле-нии теоретизации практики позволяют слышать, ценить и вклю-чать голоса практиков, признавать их собственный вклад в ос-мысление их личного практического опыта. Очень важно, чтобы этому способствовала организационная культура и вся среда профессии, в частности, система подготовки социальной работе.
Необходимая в таком случае модель подготовки базируется на представлении о критическом знании по Ю. Хабермасу
288
и включает, в частности, партисипаторные методы преподавания [Романов, Ярская-Смирнова, 2004]. Партисипаторный подход предоставляет целый ряд приемов для развития демократических процессов и децентрализации контроля не только в образовании,но и в исследованиях, непосредственно связанных с социальной политикой и социальной работой. Что касается преподавателей,приверженных данному методу, то они включают учащихся в разработку учебного плана или программы курса, а также при-меняют в своей педагогической деятельности такие приемы, ко-торые позволяют повысить участие студентов в поиске, произ-водстве и рефлексии знания по предмету.
Высшее профессиональное образование в области социальной работы:Опыт и проблемы М.: МГСУ, 2002.
Гогель С. Подготовление к благотворительности // Антология социаль-ной работы / Сост.М.В. Фирсов.М.: Сварогъ-НВФ СПТ, 1994. Т. 1.
Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта.М.: Ин-т социологии РАН: Ин-т фонда «Общественное мнение», 2004.
История российских социальных служб: 300 лет: Хронограф / Под ред.В.И.Жукова, Г.Н. Кареловой.М.: МГСУ, 2001.
Кларк Дж. Неустойчивые государства: трансформация систем социаль-ного обеспечения // Журнал исследований социальной политики.2003. Т. 1. № 1.
Клепиков А. Девальвация ответственности // Эксперт. № 38(195). При-ложение «Северо-Запад», 11.10.2004.
Международное сотрудничество в области подготовки социальных ра-ботников: вопросы теории и практики: Тез. и материалы междунар.симпозиума. Волгоград, 8–9 дек. 1997 г. Волгоград: Перемена, 1998.
Образовательные технологии в педагогике высшей и средней школы / Под. ред. Н.Б.Шмелевой, Т.З. Биктимирова, С.Н.Митина. Ульяновск:УлГУ, 2001.
Ржаницына Л. Курс на экономию социальных расходов // Человек и труд.2004. № 11. С. 25–28.
Романов П.В. Политика управления социальными службами // Социаль-ная политика социального государства. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ,2002. С. 356–367.
Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Социология тела и социальной по-литики // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 2. С. 115–137.
289
Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова.М.: ИНИОН РАН, 2002.
Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: Обосно-ванная теория: процедуры и техники.М.: УРСС, 2001.
Формирование конкурентоспособного специалиста для социальной сфе-ры: Сб. науч. тр. / Под ред. акад. РАО Г.В.Мухаметзяновой. Казань:ИСПО РАО, 2001.
Холостова Е.И., Щукина Н.П. Нет такой профессии – специалист: (Со-циальная работа глазами клиента социальной службы). М.: Социаль-но-технол. ин-т, 2001.
хукс б. Наука трансгрессировать: Образование как практика свободы // Гендерные исследования. № 2 (1/1999).
Шардлоу С.М. Напряженности и конфликты в образовании по социаль-ной работе в ВеликобританииTP PT// Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2. № 3.
Шютц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // Альфред Шютц. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7–50.
Юлиусдоттир С., Петерссон Я. Общие стандарты по образованию в области социальной работы в странах Северной Европы – к поста-новке проблемы // Журнал исследований социальной политики.2004. Т. 2. № 3.
Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в Рос-сии // Социс. 2001. № 5. С. 86–95.
Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в Рос-сии // Строительство мостов: социальная работа в изменяющихся обществах и культурах. Архангельск: АГМА, 1999а. С. 59–60.
Ярская-Смирнова Е.Р. Рефлексирующий практик – модель профессио-нализма в социальной работе // Высшее профессиональное образо-вание в области социальной работы: опыт и проблемы. М.: Изд-во МГСУ, 2002. С. 201–211.
Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа в России: профессиональная идентичность // Социальные проблемы образования: методология,теория, технологии. Саратов: СГТУ, 1999б. С. 92–102.
Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная защищенность городской монородительской семьи // Мир России. 2004. Т. XIII. № 2. С. 66–95.
Beresford P., Croft S. Service users’ knowledges and the social construction of social work // Journal of Social Work. 2001. 1(3). P. 295–316.
Council of Europe. The role, training and status of Social Workers. Resolu-tion (67) 16. 1967. 29th June.
Dominelli L. Social work. Theory and practice for a changing profession. Cambridge: Polity Press, 2004.
290
Fook J. Theorising from Frontline Practice. Towards an Inclusive Approach for Social Work Research // Researching the Social Work process 11P
thP
July. 2000 Luton / Thttp://www.elsc.org.uk/socialcareresource/tswr/seminar6T /fook.htm.
Glaser B.G., Strauss A.L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies of Qualitative Research. Chicago: Aldine and Atherton, 1968.
Greenwood E. Attributes of a Profession // Social Welfare Institutions / M. Zald (Ed.). London: Wiley, 1965. P. 509–523.
Hall B.L. Participatory Research, Popular Knowledge and Power: A Personal Reflection // Convergence. 1981. Vol. XIV. № 3. P. 6–19.
Jones S., Joss R. Models of Professionalism // Learning and Teaching in So-cial Work / M. Yelloly, M. Henkel (Eds). London; Bristol: Pennsylvania: Jessica Kingsley Publishers, 1995. P. 15–33.
Juhász B. The Unfinished History of Social Work in Hungary // History of Social Work in Europe (1900–1960): Female Pioneers and their Influence on the Development of International Social Organisations / S. Hering, B. Waaldijk (Eds). Verlag Leske und Budrich, 2003.
Kolb D.A. Experiential Learning. Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice Hall, 1984.
Millerson G.L. The Qualifying Association. London: Routledge & Kegan Paul, 1964.
Morgan D.H.J., Scott S. Bodies in a social landscape // Body matters: essays on the sociology of the body / S. Scott, D. Morgan (Eds). London: Falmer Press, 1993.
Närhi K. Transferable and negotiated knowledge. Constructing social work experience for the future // Journal of Social Work. 2002. 2(3). P. 317–336.
Payne M. Knowledge Bases and Knowledge Biases // Journal of Social Work 2001. 1(2). P. 133–146.
Payne M. Modern social work theory: a critical introduction. London: Mac-millan, 1991.
Peterson E., Plowmen G. Business organization and management. N. Y., 1959. Reeser L.C., Epstein I. Professionalization and Activism in Social Work: The
Sixties, the Eighties and the Future. New York: Columbia University Press, 1996.
Sainsbury E. Client Studies: their contribution and limitations in influencing social work practice // British Journal of Social Work. 1985. 17(6). P. 635–644.
Schon D. Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey Bass, 1987.
Schon D. The Reflective Practitioner. New York: Basic Books, 1983. Shaw I. Evaluating in Practice. Aldershot: Ashgate, 1996. Shaw I. Evidence for Practice. Aldershot: Ashgate, 1999.
291
Spencer S.W. The administrative process in social welfare agency // Social welfare administration / E. W. Reed (Ed.). New York: Columbia Univer-sity Press, 1961.
Stein H. Social work administration // Social work administration: a resource book / H. Schatz (Ed.). New York: Association Press, 1971. P. 24–25.
Taylor C., White S. Knowledge, Truth and Reflexivity. The problem of judgement in social work // Journal of Social Work. 2001. 1(1). P. 37–59.
Weimer D.L., Vining A.R. Policy Analysis. Concepts and Practice. Engle-wood Cliffs (NJ), 1992.
Zeira A., Rosen A. Unraveling «tacit knowledge»: What social workers do and why they do it // Social Service Review. 2000. 74(1). P. 103–123.
ГАЛАТЕИ СОЦИОЛОГИИ:СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОВЛЕЧЕННОСТИ
В АКАДЕМИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ
Татьяна Сафонова
В данном эссе рассматривается первый этап карьеры мо-лодого петербургского социолога-исследователя, приходящийся на конец XX и самое начало XXI веков, в течение которого нови-чок погружается в мир современной социологии и становится членом профессионального сообщества. Тот факт, что рекрути-рование в профессию происходит во время учебы в университете,но почти неизбежно заставляет новичка искать выходы за его пределы, создает некоторое количество проблем, о которых здесь и пойдет речь.
Первые проблемы на пути новичка связаны с тем местом, ко-торое учебное заведение занимает в его повседневной жизни.На протяжении всей учебы университет или колледж оказывают постоянное давление, навязывая определенный ритм жизни, цен-ности и правила. Новичка ждет огромное количество стрессов,связанных с получением и проверкой его знаний. Так как отноше-ния «студент – преподаватель» требуют постоянного соблюдения дистанции, новичок практически лишен эмоциональной поддержки и участия со стороны преподавателей в рамках формального
292
обучения. Студенческая субкультура TP
1PT – это приспособление
к подобной ситуации. Уже через некоторое время после поступ-ления в учебное заведение студенты расстаются с наивно идеали-стическим представлением о выбранной профессии, которое бы-тует в кругах непрофессионалов, в пользу подхода, ориентиро-ванного специфически на то, чтобы справиться с учебой TP
2PT. В этот
момент их референтную группу составляют такие как они и более опытные старшие студенты.
Момент столкновения студента с буднями выбранной про-фессии очень важен и эмоционален, так как связан с развенчани-ем идеальных образов. Здесь не столько подразумевается обяза-тельная учебная практика, которая в большинстве заведений до-вольно искусственна и фальшива, сколько рекрутирование но-вичков как первое полноценное вступление в мир профессии.В разных сферах этот момент относится к разным этапам образо-вания. Медикам нужно пройти довольно долгий путь, прежде чем они получат разрешение самостоятельно пользовать больных и нести за это ответственность. Художники, напротив, включаются довольно рано в профессиональную деятельность TP
3PT. Потребность
в личном участии и эмоциональной поддержке при первых про-фессиональных шагах новичка находит свое отражение в суб-культуре и выражается в поиске такого участия на стороне, а не
TP
1PT Здесь этот термин относится к довольно широкому кругу явлений, начиная
с культуры совместных праздников, практик шпаргалок и бомб, антикварных кон-спектов, что передаются из поколения в поколение, и заканчивая сплетнями и анек-дотами, относящимися к персонам преподавателей, которые ходят в студенческом обществе, – то есть всему арсеналу средств приспособления к процессу вторичной социализации.
TP
2PT Студенческая субкультура зависит от ситуации и изменяется при появлении
новых целей и трудностей. Беккер провел параллель с тюрьмой, в которую пре-ступники в большинстве случаев попадают раскаявшимися, но потом под влиянием неформальных лидеров проникаются еще более криминальными настроениями, что проходит к моменту освобождения, когда они ориентируют свое поведение уже не на тюремную, а снова на свободную жизнь. То же происходит и со студентами,которых покидают радикальные настроения против института при приближении выпускных экзаменов, и на первый план выходят конкретные переживания по по-воду трудоустройства [Becker, 1964]. Исследование тюрьмы, на которое ссылается Беккер, проводилось Вилером [Weeler, 1961].
TP
3PT Исследование этого вопроса представлено в статье Стросса [Strauss, 1971].
293
в рамках формальных отношений с преподавателями. Эту под-держку новичок часто находит у рекрутера, который не обреме-нен обязанностью преподавателя держать дистанцию. Рекрутеру достается довольно сырой материал, если можно так выразиться,из которого необходимо вылепить нового специалиста. В этой си-туации его можно сравнить с Пигмалионом, который создает Га-латею. Такое сравнение, как будет видно далее, распространяется и на сферу межличностных отношений рекрутера и новичка. Рек-рутер в большинстве случаев принадлежит к среде практикую-щих, а не преподающих профессионалов и владеет конкретными прикладными навыками и ресурсами. Кроме того, его профессио-нальный путь может служить наглядным примером профессио-нальной карьеры вне образовательного института. Последняя в современных петербургских условиях выглядит более привлека-тельной для новичка прежде всего по финансовым соображениям.
Профессиональное образование постоянно сталкивается со сложностями при подготовке специалистов, так как оно в лице преподавателей склонно строить учебные планы и программы,ориентируясь на некий идеальный образ профессиональной дея-тельности TP
1PT. Поэтому студенты не всегда оказываются достаточ-
но подготовленными к тому реальному миру, в котором им пред-стоит работать TP
2PT. Это свойство своего образования студенты
осознают довольно рано, если им приходится сталкиваться спрофессиональной практикой. Безразличнее всего к нему отно-сятся те, чьи жизненные планы не включают работу по получен-ной специальности, и для кого университет представляет собой эскалатор, ведущий к выгодному браку или к карьере на другом поприще, либо играет роль своеобразного хобби.
TP
1PT Данное замечание относится не только к локальному контексту, но и к инсти-
туту профессионального образования вообще [Becker, 1970a]. TP
2PT Такое наблюдение сделал Говард Беккер во время исследования студенческой
культуры в медицинском колледже. В частности, он заметил, что никто из студен-тов-практикантов не знал, что делать, если в приемном покое ожидает помощи слишком много больных. Так как врач, согласно сложившемуся идеализированному образу врачебной практик, не занимается оптимальным распределением больных по палатам, а только лечит, преподаватели колледжа ни разу не коснулись этой проблемы в рамках учебных курсов [Becker, 1970a].
294
Рекрутирование молодых социологов Автор основывается на автоэтнографическом анализе собст-
венного опыта, а также на материалах исследования академиче-ской социализации TP
1PT. Изучались случаи петербургских социоло-
гов TP
2PT, момент рекрутирования которых пришелся на середину
девяностых и позже. Теоретическую выборку составили шесть девушек и двое юношей, – все выпускники факультета социоло-гии СПбГУ, кроме одного случая, когда был окончен Санкт-Петер-бургский государственный университет экономики и фи-нансов (ФИНЭК). Далее все случаи сравнивались и анализирова-лись согласно стратегии «приземленной теории» Глэзера иСтросса [Glaser, Strauss, 1967].
Рассматриваемые случаи можно отнести ко второму поколе-нию отечественных социологов, следуя терминологии Эверетта Хьюза, который описал институциализацию новой профессии [Hughes, 1958. P. 157–159]. Первыми практикуют новые занятия люди, пришедшие из других специальностей. Молодые редко ос-новывают новые профессии. Скорее это делают более зрелые лю-ди, которые видят новые потребности и новые возможности.Иногда они погружаются в новое занятие, не отдавая себе отчет в том, что это профессия, и только потом осознают важность пе-ремены. В других случаях это харизматические лидеры, апосто-лы, полные энтузиазма, распространяющие свет нового знания.В какой-то момент они осознают себя членами одной группы,после чего принимаются за сотворение правил и условий входа в новое сообщество для последователей, для второго поколения.Параллельно с правилами им необходимо создать основания для привлечения новичков младшего возраста, средства их обучения,тренировки и проверки, условия того, чтобы новые специалисты могли отдаваться полностью новой профессии и только ей.
Поскольку профессия только начинается, профессиональное образование страдает пороками идеализаций. Ко всему прочему,
TP
1PT Я благодарна Федору Погорелову (СПбГУ) за предоставленные интервью.
TP
2PT Представителей крупных организаций, существующих сейчас в Петербурге,
а именно НИИКСИ, ИСРАН, факультет ПНИС ЕУ, факультет социологии СПбГУ,ЦНСИ.
295
в российском контексте люди, обеспечивающие первую подго-товку новобранцев, часто сами не имеют опыта исследователь-ской деятельности. Следовательно, они обладают абстрактным знанием о преподаваемой дисциплине и могут служить образцом только преподавательской карьеры. Последняя, в силу некоторых причин, прежде всего экономических, менее соблазнительна для новичков по сравнению с исследовательской. В такой ситуации ставка делается на самообразование и общение с опытными, во-влеченными в исследования профессионалами, которые в Санкт-Петербурге, как правило, находятся за пределами учебных заве-дений. Часто такими контактными лицами становятся те самые апостолы, которые составляли костяк первого поколения. По-следние обладают достаточным опытом, регалиями и ресурса-ми, так что могут поделиться тем, что на факультете просто не водится.
В данном случае последние исполняют роль рекрутеров, они не учат, но предоставляют возможность учиться самому, участ-вуя в исследованиях, семинарах и конференциях. В большинстве случаев они помогают получить первые гранты и выиграть учеб-ные стажировки за границей. Окончание факультета при этом ос-тается обязательным условием для вступления в профессио-нальное сообщество, так как диплом необходим для получения последующих степеней. Отношения с рекрутером могут доволь-но ощутимо подорвать доверие к факультету, они встраиваются в студенческую субкультуру, так что поиск и обращение к рек-рутеру со временем становятся традицией. Наиболее распро-страненной формой рекрутирования является семинар, посто-янные научные собрания группы активных и интересующихся студентов вокруг рекрутера TP
1PT. В группе новичкам легче одно-
временно справляться с наложением процессов учебы и рекру-тирования.
В какой-то момент личность рекрутера становится очень значимой для рекрутируемых, так как он олицетворяет собой
TP
1PT Роль подобных форм взаимодействия в интеллектуальном развитии науки
подробно рассматривается в недавних работах Рэндалла Коллинза [например, Кол-линз, 2002].
296
выбранную профессию и перспективу. Ситуация вербовки нахо-дит свое место в субкультуре и обрастает дополнительными зна-чениями и коннотациями. Подчас она может обернуться культом личности рекрутера. Харизматичность его лидерства поддержи-вается еще и тем, что с ним ассоциируется искушение будущей профессией. За выполнением определенных поручений и заданий может последовать реальное вознаграждение, материальное или символическое, зарплата, признание в сообществе и даже слава.Часто такие задания формально схожи с теми, что студент дол-жен выполнять в университете за просто так, что окончательно смущает рекрутируемого, подрывая остатки энтузиазма по пово-ду учебы. Рекрутер действует как бы на чужой территории, вер-буя и совращая лучших и самых активных неофитов. Поддержи-вая отношения с рекрутером, студенты вступают в некий сговор,который нельзя афишировать в родной Alma Mater, чтобы это не повредило участникам заговора. Такие отношения могут быть опасны для преподавателей, так как коллеги не поощряют само-вольное сокращение дистанции в отношениях преподаватель – студент; такой прецедент, с их точки зрения, грозит разрушением порядка субординации в целом. На этой благодатной почве рас-цветают интриги как политические, так и любовные, в которых молодежь участвует с особым удовольствием, так как все это создает ощущение жизни и активности, которые в большей сте-пени соответствуют их идеальному образу профессии и студен-ческой жизни. Это зрелищный и захватывающий аттракцион, за-манчиво отличающийся от рутинного учебного процесса на род-ном факультете:
Я сходила к N и просто зацепилась, потому что понравилась та модель отношений. Потому что там везде было болото, чем отличался X и та группа людей, которая была вокруг X – они действительно хотели что-то делать. Ты это видел, ты это чувствовал. Не ощущение, что погряз-нешь в какую-то тину и сейчас засосёт. Дома у N, – Вы были у N? – там безумное количество книг, всё время кипит жизнь, приходят ка-кие-то люди, обсуждают совершенно разные проблемы. Ощущение,что это среда, где всё время что-то происходит P
1P.
TP
1PT Здесь и далее в таком формате представлены выдержки из интервью.
297
Несмотря на коллективность подобного действия и на то об-стоятельство, что у рекрутера может быть довольно много ново-бранцев, отношения эти сугубо индивидуальные. Между рекру-тером и каждым его новичком существует неартикулированный договор, некие правила игры, контракт, в котором подразумева-ются права и обязанности сторон, сроки и условия действия ирасторжения. Эти позиции нигде не прописаны, их идентифика-ция – это часть сложного порядка интеракции между рекрутером и новичком:
Он сказал, что нужно пройти этап рутинной работы, я знала, что за этим последует, он посадил меня за газеты, и я классифицировала упоминания о всех протестных явлениях и выписывала на карточки.Это ** год. Этим я занималась три месяца, не была счастлива, но по-нимала, что таковы правила игры – за это я получаю возможность пользоваться его базой и его материалами, которые тоже просто так не собираются.
Контракт должен быть непременно взаимовыгоден, иначе эти отношения расстраиваются и обрываются. Не исключено, что впоследствии удачные контракты перерастают в искреннюю дружбу, но происходит это уже после окончания его действия,так как контрактные отношения связаны с риском негативных санкций со стороны коллег и преподавателей для обеих сторон.
Контракт опытного социолога (далее именуемого рекрутер)и молодого социолога (далее именуемого новичок)1. Предмет контрактных отношений:Рекрутирование новичка в профессию под патронажем рекрутера.
2. Обязательства сторон:2.1. Рекрутер обязуется:
− передать новичку необходимые практические навыки (например, работать с его текстами, помогая обрести но-вичку свой стиль и уверенность);
− способствовать публикациям работ новичка;
298
− беседовать с ним о науке и социологии в особенности;− познакомить его с представителями первого поколения и с наиболее успешными представителями второго;
− предоставить рекомендации (научить писать их себе са-мому) и прочее, необходимое для гарантии репутации новичка;
− оказать всевозможную помощь по поиску заграничной стажировки, исследовательского гранта и прочего;
− включить новичка в свой исследовательский проект, ли-бо помочь найти ему профессиональный заработок.
2.2. Новичок обязуется:− сохранять верность своему рекрутеру и отдавать пред-почтение ему, при появлении альтернативных рекруте-ров (на протяжении действия контракта);
− повышать индекс цитируемости рекрутера всеми воз-можными способами;
− выполнять разные поручения и черную работу (транс-крибирование и ввод данных);
− слушаться во всем рекрутера и поддерживать его ини-циативы;
− поддерживать в себе искру божью и блеск в глазах;− постоянно совершать всякие достижения и быть благо-дарным TP
1PT.
3. Срок действия, изменение и расторжение контракта:Контракт вступает в действие с момента появления взаимной
симпатии и научной заинтересованности сторон; далее он может пересматриваться в зависимости от тех ресурсов, которые попа-дают в распоряжение участников; расторгается при невыполне-нии одной стороны своих обязательств или же по обоюдному со-гласию по окончании рекрутирования.
TP
1PT В западной социологии эти отношения строятся в рамках теоретической шко-
лы, так что здесь должен был бы быть еще один пункт, а именно: «продвигать и развивать теорию учителя-рекрутера». Но так как в наших условиях мало кто из рекрутеров может обеспечить новичка собственной теорией, которую тот был бы обязан развивать, этого пункта в отечественном контракте нет.
299
Первые шаги в профессии: береги честь смолоду Основным способом обучения и вовлечения в мир профессии
остается подражание, именно поэтому так судьбоносна личность рекрутера для всей карьеры новичка в будущем. Вызвать желание подражать – это одна из задач рекрутера. Для достижения этой цели в ход идут различные приманки, в первую очередь это экст-равагантный стиль жизни, свобода нравов, демократичность, пу-тешествия и пр., – все то, что так привлекает молодого, неопыт-ного и зависимого новичка.
Так как контракт никогда не озвучивается, но подразумева-ется и сопряжен с риском для сторон, его выполнение требует доверия в отношениях партнеров. Для этого необходимо сокра-тить дистанцию, вызванную положением рекрутера и новичка в профессиональном сообществе, а также разницей в годах и на-копленном опыте. Для этого рекрутер приглашает новичка к себе домой, знакомит его с членами своей семьи, просит обращаться к себе полуофициально, без отчества, или предлагает перейти на «ты». Очень способствуют сокращению дистанции посиделки в питейных заведениях. Но в этой ситуации кроется довольно опасная ловушка, в которую могут угодить как рекрутер, так и новичок TP
1PT. Этой ловушкой является флирт. Прежде всего пото-
му, что этот путь представляется более легким, и даже может быть более эффективным, по сравнению с подражанием, спосо-бом вовлечения в профессиональный мир. Впоследствии эта ошибка может губительно сказаться на всей карьере новичка, так как неизбежно нарушается строгость соблюдения контракта и сбалансированность отношений. Слишком сильное сокращение дистанции, в данном случае, ведет к трансформации контракта,прежде всего предмета договоренности. Изменяются и последст-вия его расторжения, они могут стать более губительными для репутации одной из сторон. Навыки и ресурсы, как правило, не накапливаются за это время в багаже новичка, так как меняется мотивация к труду и непосредственной учебе. В первую очередь
TP
1PT В большинстве случаев далее под новичком подразумевается молодая девуш-
ка-социолог.
300
это происходит из-за искушения легкой добычи, когда рекрутер предоставляет ресурсы и связи, не требуя приложения сил со сто-роны новичка. А во вторую очередь из-за того, что новичок больше не конкурирует с другими новичками за звание любимого ученика. Как следствие, он не способен обходиться без рекрутера и либо переходит к следующему рекрутеру, либо профессиональ-ное сообщество выталкивает его из своих рядов, отказывая в ра-тификации капиталов. Сеть знакомств, приобретенная в такой ситуации, оказывается не актуальной, так как рекрутер, обере-гающий свою репутацию, не станет подвергать себя опасности и интегрировать новичка в круги значимых для него коллег.В научном сообществе ум, эрудиция и знания являются капита-лом не менее ходовым, чем наличные деньги, а поэтому неустав-ные отношения неравных обладателей сего капитала рассматри-ваются исключительно как мезальянс. Здесь, по ситуации, и рек-рутер и новичок, оба могут быть заподозрены в использовании своего контрактного партнера. Только начинающая складываться репутация новичка может быть подорвана окончательно. Поэто-му даже невинные проявления флирта могут строго караться,во многом чтобы сберечь неосведомленного об опасностях новичка.
Опасность флирта особенно актуальна, так как в отношениях рекрутера и новичка часто фигурирует влюбленность, причиной которой являются интерпретации обстоятельств рекрутирования.У этого чувства в данных отношениях своя довольно интересная судьба, можно сказать, что оно неизбежно и неизбежно запретно.Райт Миллс предполагал, что словарь мотиваций – это набор ра-ционализаций, репертуар мнений, которым мы пользуемся, когда нас спрашивают, зачем мы или кто-либо еще что-то делаем [Mills, 1940]. Впоследствии наш ответ влияет на собственные действия и действия окружающих, но изначально он не является внутренней причиной поступков. Скорее, мотив – это часть си-туации, в которой нам задают вопрос о нем. Новичок вступает в отношения с рекрутером, пользуясь бедным словарем мотива-ций для объяснения своих чувств и поступков, так как за плечами у него неразнообразный опыт. Наиболее актуализированным сло-варем для новичка, особенно для девушки, является словарь
301
влюбленности, порывов и увлечений, а со словарем профессио-нальных мотиваций она знакома мало. К тому же сами профес-сионалы, подчас не отдавая себе отчет или же иронизируя, поль-зуются словарем любви для объяснения своих поступков:
Я хотела к M. Он хотел меня, все было мило, но тут появился S и ска-зал: «Я возьму её». – И всё.Меня отдали S, до сих пор простить не мо-гу никак, потому что считаю, что сM диссертация была бы лучше.
Если учитывать, что симптомами любви считаются постоян-ные мысли о субъекте, стремление проводить с ним как можно больше времени и разделить, если удастся, остаток дней, то со-вершенно предсказуемо, что новичок интерпретирует свое чувст-во и привязанность к рекрутеру как любовь. Надо отметить, что рекрутер являет собой образец для подражания и профессиональ-ную перспективу самого новичка, он увлекает и зовет новичка отправиться вместе с ним в мир профессии, соблазняет и искуша-ет. Неопытные души новичков обречены на страдания. Если учи-тывать, что все это происходит в коллективе, состоящем из не-скольких новичков одновременно, все эти страсти разжигаются с большей силой из-за конкуренции. Рекрутер сам может стать жертвой своего очарования, так как настойчивые интерпретации новичков не могут не повлиять на его собственное видение си-туации. Так что соблазны подкрадываются со всех сторон.
Необходимо иметь в виду, что большинство новичков изна-чально при поступлении в вуз были ориентированы на совершен-но отличные от профессиональных цели. Эти цели могли и не быть личными устремлениями новичка, но они составляли часть общих ожиданий семьи. Например, высшее образование как та-ковое повышает матримониальный капитал, который необходим невесте для выгодной партии. Семья инвестирует деньги, содер-жит новичка во время учебы или оплачивает поступление, и ожи-дает определенный результат, так или иначе настраивая свое чадо на поиск жениха. Так как сущность социологии как специально-сти мало известна широкому кругу людей, а конкурс на этот фа-культет университета ниже, по сравнению с другими факульте-тами, поступление на него часто приравнивается к поступлению
302
в университет вообще, что связано со стремлением получить высшее образование высшей пробы. Это своеобразный эскалатор,ведущий к выгодному браку, также как профессия модели или институт благородных девиц. Во время рекрутирования новичок сталкивается с противоположным видением данной проблемы;здесь поиск выгодного брака скорее отрицается как мотив, а про-цветает самостоятельность и эмансипация. Резкая перестройка планов – это довольно болезненный процесс, поэтому существует компромиссный механизм, смягчающий переход на новые рель-сы. Таким компромиссом является идея о том, что если уж муж и нужен, то он непременно должен быть социологом. Такая фор-мула значительно ограничивает круг поисков и помогает сфоку-сировать все внимание на профессиональном сообществе. Озву-чивается она, как правило, рекрутером, что подливает масло в огонь, так как рекрутер тут же рассматривается в качестве са-мого подходящего мужа-социолога.
В процессе дальнейшего профессионального становления муж-социолог становится просто неизбежностью, так как никто кроме социолога не может понять и разделить особый профес-сиональный стиль жизни, постоянные расставания из-за конфе-ренций и стажировок и потребность все время обсуждать науч-ные проблемы:
Я в то время жила с мужчиной, с которым я потом разошлась, ну про-сто потому, что не понять этих психов, которые до трёх часов ночи Фуко читают и ещё хотят поделиться, не просто прочесть, ещё и рас-сказать. Это уже чересчур. А с кем можно Фуко обсудить, только с та-кими же как ты.
В результате складывается определенный матримониальный порядок группы социологов, и мы можем охарактеризовать ее как преимущественно эндогамную.
Одним из самых распространенных способов преодоления опасности флирта с рекрутером является эмансипация новичка.Культивирование в себе феминистских принципов, например по-вышенной чувствительности к проявлениям sexual harassment (дискриминации по полу), и распространение их на ход своей обыденной жизни. Такой своеобразный жизненный проект поощ-
303
ряется профессиональным сообществом и помогает избежать опасности флирта:
…нам нужно было внушать уверенность в себе, а он, с одной стороны,это делал, и рассказывал нам, какие мы самые умные и самые хоро-шие, а с другой стороны, конкретно мне нередко говорилось, что «А там у нас создаёт атмосферу; А у нас красавица», – понимаешь? Та-кие штуки. А ты здесь не для того, чтобы атмосферу создавать, ты-то думаешь, ты здесь серьёзным делом занимаешься.
Болезненная реакция на знаки мужского внимания со сторо-ны рекрутера, апеллирующая к гендерной теории и феминисткой проблематике, подвергает отношения флирта профессиональной рефлексии и блокирует дальнейшее развитие сценария.
Профессиональный коммитмент P
1P
социолога-исследователя Специфический ход рекрутинга приводит к появлению про-
фессионального коммитмента и влияет на траекторию карьеры мо-лодых исследователей-социологов. Концепция коммитмента часто используется для объяснения последовательного TP
2PT поведения,
в частности в социологии профессии. Подробное описание самой концепции и ее места в социологической теории можно найти в статье Говарда Беккера [Becker, 1970b]. В основе коммитмента лежит ставка на стороне, то есть человек действует таким образом,что его интересы, изначально внешние по отношению к событию,в котором он участвует, прямо вовлекаются в это событие. Ком-митмент может складываться в результате общих культурных ожиданий. Например, люди боятся, что если они слишком часто будут менять работу, их сочтут сумасбродными и ненадежными,и поэтому они отказываются от выгодных предложений.
Точно так же новичок старается сохранять верность рекруте-ру, беспокоясь о своей репутации в профессиональном сообществе.Иногда во время приспособления к какой-либо ситуации человек незаметно для себя совершает несколько маленьких ставок на стороне, так что впоследствии, когда они накапливаются, он
TP
1PT Commitment – обязательство, приверженность, взгляды (англ.).
TP
2PT Consistent – последовательное, непротиворечивое, согласованное (англ.).
304
обнаруживает, что больше не обладает полной свободой выбора.Так, подражая рекрутеру, овладевая определенными методами социологического исследования и знакомясь с конкретной тради-цией, новичок не постигает прочих неактуальных для него про-фессиональных знаний. В итоге после завершения рекрутирова-ния новичок уже не столь свободен в выборе профессиональной интеллектуальной сети. Он наиболее приспособлен и востребован в сети своего рекрутера, где чаще всего и остается.
В жизни профессионального сообщества сложившийся ин-ститут рекрутинга находит свое формальное и ритуальное во-площение один раз, а именно в процедуре вступления в СПАС (Санкт-Петербургская ассоциация социологов). Дело в том, что претендент на вступление должен предоставить две рекоменда-ции членов ассоциации, которые зачитываются в слух на церемо-нии приема. Практически всегда инициатива вступления в ассо-циацию принадлежит не новичку, а рекрутеру, именно последний пишет такую рекомендацию. Любопытно, что никто из интер-вьюируемых членов СПАСа не смог вспомнить автора второй рекомендации, которого подыскивает рекрутер. Для новичка смысл всего происходящего мало понятен, так как для него нет никакой личной выгоды от членства в этой организации. Выгоду этого мероприятия сознает рекрутер, который, с одной стороны,пополняя профессиональное сообщество новыми членами, в ка-честве вознаграждения получает уважение и признательность коллег. А с другой – укрепляет позицию своей сети в городском профессиональном сообществе, что выгодно всем членам этой сети. Такая возможность существует благодаря гарантии того,что новичок останется в сети своего рекрутера и после окончания действия контракта. Эту гарантию дает описанный выше профес-сиональный коммитмент новичка. Количество рекрутированных в рамках одной сети демонстрирует другим ее потенциал и буду-щее. Чем радужнее картина будущего, тем выше современная по-зиция сети в городском социологическом сообществе.
Стартуя под патронажем рекрутера в социальной сети по-следнего, новичок, подчас незаметно для себя, затрудняет переход в другие альтернативные профессиональные сети. Кроме интел-лектуального, важно упомянуть и сильный эмоциональный
305
коммитмент, вызванный доверительными отношениями с рекруте-ром и его коллегами. Таким образом, личная верность новичка рекрутеру, обозначенная в контракте, задает направление будуще-го поведения профессионала. Все эти обстоятельства способству-ют сепарации интеллектуальных сетей петербургской социологии.
* * *В эссе был рассмотрен механизм рекрутирования молодого
специалиста в профессию на примере социологов-исследователей Санкт-Петербурга. Вовлечение в профессию происходит благо-даря рекрутеру, происходящему из кругов профессионалов, на-прямую не связанных с образовательными учреждениями. Отно-шения новичка и рекрутера требуют сбалансированности и га-рантий, что выражается в существовании имплицитного контрак-та. Последний был представлен в эссе и включает права и обя-занности сторон, условия и сроки расторжения. Сокращение дис-танции между рекрутером и новичком позволяет установить не-обходимое для такого контракта доверие, но угрожает опасно-стью флирта. Рекрутера и новичка изначально объединяет симпа-тия, необходимая для заключения контракта, которая часто пере-растает в более сильные чувства, прежде всего благодаря слова-рю мотивов, который используется неопытным новичком для ин-терпретации своих отношений с рекрутером. Флирт с рекрутером наиболее опасен для репутации новичка, так как научное сообще-ство в таком случае отказывает ему в ратификации капиталов и выбрасывает из своих рядов. В процессе рекрутирования фор-мируется профессиональный коммитмент социолога, который способствует его закреплению в интеллектуальной сети своего рекрутера, что оказывает влияние на структуру городского со-циологического сообщества.
Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуаль-ного изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
Becker H.S. Personal Change in Adult Life // Sociometry. 1964. 27 (March). P. 40–53.
Becker H.S. The Nature of a Profession // H.S. Becker. Sociological Work: Method and Substance. Chicago: Allen Lane Free Press, 1970a. P. 87–104.
306
Becker H.S. Notes on the Concept of Commitment // Sociological Work: Method and Substance. N. Y.: Allen Lane and Penguin Press, 1970b. P. 261–273.
Glaser B.G., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine, 1967.
Hughes E.C. Men and their Work. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1958. Mills C. Wright. Situated Actions And Vocabularies Of Motive // American
Sociological Review. 1940. Vol. 5. P. 904–913. Strauss A. Some Aspects or Recruitment into Visual Arts // Professions, Work
and Carries. Mill Valley, California: The Sociology Press, 1971 (1954). P. 97–106.
Weeler S. Socialization in Correctional Communities // American sociologi-cal Review. 1961. Vol. 26 (October). P. 697–712.
СОЦИАЛЬНЫЕ НЕВИДИМКИ:ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
Олег Лейбович
Антропология политики предусматривает изучение повсе-дневных практик лиц, избравших для своей профессиональной карьеры управление и организацию (management) действий уча-стников политического процесса: избирателей, магистратов, по-литических партий. В серии статей Р.Михельса, впоследствии собранных в один том под общим названием «Социологическое изучение олигархических тенденций в современной демократии», были разработаны основные подходы к исследованию генезиса и функционирования новой профессиональной группы, дейст-вующей за кулисами политической сцены, – аппаратных служа-щих: «Чем, по сути, является политическая партия? Методиче-ской организацией электоральных масс» [Michels, 1959. P. 367]. В современной социологии тема профессиональных организато-ров избирательных кампаний остается маргинальной; она вписа-на или в контекст электорального поведения граждан, или функ-ционирования партийной системы [см.: Многообразие… 2004; Шампань, 1997; Marantzidis, 1999]. Профессиональная деятельность
307
в политике складывается по тем же правилам, что и в иных об-ластях общественного производства. Исходя из этой посылки, по-пытаемся реконструировать процесс формирования новой про-фессиональной группы – организаторов политических кампаний.
Избирательные кампании представляют собой особую сферу профессиональной деятельности со свойственными ей правила-ми, техническими условиями, квалификационными требованиями и кадровым составом различной компетенции. Поскольку изби-рательные практики в нашей стране в их состязательном публич-ном виде являются новым элементом политической жизни, про-цесс их профессионализации далеко не завершен. Деятельность специалистов не лицензирована. В официальных перечнях тако-вой профессии не значится. С точки зрения закона в избиратель-ных кампаниях работают социальные невидимки. Рынки труда локализованы по регионам. Социальная организация нового вида профессиональной деятельности также далеко не современна.В ней преобладают цеховые черты: закрытость от внешнего мира,наличие социальных барьеров между мастерами (топ-менедже-рами) и подмастерьями (специалистами), доминирование личных взаимоотношений над функциональными, неполное разделение труда, наконец. В то же время кадры избирательных кампаний,конечно же, не составляют цех↵, хотя бы новообразованные. Они конкурируют друг с другом по правилам и без них, перетекают из одной команды в другую и выстраивают свою деятельность по рыночным, сугубо денежным ориентирам. В такой ситуации затруднено складывание профессионального этоса. Тем не менее профессионализация избирательных кампаний имеет место, в том числе и в регионах. В традиционалистских, квазисемейных фор-мах вызревает современная рыночно ориентированная профес-сиональная организация, внутри которой выстраивается социаль-ная иерархия по критериям компетентности, образованности и эффективности. Вершину иерархии представляют топ-менедже-ры избирательных кампаний. Попытаемся в эскизном виде пред-ставить их социально-антропологический портрет в том его ра-курсе, который является доступным исследователю, работаю-щему за пределами Садового Кольца. Речь идет о региональных
308
топ-менеджерах, точнее, о тех из них, кто функционирует в Перм-ском регионе. Автор отдает себе отчет, что в виду территориаль-ных социальных и культурных различий, эти люди вряд ли могут претендовать на роль типичных представителей высшего менедж-мента, даже регионального. Заметим, однако, что при трудностях в обмене деятельностями, общность черт, в том числе и социально-антропологических, вряд ли вообще возможно. Партикулярность практик рождает и разнообразие акторов, в них участвующих.
Источники информации, на основании которых выстроено исследование, включают в себя, в первую очередь, результаты прямого участвующего наблюдения над организаторами избира-тельных кампаний. По роду своей деятельности – исследователь-ской и практической – автор в течение 10–12 лет входил в круг людей, вовлеченных в выборные практики, менеджеров и спе-циалистов: социологов, политических консультантов, психологов и журналистов. Спорадически участвовал в работе региональной ассоциации политических экспертов, консультировал кандидатов,исполнял другие, в том числе и организаторские, функции в ходе предвыборных кампаний, иначе говоря, находился внутри сете-вых объединений, складывавшихся в г. Перми по поводу избира-тельной деятельности. Отсутствие должной дистанции, естест-венно, помешало правильной организации наблюдения: состав-лению регулярных отчетов, планированию интервью, даже свое-временной их записи и расшифровки, однако, снабжало живыми впечатлениями и, что наверное самое главное, способствовало адекватной расшифровке не только вербальных, но и невербаль-ных практик, сопутствующих этому виду деятельности, – рас-крытию ее скрытых от постороннего наблюдателя кодов. Фото-графические изображения представляют собой в большинстве своем репортажные снимки, сделанные в ходе кампаний. Эти ис-точники дополняют тексты автобиографического и рекламного презентационного характера, содержащиеся в справочнике «Кто есть кто в политической жизни Прикамья» (Пермь, 2002), а также текущие материалы местной прессы – газет «Звезда», «Новый компаньон», «Местное время», «Пермский обозреватель», публи-кации в непериодических специализированных агитационных из-даниях: «Совершенно несекретно», «Центр», «Наша газета» и др.
311
Областью исследования, как уже указывалось выше, является социальный круг организаторов избирательных кампаний в фе-деральные, региональные, муниципальные органы власти на тер-ритории Пермской области. Термин «круг» представляется более корректным, нежели социокультурная профессиональная группа,в виду слабости и малой организованности связей, объединяю-щих людей, к нему принадлежащих, неразвитости институциаль-ных регуляторов, а с ними и механизмов социальной идентифи-кации. Внутренние коммуникации не выражены в той мере, кото-рая позволяла бы сделать вывод об ее автономном существова-нии. В круг топ-менеджеров избирательных кампаний входят ли-ца, занимающиеся указанной деятельностью на постоянной осно-ве: либо в качестве руководителей специализированных учреж-дений, таких как «Рекламно-политическое агентство “Кучер”», «Центр избирательных технологий», «Центр Социнком» и др.,либо в качестве независимых, так называемых «диких» специа-листов, привлекаемых для организации отдельных кампаний.Имеются в виду работники, исполняющие руководящие функции,а именно: общее управление избирательной кампанией, создание,организацию и координацию временных рабочих групп, дейст-вующих в течение всего избирательного цикла или на его отдель-ных этапах, разработку ее общей стратегии и идеологического оформления, планирования и проведения массовых акций и под-держание прямых и непосредственных контактов с властными и финансовыми структурами.
Отличительным свойством их профессиональной деятельно-сти является временная дискретность. В перерывах между изби-рательными кампаниями лица, в них занятые, обременены иной работой, как правило, близкой по своему содержанию к избира-тельным практикам: политическим PR, консультированием муни-ципальных, партийных и хозяйственных администраторов, препо-даванием соответствующих дисциплин, работой в государствен-ном и муниципальном аппаратах законодательной и исполнитель-ной власти или в средствах массовой информации. В силу этого обстоятельства постоянство профессиональной деятельности про-является, прежде всего, в устойчивой, повторяющейся от выборов
312
к выборам специализации этих лиц в электоральном менеджменте.Кроме того, следует упомянуть о высоком, вернее, преобладаю-щем, удельном весе избирательных заработков в общей структуре доходов, и, наконец, о профессиональном признании со стороны местного политического и финансового истеблишмента, опреде-ляющем их конкурентоспособность на политическом рынке.Именно эти признаки отличают профессионалов как от случайных участников избирательной кампании, мобилизованных их амбици-озными шефами для выполнения краткосрочных и дополнитель-ных заданий, как правило, без какой-либо оплаты, так и от узких специалистов, привлеченных для социологического, психологи-ческого или пропагандного обеспечения избирательных задач.
Генеалогия профессии столь же коротка, как и ее история.Непосредственными предшественниками топ-менеджеров изби-рательных кампаний являются доверенные лица, заявившие о се-бе в краткосрочных и спонтанных избирательных кампаниях 1989–1991 годов. Им приходилось организовывать встречи с из-бирателями, договариваться о помещениях, находить транспорт,готовить презентационные материалы, как правило, в виде про-странных программных деклараций, размещать их в типографи-ях, носить отчеты и заявления в избирательные комиссии, то есть безвозмездно и по-любительски в свободное от работы время де-лать то, чем сегодня занимаются большие команды. От той ро-мантической эпохи сегодня остались, во-первых, кадры, а во-вторых, некоторые методы работы. Из доверенных лиц рекрути-ровались не только топ-менеджеры и специалисты современных избирательных кампаний, организаторы команд, но и политики регионального масштаба: депутаты законодательных собраний нескольких созывов, городских дум, претенденты на должность мэра. Что касается методов работы, то наследие ушедшей эпохи проявляется в первую очередь в слабости разделения труда в те-чение избирательного процесса. Нередки случаи, когда вся ко-манда, независимо от должностных обязанностей, как правило,нигде не прописанных, занимается одним и тем же делом, чаще всего малоквалифицированным: составляет списки, обзванивает избирателей и другими подобными делами.
313
В деятельности топ-менеджеров можно обнаружить также преемственность с работой партийных пропагандистов советско-го времени. В профессиональном жаргоне участников избира-тельной деятельности политтехнолог долго носил имя «идеоло-га», прямо отсылающее к партийному языку. «Идеолог» – это че-ловек, который пишет, иначе говоря, способен формулировать привлекательные для избирателей цели, придумывать лозунги,направлять и контролировать работу журналистов, то есть испол-нять функции, приписываемые традицией соответствующему секретарю райкома. Участниками избирательного процесса заме-чено известное сходство штабных совещаний с заседаниями пар-тийного бюро. И сам термин штаб, обозначающий и руководя-щий орган избирательной кампании, и оперативное совещание ответственных работников, имеет не военное, но советское про-исхождение: «штаб строительства». Еженедельная периодич-ность, сменяемые в пике кампании периодичностью ежедневной,как и полагалось в прежнюю эпоху в период пуска нового произ-водства или уборочной страды, отчеты с мест, обмен взаимными претензиями, публичные начальственные взыскания с нарушите-лей и, наконец, постановка задач на следующую неделю. Что от-личает, так это постоянные отступления от регламента, неудовле-творительное делопроизводство, но также и слабость применяе-мых санкций. Нет личного дела, в которое можно было бы зане-сти выговор.
Номинация профессиональной деятельности не устоялась и в силу краткосрочности ее бытования, и в силу отсутствия спе-циализированной университетской подготовки ее работников. Вы-пускники пермских университетов, имеющие в дипломах запись «политология» или «связи с общественностью», получают обра-зование или иного, или более широкого профиля. Кроме того,они оказались не в состоянии потеснить именитых профессиона-лов избирательных кампаний. Среди самоназваний последних в течение десятилетнего периода были в ходу разные термины:«имиджмейкер», «идеолог», «организатор», «журналист», «поли-тический консультант», «политический эксперт», «организатор информационного поля», «начальник штаба». Профессиональное
314
объединение, созданное в 1997 году, с самого начала именуется ассоциацией политических экспертов и менеджеров. В настоящее время чаще всего применяется термин «политтехнолог».
Круг топ-менеджеров можно условно разделить на два сек-тора: отцов-основателей и новобранцев. Первые начинали эту деятельность в эпоху перестройки. Именно тогда они сколотили символический капитал, позволивший занять доминирующие по-зиции в профессиональной деятельности. Вторые были вынужде-ны принимать готовые образцы профессионального поведения,искать способы адаптации к принятым нормам, подвергаться своеобразному тестированию со стороны отцов-основателей.Приобщение к новой профессиональной группе осуществляется двумя путями: приглашением журналиста или преподавателя на руководящую должность в кампании или в процессе карьерно-го продвижения в составе временной рабочей группы. Первый вариант реализуется непосредственно заказчиком. Второй проис-ходит в процессе внутренней конкурентной борьбы либо в ре-зультате целенаправленной кадровой политики.
Впрочем, по своей предшествующей социальной карьере все руководители избирательных кампаний достаточно близки. Рекру-тирование профессиональных топ-менеджеров происходит, в пер-вую очередь, из журналистской среды. В органах СМИ работали (а в некоторых случаях и продолжают работать) большинство специалистов в области избирательных технологий. В их авто-биографических заметках упоминаются газеты «Вечерняя Пермь», «Пермские новости», «Время», «МЧС», «Молодая гвардия», «Звезда», «Новый компаньон», «Коммерсант», «Маэстро», «Перм-ский обозреватель», «Независимая газета», «Пермский универси-тет». Вторую по численности группу образуют выходцы из уни-верситетского сообщества: гуманитарии, преподаватели техниче-ских и медицинских кафедр, в той или иной мере сохраняющие связь со своей прежней профессией. Бывшие работники партий-ного и комсомольского аппаратов, а также и новой администрации также представлены в составе профессиональных топ-менеджеров.
Многие топ-менеджеры имеют некоторый опыт деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Некоторые из них пытались
315
сделать политическую карьеру: баллотировались в законодатель-ные органы разных уровней, активно сотрудничали с региональ-ными организациями политических партий и объединений, ис-полняли в них аппаратные функции. Социализация в предприни-мательском и политическом сообществе, достаточно распростра-ненная, не является, однако, обязательным условием для включе-ния в новую профессиональную группу.
Состав топ-менеджеров характеризуется, во-первых, безус-ловным доминированием мужской гендерной группы, во-вторых,преобладанием возрастной когорты в диапазоне от 30 до 40 лет.Можно было бы назвать менеджмент избирательных кампаний сугубо мужской профессией, если бы не лидирующее положение в профессиональном сообществе, занимаемое дамой, именующей себя «железной леди пермской журналистики». Эту позицию она заняла, вытеснив с командных высот свою историческую соперницу, пришедшую в политический бизнес из партийного аппарата.
Для участников группы является обязательным требованием высшее образование, полученное на дневном отделении в госу-дарственных учебных заведениях. Среди топ-менеджеров при-сутствуют люди, обладающие учеными степенями в области ис-тории, политологии, психологии, педагогики, социологии, эко-номики, техники. Иные занятия, которые практикуют члены про-фессиональной группы – это: рекламный бизнес, сотрудничество в службах по связям с общественностью в государственных, му-ниципальных и коммерческих структурах, журналистика, науч-ная работа и преподавание в высших учебных заведениях, оказа-ние помощи действующим депутатам.
По своему экономическому положению топ-менеджеры при-надлежат к социальным стратам, близким к столичному среднему классу. Многие из них обеспечены новыми относительно ком-фортабельными квартирами, владеют престижными по пермским меркам автомобилями, вновь выстроенной или капитально отре-монтированной дачей в пригороде, регулярно выезжают на от-дых, в том числе и заграницу. Они делают покупки в дорогих продовольственных магазинах, обедают в кафе, периодически
316
обновляют обстановку и техническое наполнение жилища. Стиль жизни топ-менеджеров соответствует в его основных проявлени-ях стилю жизни пермских предпринимательских кругов, которые своим происхождением и предшествующей социализацией свя-заны с миром советской служилой интеллигенции. От предпри-нимателей средней руки топ-менеджеров отличают формы и ин-тенсивность презентации. Соответствующие практики индиви-дуализированы, наполнены приемами, опробованными в избира-тельных кампаниях. Типичный топ-менеджер представляет себя в образе военачальника, не знающего поражений, одновременно близкого и народу, и начальству, к тому же располагающего дос-тупом к административным ресурсам.
Социальные коммуникации, на что уже обращалось внима-ние, в профессиональной среде развиты слабо. Упомянутая выше ассоциация политических экспертов и менеджеров (АСПЭМ) ог-раничивает свою деятельность тематическими нерегулярными собраниями, в которых принимает участие меньшинство ее чле-нов. Другой формой социальных контактов являются круглые столы и семинары с участием московских и иностранных автори-тетов, проводимые время от времени областной администрацией,объединением местной экономической элиты – Строгановским клубом или партийными структурами, преимущественно, СПС.Во всех этих собраниях избирательные топ-менеджеры пребыва-ют в меньшинстве, затерянные между многочисленными завсе-гдатаями подобных церемоний. Институализация профессио-нальной деятельности политтехнологов далека от завершения.Принятый АСПЭМ кодекс остался сугубо бумажным творением,совершенно не регулирующим отношения в профессиональной среде. Считаются вполне допустимыми открытые нападки друг на друга в ходе избирательных кампаний, самореклама на фоне кандидата, использование низких технологий. Специально наня-тые люди уничтожают и портят агитационные материалы сопер-ников, развешивают объявления, дезориентирующие избирателей,распространяют анонимные памфлеты. Мобилизация сторонников проводится методами, разработанными для продвижения слабо брендированных и низкокачественных товаров. Ее организаторы
317
выравнивают тактику по уровню наименее образованных, бедных и традиционалистски ориентированных групп населения. Сама избирательная кампания приобретает вид долговременной благо-творительной акции, в ходе которой от имени кандидата людей третьего возраста обеспечивают автобусами для поездки к «свя-тым местам», концертным обслуживанием, бесплатными обеда-ми, а в день выборов, случается, и даровой водкой.
Нет оснований утверждать, что в течение последнего десяти-летия укоренилась профессиональная этика или хотя бы ее осно-вания, позволяющие упорядочить новый вид деятельности, при-дать ему цивилизованные черты. Слабость внутренних коммуни-каций определяется, в первую очередь, предельно жесткой кон-куренцией в этой среде, отягощенной представлением о низмен-ности, аморальности, нечистоте самого политического процесса, –представлением, широко распространенным в пермском город-ском образованном сообществе. Несмотря на существование мно-гочисленных агентств и центров, избирательные топ-менеджеры представляют собой изолированных друг от друга социальных одиночек (вернее, атаманов враждующих ватаг), объединенных сходными конкурентным предпочтениями, обусловленными спе-цифической субкультурой этого сообщества. Конфликтное взаи-модействие в процессе избирательных компаний заставляет их,зачастую против воли, повторять ходы друг друга, обмениваться результатами деятельности, тем самым создавая общие этикет-ные профессиональные формы.
Содержание профессиональной деятельности определяется административным вмешательством, сезонным характером рабо-ты, ясностью и прозрачностью результатов, жестким временным режимом и бескомпромиссной конкуренцией. Профессиональная деятельность может быть представлена в виде серии последова-тельных актов, занимающих в совокупности от трех до шести месяцев: переговорного, сборного, планировочного, массового и итогового. Массовый этап делится на довыборный и собствен-но избирательный этапы, а сборный и планировочный этапы по времени накладываются друг на друга. Переговорный этап, более других обставленный сложившимися церемониями, представляет
318
собой торг между топ-менеджером и вероятным заказчиком (или заказчиками) касательно финансовых (материальных) условий и принципов стратегии избирательной кампании. Сборный этап необходим для мобилизации и обновления рабочей команды.На пермском рынке труда выше всего ценятся юристы, специали-зирующиеся на избирательном праве. За ними следуют журнали-сты и организаторы массовых акций. Социологи и психологи от-носятся к числу наименее востребованных и наименее оплачи-ваемых специалистов. Избирательная «пехота» – таким термином описываются агитаторы, контролеры, разносчики пропагандист-ских материалов, вербуемые из числа лиц, как правило, не заня-тых производственной деятельностью, нанимаются непосредст-венно на этапе массовых акций. Участие в митингах, шествиях,пикетах оплачивается по установленной таксе. Набор временных работников производится индивидуальным или корпоративным способом. Первый не требует расшифровки. По цепочке пригла-шаются студенты или старшеклассники, с которыми производит-ся расчет непосредственно после акции. Второй способ сложнее – от имени избирательного штаба заключается соглашение или с предприятием о выделении сотрудников для проведения митин-га или субботника, или с местным боссом какой-либо политиче-ской группировки на ту же тему. Местное отделение одной из федеральных партий в 2000–2001 годах распространило прайс-лист с четким расписанием цен на те или иные политические ак-ции. Не сколько заплатит, а сколько запросит. Планировочный этап включает в себя разработку стратегии избирательных дейст-вий либо в виде сценарного плана, либо в более упрощенной форме, но всегда вместе с разработкой детализированной сметы.Массовый этап характеризуется непосредственным прямым управлением запланированными или экстренными акциями, при-званными внедрить заранее заготовленный образ кандидата в массовое сознание его будущих избирателей, а затем мобилизо-вать их для участия в выборах, но также и установлением или упрочением контактов с административными и финансовыми структурами, правоохранительными органами. Одной из задач,решаемых топ-менеджерами на этом этапе, является включение
319
кандидата в общее дело. В день выборов, то есть на итоговом этапе, топ-менеджер избирательной кампании организует рабо-ту членов избирательных комиссий с совещательным голосом,а также наблюдателей на участках.
Профессиональные шаблоны, сложившиеся в течение по-следних лет, касаются как способа организации, так и содержа-ния избирательной кампании. В первом случае речь идет, прежде всего, об использовании административного ресурса, иначе гово-ря, получения внятного согласия властных инстанций на участие в выборах кандидата имярек по определенному округу. Заметим,что для пермской власти нехарактерны прямые и открытые за-преты на политическую деятельность. Местные руководители скорее обнадеживают, нежели пресекают подобные попытки.Для того чтобы правильно прочесть их решение, необходимо знать употребляемые властью коды. Так, появление больших ма-териалов благожелательного толка, посвященных будущему кан-дидату, на страницах «Местного времени» до избирательной кампании означает, что власть, по меньшей мере, не настроена на борьбу с ним. Если же эти материалы опубликованы в виде интервью с упомянутой «железной леди», стало быть, губернское начальство готово к сотрудничеству и поддержке.
Как правило, применяется форма организации с линейной системой управления, в которой функциональные и территори-альные подразделения замкнуты на начальнике штаба. В одном случае эту роль исполняет лично руководитель кампании. В дру-гом – специально подобранный администратор, не обладающий политическими прерогативами. При всех вариантах, однако,влияние кандидата на процесс принятия решений остается самым существенным. Он обеспечивает финансирование кампании, рас-ставляет или добавляет кадры, пользуется правом вето и активно участвует в стратегическом и оперативном планировании, а также в текущем управлении.
По своему наполнению типичная избирательная кампания представляет собой серию социальных акций, сопровождаемых рекламной презентацией кандидата. Штаб берет на себя часть функций муниципальных органов управления: образовательных,
320
жилищно-коммунальных, культурно-массовых, организуя уборку территории, проведение детских праздников, ремонтные работы,зрелищные мероприятия в домах культуры, скверах и на стадио-нах. Основным адресатом этой деятельности являются граждане старших поколений с низкими доходами, сельским происхожде-нием и рабочим прошлым. Образ кандидата выкраивается, как правило, по единому лекалу. Это большой человек без четких со-циальных признаков – заступник униженных и оскорбленных,обладатель безупречных нравственных характеристик и невнят-ной биографии. Таким его изображают на магистральных щитах и в газетных публикациях. Анималистские проекты, призванные избавить кампании от избыточной патетики, успеха не имели,поскольку не соответствовали сложившемуся этикету. Условно-сти и церемонии, в которых облекаются избирательные стратегии в г. Перми, включают в себя правило «бесконтактного способа ведения кампании». Полемика между противниками считается дурным тоном. Не только частная жизнь кандидата является его интимным достоянием, но и его политическое прошлое, а уж тем более история его бизнеса. Избиратели могут знать о кандидате только то, что он сам о себе пожелает сообщить. Пермские поли-тики – это люди чувствительные и обидчивые. Послать за мили-ционером, обратиться к прокурору – к таким мерам многие из них прибегают, дабы оградить свое политическое достоинство от докучливых критиков.
Не полагается также подвергать критике чужие призывы и ло-зунги, какими бы лживыми или просто бессодержательными они не казались. Кандидат в депутаты Законодательного собрания может обещать каждому выпускнику вуза работу и квартиру. Его противник, по всей вероятности, знающий о том, что Законода-тельное собрание не создает рабочих мест и не вмешивается во внутрикорпоративную политику, своего оппонента публично не опровергает. Неприлично. Другое правило – «апелляция к гу-бернатору». Прежний губернатор, наделенный харизматическими свойствами, всегда выступал в качестве высшего авторитета.Депутат, заподозренный в недостаточной лояльности к высше-му областному руководителю, тут же давал гневную отповедь
321
клеветникам в областной газете: ни к какой оппозиции-де не принадлежу, только конструктивно критикую.
«Выступление под забралом» – еще одно из неписанных пра-вил. Кандидаты скрывают свое социальное лицо под шлемом и за щитом. Можно представить надпись на щите: президент бла-готворительного фонда, бюджетный работник (таким социаль-ным псевдонимом пользуются, как правило, депутаты Законода-тельного собрания на постоянной основе), преподаватель, науч-ный работник, выходец из рабочей семьи, но все это особого зна-чения не имеет. Главное соблюсти приличие – не назваться дур-ным словом «буржуа». И дело здесь не столько в избирательной технологии, поскольку бюджетники с тремя новыми иномарками и так выглядят нелепо, сколько в избирательной церемонии.На встречах с избирателями принято демонстрировать скром-ность, демократизм, трудовые корни – вместе с иными доброде-телями советской эпохи. Вопрос об источниках этикетных форм требует особого рассмотрения. Здесь лишь укажем на подража-ние общероссийским примерам, на влияние закрытых кланово организованных предпринимательских практик, далеко зашедшее сращивание бизнеса и власти, социальную неустойчивость и не-укорененность буржуазных страт, наконец, неприятие демокра-тических процедур значительной частью, если не большинством регионального политического класса. Во всяком случае, приня-тые этикетные формы не являются ни случайными, ни специаль-но сконструированными. Они порождены культурным своеобра-зием переживаемой эпохи. В этом смысле пермские политтехно-логи не конструируют этикет, они только придают ему надлежа-щее функциональное оформление.
Профессиональные риски сопряжены, в первую очередь, с из-менчивостью властной конъюнктуры, с внутриклановой и межве-домственной борьбой внутри региональных и федеральных ин-станций. Кандидат, приемлемый для одних начальников, может оказаться персоной нон грата для других. Если же эти другие об-ладают контролем над силовыми органами, тогда в избиратель-ную кампанию активно вмешивается третья сила – люди в пого-нах, проводящие контрагитацию доступными им средствами.
322
На руководителей кампании оказывается давление, проявляющее в служебных расследованиях, досмотрах помещений, вызовах в следственную часть, в крайних случаях, в возбуждении уголов-ных дел. Репрессией за несанкционированную победу или за ус-пешное сопротивление правильному кандидату может стать ад-министративное изгнание с избирательного поля, своеобразный запрет на профессию, взыскания по основному месту работы,в крайнем случае, увольнение и дискредитирующая кампания в прессе.
Топ-менеджер избирательных кампаний сегодня – это лицо,принадлежащее к сфере теневого бизнеса. Его официальный ста-тус иной: журналист, преподаватель, менеджер. В своем профес-сиональном качестве он или входит в клиентелу местных патро-нов или является маргиналом. В первом случае – он лицо зави-симое, в том числе и в выборе освоенных технологий. Во вто-ром – он обречен на ситуацию аутсайдера на жестко регулируе-мом и поделенном местном политическом рынке. И последнее.Пермская бизнес-элита оценивает эффективность работы топ-менеджера грубыми измерительными приборами, не учиты-вающими ни уровня конкуренции, ни способности к мобилиза-ции новых общественных группировок, ни чистоты технологий.Все решает результат, во многих случаях заранее заданный рас-чищенной площадкой и объемом финансовых средств. В таких условиях конкурентоспособность команд определяется влияни-ем их покровителей, что препятствует процессу их профессио-нализации.
Многообразие политического дискурса. Екатеринбург: ИФиП УРО РАН, 2004.
Шампань П. Делать мнения: Новая политическая игра. М.: Socio-logos, 1997.
Marantzidis N., Mavrommatis G. Political Clientelism and Social Exclusion. The Case of Gypsies in the Greek Town of Sofades // International Soci-ology. 1999. December. Vol. 14(4).
Michels R. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern de-mocracy. N. Y.: Dover publ., 1959.
323
СОЦИОЛОГ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ:ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Наталия Шушкова
Социальный мир современной России отличается, прежде всего, значительной подвижностью. Это утверждение примени-тельно к некоторым видам профессиональных занятий можно понимать буквально. Появились довольно многочисленные груп-пы людей, занятых интеллектуальным высококвалифицирован-ным трудом, готовые оказывать свои услуги, переезжая с места на место. Речь идет о предвыборных командах, кочующих от од-них выборов к другим в неизменном или обновляемом составе.Нетипичный характер решаемых ими задач, большая неопреде-ленность объективных условий работы, тесное знакомство с еже-дневными заботами практически всех членов команды, чередова-ние периодов напряженного труда и полной свободы от него, –вот неполный перечень факторов, играющих свою роль в консти-туировании новых форм занятости социальных исследователей и новых профессий, таких как социальные технологи. Данная статья посвящена теме социолога как профессионала в специфи-ческой обстановке предвыборной кампании.
Объектом внимания со стороны исследователей и критиков чаще всего становится «качество» данных, представляемых социо-логами в ходе избирательной кампании, а также перечень причин,препятствующих получению «проверенной» информации. От-дельные работы посвящены этической стороне дела и указывают на те профессиональные обязанности, которые непременно дол-жен исполнять социолог, чтобы удержать корпоративную планку,задаваемую его академическими коллегами, на должной высоте.Доступная литература не дает примеров сколько-нибудь деталь-ного изучения содержания работы социолога в избирательной кампании. Отметим, что эту тему можно развернуть в двух на-правлениях: образ профессии социолога в массовом сознании и функционирование временных трудовых коллективов в агрес-сивной внешней среде. На пересечении этих предметных областей
324
действуют факторы, влияющие на формирование требований к социологу, работающему в избирательной кампании, и, соот-ветственно, ожидаемые результаты его деятельности. Наш анализ этой проблематики основан на данных включенного наблюдения,осуществляемого автором в течение последних пяти лет, личных бесед с коллегами по цеху; подкреплены информацией, получен-ной в ходе мастер-классов политологической летней школы (2003) и сведениями, содержащимися в написанных отечествен-ными политпрактиками руководствах по ведению избирательных кампаний [см. например: Универсальные… 2004].
Оставим в стороне вопрос о квалификации социологов, рабо-тающих в избирательных штабах, предположим, что их знаний достаточно для осуществления профессиональной деятельности.Будем считать также, что социолог достаточно честен, чтобы пы-таться соблюсти максимум методологических, методических и технологических требований в имеющихся временных и эко-номических обстоятельствах.
Сначала обратимся к функциональным обязанностям социо-лога в рамках предвыборной кампании. Зададимся вопросом: на-сколько работа социолога адекватна задачам, решаемым коман-дой политического кандидата. Основным приемом, которым пользуются российские политтехнологи, является овеществление кандидата / партии. Будущий политик предстает перед наблюда-телем в виде множества разнотипных полиграфических артефак-тов (избирательных плакатов, листовок, брошюр, буклетов). Ко-манда представляет кандидата в виде предмета и в такой удобной форме «доставляет» избирателям в расчете на их лояльность.
Социолог выключен из производственного процесса избира-тельной кампании. Он не пишет рекламные статьи, не макетирует плакаты, не устраивает уличных акций. Он также выключен из временных циклов, преследующих команду, его работа требует эпизодического включения – либо с опережением события, либо с известным интервалом после него. Ему не о чем отчитываться на ежедневной планерке. Наконец, у него принципиально иные отношения с «полем», расходящиеся с «философией кампании», – он не стремится никого агитировать, привлечь «на нашу сторону».
325
Статус социолога в команде амбивалентен: с одной стороны,он является представителем малочисленной информационной группы (зачастую состоящей из одного человека), расположен-ной в ряду других «непрофильных» служб, с другой стороны, оносуществляет управление штатом интервьюеров и технических работников, привлекаемых к «сезонным» работам и неподвласт-ных другим членам команды и даже ее руководителю. Если при-нимать во внимание вторую составляющую статуса, то верным будет заключение, что социолог вполне самостоятелен и автоно-мен в своих действиях от принимающей его команды.
Политтехнологи относятся к социологии творчески, превра-щают ее в еще один подручный инструмент влияния на избирате-лей. Усвоив феномен «спирали молчания» – присоединения большинства к артикулированному мнению меньшинства [Ноэль-Нойман, 1996], они широко практикуют «формирующую социо-логию» – публикацию в СМИ внушительных и авторитетных об-зоров растущих рейтингов своего кандидата / партии. «Социоло-гией» называется также такой вариант массовых диалогов, при котором от собеседника ждут и требуют заранее заданных отве-тов. В эту же группу приемов могут быть отнесены: сбор наказов от избирателей, прием сигналов о проблемных ситуациях быто-вого характера и тому подобное.
Работу социолога могут исполнять и другие члены команды,дублирующие или заменяющие его. Минимальный набор знаний,необходимых для проведения исследования, сводится к поверх-ностному знакомству с понятийным аппаратом и процедурой проведения опросов. Человек, оперирующий словами «анкета», «опрос», «анкетер», «число опрошенных», умеющий вычислять проценты и способный начертить график популярности кандида-та, – вот примерный и весьма шаблонный образ социолога в кор-поративном сознании избирательной команды.
Одна из ключевых социально-психологических проблем, оп-ределяющая функционирование избирательного штаба, – это про-блема доверия. Члены команды во время предвыборной борьбы неоднократно проходят проверку на лояльность к группе, верность кандидату, соответствие ритмам и духу кампании. Соблюдение
326
перечисленных условий для работы в команде кандидата бывает даже важнее, чем качественная и добросовестная работа. Услуги профессионала могут быть отклонены из-за малейших подозре-ний в ненадежности, а промашки «честного» работника оправды-ваются его рвением. Все это в полной мере относится к социологу.
Способы рекрутинга в команду кандидата во многом сводят-ся к «устройству по знакомству». Поиск членов команды руково-дителем кампании через личные контакты дает уверенность в их порядочности; проверка специальных навыков таким образом подобранных людей происходит уже «на месте». Свою эмоцио-нальную оценку получает и выполняемая работа, в частности,доверие к полученным социологом данным или сомнение в них могут быть вызваны частным отношением к нему. Наблюдается и обратная связь: человек, приносящий неблагоприятные ново-сти, отторгается командой. Вопрос – насколько возможно «ре-дактировать» и смягчать данные социологических исследований,чтобы остаться действительным членом команды, – разрешается индивидуально. В разговорах и воспоминаниях «после выборов»социологи обходят эту дилемму молчанием.
Итак, позиции социолога в команде имеют мало общего с ка-залось бы естественным положением эксперта по социальному знанию. Отечественная практика показывает, что функциониро-вание избирательной кампании в современных условиях не тре-бует его обязательного присутствия. Можно назвать несколько оснований для отказа от проведения объективных социальных исследований. Политическая культура российской элиты доволь-но закрыта, ее представители не нуждаются в проверке своего статуса. Они подтверждают свое доминирующее положение не в открытой политической борьбе, а с помощью подручных адми-нистративных инструментов. О. Крыштановская пишет о непро-ницаемости российского «политического класса»:
Конкуренция на региональных выборах если и происходила, то только между членами элиты, главным образом между действующими глава-ми парламента, региональной и городской администрацией....Региональная элита как была, так и осталась непроницаема для раз-ночинцев, которые могли попасть на высокие посты исключительно
327
благодаря назначениям из центра, но не путем выборов [Крыштанов-ская, 2003. С. 12]. Считая себя монополистами политического пространства
(или на самом деле являясь ими) местные политики неохотно со-глашаются на дополнительные траты на исследование электо-ральных предпочтений.
Донаучное, но весьма влиятельное представление о тех лю-дях, чьи общественные симпатии следует привлечь на сторону политика, заключено в дополнительных коннотациях слова «электорат». В обычном понимании «электорат» – это относи-тельно однородная общность людей с низким социальным стату-сом и еще более низкими социальными притязаниями, способная позитивно отреагировать на примитивные рекламные акции. Об-раз электората может рационализироваться через добавление не-скольких дополнительных измерений, придающих рассуждениям об объекте политической пропаганды более наукообразный ха-рактер: национальной и гендерной специфики поведения, выде-ление группы людей интеллигентных профессий. Если руководи-тель кампании разделяет это представление, то попытки научного описания особенностей избирателей будут сочтены излишними,а работа социолога сведется к подсчету простых рейтингов.Необходимость приглашения социолога не оспаривается, если у кандидата / партии имеется серьезный конкурент, в политиче-ском весе которого не приходится сомневаться. Кроме того, уча-стие социального исследователя в предвыборной кампании явля-ется привнесенной западной нормой, на которую ориентируются серьезные политтехнологи.
Социолог выглядит в глазах рабочей группы универсальным аппаратом по оцифровке окружающей действительности (в более мягком варианте – ее словесном упорядочении). Слова, и в еще большей степени числа, предназначены для символического ос-воения чужой (и, зачастую, чуждой) политической реальности.Будучи обозначенной, ясно структурированной и редуцированной к небольшому набору показателей, эта реальность кажется упо-рядоченной и контролируемой. Например, социология позволяет мирить политических соперников и даже объединять их в одно
328
лицо, складывая доли избирателей, готовых проголосовать за то-го или иного кандидата / партию.
От социолога ждут добрых вестей. Психологическое давле-ние со стороны коллег по предвыборной кампании усиливается в моменты сбора и обработки информации. Сводки «с полей»должны поступать каждый час. Если даже социолог вполне чес-тен и корректно выполняет все предписанные методические пра-вила, при презентации результатов исследования команде он мо-жет поддаться соблазну и акцентировать позитивные результаты,обойдя молчанием выявленные огрехи.
Рутинные практики, занимающие время социолога в избира-тельной кампании, подводят нас к рассмотрению собственно ис-следовательских методик, применяемых для получения требую-щейся социальной информации. Обычно исследователи ограни-чиваются весьма скудным набором техник: массовые стандарти-зированные анкетные опросы и фокус-группы при значительном преобладании первых. Прикладной характер задач, решаемых социологом во время выборов, подталкивает его к множествен-ным деформациям этих техник. Начнем с массовых опросов.
Программная часть в предвыборных исследованиях, как пра-вило, отсутствует, что и дает более прилежным коллегам по цеху основания для критики подобных методов сбора информации.Теоретическая проработка изучаемой проблемы заменяется об-ращением разной степени рефлексивности к прошлому опыту –личному или полученному «из вторых рук». Формулирование гипотез опускается, разработка инструментария занимает не бо-лее получаса. Зачастую социолог предпочитает использовать уже готовые шаблоны опросных листов, меняя в них фамилии канди-датов, даты выборов и названия местностей. В ситуации, когда усоциолога были предшественники, приходится частично или полностью заимствовать их инструментарий и методику исследо-вания для сопоставимости полученных результатов. Случаются и курьезные случаи. Например, во время выборов в Государст-венную думу 2003 года в г. Перми интервьюеры, нанятые одним из кандидатов, обращались к респондентам с вопросами: «По-чему Вы будете голосовать за Илью Н.?» и «Почему Вы будете
329
голосовать против Павла А.?». Всего по данному округу было зарегистрировано десять кандидатов, и имелся еще как минимум один серьезный соперник. Автор анкеты, обратившись к резуль-татам исследования, со всей серьезностью выявлял «положитель-ную и отрицательную мотивации голосования».
Иногда выбор проблем и формулировка вопросов анкеты со-гласовывается с руководителем избирательной кампании. Руко-водитель, добавляя или отбрасывая некоторые темы, вопросы и варианты ответов (соответственно, выигрышных или проиг-рышных для кандидата / партии), а также при помощи специаль-ных формулировок вопросов отчасти контролирует результаты исследования, получает приятную для кандидата информацию.Подобным образом принудительной корректировке может под-вергаться и выборочная совокупность: в нее целенаправленно до-бавляются определенные группы, лояльные к кандидату (или увеличивается их удельный вес), потенциально оппозиционные,напротив, исключаются (или занижается их доля).
Технология проведения исследования максимально ускоря-ется. Рекордсменом по быстроте сбора данных является уличный опрос. У этого приема есть несколько слабых мест. Как полагает Кессельман [Кессельман, 2001], гарантию хорошего качества ин-формации уличных опросов может дать только высокая квалифи-кация интервьюеров, их значительный опыт работы и четкое со-блюдение инструкций. Неизбежно возникают территориальные смещения выборки, практически невозможно избежать возрастных и гендерных сдвигов. Сложно осуществлять контроль над деятель-ностью интервьюеров. Работники, нанятые за низкую плату или недостаточно мотивированные, в лучшем случае проводят опрос в местах заведомо большого скопления людей (поликлиники,продуктовые магазины, рынки, остановки в часы пик), в худшем – «рисуют» анкеты, фальсифицируют. В крупных городах интер-вьюеры облюбовывают места, обычно занимаемые промоутерами бытовых товаров, что также может влиять на результаты опроса.
«Быстрое исследование» нуждается и в соответствующем об-легченном инструментарии. Число вопросов ограничивается два-дцатью-двадцать пятью, их формулировки просты и предлагают
330
односложные ответы. В анкетах преобладают закрытые вопросы с небольшим числом альтернатив. В ситуации, когда нет времени на апробацию инструментария, проверку его адекватности, анке-та может стать настоящей ловушкой для социолога, где фикси-руются только те данные, которые и так уже известны, и пропус-каются новые.
Результаты исследования должны быть представлены в са-мой простой форме. Не все руководители умеют «читать» табли-цы, еще меньше они знакомы с тонкостями статистических рас-четов. Предпочтительнее графическое представление данных:диаграммы, схемы, графики. В аналитической записке нет места размышлениям и объяснительным моделям, ее читатели предпо-читают однозначность формулировок и прагматичность выводов.
Оценку социологами качества результатов, получаемых в предвыборных опросах, можно проверить по следующему кри-терию: каждый из исследователей стремится пользоваться собст-венными данными, ревниво относясь к добытой коллегами теку-щей информации. Так или иначе, личное доверие к фактам выхо-дит на первый план, заслоняет профессиональные способы их оценки. Возможно, причина невысокой оценки «чужых» резуль-татов кроется в осознании, что смещение реальной выборки от-носительно теоретической и недостаточная квалификация интер-вьюеров являются минимальными из всех отступлений от правил и приводят к неизбежным деформациям данных. В конечных вы-водах по результатам исследования можно учесть собственные ошибки, но никак не скрытые огрехи коллег.
Иными словами, при кажущейся простоте опросов общест-венного мнения, чаще всего практикуемых в предвыборных кам-паниях, их качество оказывается неудовлетворительным. Именно количественная природа данных и связанные с ней проблемы по-лучения и обработки информации делают их уязвимыми. Социо-логов часто обвиняют в плохой работе даже за разницу в 2–3 %между результатами опросов и итогами выборов, то есть за разницу,статистически обоснованную. Поэтому одним из вариантов разре-шения этой проблемы становится использование качественных ме-тодов. Их главные достоинства – быстрый этап сбора информации
331
и отсутствие необходимости привлекать к «полевым работам»значительное количество персонала. Метод фокус-групп отвечает основным представлениям об идеальном для предвыборных кам-паний социологическом исследовании. Единственный, но суще-ственный для руководителей кампании недостаток этого метода состоит в невыполнимости корректного перевода результатов в числовую форму.
Для социолога метод фокус-групп является испытанием про-фессионализма: ему необходимо сочетать в себе определенные навыки ведения групповой беседы, отмечать важные реакции со-беседников, делать релевантные выводы, не имея возможности повторно возвращаться к данным. Аудио- и видеозаписи в таких фокус-группах если и ведутся, то в дальнейшем анализе исполь-зуются редко. В итоговом отчете исследователь описывает собст-венные впечатления, подкрепляя их, в отдельных случаях, коли-чественными данными о числе сторонников / противников неко-торых точек зрения среди участников фокус-группы (или даже складывает участников в единую группу и высчитывает общий процент, если была проведена серия фокус-групп).
Среди заказчиков метод фокус-групп пользуется популярно-стью. В их глазах он выглядит современной и модной заменой скучноватым таблицам массовых опросов. Доклады о результатах исследования содержат множество информации, интересной вви-ду ее личного характера (реплик, эмоциональных реакций, исто-рий отдельных людей). Социолог становится «окном» в закрытые частные жизни незнакомых людей.
Однако использование метода фокус-групп не сулит иссле-дователю избавления от всех проблем. В частности, остается от-крытым вопрос о составе участников групповых дискуссий, его репрезентативности по отношению ко всем избирателям. С наи-большей охотой в них участвуют сторонники кандидата / партии (если известно, кого «представляет» социолог) и социально-инициативные избиратели. Рекомендации, построенные в расчете на присутствовавших в фокус-группах избирателях, могут ока-заться неэффективными в отношении тех людей, чью политиче-скую активность следует стимулировать.
332
Существует довольно большой набор трудностей, с которы-ми может столкнуться социолог в избирательной кампании. Не-профильность, периферийность работы социолога внешне прояв-ляется в том, что непосредственные наниматели пренебрегают важными требованиями «беспристрастности» исследования. За-частую информационная группа располагается на территории са-мого штаба, инструктаж интервьюеров проходит среди украшен-ных плакатами кандидата стен, сбор анкет сопровождается при-страстными расспросами членов штаба («Ну как, хорошо к нам относятся?»). С интервьюерами связан еще один аспект отноше-ния к социологу. Если заработная плата специалиста оговарива-ется заранее, и ее размер вряд ли может быть снижен, то затраты на интервьюеров руководители кампании постоянно пытаются сократить. Дело в том, что труд «человека с анкетой» считается относительно простым, не требующим каких-то особых навыков,и поэтому дешевым. Против социолога в вопросах оплаты труда интервьюеров работает и главное правило социологических ис-следований в предвыборной кампании – скорость исполнения.Быстрота сбора информации, достигаемая за счет напряженной работы «в поле», служит основанием для низкой оценки трудо-вых усилий. Типичная логика отражена в высказывании: «Они же были заняты только два (три-четыре) дня, и так много получили!».
Заметим, что штат свободных интервьюеров может быть камнем преткновения между социологом и другими членами ко-манды. В жестких временных рамках и нехватки «полевой» рабо-чей силы социологу будет предложено включить интервьюеров в число агитаторов. Это требование имеет в глазах предвыборной команды свои рационалистические объяснения. Во-первых, ин-тервьюеры заняты своей работой не всегда, а только на неболь-шие промежутки времени; во-вторых, они имеют навыки успеш-ной коммуникации с людьми; в-третьих, они уже прошли «про-верку на прочность», доказали свою лояльность команде и дис-циплинированность. Если же попытаться вскрыть глубинное ос-нование привлекательности интервьюеров, то им, скорее всего,будет уверенность команды в том, что «полевая» работа агитато-ров важнее и результативнее усилий по сбору социологической
333
информации. Любопытно, что в этом случае экономический фак-тор на стороне социолога: главным препятствием для перехода интервьюеров в иные сферы деятельности служит более низкий уровень денежного вознаграждения в них. Заработок интервьюе-ра за два-три дня напряженной работы эквивалентен двухнедель-ному или даже месячному заработку рядового агитатора.
Не меньшие проблемы могут подстерегать социолога и после проведения исследования. В выводах исследования от него ждут рекомендаций практического характера. Главные вопросы – как поднять рейтинг кандидата / партии и в чем слабые места про-тивников. Новационные и оригинальные предложения, выдви-гаемые исследователем, сталкиваются с заранее разработанными и утвержденными тактикой и сценарием проведения предвыбор-ной кампании. Чтобы быть принятыми к рассмотрению, реко-мендации должны соответствовать исполняемому командой гра-фику работ с избирателями. Не менее важными для рекоменда-ций являются их технологичность, разложимость на простые дей-ствия и прогнозируемый успех (лучше всего, в процентах к теку-щему рейтингу политика / партии) предлагаемых акций.
В одной из кампаний по выборам депутатов Законодательно-го собрания Пермской области 2001 года возникла необходи-мость изучения добросовестности работы группы агитаторов.Стандартный контроль успокаивал, однако рейтинги кандидата росли медленно. С помощью сплошного обследования агитато-ров и их семей по массовой рейтинговой анкете для жителей N-го избирательного округа было обнаружено, что только 12 % агита-торов считали, что активность избирателей зависит от их работы.Остальные были уверены, что главным действующим лицом яв-ляется сам кандидат; проблема явки избирателей – это его забота,агитаторы здесь бессильны. Главным выводом исследования бы-ло то, что более 1/3 агитаторов не только предсказывали победу на выборах основному противнику «своего кандидата», но и сами сильнее симпатизировали конкуренту. По результатам проверки ни один агитатор не был уволен, хотя фамилии «перебежчиков»были известны.
Руководители кампании сознательно (или бессознательно)сужают поле изучения для социолога. Описанному варианту
334
довольно простой проверки качества работы агитаторов традици-онно предпочитают выстраивание громоздких контролирующих сетей. Часть людей вместо того, чтобы стимулировать симпатии избирателей, занята проверкой работы другой группы, тем самым снижается общая эффективность кампании.
Наконец, результаты опросов и фокус-групп довольно уяз-вимы. Данные, полученные социологом в ходе исследования,проходят дополнительную проверку в команде. Они могут под-вергаться фальсификации, во-первых, со стороны руководителя кампании (членов команды, имеющих высокий внутригрупповой рейтинг), если не будут соответствовать его внутренним пред-ставлениям о ситуации; во-вторых, со стороны любых информан-тов, получивших какие-то сведения в ходе закулисных перегово-ров с другими командами; в-третьих, со стороны «полевиков» –агитаторов, наблюдавших и передавших индивидуальные эмо-циональные реакции по схожей теме.
Подведя некоторые итоги, мы в первую очередь можем сде-лать вывод о том, что социолог в избирательной кампании зани-мает периферийную позицию. Он, по содержанию своей деятель-ности, слабо интегрирован в команду. От него не требуют испол-нения сложных процедур, ограничивая исследовательское поле рейтинговыми опросами. В таких обстоятельствах профессия со-циального исследователя теряет свои очертания, а квалифициро-ванный специалист переводится в раздел подручных работников.Заработок социолога, по сравнению с другими членами команды,низкий. Политтехнологи не видят в социологии эффективного инструмента изучения социальной реальности и мощного меха-низма воздействия на отдельные ее стороны. Если предвыборная кампания проводится по скромному бюджету, то расходы стре-мятся сократить за счет уменьшения количества исследований (по сравнению с запланированным), снижения заработной платы интервьюерам. Довольно часто вообще отказываются от социо-логических услуг.
Вероятно, этой форме социологической деятельности еще предстоит пройти через саморефлексию подобную той, что про-делали сотрудники ульяновского научного центра «Регион»
335
[Полевая… 2004]. «Полевая кухня» предвыборных исследований в России скрыта от глаз новичков и непосвященных. Она не от-ражена в устном фольклоре политических социологов, обсуж-дающих между собой по преимуществу курьезные случаи в про-цессе проведения исследований, столкновения с любопытными фактами из жизни далеких людей, знакомство с необычными или наделенными властью личностями, проявленный личный «героизм» в осуществлении исследования, малообразованность интервьюеров и других подручных работников. Предвыборные исследования находятся на периферии научного мира социоло-гов, их результаты редко используются для последующего ос-мысления.
Кессельман Л. Уличный опрос в социологическом исследовании. Самара:Фонд социальных исследований, 2001.
Крыштановская О.В. Формирование региональной элиты: принципы и механизмы // Социс. 2003. № 11. С. 3–13.
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания.М.: Прогресс-Академия, 1996.
Полевая кухня: как провести исследование / Под ред. Н. Гончаровой.Ульяновск: Симбирская книга, 2004.
Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт российских политических консультантов / Международный инсти-тут политической экспертизы (МИПЭ), аналитическое агентство «Нью Имидж» // Twww.stratagema.org.T 2004.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ –КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
Екатерина Казурова
Если социология профессий традиционно фокусировалась на технических сторонах организации труда – распределение ра-бочего времени специалистов, их положение в иерархии пред-приятия, то антропология работы, опираясь на неомарксистский
336
подход, делает предметом своего анализа конфликты и отчужде-ния, эксплуатацию рабочих и их ответ властным структурам [Романов, 2003. С. 4, 128]. Антропология профессий, как мы ее понимаем, ставит своей задачей
приоткрыть и сделать явными те способы, какими люди определенной профессии устанавливают свое понимание, оценку, образ действия,иначе говоря, управляют своей жизненной ситуацией [ван Манен, цит.по: Романов, 2003. С. 130]. Подобная постановка задачи позволяет говорить о наличии
определенной субкультуры той или иной профессиональной группы, и под которой мы будем понимать
комплекс традиций: обычного права, стереотипов поведения, особен-ностей образа жизни, форм повседневного дискурса, символики и ат-рибутов, – сложившийся в данной профессиональной среде [Щепан-ская, 2003. С. 141]. Мультипарадигмальный подход, используемый в этой рабо-
те, позволяет лучше понять характер и происхождение тех мик-ропрактик, которые воспроизводятся специалистами данной про-фессии как в работе с клиентами, так и в условиях повседневных взаимодействий в рамках своего сообщества. Эмпирическое ис-следование, которое легло в основу статьи, было осуществлено посредством этнографических методов. Долговременное вклю-ченное наблюдение было направлено на исследование каждо-дневных практик, воспроизводимых на рабочем месте, символи-ческую и пространственную организацию труда, чтобы вскрыть и проблематизировать гендерные особенности занятости, опреде-ляемой как «менеджеры по продажам». Серия фокусированных интервью позволила уточнить данные включенного наблюдения и выявить новые аспекты исследования. Фокусированные интер-вью проводились с менеджерами по продажам, работающими в одной организации. Это позволило проанализировать не только микропрактики реализации профессиональных функций (взаимо-действие с клиентами), но и трудовые отношения в рамках дан-ного коллектива.
337
Становление профессии «менеджер по продажам»Рыночные преобразования в России, привнося неумолимые
законы конкуренции в экономическую жизнь страны, отразились стремительным повышением внимания к политике сбыта как на уровне государства, так и на уровне отдельного предприятия.Но в сознании российского общества отношение к феномену тор-говли, заложенное идеологией советского периода, оставалось специфичным. Так для многих остается актуальной такая клас-сификация предпринимательства: предпринимательство в сфере производства и в «спекулятивной сфере». Некоторые авторы ука-зывают на эксплуататорскую природу торговли, а организацию производства полагают социально приемлемой деятельностью [Орлова, 2002. С. 46].
В то же время специалисты по продажам (сбыту) оказались востребованы практически в любой фирме: начиная от торговли продуктами, заканчивая услугами и информационными техноло-гиями. Однако в современных условиях к представителям тор-говли стали предъявляться новые требования – теперь стало не-достаточно просто отпускать товар покупателям, уже пришед-шим в магазин, возникла необходимость искать потенциальных клиентов и умело предлагать им приобрести продукцию.
В начале 90-х годов в русском языке появилось новое слово –«менеджер». Слово звучало красиво, быстро вошло в моду, и че-рез некоторое время менеджерами стала называться чуть ли не половина работоспособного населения страны. С течением вре-мени функциональное содержание этого понятия стало более оп-ределенным, хотя этот процесс нельзя назвать завершенным.«Менеджер по продажам» на рынке труда и в обыденном созна-нии граждан представляется как один из видов деятельности,обозначаемой как «менеджмент». Подобные суждения подкреп-ляются экспертными мнениями представителей рынка образова-тельных услуг. Так, свой взгляд на проблему адекватности назва-ния исследуемого вида занятости в интервью корреспонденту га-зеты «Обзор цен. Продукты питания» [Царева, 2003] демонстри-рует ректор Нижегородского коммерческого института профес-сор Н. Сумцова:
338
Конечно, продавцов для розничной сети мы не готовим, потому что это уровень ПТУ. Правда, жизнь сейчас сложнее. Многие дипломиро-ванные выпускники начинают свой бизнес менеджерами по продажам.<…> На Западе такой классификации «продавец» нет. Они себя ме-неджерами называют. Потому что он всё равно управленец: он управ-ляет хотя бы покупательскими потоками. Поэтому когда вы говорите – давайте поговорим о торговле и о тех, кто торгует – это уже старый подход. Потому что торгуют все (эксперт). Но если обратиться к западным определениям менеджмента,
то становится ясно, что менеджер – это руководитель-специа-лист, организующий труд других людей. Основными маркерами профессиональной идентичности менеджеров традиционно яв-ляются: руководство работой сотрудников; управление частью или всем предприятием; полномочия и простор для самостоя-тельного принятия решений; принятие решений, которые будут иметь определенные последствия для других сотрудников. В ис-следуемом виде занятости «менеджер по продажам» реализуется только аспект управленческой деятельности, связанный с приня-тием значимых решений, но и он имеет серьезные ограничения в рамках ценовой, кредитной и сбытовой политики предприятия.Таким образом, данный вид занятости со всей очевидностью не связан с деятельностью по управлению людьми и стратегическо-му принятию решений.
Мы предполагаем, что в названии исследуемого нами вида занятости слово «менеджер» появилось в результате Tизменения содержания деятельности продавца в рыночной России и значи-тельного расширения диапазона выполняемых им ролей. К пред-ставителям этой профессии стали выдвигаться новые требования:инициативность, умение работать самостоятельно, ответствен-ность. Кроме того, осваивая азы управления предприятием в ры-ночных условиях, руководство не успевало должным образом организовать работу специалистов по продажам. Определив в ка-честве заработной платы процент от объема продаж, директора отправляли своих сотрудников «в свободное плавание», то есть возлагали на них задачи самообучения, планирования своей дея-тельности, самоорганизации, мотивации и, зачастую, самоконтроля.
339
Значительная степень автономии рабочего места, достаточно вы-сокий статус в ряде видов деятельности – все это во многом обу-словило символическое закрепление статуса занятости понятием «менеджер».
Приставка «менеджер» закрепилась и активно транслируется во всех упоминания об этом виде занятости, что позволяет гово-рить нам о символической политике наименования исследуемой должности. Политика символической статусной идентификации позволяет предпринимателям без повышения заработной платы сделать рабочие места на своем предприятии более привлека-тельными для наемных работников, а те имеют возможность ис-пользовать название должности в качестве символического капи-тала для повышения своего статуса в глазах клиента. Представи-тели институтов образования, профессиональной подготовки и переподготовки в сфере торговли также активно поддерживают и воспроизводят устоявшуюся традицию наименования должно-сти «менеджер по продажам». Можно предположить, что моти-вы их могут отличаться от мотивов работодателей и связаны с продвижением на рынке образовательных услуг определенного «брэнда».
Менеджеры по продажам сами довольно часто иронизируют по поводу адекватности названия своей должности. В организа-ции, которая стала полем нашего исследования, представители этой сферы деятельности, рассуждая по поводу своей специаль-ности, в шутку называли уборщицу «менеджером по чистоте», техника – «менеджером по техническому обслуживанию», чем стремились подчеркнуть, что по аналогии с должностью «менед-жер по продажам» к названию каждой деятельности можно при-ставить слово «менеджер». Молодые специалисты приходили к выводу, что «менеджер – это не профессия, это образ жизни», подразумевая, что за этим словом стоят не определенные функ-ции, а набор качеств, атрибутируемых с представлениями о пред-приимчивом человеке: активность, инициативность, коммуника-бельность, находчивость, стрессоустойчивость. У представителей старших возрастных групп, для которых «западная» термино-логия и «философия жизни» является чуждой, встречались
340
достаточно резкие суждения: «менеджер – это ругательное сло-во». Нужно отметить, что подобные реплики были спонтанны-ми, что свидетельствует о самостоятельной рефлексии своего статуса и поиске профессиональной идентичности специалистов по продажам.
Проблематизируя обозначение названия данного вида заня-тости в современном языке бизнеса и повседневной речи, мы оп-ределяем менеджеров по продажам как профессиональную груп-пу, находящуюся в процессе формирования в контексте других торговых профессий. Этот вид занятости занимает определенное место в обусловленном социальными причинами разделении труда. Мы полагаем, что специфические черты деятельности менеджеров по продажам не позволяют прировнять этот вид за-нятости к профессии продавца. В условиях рыночной экономи-ки менеджер по продажам осуществляет значительно более сложные операции, чем продавец за прилавком, в обязанности которого не входит организация поставок и поиск потенциальных клиентов.
Менеджером по продажам является человек, который ведет заказ «от начала до конца», то есть от поиска клиента до заклю-чения сделки. Функциональные обязанности представителей ис-следуемого вида занятости включают в себя переговоры с заказ-чиком относительно специфики товаров и условий поставки, ко-торые порой длятся несколько месяцев. Следующим этапом явля-ется формирование окончательного предложения, с указанием стоимости и описанием технических характеристик продукции,которое в большинстве случаев представляет собой разработку нескольких вариантов проекта будущего объекта заказчика (в нашем случае это магазины, столовые, кафе, рестораны, па-рикмахерские). После достижения сторонами соглашения, с соот-ветствующим оформлением всей необходимой документации,включающей в себя заключение договоров поставки, договоров рассрочки, предоставления первичных бухгалтерских докумен-тов, менеджер по продажам выбирает поставщиков, способных в наибольшей степени удовлетворить все требования данного за-каза, сотрудничающих с его организацией. При необходимости
341
в обязанности менеджера по продажам включается организация доставки товара до места назначения, что предполагает тесное сотрудничество с транспортными компаниями. Необходимым является умение контролировать исполнение заказа, что включа-ет в себя периодические контакты с клиентом по поводу текуще-го положения дел и обеспечение разгрузочно-погрузочных работ,монтажа оборудования в установленные сроки. Таким образом мы видим, что исследуемый род деятельности требует большого объема теоретических и практических навыков, специфической предварительной подготовки до вхождения в организацию и серь-езного обучения всем тонкостям дела уже внутри фирмы.
Определение профессии в качестве рода трудовой деятель-ности человека, владеющего комплексом специальных теорети-ческих и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы [Словарь… 1998. С. 407] и постоянно занятого этим промыслом как источником дохода [Ильина, 1999. С. 203], казалось бы указывают на вполне сформированный тип профессиональной группы. Однако крите-рии более широкого атрибутивного подхода к определению профессий, учитывающего такие факторы, как наличие четкой внутренней идентичности, устоявшаяся система обучения, раз-деляемые этические принципы, наличие высокого статуса в об-ществе и устойчивых, горизонтально интегрированных ассоциа-ций [Millerson, 1964], заставляют нас удержаться от поспешных выводов.
Менеджер по продажам для выполнения своей работы дол-жен обладать большим объемом знаний, которые в последние го-ды предоставляются не только среднетехническими училищами,как это было в советское время, но и высшими учебными заведе-ниями. Кроме того, в России на сегодняшний день можно наблю-дать бум спроса на бизнес-обучение: корпоративные тренинги,мастер-классы и семинары.
Образование в индустриальном обществе является ключевым процессом в профессиональной социализации, конструировании профессиональной культуры. Система образования играет ключе-вую роль в формировании габитуса индивида, влияя на групповые
342
идентичности и профессиональную культуру. Под габитусом мы понимаем системы прочных приобретенных предрасположенно-стей и принципов, которые порождают и организуют практики и представления индивидов [Бурдье, 1998. С. 45].
На сегодняшний день как на уровне образовательных учреж-дений, так и среди людей, выбравших для себя профессию «ме-неджер по продажам», пока не сформированы единые стандарты относительного того, каким должен быть профессионал в сфере продаж, и каким должно быть его образование. Противоречивые мнения менеджеры демонстрирую относительно практически всех форм получения профессиональных знаний. Так по поводу роли высшего образования были следующие суждения:
Высшее образование меняет философию жизни, в вузе всё-таки дают платформу большую, именно для осмысливания всех тех процессов,которые происходят... в жизни, в экономике, в политике... (сотруд-ник 1); Я не знаю, чему там учат [в вузе]! Вот Денис чему учился? Я бы не сказал, что Денис на это выучился – он умнее стал (сотрудник 2); Те два дня, которые ты проводишь на тренинге, дают намного больше,чем пять-шесть лет в институте (сотрудница). Относительно кратковременных курсов бизнес-образования
и корпоративных тренингов мнения не столь полярны. Менедже-рами подчеркивается целенаправленный прикладной характер полученных на курсах знаний и эффективная форма преподава-ния (ролевые игры), что очень быстро ведет к изменениям эффек-тивности работы и повышает уровень продаж. Но можно встре-тить и скептическое отношение к курсам повышения квалифика-ции, бизнес-тренингам. Такие установки демонстрирует один из сотрудников исследуемой организации:
Из торговли сделали науку [пауза] в принципе, никому это ничего не надо... Люди, которые... а, в принципе, да! это тот же бизнес! Из тор-говли сделать науку – тот же этот... сети – как они называются-то?«Бизнескласс»… он из этого сделал... деньги зарабатывать, то же са-мое [пауза]. А они [из этого] делают методику, это, как бы, подгоняют под какой-то стереотип – ну, это ерунда (сотрудник 2).
343
Эффективность работы менеджера по продажам, по мнению этого информанта, определяется врожденной предрасположенно-стью к этому виду деятельности, принадлежностью к той или иной национальности, имеющимся опытом, интуицией, а также психологическими характеристиками человека.
Если проанализировать личный опыт сотрудников и их суж-дения относительно той или иной формы получения профессио-нальных знаний, то становится ясно, что каждый отдает предпоч-тение факторам, составляющим его собственную идентичность.Так, менеджер по продажам, недавно получивший высшее эко-номическое образование, подчеркивает особую роль высшей школы в становлении себя как профессионала. Девушка со сред-ним специальным образованием в сфере торговли, имеющая бо-гатый опыт участия в корпоративных тренингах, говорит о боль-шей эффективности прикладного бизнес-образования. Мужчина,высшее образование которого не нашло применения в условиях рыночной торговли, так как было получено в советское время и в другой области знаний, отдает первенство тем составляющим успеха, которыми обладает сам: опыту и психологическим харак-теристикам.
Исследуемая квазипрофессиональная группа порой оказыва-ется чрезвычайно неоднородной в своих представлениях о про-фессионализме. Менеджеры по продажам придерживаются различных взглядов относительно приоритета профессиональ-ных качеств, обладают разной степенью навыков и возможно-стью продвижения, что является источником многих конфлик-тов [Романов, 2003. С. 100] и демонстрирует неспособность их вступления в мир жесткой конкуренции. Подобные блокирующие факторы в поиске профессиональной идентичности свидетельст-вуют о зыбком фундаменте профессионального багажа специали-стов по продажам, который не может обладать устойчивостью к кризисам.
Изменение сложившейся ситуации возможно при условии улучшения качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, повышения статуса сотрудников, прошедших обу-чение, и приобретения ими за счет этого социального капитала,
344
общественное признание которого будет вести к укреплению экономического положения человека.
Таким образом, опираясь на атрибутивный подход к опреде-лению профессий, мы показываем, что исследуемый вид занято-сти пока не является профессией, так как менеджеры по прода-жам на данный момент не обладают четкой профессиональной идентичностью, не имеют общепринятых представлений об оп-тимальной системе обучения специалистов в сфере продаж. Они не сформировали разделяемые всеми представителями этого вида занятости этические принципы, а их общение по неформальным сетям еще далеко от этапа создания ассоциаций. Тем не менее отмеченные процессы активного поиска профессиональной иден-тичности, наделения должностей статусными наименованиями («менеджер по…»), развитие инфраструктуры подготовки спе-циалистов (высшее образование в сфере торговли, бизнес-образование) позволяют говорить о положительной динамике процесса профессионализации менеджеров по продажам и тор-говли в целом.
Различные аспекты повседневной трудовой деятельности
В целях нашего исследования предпримем попытку проана-лизировать деятельность менеджеров по продажам, опираясь на социологию повседневности, которая рассматривает повсе-дневность как одну из сфер человеческого опыта, характери-зующуюся особой формой восприятия и осмысления мира, воз-никающей на основе трудовой деятельности [Ярская-Смирнова,Романов, Михель. 2004. С. 269]. Стремясь отразить не только быт небольшой фирмы, но и повседневное сознание, поведение сотрудников, мы постарались показать героев исследования действующими, конструирующими ситуацию и определяющи-ми те ролевые образы, которые они воспроизводят в повсе-дневности.
Рабочий день в исследуемой организации начинается в девять утра. Постепенно коллектив собирается на рабочем месте. Пер-выми в офис приходят «старейшины», страдающие бессонницей
345
и стремлением поскорее уйти из дома, затем – мамаши, которым нужно отводить детей в детский сад к восьми. Из молодежи на месте только те, кто очень сильно опоздал вчера и уже сегодня не рискует обрушить на себя гнев директора. Остальным как всегда совершенно случайным образом не хватило утром 10–15 минут для того, чтобы явиться на работу вовремя.
Утром каждый для себя находит время, чтобы настроиться на работу, независимо от того, любит он ее или нет:
И так думаешь: «Да! Вот я ему [клиенту] нужна!», то есть «он нужда-ется во мне!» – это тоже так стимулирует, то, что ты кому-то нужна,вот. Получается так, что я знаю, что звоню клиенту не из-за того, что он мне очень сильно нужен, а из-за того, что мы нужны... (сотрудница). Менеджер по продажам «старой закалки», который активно
занимался торговлей в советское и постперестроечное время до августа 1998 года, лишившего его возможности продолжать собственное дело, негодует по поводу правил упорядоченного рынка:
Там легче было. Там продал и всё, и, в принципе, пошёл ты на фиг.Там, раньше… ну, это всё стихийно было… там, раньше приходили через два дня и говорили, допустим: «Вот, сломалось». «Не волнует!», никаких прав защиты потребителей, ничего! Работалось легко. У на-рода было очень много денег… (сотрудник 2). Рабочий день начинается, как правило, с бесконечного коли-
чества телефонных звонков. Кого из менеджеров не спроси в этот момент, по какому принципу он работает, все как один скажут,что «к каждому клиенту свой подход!». Риторика сотрудников относительно многообразия стратегий продаж подчас подрывает-ся единообразием технологий общения с клиентами. Можно ус-лышать, как кто-то со смехом рассказывает о веселой, но вполне стандартной, ситуации:
Он такой мне: «Светлана, а Вы нам уже звонили…». А там получает-ся, что технология, в принципе, одна, людям говоришь одно и то же [смеясь] только с разной интонацией. То есть он слышит слово в слово то, что я ему уже до этого говорила… (сотрудница).
346
В процессе телефонных переговоров менеджеры по прода-жам придерживаются следующего правила: «Чем меньше ты даешь информации клиентам, тем больше ты его заинтересовы-ваешь». В этом реализуется один из элементов профессиональ-ных традиций – асимметричное распределение знания между сторонами, благодаря чему одна из них получает властные пол-номочия и право осуществлять воздействие [Щепанская, 2003. С. 151]. Подобное скрытие информации позволяет менедже-рам, не обладая должными навыками продаж, манипулировать клиентами.
При личной встрече с потенциальными покупателями зачас-тую скрывается информация относительно преимуществ и недос-татков той или иной модели оборудования. Менеджер, предос-тавляя неполную информацию, предлагает модели, аналогичные ассортименту конкурирующих фирм, а не точно такие же, так как это открывает перед ним новые возможности манипулирования в сфере ценообразования. Данный прием позволяет уйти от чест-ной конкурентной борьбы и склонить покупателя сделать выгод-ный для менеджера выбор.
Однако информация не всегда скрывается умышленно: со-трудники исследуемого предприятия зачастую не успевают перед продажей ознакомиться с товаром и определиться с ценой на не-го. Причиной такого положения вещей служит неправильная ор-ганизация работы менеджеров по продажам, не позволяющая данной фирме преодолеть стадию раннего развития, которая при-няла затяжной характер.
А фактически, я – тоже кот в мешке, э… я продаю кота в мешке (со-трудник 2); Нужно было подготовить для него [для клиента] предложение по но-вому оборудованию, которое было нам ещё не известно, мы только получили прайс-листы в этот же день… тут он подошёл, мы не успели их переделать, я начал с ним общаться в отдельной комнате, а офис-менеджер делала прайс-листы... (сотрудник 1). Далее развивается анекдотическая ситуация. В то время, как
клиент пытается разобраться в цифрах, менеджер замечает, что
347
его сотрудники в спешке не скрыли колонку с закупочной ценой,и резко выхватывает прайс-лист у клиента. Отходя в сторону и тихо закипая, он говорит своим сотрудникам о том, что в прайс-листе ошибка и, требуя немедленно все исправить, возвращается к клиенту. Однако в «прайсе» (каталог, price-list) была не одна оплошность. Сотрудники, не поняв, что именно имел в виду кол-лега, исправляют другой недочет, чем провоцируют повторение истории с резким выхватыванием прайс-листа из рук клиента еще два раза. Так как клиент все равно заказал оборудование, то по-добные ситуации не подвергаются серьезному анализу, а являют-ся лишь поводом для шуток.
Важным моментом в работе менеджера по продажам являет-ся первая встреча с потенциальным клиентом. Если в течение дня идут интенсивные покупательские потоки, то менеджеры стараются больше времени уделять тем типам покупателей,с которыми им легче работать. Если же покупатели не жалуют сегодня выставочный зал своим вниманием, то менеджеров ох-ватывает тоска: они, зевая, бесцельно болтаются по офису и только когда мимо проходит директор быстро хватаются за пер-вые попавшиеся под руку документы и устремляют туда взгляд.В этот день даже самый «вредный» клиент вызывает большой интерес:
Ну, настолько... всё жестко, с таким отрицанием, с таким отверганием всего... с такими – трудно работать... Но иногда, иногда, допустим,просто от скуки, наоборот интересно (сотрудник 1). При появлении клиента на пороге офиса каждый менеджер
разворачивает свою стратегию поведения. У каждого свои мето-ды работы, но есть одно сходство: главное – это установить с клиентом «близкий межличностный контакт», настолько близ-кий, насколько этого хочет покупатель. Но если «перегнуть пал-ку», клиент начинает чувствовать дискомфорт и замыкается, то-гда он для фирмы безвозвратно потерян. При всем видимом цар-ственном положении клиента – это «игра в одни ворота»: «То есть, это – игра, это такой азарт, там: “Ага, сейчас я его сделаю!”» (сотрудница).
348
Процесс общения менеджера с клиентом напоминает бой, где есть все этапы, характерные для военных действий: разведка, ко-торая включает в себя определение потребностей и особого «язы-ка», на котором стоит общаться с клиентом; непосредственно во-енные действия, где ключевыми моментами являются презента-ция и «отстройки от возражений»; победа:
В конце надо, как бы, прижимать клиента (сотрудник 1); И, в конце концов, она может так нажать! Просто, знаешь, образно выражаясь «взять за горло», и уже от неё никуда не денешься, и от-дашь деньги, и скажешь: «приходи ещё» (сотрудница). Если клиент «сдается без боя», то есть проявляет готовность
сотрудничать и признает компетентность продавца, то менедже-ры отдают предпочтение установлению доверительных отноше-ний с клиентом, проявлению максимальной эмпатии по отноше-нию к нему:
Тут уже как-то меняется – ты начинаешь сочувствовать, там, пережи-вать за клиента… (сотрудница); ...чтобы они расслабились просто, доверились нам, и мы как бы всю эту работу им сделали… (сотрудник 1). Однако подобные стратегии не несут в себе отказа от рацио-
нализма – профессиональная деятельность этого не допускает.Здесь проявляет себя принцип социального обмена между людь-ми (по Хомансу), который связан со взаимной передачей ценных аспектов поведения [История социологии… 1997. С. 240]
Сотрудники, обремененные багажом опыта работы в совет-ской торговле, зачастую вообще предпочли бы завершить сделку,минуя этап переговоров с клиентом:
То есть лучше так: пришёл к тебе человек – ты точно знаешь, что он у тебя купит, ты его не убеждаешь… (сотрудник 2). Но на сегодняшний день работа менеджера по продажам не
отделима от процесса переговоров с потенциальными клиента-ми. Поэтому наш информант, увидев входящего в выставочный
349
зал потенциального покупателя, неторопливо, с чувством собст-венной значимости, направляется к клиенту, надев на нос тем-ные очки. Солнцезащитные очки в помещении служат способом обозначения дистанции, что является своеобразным элементом конструирования статуса профессионала [Щепанская, 2003. С. 156].
Таким образом, стратегии общения с потенциальными поку-пателями можно классифицировать следующим образом: «бой», эмпатия, дистанция. Та или иная стратегия выбирается менедже-ром исходя из демонстрируемой позиции покупателя и собствен-ных представлений о ходе переговоров. Но в любом случае она призвана работать на формирование высокого статуса эксперта,обладающего ценными для покупателя знаниями.
Как и во многих других торговых организациях, стремящих-ся быть доступными для клиентов в любое время, в исследуемой фирме нет перерыва на обед. Менеджеры по продажам уединя-ются для принятия пищи за барной стойкой, которая одновре-менно служит и выставочным образцом, и обеденным столом.Сотрудники убеждены, что свои продукты вполне можно хранить в холодильниках, выставленных на продажу. Они изыскивали массу способов, позволяющих им это делать, несмотря на санк-ции директора, который считает, что посторонние запахи и пред-меты в выставочных образцах не способствуют росту продаж. Не предпринимая никаких мер для решения проблем подчиненных,связанных с питанием, директор провоцирует сотрудников при-сваивать пространство, предназначенное для покупателей, под удовлетворение своих собственных потребностей.
В последний час рабочего дня покупатели почти уже не за-ходят. Уставшие сотрудники, смеясь, обсуждают приключения уходящего дня – на подобное терапевтическое общение никто не жалеет времени, даже если знает, что ему придется сегодня за-держаться после работы.
Повседневная деятельность менеджеров по продажам на ис-следуемом предприятии не ограничивается прямыми должност-ными обязанностями. Предполагается и выполнение дополни-тельных функций, которые зачастую носят «добровольно-
350
принудительный» характер и реализуются не без ущерба для ос-новной деятельности специалистов.
Когда от поставщиков приходит машина с оборудованием,все менеджеры спешат на разгрузку, не обращая внимания на входящих в зал клиентов. К выполнению этих работ привлека-ется мужская половина коллектива, и они не сопротивляются – это прекрасная возможность подзаработать:
Если у нас 3–4 тысячи [рублей – ежемесячная заработная плата. –инт.], допустим, да я сам иду разгружать! (сотрудник 2). Такие практики активно подкрепляются руководством с идео-
логической точки зрения: указывается полезность этого процесса,которая заключается в том, что «к людям придет понимание масштабности финансовых и человеческих затрат, которые фир-ма несет при подобных мероприятиях». Однако подобная страте-гия организации труда продиктована стремлением работодателей к экономии на фонде заработной платы, что достигается совме-щением основных функций и функций подсобных рабочих в рам-ках одного рабочего места [Козина, 2003. С. 134].
Если нужно сдать серьезный объект, то мужская половина коллектива после полного рабочего дня «в добровольно-принудительном порядке» направляется на монтаж оборудования.Контролирует монтаж старший менеджер. Не решаясь поступить как в известном анекдоте: «Не могу просто стоять и смотреть, как другие работают, – пойду полежу», он деловито включается в процесс сборки оборудования:
Я, как бы, не обязан был собирать ничего, я просто стоял в чистой одежде, весь такой модный стою, смотрю за ними, как они там пачка-ются, мараются, на коленках ползают, собирают, вот… не могу удер-жаться, но всё равно подойду, там где-нибудь что-нибудь вкручу, где-нибудь что-нибудь вставлю, что-нибудь зайду сам подвигаю… (стар-ший менеджер). Менеджеры по продажам, не проявляя благодарности за «бар-
скую» помощь, интенсивно крутят гайки, сердито поглядывая
351
на «старшего»… Закончив монтаж в 2–3 часа ночи, сотрудники направляются по домам.
Может создаться впечатление, что на этих рабочих местах люди работают вынужденно, ожидая лучшего варианта трудо-устройства, или в этой фирме у сотрудников высокие заработки.Более глубокий анализ ситуации показывает, что неверно ни то,ни другое. Когда менеджера «старой закалки» звали работать в конкурирующую фирму с окладом в два раза больше, он от-казался и на вопрос: «Почему ты туда не идешь работать?» – ответил:
А зачем? Там работать заставят! Я здесь сижу, что мне нужно, то и де-лаю, а почему? Потому что я взял один крупный заказ и веду его два месяца. А как веду? Позвонил, сходил на планёрки; сходил на планёр-ки, позвонил – времени свободного полно, сиди – занимайся своими делами, телефон – вот он, и я свои попутные левые дела решаю… Кто,как меня проконтролирует? Здесь я кроме зарплаты знаю множество разных способов заработать. А там – нет, там за эти деньги заставят работать… (сотрудник 2). Уровень заработной платы в исследуемой организации дос-
таточной низкий, система мотивации сотрудников противоречи-ва, однако мужчины – менеджеры по продажам не торопятся от-сюда уходить. Это связано с тем, что при наличии опыта работы на данном предприятии у сотрудников появляются дополни-тельные неформальные возможности повышения своего благо-состояния.
Таким образом, анализ содержательных деталей повседнев-ности, микропрактик трудовой деятельности, организации рабо-ты исследуемой группы дает возможность сделать вывод об оп-ределяющем значении неформальных факторов в конструирова-нии всех аспектов профессиональной деятельности менеджеров по продажам.
Эмпирические исследования связывают эффективность дея-тельности предприятия и значение неформальных факторов в ор-ганизации труда: чем менее успешно предприятие, тем выгоднее работникам неформальные правила и практики, так как они
352
помогают справиться с неопределенностью [Становление… 2004.С. 161]. Мы полагаем, что те же самые механизмы помогают справиться с неопределенностью при занятости в новых, недав-но появившихся под влиянием политических, экономических и культурных факторов, видах трудовой деятельности. Но по-скольку «структурные качества социальных систем являются как средством, так и результатом практик, которые они регулярно организуют» [Гидденс, 1995. С. 77], то доминирование нефор-мальных правил и практик в организации трудовой деятельности менеджеров по продажам усиливает нестабильность, отражается на эффективности деятельности предприятия торговли и пре-пятствует институциализации данного вида занятости в качестве профессии.
Гендерно-ролевые отношения на рабочем месте На исследуемом предприятии наблюдается высокая теку-
честь кадров среди женщин – менеджеров по продажам. Причи-ной тому служит жесткая регламентация гендерных ролей на ра-бочем месте со стороны руководства, сотрудников и клиентов,которая не устраивает женщин.
Статус женщин на рынке труда и существование полового разделения различных категорий рабочих мест является резуль-татом долгого процесса взаимодействия между патриархатом и капитализмом [Хартманн, 1999. С. 27–28]. Деконструкция му-жественности / женственности, которую осуществляют Е. Здра-вомыслова и А. Темкина в работе «Социальное конструирование гендера» [Здравомыслова, Темкина, 1998. С. 179], показывает,что в основе гендерной организации социальной реальности ле-жат отношения власти. В нашем обществе половое разделение труда носит иерархический характер, причем мужчины находятся на вершине этой иерархии, а женщины внизу. Отношение муж-ского и женского предстает как отношение различия, основанное на неравенстве возможностей, которое без труда находит свою аргументацию со стороны управленца среднего звена, выражаю-щего интересы руководителя предприятия:
353
Та нагрузка, которая ложится на менеджеров, я имею в виду те же са-мые разгрузки-погрузки, монтажи, выходы работать по ночам… и…график у нас иногда не определён, то есть вроде мы работаем с девя-ти до шести, но в то же время есть постоянно необходимость задер-живаться до восьми, до девяти. Как правило, здесь девушки начина-ют… просто не выдерживать: «Да нет, мне там с другом надо встре-титься, там хотелось бы посуду съездить помыть домой» (старший менеджер). Из этой цитаты интервью можно было бы сделать вывод, что
руководители малых предприятий торговли вообще не хотят брать на должность менеджера по продажам женщин, но это не совсем так. Руководитель, обозначив неконкурентоспособность женщин в условиях данного рабочего места, на котором по его представлениям требуются «мужские качества» (выносливость,полная самоотдача), желает вынудить их использовать другой «военный арсенал» в борьбе за клиента. Работодатели не забыва-ют подчеркнуть естественность этого процесса обращениями к истории, традициям, фразами: «так было всегда».
Что изначально и всегда было у женщин в арсенале – это соблазнять мужчин, она и будет это использовать, чтобы соблазнять клиентов (старший менеджер). Эта цитата характеризует кадровую политику данной орга-
низации в отношении женщин. В течение года были уволены две сотрудницы: к одной из них предъявлялись серьезные претензии относительно отсутствия макияжа и маникюра, другая не устраи-вала своей манерой одеваться в гендерно-нейтральном стиле «унисекс». Частые замечания по поводу внешнего вида вынудили девушек уволиться по собственному желанию. Необходимо от-метить, что вопроса о служебном соответствии сотрудниц и каче-стве выполняемых ими работ при этом у руководителей не воз-никало.
Желание работодателя использовать феминность, при усло-вии содержания в ней большой доли сексуальности, как некий социальный капитал, позволяющий повысить конкурентоспособ-ность фирмы, продиктовано, в первую очередь, ожиданиями
354
клиента, который в стереотипном представлении многих россий-ских предпринимателей имеет «мужское лицо».
Положение женщин в профессиональной сфере усугубляется,если они занимаются реализацией товаров, которые традиционно относятся к «мужским»:
Лично моё мнение: либо мне надо шурупы купить, либо мне надо дрель купить, либо гвозди – я никогда не куплю это у продавца, у ме-неджера – девушки. Никогда! И, в принципе, таких как я, ну думаю,процентов 30 есть… <…> «У вас есть нормальные люди?», в смысле – мужики, их не оказалось. Ну чё, я не купил (клиент). Подобное отношение может оказывать свое негативное
влияние на уровень продаж, профессиональный статус в глазах руководителя, сотрудников-мужчин, а также на уровень доходов.К тому же, если женщина занимается «не своим делом», то это,по мнению руководства, лишний раз провоцирует клиента рас-сматривать ее не как профессионала, а как объект ухаживания или даже сексуальных притязаний. При помощи этих рассужде-ний руководители и сотрудники-мужчины пытаются дать объек-тивное обоснование различия гендерных ролей мужчины и жен-щины в рамках одной профессии.
Роль сотрудницы-женщины состоит не только в привлечении клиентов своим внешним видом, но и в осваивании тех направле-ний деятельности предприятия, которые мужчины не соглашают-ся разрабатывать. Менеджеры по продажам – мужчины очень за-интересованы в том, чтобы коллектив был гетерогенным. При отсутствии женского пола они лишаются своеобразного буфера,который вбирает в себя обязанности, не представляющие интере-са для мужчин, а точнее экономической выгоды, но которые не-пременно кем-то должны выполняться, потому что фирма желает развивать это направление либо считает его сопутствующим для других товарных групп.
Парикмахерским оборудованием, посудой, кухней, инвентарём – муж-чины этим заниматься не будут, ну просто… из вредности, из того,что это низко для них как-то что ли или какая-то ерунда для них. Де-вушками это как-то нормально воспринимается, они это любят, ну не
355
то чтобы любят, но говорят, что им, в смысле, …согласны. Именно вот эта женственность, она вот именно здесь просто необходима (старший менеджер). Подобное разделение труда прикрывается аргументами в ду-
хе биологического детерминизма и эссенциализма: женщине трудно разобраться в технологическом оборудовании, это «по природе ближе мужчинам», а парикмахерское оборудование она в состоянии освоить, даже ни разу не видя его до продажи.
В гетерогенном коллективе женщина наталкивается на не-формальные механизмы блокирования ее трудовой активности:сотрудники хотели бы видеть рядом с собой женщин, «знающих свое место», скромных, уступчивых, не вмешивающихся в разго-вор, «когда говорят мужчины», не составляющих конкуренцию,не претендующих на высокодоходные направления.
Сотрудницы не желают отвечать ожиданиям коллег и на-стаивают на том, чтобы на рабочем месте их идентифицировали не по полу, а по профессиональным качествам и обязанностям:«…Допустим с 09.00 до 18.00 я не женщина – я, там, сотрудник,я – менеджер по проектам» (сотрудница).
Настаивая на необходимости ведения дел по принципу: «Ес-ли умеешь работать, то не важно какого ты пола», женщины ука-зывают на то, что все детали можно выучить и разговаривать с мужчиной-клиентом на его языке. Тогда и форма одежды, бу-дет она в мини-юбке или в брюках, перестанет быть опреде-ляющим фактором в оценке успешности женщины – менеджера по продажам. Необходимо просто предоставить им такие воз-можности.
Однако специфика трудовой деятельности в условиях не-большой торговой фирмы оказывает значительное влияние на воспроизводство дискриминирующих женщину процессов.Руководители в своем желании во всем угодить клиентам готовы использовать в качестве дополнительного ресурса женскую сек-суальность. Сотрудники-мужчины в условиях малого коллектива способны оказывать сильное социальное давление на отдельных членов трудового коллектива с целью обеспечить себе внутри-
356
групповую конкурентоспособность и иметь возможности зани-маться наиболее прибыльными направлениями деятельности. Та-ким образом, в рамках одной, на первый взгляд «гендерно-нейтральной», должности «менеджер по продажам» существует жесткое, но формально не закрепленное, регламентирование ген-дерных ролей на рабочем месте.
* * *Анализ организационной культуры малого предприятия
торговли с акцентом на один вид занятости, а именно, организа-цию поставок, поиск клиентов и стратегии общения с ними, по-зволяет сделать вывод о том, что исследуемый род деятельности требует определенной подготовки, особого статуса в организа-ции, имеет специфические характеристики, связанные с предъ-являемыми обязанностями. Следовательно, можно говорить о процессе профессионализации торговли в целом, малого биз-неса, а также сотрудников, работающих в должности «менеджера по продажам».
Профессионализация менеджеров по продажам в условиях малого бизнеса современной России имеет свои отличительные особенности, которые заключаются в наличии факторов, активи-зирующих и блокирующих этот процесс, делая его весьма проти-воречивым.
Среди блокирующих факторов в процессе профессионализа-ции менеджеров по продажам можно выделить доминирование неформальных правил и практик в организации их трудовой деятельности. Сюда мы относим формально не закрепленное жесткое регламентирование гендерных ролей в рамках иссле-дуемой должности, что вызывает серьезные конфликты, так как работодатели привлекают женщин на эти рабочие места, но не предоставляют равных с коллегами-мужчинами условий труда.Стремление работодателей к экономии на фонде заработной платы с помощью совмещения основных функций и функций подсобных рабочих в рамках одного рабочего места также под-рывает процесс профессионализации менеджеров по продажам,так как дополнительные работы зачастую носят «добровольно-
357
принудительный» характер и реализуются не без ущерба для основной деятельности специалистов. Кроме того, политика экономии на фонде заработной платы вынуждает менеджеров по продажам использовать нелегальные возможности повыше-ния своего благосостояния, что делает невозможным кристалли-зацию разделяемых всеми этических принципов реализации данного вида деятельности. Определяющее значение нефор-мальных правил и практик в организации трудовой деятельно-сти менеджеров по продажам усиливает нестабильность и пре-пятствует институциализации данного вида занятости в качестве профессии.
Серьезной проблемой в процессе становления профессии «менеджер по продажам» являются различные взгляды предста-вителей данного вида занятости относительно приоритетов про-фессиональных качеств, оптимальной системы обучения, а также обладание разной степенью навыков, что сильно препятствует поиску профессиональной идентичности и формированию фун-даментальных структур профессионального габитуса.
К факторам, способствующим процессу профессионализации менеджеров по продажам, относятся бурное развитие инфра-структуры подготовки специалистов в сфере торговли (высшее образование, бизнес-образование), активная рефлексия и поиск профессиональной идентичности представителями исследуемой группы. Символическая политика наименования исследуемой должности позволяет повысить статус специалистов по продажам в общении с клиентами и выступает в качестве своеобразного символического капитала. Менеджеры по продажам конструиру-ют свой статус профессионала, обладающего ценными для поку-пателя знаниями, с помощью таких элементов, как выбор той или иной стратегии общения с потенциальным клиентом, обозначе-ние дистанции, асимметричное распределение знания между сторонами.
Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. С. 44–59.
358
Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: Учеб. пособие. Новосибирск:Изд-во Новосибирского ун-та, 1995.
Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. 1998. № 3/4. С. 171–182.
Ильина М. Частный извоз в провинциальном городе: самоорганизация социальной группы // Рубеж. 1999. № 13–14. С. 201–218.
История социологии: Учеб. пособие / А.Н. Елсуков, Г.Н. Соколова, Т.Г.Румянцева, А.А. Грицанов; Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. 2-еизд., перераб. и доп.М.: Высш. шк., 1997.
Козина И.М. Профессиональная стратегия: гендерные стереотипы на рынке труда // Социологический журнал. 2003. № 3. С. 126–136.
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-еизд., испр.М.: Рус. яз., 1990.
Орлова Е.В. Современное российское предпринимательство: экономико-социологический анализ / Под ред. Г.В. Дыльнова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002.
Романов П.В. Власть, управление и контроль в организациях: Антропо-логические исследования современного общества. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003.
Романов П.В. Социология менеджмента и организаций. Серия «Высшее образование». Ростов н/Д: Феникс, 2004.
Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр.М.: Рус. яз., 1998. Становление трудовых отношений в постсоветской России. М.: Акаде-мический Проект, 2004.
Точка пересечения / Консалтинг современному руководителю; http:// www.bazar2000.ru/index.php?article=762. Обращение к источнику 28.06.2004.
Хартманн Х. Капитализм, патриархат и половая сегрегация труда (пер.И.Н. Тартаковской) // П.В. Романов. Социальная антропология орга-низаций: Учеб. пособие. Саратов: СГТУ, 1999. С. 27–28.
Царева Е. Первое сентября – день особого света (Кто будет работать в торговле?) // Обзор цен. Продукты питания. 2003. № 34 / http:// www.pricereview.ru/archive.phtml?id=919. Обращение к источнику 25.07.2005.
Щепанская Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 2003. Т. VI. № 1(21). С. 139–161.
Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В., Михель Д.В. Социальная антропо-логия современности: теория, методология, методы, кейс-стади:Учеб. пособие. Саратов: Научная книга, 2004.
Millerson G.L. The Qualifying Association. London: Routledge & Kegan Paul, 1964.
359
ТОРГОВЦЫ НА РЫНКЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ:ПРАКТИКА ЗАКУПКИ ТОВАРА
КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИИ ПРОДАВЦА
Евгения Васина
Торговцев на рынке под открытым небом здесь мы будем рассматривать как определенную квазипрофессиональную груп-пу и сообщество. В соответствии с традиционными социологиче-скими подходами, к профессиям относятся такие виды занятости,которые имеют формальную структуру и требуют специального образования, профессиональных навыков и умений [Романов,2000. С. 100]. В соответствии с этими взглядами, профессионалы – это люди, в первую очередь, относящиеся к определенному соци-альному слою. Антропологические исследования расширили по-нимание профессии за счет изучения неформальных структур,механизмов воспроизводства знания и власти [Щепанская, 2003а].
Исследуемое нами сообщество уличных торговцев трудно отнести к профессии в классическом смысле этого слова, но эта социальная группа имеет многие общие признаки, имеющие суб-культурный характер, производства и воспроизводства специаль-ного знания, относящегося к их деятельности. Эти признаки можно разделить на общие (связанные с возникновением, исто-рией профессии), общие соединяющие (язык, форма одежды, ма-нера поведения, стереотипы, способы проведения досуга) и скры-тые, имеющие своей целью более плодотворную деятельность (скрытое знание). Как полагает Т.Щепанская:
В разных профессиональных средах отмечены представления о некоем особом знании, источником которого может быть опыт, дар, озарение,особая эмоциональная («любовь») или мистическая связь с объектом деятельности и т. д. Научить этому невозможно, но именно владение им отличает «настоящего профессионала» [Щепанская, 2003а. С. 151]. Этот фактор связан с интуицией, точнее будет сказать про-
фессиональной интуицией: когда поле деятельности уже открыто для профессионала, он улавливает определенные элементы явле-ний и поведения, которые старается особым образом интерпрети-
360
ровать, связывая в определенную цепочку причин и следствий.Таким образом, знание может носить не только формальный ха-рактер, приобретено не только посредством образовательных уч-реждений, но и с помощью личного опыта, «метода проб и оши-бок», а также наставлений «сотрудников» [Романов, Ярская-Смирнова, 2005]. Более подробно мы остановимся на тех знани-ях, которые относятся к практике закупки товара в повседневной деятельности саратовских торговцев рынка под открытым небом.
Наше исследование осуществлено в течение 2002–2004 годов на привокзальном вещевом рынке г. Саратова с использованием качественных методов, в том числе включенного и простого на-блюдений, неструктурированного и полуструктурированного ин-тервью. В таком виде исследования социолог, накапливая поле-вые данные, опирается не только на теоретические знания,но и на собственный опыт [Семенова, 1998]. Картина действи-тельности рассматривается нами в категориях каждодневного знания. В соответствии с концепцией П. Бергера и Т. Лукмана,реальность не является чем-то автономным и внешним от нас,она постоянно конструируется, является предметом интерпрета-ции [Бергер, Лукман, 1995].
Передача знаний среди самих торговцев становится редким явлением в условиях высокой автономии и конкуренции между индивидами в этом секторе занятости. Здесь мы рассмотрим этот феномен на примере некоторых аспектов деятельности рыночных торговцев, истории нынешнего существования, а не возникнове-ния профессии (так как «торговля» имеет давние исторические традиции, изменялись лишь ее формы во временных и культур-ных рамках) во многом объясняет современную ситуацию. С те-чением времени произошла эволюция торговых отношений: в те-чение почти всего советского периода существовала проблема недопроизводства («дефицита товаров»), тогда как на сегодняш-ний день актуальна проблема сбыта («дефицита денег»). В годы советской власти в неформальном секторе экономики было заня-то большое количество людей, которых называли спекулянтами.Они осуществляли незаконный или полулегальный сбыт про-мышленных товаров через социальные сети друзей и знакомых,неформальные рынки:
361
Неформальные рынки имеют сетевую социальную природу, когда превалирует «интенсивно-личностный» характер трансакций, то есть определяемый личными отношениями покупателей и продавцов (в от-личие от формально-ролевых взаимоотношений) [Романов, Суворова,2003]. С началом рыночных реформ в России происходит смена
в практике производства и сбыта товаров.
В условиях либерализации экономики произошло крушение традици-онной статусной иерархии профессий. Деньги обрели реальную поку-пательную силу, стали определять положение человека в обществе.Обнаружилось, что не обязательно быть специалистом-профессио-налом, чтобы получать высокий доход. Более важным оказался про-фессионализм в зарабатывании денег, для чего важно стало обладать нужными связями, уметь договориться с людьми, быть мобильным и легко перестраиваться [Романов, 2000]. Многие своим способом зарабатывания денег выбрали тор-
говлю: одни сохраняют выбранную позицию уже многие годы,другие приходят сюда снова. Формы торговли стали разнообраз-ными, соответствуя цене и качеству продаваемого товара. Бло-шиные рынки [Бредникова, Кутафьева, 2004; Паченков, 2004], как и рынки стихийной торговли [Рязанцев, Письменная, 2005. С. 37–41] принципиально отличаются от легализованных рынков под открытым небом, однако в социальной организации этих раз-ных типов рыночной торговли есть принципиальное родство: это важная форма занятости и источник дохода для многих людей,неотъемлемый элемент экономики на местном, национальном и глобальном уровнях, а также комплекс отношений обмена. Это отношения рационального и символического характера, напол-няющих смыслом повседневную жизнь их участников.
Впрочем, легализация рыночной торговли вовсе не означает тотальной формализации отношений между всеми персонажами драмы под открытым небом. Если рассматривать зону занятости с точки зрения драматургического подхода И. Гофмана [Гофман,2000], то эта зона существенно отличается от физически организо-ванного пространства, так как включает в себя не только сам ры-нок, но и задействованные в деятельности продавца пространства.
362
Сюда относятся и поездки за товаром, которые являются «зад-ней» зоной исполнения спектакля торговли, где сами продавцы исполняют роль покупателей, то есть трансформируется ролевое поведение. При непосредственном общении продавца и покупа-теля на местном рынке продавец может завести разговор о той,так называемой задней, закулисной зоне, если этого требует ис-полнение. Такой диалог может состояться, если продавец обра-щается с фразой: «Я за этими кофточками очередь отстояла», при этом сама фраза при взаимодействии носит ресурсный характер для дальнейшей покупки.
При изучении реальности человеческих взаимодействий в рамках тех или иных сложившихся культур и субкультур важно выявлять их культурные коды – «способы символизации, транс-ляции и актуализации в рамках конкретной изучаемой среды»[Щепанская, 2003б. С. 11]. Так, И. Ивлева, анализируя сложную внутреннюю структуру среды петербургских уличных торговцев,выявляет символические коды их субкультуры, включая бедность и материнство, обращается к правилам и санкциям, представле-ниям о репутации работающих на рынке [Ивлева, 2001]. В нашем исследовании мы решили сфокусироваться лишь на одном эле-менте повседневной деятельности торговцев – практике закупке товара.
Практика закупки товара торговцами вещевых рынков пред-ставляет собой ритуал, имеющий свои правила, нормы поведе-ния, профессиональные знания и связан с дорогой, перемещени-ем туда и обратно. Он требует особых навыков и правил, особой культуры «челноков». «Челночество» как специфический тип хо-зяйствования и образ жизни послужило для многих людей сред-ством переосмысления себя в новых экономических категориях [Жилкин, 2003. С. 171], заставило выработать особые стратегии и тактики выживания в сложных условиях и манипулирования обстоятельствами. Вместе с тем в современных культурных прак-тиках, связанных с путешествиями, дорогой, отъездом и возвра-щением, воспроизводятся некие элементы дорожного образа жиз-ни, должных взаимодействий и правил поведения, общие с тра-диционными [см.: Щепанская, 2003б]. Мы остановимся на неко-торых приемах и правилах, о которых нам поведали информанты,
363
чтобы понять социальное устройство и систему смыслов изучае-мой субкультуры.
Закупка товара саратовскими торговцами обычно происходит на московском оптовом рынке «Черкизовский», реже в «Лужни-ках» или Турции. В большинстве за товаром ездят на двух видах транспорта: автобусе и поезде. Автобусные рейсы условно можно разделить на две группы: одни из них ориентированы на перевоз туристов, и здесь челноки находятся в меньшинстве; другие ав-тобусы приспособлены для торговцев – чаще ими пользуются представители Кавказских государств. Здесь можно встретить узбеков, армян, азербайджанцев и представителей других этнич-ностей.
Выбор в пользу автобуса связан с тем, что торговцы закупа-ют товар более крупным оптом и разместиться с ним в поезде го-раздо сложнее, нежели в автобусе. Автобус обычно приезжает не на вокзал, а непосредственно на рынок, что тоже удобно. Товара закупают столько, что он занимает весь автобус, а спать прихо-дится на товаре под потолком. В автобусах сидячие места транс-формированы в лежачие. Выглядит это следующим образом:кресла через пару убраны и из четырех сидячих мест получается два лежачих. Причем ездят часто по одиночке (хотя встречаются в автобусе знакомые, так как некоторые ездят в Москву даже по два раза в неделю). Два лежачих места спарены, и часто прихо-дится спать с кем придется, а на обратном пути – и по несколько человек в ряд. Автобусные рейсы можно условно разделить на две группы: рейсовые и «для своих». Люди по-разному ис-пользуют имеющийся набор возможностей передвижения, исходя из собственных ценностных и приоритетных критериев. «Средст-во передвижения» также является одной из зон исполнения спек-такля торговли.
В автобусе играют в карты до утра на деньги, танцуют на-циональные танцы, на остановках в кафе едят и выпивают. Такие формы поведения представляется возможным интерпретировать с точки зрения стремления к объединению, одной из форм спло-ченности группы внутри более большой группы. Такого рода времяпрепровождение объединяет две основные сферы жизни – работу и досуг, и подобного рода взаимодействие наблюдается
364
там, где социальная дистанция сокращается до минимума, то есть совместное пространство провоцирует сокращение дистанции и вызывает такие формы поведения, как игры, танцы, совместные трапезы. С точки зрения драматургического подхода такое пове-дение можно объяснить фактором отсутствия зрителей, где ис-полнение не ограничено рамками «стандартного» поведения.
На поезде чаще ездят русские, и здесь все проще. Если ездят по несколько человек, то размещаются, по причине сложности достать билет, в разных вагонах, но трапезы все же проводят вме-сте. Покупка билета является сложной задачей, так как наблюда-ется их постоянный дефицит. Билеты в купе являются невостре-бованными по причине дороговизны, более востребованными считаются нижние полки, не боковые места, так как здесь проще разместить объемный багаж. В дороге торговцы преимуществен-но разговаривают на темы, связанные с их деятельностью; обсу-ждают, какого рода товар лучше везти, кто сколько продал и т. п.Кроме того, в ходе исследования было замечено, что в поведении торговцев в дороге присутствуют моменты, когда продавцы стремятся казаться так называемыми «профессионалами дорог», людьми, для которых поезд также является домом. Такого рода поведение выражается в знании следующей станции, расположе-нии баулов или даже в том, что они дают попутчикам советы, как удобнее переместиться на верхнюю полку.
В основном, торговцы стараются ездить в Москву не по оди-ночке, а группой из двух-трех человек, как говорят продавцы «так веселее и безопаснее» (интервью 1). Нередки случаи проезда в купе проводников, по договоренности, если нет билетов. Кроме того, этого способа передвижения некоторые торговцы придер-живаются намеренно с целью безопасности. В этом случае ста-раются проехать уже со знакомыми проводниками, здесь дейст-вует принцип взаимной выгоды. В поезде соблюдают правила безопасности, распространенные в этой среде: прячут деньги под одеждой, прикрепляя их булавками. Такое поведение диктуется возможными рисками, которые данная среда располагает, это своего рода «ловушки», естественные или искусственные, свое-образный фильтр, через который проходит каждый, кто находит-ся в зоне исполнения и играет спектакль торговли.
365
Такой аспект, как прием пищи в дороге, также является усто-явшимся; с опытом, исходя из удобства, доступности этот про-цесс привносит некоторый социальный характер, ориентирован-ный не только на себя, но и на других людей, например, в дорогу редко берут пищу с сильным запахом. Часть берут из дома, гото-вя заранее и договариваясь, кто что принесет, часть покупают в близлежащем магазине. Такие продукты, как кофе, сахар, соль пересыпают в маленькие баночки и берут с собой в дорогу, их хватает на несколько поездок. В дорогу также часто берут спирт-ные напитки, но сильно выпивших людей здесь не встретишь, так как осознается ответственность за свою деятельность, страх по-терять большие деньги, на которые закупается товар. Спиртное скорее можно интерпретировать как лекарство, которое облегчает тяжелую дорогу, «выпивают символически».
В Москве до оптового рынка добираются на транспорте:метро и маршрутное такси или такси. Такси набирает группу из четырех человек и привозит на место. Чаще делается так:до оптового рынка добираются на метро и маршрутном такси, так как это дешевле и занимает меньше времени (в связи с постоян-ными пробками), а от оптового рынка до вокзала, по причине ве-сомого багажа, едут на такси. Интересная деталь, о которой гово-рят респонденты, относится к контролю на вокзале при проверке массы багажа. Чтобы не переплачивать за вес, закупщики, ставя сумки на весы, удерживают ее одной ногой. После этой процеду-ры получают талон, в котором указана масса багажа, и, проходя к поезду, продавцы предъявляют этот талон контролирующим лицам. Нужно отметить, что «фильтры», в которые неизбежно попадает торговец, осуществляя свою деятельность, он старается любым образом обойти, что стимулирует возникновение новые преград и трансформацию старых, которые имеют более жесткие правила. Такое поведение опирается на стремление сэкономить или упростить свою деятельность.
Что касается поведения на московском оптовом рынке, про-цессу закупки товара также присущи определенные стратегии поведения. Во-первых, оптовый рынок, как и любой другой ры-нок, – это зона риска. Риск кражи денег и личных вещей, риск
366
обмана как в приобретении некачественных вещей, так и в мо-шенничестве со стороны местных обитателей:
Подходят три женщины и делают вид как будто мы знакомы и гово-рят, что мы из одного города, что они нашли здесь прекрасный и до-ходный способ заработка: закупают товар здесь и перепродают его в местный дом быта и предлагают работать с ними. Но я то знаю, что может случиться, если согласиться, – они просто отнимут все деньги и скроются в неизвестном направлении (интервью 2). Другой пример:
Я как-то была в Москве, доверила сумку с вещами грузчику, самой тяжело, так многие делают, а там такая толпа, он уехал вместе с моей сумкой, больше я его не видела. Вот так вот на рынке работать – поте-рять можно гораздо больше, чем заработать… На днях знакомая из Москвы вернулась, вся в синяках, у неё деньги отняли, а она ведь только ссуду в банке взяла (интервью 3). Рынок – это место, где можно хорошо заработать, но и много
потерять. По словам респондентов, вероятны такие практики,именуемые ими как «кидало», когда происходит расчет, покупа-тель (аферист) запутывает продавца с целью получения большей денежной суммы, чем отдает. Чем выше риск, тем надежнее актор строит свое поведение в соответствии с правилами внеш-ней среды.
Актуален тот факт, что продавцы закупают товар преимуще-ственно на постоянных точках, а не ходят по всему рынку в по-исках нужного. При покупке товара выдается визитная карточка продавца, где указывается номер лотка и ряда, ассортимент про-даваемой продукции, название ЧП и номер телефона. Такого рода визитные карточки остаются у продавца, что позволяет ориенти-роваться в пространстве. Это своего рода компас, который указы-вает направление движения. Если товар оказывается бракован-ным, то при следующей поездке он может быть обмененным на другой. Благодаря наличию этой карточки, продавец может даже позвонить в Москву из родного города, если у него имеются сомнения относительно работы московского рынка. Таким обра-зом, возникает чувство доверия и безопасности, что провоцирует
367
дополнительный стимул к дальнейшему сотрудничеству. Также продавец (который в данном случае является покупателем) может оставить свой багаж на одной из знакомых точек, что позволяет ему свободно перемещаться по рынку. Московский оптовый ры-нок респонденты делят на несколько зон: Щебенка, где продается дешевый некачественный товар, основной рынок и АСТ, где осуществляется торговля товарами магазинного ассортимента по наиболее высокой цене. Разброс цен на рынке достаточно ве-лик, что может привести к существенному просчету.
Эти аспекты деятельности торговцев во многом диктуются «страхом утраты», который самым тесным образом связан с дан-ным видом занятости. Страх потери денег, доверия, а исходя из этого, статуса, страх быть пойманным (поэтому закупают фальшивые сертификаты на торговлю на этом же рынке). Этот страх вызван внешней средой, которая, с одной стороны, высту-пает как ресурс для деятельности торговца (торговое место, кли-енты), то есть «дает», с другой стороны, устанавливая свои пра-вила, отнимает (санкции, кражи, штрафы).
Передача знаний по поводу поведения в ходе закупки товара может носить устный и наставнический характер. Хотя случаи помощи в выборе товара редки, но при определенных обстоя-тельствах возможны. При устном характере продавец может про-сто рассказать, где и что лучше закупать, как спрятать и сэконо-мить деньги… При наставническом характере помощи торговец помогает непосредственно в дороге при совместной поездке в Москву. Такой феномен имеет не массовый, а индивидуальный характер и требует определенной, удовлетворяющей условиям ситуации, к которым относится, например, близкие отношения,завязанные до прихода в рыночную структуру. Подобное поведе-ние также отмечается при таком аспекте, как передача знаний внутри семьи (торговала мать, которая по определенным причи-нам должна была оставить свой бизнес, а ее место заняла дочь, –и ее «инструктируют» знакомые матери). Эта связь носит элемен-ты взаимодействия внутри системы, где передача опыта осущест-вляется по определенным каналам или сетям. Однако о сетевом характере взаимодействия можно говорить лишь с акцентом на тот фактор, что работают далеко не все ее элементы, а некоторые
368
имеют негативный характер, когда, например, применяется обман в отношении цены и сбыта товара между продавцами.
Если трактовать профессию в духе атрибутивного социоло-гического подхода, то в деятельности продавца рынка под откры-тым небом некоторые элементы найти нельзя, в том числе фор-мального образования, теоретических знаний, широкого призна-ния. В то же время такая деятельность связана с огромным спек-тром неформальных знаний, устоявшихся со временем, которые разделяют, даже стараясь скрыть, члены изучаемого сообщества.Эти знания пронизывают все аспекты их деятельности, начиная от оформления документов и заканчивая сбытом товаров. Аспект закупки является лишь одной из зон исполнения спектакля тор-говли, этому процессу присущи свои правила и нормы поведения.Поездка за товаром включает в себя несколько этапов, начиная отпокупки билетов до размещения в транспорте, поведения в доро-ге, а также знания оптового рынка и порядка действия на нем.Профессиональные знания разделяются в ограниченном кругу,что объясняется рациональным желанием больше заработать,быть успешным в своей деятельности.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания.М.: Медиум, 1995.
Бредникова О., Кутафьева З. Старая вещь как персонаж блошиного рынка // Неприкосновенный запас.№ 2(34). 2004.
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Ка-нон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2000.
Жилкин О. «Челночество» в России: новая жизненная стратегия в пери-од экономических реформ (на примере Иркутской области) // Не-формальная экономика в постсоветском пространстве: проблемы ис-следования и регулирования / Под ред. И. Олимпиевой, О. Паченко-ва. СПб: ЦНСИ, 2003. С. 164–172.
Ивлева И. Уличный рынок: среды петербургских торговцев // Невиди-мые грани социальной реальности / Под ред. В. Воронкова, О. Па-ченкова, Е. Чикадзе. СПб: ЦНСИ, 2001. С. 83–95.
Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социо-логических исследованиях. М.: Логос, 1999.
Паченков О.В. Блошиный рынок в перспективе социальной политики:«бельмо на глазу» города или институт «повседневной экономики»?
369
// Социальная политика: реалии XXI века / Независимый институт социальной политики. Выпуск 2. М.: Поматур, 2004.
Романов П., Суворова М. «Чистая фарца»: социальный опыт взаимодей-ствия советского государства и спекулянтов // Неформальная эконо-мика в постсоветском пространстве: Проблемы исследования и регу-лирования / Под ред. И. Олимпиевой, О. Паченкова. СПб: ЦНСИ,2003. С. 148–163.
Романов П.В. Формальные организации и неформальные отношения:кейс-стади практик управления в современной России. Саратов:СГУ, 2000.
Рязанцев С.В., Письменная Е.Е. Безработица и новые формы занятости населения на Северном Кавказе // Социологические исследования.2005. № 7. С. 31–42.
Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую со-циологию.М., 1998.
Щепанская Т.Б. Антропология профессий // Журнал социологии и соци-альной антропологии. 2003а. Т. VI. № 1(21). С. 139–161.
Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв.М.: Индрик, 2003б.
Описание полевых данных Интервью 1. Женщина, продавец, 42 года.Интервью 2. Женщина, продавец, 42 года.Интервью 3. Женщина, около 40 лет.
ОФИС КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ:ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СТУДИИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Екатерина Москаленко
Данная статья основана на результатах исследования процес-са конституирования профессионализма в организационной по-вседневности графических дизайнеров методом включенного на-блюдения. Исследование является case-study одной из дизайн-студий Петербурга. Этнография профессии, послужившая мето-дологической рамкой и жанром, представляет собой в первую
370
очередь определенный взгляд на социальную реальность, и в сво-ем стремлении осмыслить феномен профессионализма исходит из теоретических предпосылок феноменологической социологии.Основной теоретической предпосылкой изучения профессио-нального микросообщества послужил тезис о том, что разделение труда в том или ином обществе является предпосылкой для воз-никновения профессиональных подмиров. Эти подмиры
представляют собой более или менее целостные реальности, характе-ризующиеся нормативными, эмоциональными и когнитивными ком-понентами… они также требуют хотя бы в зачаточной форме аппарата легитимации, зачастую сопровождающегося ритуальными или мате-риальными символами [Бергер, Лукман, 1995. С. 226]. К проблеме значимости материальных символов профессии
«графический дизайнер» нам бы и хотелось обратиться в данной статье, а также привести этнографическое описание предметов и рабочего пространства, в котором профессионалам приходится проводить, пожалуй, большую часть своего времени. Именно офис представляет собой сцену ежедневно разворачивающихся профессиональных интеракций, служит организационным и про-фессиональным дисплеем и отражает коллективную стратегию самопрезентации фирмы и поэтому заслуживает особого иссле-довательского внимания.
Общее описание офиса С рассказа о месторасположении начинается всякая самопре-
зентация офиса дизайн-студии – будь то беседа с заказчиком,объявление для соискателей или просто разговор со знакомыми.Здание, которое можно условно назвать бизнес-центром, распо-ложено в одном из престижных кварталов Петроградского рай-она, вблизи от таких исторических памятников, как Петропавлов-ская крепость, мечеть, особняк Матильды Кшесинской и др.«Офис в центре города» – это своеобразное клише, стереотип,который расценивается как показатель успешности фирмы, неза-висимо от того, насколько успешной она является. По этой при-чине молодая и развивающаяся организация, которую можно
371
отнести к так называемым «start up» предприятиям, даже не рас-сматривала офис в нецентральном районе с более выгодной це-ной аренды в качестве возможной альтернативы, с одной сторо-ны. С другой стороны, такое месторасположение позволяет нахо-диться еще и в центре экономической жизни города, и не тратить много времени на передвижение от заказчика к заказчику в тече-ние рабочего дня.
Дизайн-студия располагается на территории бывших площа-док и рабочих мастерских «Ленфильма», чьи помещения сейчас сдаются в аренду различным фирмам, организациям и частным лицам некими субарендаторами, – ситуация, характерная для многих государственных помещений, давно утративших свое бы-лое предназначение: бывших домов культуры, ДПШ, некоторых кинотеатров, научно-исследовательских институтов и т. д. Сту-дия графического дизайна занимает здесь одно из самых больших помещений в 250 мP
2P, более-менее отделанное и обставленное,
с мебелью и даже с остатками созданного там когда-то дизайна интерьера: мебель не стандартная офисная, а выполненная на за-каз в одном стиле и цвете; по всей длине стен – белые полки,встроенные шкафы и т. д. Сегодня этот, когда-то современный ремонт, выглядит немного запущенно, и директоры-учредители студии стремятся эту ситуацию изменить.
Оформлению интерьера здесь уделяется достаточно при-стальное внимание, поэтому вскоре после переезда стены были перекрашены (цвет краски очень долго обсуждался и тщательно подбирался), установили новое освещение, и был сформулирован еще целый ряд постепенно реализующихся идей. По мере сил и возможностей работы по созданию и оформлению интерьера ведутся постоянно: в офис покупают и приносят какие-то вещи,на полки выставляют образцы изготовленной продукции, дизай-нерские журналы, подарки клиентов или просто забавные вещи,привлекающие внимание гостей – эти предметы выносятся здесь на всеобщее обозрение (рис. 1, рис. 2). Принципиальное значение имеет расстановка рабочих столов и предметов мебели, которые время от времени переставляются.
373
В своем желании придать офису определенный вид работни-ки студии стремятся произвести на клиентов и на других гостей впечатление людей, для которых эстетическая составляющая име-ет принципиальное значение, которые ко всему подходят творче-ски и профессионально с точки зрения дизайна, стиля и формы.Оформление офиса, наряду с музыкальным сопровождением рабо-ты, является частью конструирования «модной» творческой ат-мосферы, презентацией особого стиля работы и вызывают ассо-циации скорее с некой мастерской, с одной стороны. С другой –предметы в офисе являются также своеобразной выставкой-демонстрацией создаваемых здесь дизайнерских продуктов. Такая самопрезентация безусловно приводит к ответной реакции тех,на кого она рассчитана – практически каждый человек, впервые оказавшийся здесь, отмечает достоинства интерьера, нетипичность рабочей атмосферы, узнает известные упаковки и логотипы.
Для дальнейшего и более наглядного рассмотрения органи-зации пространства в дизайн-студии целесообразно обратиться к схеме (рис. 3).
Помещение перед входом в офис студии (1) принято назы-вать «курилкой», хотя это и не единственное его предназначение.Здесь рассматривают себя перед зеркалом (1.3), сюда выходят позвонить друзьям и просто сделать паузу во время работы и, собственно, покурить около большой пепельницы (1.2), пооб-щаться с работниками из соседних офисов (1.4, 4.2). В «курилке»также обсуждаются особенно важные рабочие моменты: профес-сиональные консультации арт-директора с дизайнерами, совеща-тельные беседы, разговоры с заказчиками по телефону и т. д.
Несколько строк хотелось бы уделить соседям по офису ис-следуемой организации, расположение которых здесь отнюдь не случайно. Офис рядом со столом охранника (1) занимает креа-тивное рекламное агентство, учредители которого – близкие зна-комые директоров дизайн-студии. Общение двух организаций носит характер квазипрофессиональный и квазидружеский, по-скольку включает в себя как сотрудничество по проектам, так и совместное проведение досуга. С другими соседями – фирмой по организации праздников (2) – сложились похожие отношения,
374
когда сложно установить, личностный или деловой аспект в них превалирует. В течение рабочего дня между сотрудниками трех упомянутых организаций протекает достаточно интенсивное об-щение: они ходят друг к другу в гости, обращаются за помощью (например, когда у кого-то не работает Интернет, факс или прин-тер), совместно прослушивают музыку, обедают и распивают ве-чером пиво, – таким образом, здесь существует своя микросреда,и, на первый взгляд, может создаться ошибочное впечатление,что все эти люди работают в одной организации.
Помещение, занимаемое совместно дизайн-студией (5, 6) и фирмой по организации праздников (2), является самым боль-шим в здании бизнес-центра. Его размер, оформление и наличие мебели указывают на статус обеих организаций. Жизнь этого разделенного офиса во многом напоминает коммунальную квар-тиру, его пространство также обладает свойством материальной и символической «прозрачности», которая
в материальном аспекте… включает в себя, помимо проницаемости пространства для запахов, визуальную и акустическую проницае-мость… В символическом аспекте прозрачность является свойством не территории, а карты – того представления о пространстве,…которое руководит жильцами в их поведении. Это представление включает в себя актуальную и потенциальную осведомленность жи-вущих вместе людей о жизни друг друга [Утехин, 2001. С. 13]. Материальную «прозрачность» офиса обеспечивают тонкие
двухметровые стены, лишь визуально разделяющие большое по-мещение с пятиметровым потолком. Благодаря этому происхо-дящее в обеих организациях становится всеобщим достоянием – будь-то содержание телефонного разговора, запах парфюма или состояние дел в фирме.
В качестве своеобразных «мест общего пользования» со-трудников обеих фирм выступают территории, обозначенные на карте цифрами «3» и «4». В отгороженной стеклянными сте-нами переговорной комнате (3) проходят собеседования с соиска-телями и встречи с заказчиками. Пространство, обозначенное на схеме цифрой «4», в разное время служит «кухней», здесь на полках можно обнаружить скудный набор офисной посуды,
375
необходимой для распития чая и кофе (4.3), комнатой отдыха или прихожей для гостей, которые устраиваются на установленных здесь комфортных диванах (4.1, 4.2). Отдельный туалет на этаже,который закрывается на ключ, также можно отнести к данной ка-тегории помещений TP
1PT. Общие ключи от входной двери и от туа-
лета висят на стене у входа (4.1).
Территория дизайн-студии Помещения, обозначенные на схеме цифрами «5» и «6», –
территория, занимаемая собственно дизайн-студией, которые разделяет перегородка с большим стеклом. Одну из этих ком-нат (5) занимают генеральный директор и директор по развитию,которые сами себя также называют координаторами проектов, –рабочие места «5.1» и «5.2». В другой комнате (6) работают гра-фические дизайнеры (6.3, 6.4, 6.6) и арт-директор, место которо-го (6.2) расположено прямо напротив разделительного стекла (рис. 4). В маленькой комнате проводятся запланированные и спонтанные совещания директоров, которые, как правило, про-ходят вечером, когда все сотрудники уходят с работы, для кон-фиденциальных бесед в течение дня служит «курилка».
На общем столе, расположенном в помещении дизайнеров рядом с перегородкой (6.1), стоит новый цветной принтер. Здесь распечатывают образцы продукции, долго и пристально ее рас-сматривают, обсуждают, корректируют, мастерят всевозможные образцы буклетов, брошюр, макеты POS-материалов TP
2PT, модулей
и другой рекламно-полиграфической продукции.Большие открытые полки (6.8, рис. 5) с выставленными
на них профессиональными журналами, альбомами и каталогами,дизайнерскими образцами продукции, бумаги, материалов, напо-минают своеобразные витрины.
TP
1PT Всего на этаже находится два туалета примерно на десять офисов, один из ко-
торых (общий) производит очень удручающее впечатление. Вторым, «более чис-тым» туалетом пользуются только работники и посетители исследуемого офиса.При каждом посещении туалет открывается и снова закрывается на ключ. Случает-ся, что ключ от туалета кто-нибудь по забывчивости оставляет в своем кармане, итогда испытывающему нужду приходится расспрашивать об этом остальных или прибегать к использованию общего туалета.
TP
2PT Рекламные материалы для оформления мест розничных продаж.
377
Верхнюю одежду вешают в шкаф (6.7), и все строго придер-живаются этого правила. Пальто, повешенное мною на спинку стула, вызвало замечание со стороны директора и просьбу пове-сить его в шкаф во избежание «захламления» офиса. Представле-ния о «захламлении» пространства и «бардаке» здесь особенные,и распространяются только на те вещи, которые не имеют непо-средственного отношения к работе – верхняя одежда, грязная по-суда на столах, остатки пищи на столе перед монитором и др. В то время как груда образцов полиграфической продукции на креслах в комнате директоров, из-за которой никогда нельзя этими крес-лами воспользоваться; бумажные обрезки на общем столе, остав-шиеся после создания макетов; как попало разбросанные на пол-ках предметы (ножницы, скотч, клей и т. д.) пространство не «за-хламляют» и к «бардаку» тоже не относятся, потому что пред-ставляют собой предметы труда и воплощают рабочий процесс.
Другой общий стол (6.5), «пустой» стол, который также на-зывают «столом для бухания», служит преимущественно для ор-ганизации неформальных мероприятий: спонтанного распития пива в конце рабочего дня и регулярного – по пятницам, празд-нования дней рождений сотрудников или успешного окончания проекта. На момент проведения исследования этот стол находил-ся в моем пользовании, на нем иногда лежали мои вещи – книги,ноутбук, записи. Я не являлась штатным сотрудником студии,и этот стол не был моим рабочим местом в том смысле, что я не выполняла за ним работу для фирмы, а занималась своими дела-ми. Тем не менее, между сотрудниками возник небольшой спор относительно того, как теперь этот стол называть.
ДР TP
1PT:На Катькином столе бухаете?
ГД: Здесь нет Катькиных столов.К: Это не мой стол. Это я на вашем столе, предназначенном для бухания, периодически посиживаю, скажем так [смеюсь]. В расположении и оснащении рабочих мест прослеживается
структура сообщества. Так, арт-директор выбрал место у окна,
TP
1PT Здесь и далее: ДР – директор по развитию, ГД – генеральный директор, К – ис-
следователь.
378
«чтобы козырнее было», его стол стоит прямо напротив большо-го стекла, и, соответственно, напротив рабочих мест двух других директоров. Эти три места, разделяемые иллюзорной границей из стекла, образуют своеобразную коммуникативную зону. Таким образом, помещение делится на два коммуникативных подпро-странства – директоров и дизайнеров, – граница между которыми проходит рядом с рабочим местом дизайнера-новичка (6.3) и обо-значена на схеме красной пунктирной линией.
Наиболее интенсивная вербальная коммуникация в течение дня сконцентрирована в треугольнике, образованном рабочими местами директоров (5.1, 5.2, 6.2). Арт-директор находится как бы в двух подпространствах одновременно: с дизайнерами и с ди-ректорами. Ограниченность общения дизайнера-новичка на ис-пытательном сроке с остальными членами коллектива также спо-собствует производству этой коммуникативной границы, его ме-сто словно отдаляет двух штатных дизайнеров от арт-директора.
Компьютер арт-директора, помимо своего основного функ-ционального назначения, является и своеобразным «музыкаль-ным центром», источником музыки в течение рабочего дня,и способствует звуковой, а следовательно, и коммуникативной изоляции его пользователя. Постоянный звуковой вакуум вокруг арт-директора делает возможным общение лишь с ближайшими соседями – директорами и дизайнером-новичком. Поэтому онвсегда переспрашивает обращенный к нему с другого конца по-мещения вопрос (места 6.4, 6.5, 6.6).
Д2: Слушай, АД, я почему-то тебя не вижу?АД: А? [убавляя музыку]. Д2: Я ТЕБЯ НЕ ВИЖУ ПОЧЕМУ-ТО.АД: Положи себе куда-нибудь в «Temporary», я сам возьму TP
1PT.
Рабочие разговоры дизайнеров всегда короткие и содержа-тельные, в них эксплицируется определенная задача или пробле-ма, которую нужно в данный момент решить, как, например,в этом разговоре, состоявшемся из-за сбоя во внутренней компью-терной сети. Если разговор требует большей продолжительности,
TP
1PT АД – арт-директор, Д2 – графический дизайнер (6.4).
379
собеседники физически сближаются в пространстве, подходят к столу друг друга или выходят в «курилку», но такие разговоры случаются реже.
Компьютер дизайнера – его модификация, объем памяти,марка и т. д. – является маркером профессионализма и статуса в микросообществе. Поэтому у арт-директора стоит новый «Macintosh», который, как считается, предпочитают профессио-налы, а у остальных дизайнеров – «PC». Директоры планируют в ближайшее время обеспечить каждого дизайнера компьютера-ми «Macintosh» и перейти на мало известную (в том числе для клиентов) операционную систему «Mac OSX». Введение новой системы и компьютеров «Macintosh» отражает стремление закре-пить за собой роль экспертов, а не продвинутых пользователей.Знание и владение менее доступной системой позволяет дистан-цироваться от широкого круга РС-пользователей. Оппозиция РС – Macintosh в данном случае репрезентирует оппозицию «профес-сионал – дилетант».
Звуковыми колонками снабжен только «Macintosh» арт-ди-ректора, остальным приходится слушать музыку, которую ставит он.Музыкальные предпочтения схожи, поэтому открытых конфлик-тов, как правило, не возникает, хотя дизайнеры иногда отмечают музыкальное однообразие, и жалуются на то, что игнорируются компакт-диски, которые они приносят. Один из дизайнеров (Д1)нашел выход из ситуации – он слушает свою музыку в наушниках,которые он принес и подключил к компьютеру. Остальные рабочие места (6.3 – место новичка, 6.4 – рабочее место Д2, 6.6 – рабочее место Д1) оснащены одинаковыми компьютерами РС, и это отра-жает их относительное равенство в организационной иерархии.
Рабочее место графического дизайнера Между рабочими местами дизайнеров существуют так назы-
ваемые символические границы, выстраивание которых тесно связано с феноменом приватизации рабочего места. Под привати-зацией в данном случае понимается процесс делания места «сво-им»: окружение его своими вещами, украшение монитора, настро-енная высота стула, индивидуальные компьютерные установки разрешения, паролей, интерфейса и т. д. Чьим-то или «чужим»
380
рабочее место и компьютер ощущаются особенно тогда, когда пытаешься за ним поработать: садишься, берешь мышку, изуча-ешь интерфейс, не находишь привычных иконок и настроек и пе-реживаешь какое-то неудобство, какое-то чувство того, что нахо-дишься не на своем месте, нарушаешь некую приватную границу.Возможно, именно это имели ввиду те разработчики, которые назвали компьютер персональным. Наличие приватных границ также обусловлено особыми правилами взаимодействия и отра-жается в определенной расстановке рабочих мест.
Рабочий стол дизайнера должен стоять таким образом, чтобы никто не смог смотреть ему в спину, и чтобы изображение на мо-ниторе оставалось скрытым для посторонних глаз. Поэтому в студии все сидят спиной к стене и столы стоят параллельно (рис. 6). Пустой «стол для бухания» ранее стоял перпендикулярно другой стене и, соответственно, был развернут к спине ближай-шего дизайнера, занимающего рабочее место 6.4. Такое его рас-положение никого не смущало до тех пор, пока за ним никто не сидел. В первый же день исследования, когда за этим столом рас-положилась я, всем пришлось приостановить работу и заняться перестановкой столов, – дизайнер жаловался на то, что не может сидеть ко мне спиной. Одна из причин такого расположения ра-бочего места – стремление избежать контроля. За это непродол-жительное время вместе со спиной дизайнера мне было доступно изображение на экране его монитора, что гипотетически позво-лило бы мне наблюдать, когда и чем во время работы занимается дизайнер. Следующий транскрипт – иллюстрация того, к чему может привести неправильная расстановка столов и мониторов.
В помещении дизайнеров. 14.30 Д2: На моей прошлой работе со мной как-то такая забавная ситуация случилась. Я сидела там в Интернете, а у меня рабочее место в углу было, прямо рядом с начальником, и у меня на мониторе панели были,я на них нажала, а там – порносайты выскочили, [смеется] знаешь, по-ловой акт [смеется]. Охранник вечером смотрел, и они сохранились.Я сижу посередине рабочего дня и смотрю порно прямо перед началь-ником. Все собрались [смеется]. Я их закрываю, а они снова загружа-ются. Компьютер пришлось перегружать.Д1: Ты чё заорала: А? и убежала, а все такие: О! оба! и давай смот-реть?! [смеемся].
381
Другое объяснение такого расположения рабочих мест – из-лучение, которое производят мониторы, поэтому расстояние ме-жду ними должно быть не меньше метра, а задняя часть монитора с электронно-лучевой трубкой не должна быть ни на кого на-правлена. В результате такого расположения мест исследователь-ское любопытство, оказалось, достаточно сложно удовлетво-рить – отражение рабочего процесса на экранах мониторов было скрыто от моих глаз. Правом нарушать приватные границы без каких-либо предупреждений обладают только директора, кото-рые неожиданно могут подойти в течение рабочего дня к столу,заглянуть на экран и поинтересоваться, как продвигается та или иная работа. Но так как их появление более-менее ожидаемо,в том смысле, что оно всегда находится в поле зрения дизайнера,то последний при желании всегда может успеть закрыть компро-метирующее его окно, хотя это ему и не всегда удается.
Друг друга дизайнеры, как правило, информируют о желании приблизиться, например, для того, чтобы воспользоваться техни-кой, расположенной на чьем-то рабочем столе или взять что-нибудь с полки. На каждом столе находятся какие-нибудь пред-меты общего пользования, которые «кочуют» по столам и пребы-вают в перманентном поиске: телефонная трубка, ножницы, клей,какие-нибудь рабочие образцы, маркеры, карандаши и т. д. В та-ком случае приближение к чьему-нибудь столу – нарушение гра-ницы – всегда сопровождается вербализацией-предупреждением:«У тебя телефон?» или «У кого чёрный маркер?». Помимо ко-чующих предметов на рабочем столе каждого расположена какая-нибудь техника: у Д2 – струйный принтер А3 формата, на столе Д1 – сканнер, директорский стол снабжен лазерным черно-белым принтером. В этом смысле абсолютно приватным рабочее место дизайнера назвать нельзя, но не только поэтому.
Определенная часть коммуникации осуществляется по сети,и доступ к компьютеру другого, точнее, к определенной инфор-мации на его компьютере, всегда открыт. Сеть выступает еще од-ним средством контроля. Так, один из директоров обнаружил, что новый дизайнер делает «халтуру», и использует для этого офис-ную технику. К «халтуре», как к источнику дополнительного за-работка дизайнера, которая отнимает рабочее время, директора
382
относятся крайне негативно, и это приводит к наиболее строгим санкциям, вплоть до увольнения.
Представления о разведении «бардака» или наведении «по-рядка» на рабочем столе также можно отнести к феномену прива-тизации места. Как уже было упомянуто выше, эти представления здесь особенные, не все можно считать «бардаком», груда журна-лов и бумаг на столе – обычное состояние рабочего места дизай-нера (рис. 7, 8).
Д1: Нравится, когда ГП разливает кефир на мой стол [смеется]. К: Но как только кто-то один меняет направление…ГП TP
1PT:Катя не присутствовала при этом, ты всё…
Д1: Я тебе только сказал, ГП, не прожги мне бумагу там [смеется], не…К: Он прожёг что ли?Д1: Как-то раз прихожу, такая гора, бумага лежит и обгоревшие концы [смеется]. ГП покурил, положил, хабарик загорелся [смеется]. [смех]Д1: Притоптал…ГП: Не было такого…Д1: Прилипшее всё такое, знаешь, там чашка опять…[смех]
Расположенные на рабочем столе предметы воспринимаются как свои не только самим дизайнером, но и остальными сотруд-никами («мой сканер», «Машин принтер» и т. д.). Еще один от-рывок из разговора, в котором дизайнер (Д1) отчитывает про-граммиста (ГП) за использование «его сканера».
Д1: Это не то, что моё мнение, понимаешь, это же истина. Знаешь,как раньше при Сталине. Опять ГП мой компьютер сломал? Ничего не работает! Опять мой сканер не работает.ГП: Это же не я сканирую, а мне такую работу поручают.Д1: Я знаю. Опять вчера бутылку с йогуртом опрокинул на мой сканер.К: Сломал сканер, ГП?ГП: Да.К: Ну, всё.Д1: Теперь опять Миху TP
2PT выдёргивать.
TP
1PT ГП – приходящий веб-дизайнер и программист, который периодически участ-
вует в проектах и работает на рабочем месте Д1 после его ухода.TP
2PT Миха – специалист по технике.
383
Оправдываясь, программист аппелирует к третьим лицам («мне поручают») и к понятию «работа» (11), тем самым он как бы пытается минимизировать межличностный контекст, актуали-зирует контекст работы как более публичный и тем самым «рас-приватизирует» офисную технику и рабочие места.
Под столом у одного из дизайнеров (Д1) стоят кроссовки –сменная обувь – еще один признак «делания места своим», вос-приятия работы как своеобразного дома. На стену, рядом с ком-пьютером, он повесил сделанный им календарь – проект, кото-рым он очень гордится. На полках, за спинами дизайнеров, как правило, располагаются созданные ими продукты. Огромная стопка музыкальных компакт-дисков на столе арт-директора, си-гареты, чайные кружки и другие личные предметы, которые час-то из-за непригодности дома или просто по забывчивости остав-лены в офисе, делают из офиса «второй дом». Ненормированный график работы служит одной из причин такого восприятия рабо-ты и в целом способствует размыванию границы между работой и досугом.
Рабочее место, являясь профессиональным дисплеем, отра-жает стиль работы дизайнера. Перед клавиатурой всегда распо-ложен чистый лист, который изрисовывается в процессе творче-ского поиска и других размышлений (рис. 9), второй такой же лист становится листом для рабочих заметок. Рисовать дизайне-ры любят, поэтому на столе или рядом на полках всегда можно обнаружить какие-нибудь картинки (рис. 10).
Коммуникация друг с другом также осуществляется в изо-бразительной форме, с помощью шуточных картинок-карикатур,каких-нибудь бумажных и других инсталляций. Различные шутки и приколы – вербальные или невербальные – являются повсе-дневным жанром общения, таким образом дизайнеры, тренируют и демонстрируют свои навыки креативности, которая является одной из наиболее значимых черт их профессионализма. Д1 ри-сует дигитайзером – специальным карандашом с панелью, кото-рый расположен на его столе рядом с мышью. Он позволяет ри-совать прямо в графических программах и регулировать толщину и цвет линии. Рисовать мышью достаточно сложно, а дигитайзер
384
тоже нравится не всем, поэтому остальные предпочитают рисо-вать от руки на листе, сканировать свои рисунки и только потом обрабатывать их в программах. Иногда обходятся так называе-мым «фото-банком» (коллекцией фотографий в электронном ви-де), но иллюстрации всегда рисуют сами или прибегают к допол-нительной помощи профессионального «приходящего» иллюст-ратора. Вот, дизайнер-новичок рисовать не любит и не умеет, по-этому перед его клавиатурой нет разрисованных листов бумаги и макетов, а на столе – относительный «порядок» (рис. 11). От-сутствие такого важного навыка вызывает у других сомнения от-носительно его профессионализма.
В курилке, 19.00 ПП, К, ГП, Д, Д2 TP
1PT. Все курят, кроме Д2, она стоит
в стороне, так как не выносит табачного дыма.ПП: Ну как ваш новый дизайнер?Д: Нормально.ПП: Мне тут прислали макет плаката, который он сделал [смеется], я не поверила сначала, что это вы делали.Д: Ну, клиент такой вариант выбрал. Мы же всё-таки коммерческая организация.Д2: Так он даже от руки рисовать не умеет.Д: Ничего, зато он вчера так ситуацию с заказчиком разрулил. Он с ним очень грамотно разговаривал.
Из разговора видно, что для директора существует такой критерий профессионализма дизайнера, как умение общаться с заказчиками, и в некоторых ситуациях он даже более значим,чем умение рисовать. «Разруливание» ситуаций с клиентом вхо-дит в круг обязанностей самого директора, и поэтому он смотрит на подобный навык со своей перспективы.
К предметам, которые можно всегда обнаружить на рабочих столах дизайнеров, относятся различные подписные издания и журналы. Являясь источниками творческого поиска и вдохнове-ния, они также говорят об идентификации студии с некой профес-сиональной группой, организованной вокруг рекламной индустрии
TP
1PT ПП – приходящий специалист по предпечатной обработке, К – исследователь,
ГП – программист, Д – директор, Д2 – дизайнер.
385
(отечественные журналы «Как», «Publish», «Монитор» и др.), о включении в петербургское сообщество и в локальную индуст-рию организации свободного времени (журналы «Афиша», «Со-бака», «Красный» и др.), о демонстрации особого стиля жизни (западные журналы – «ID», «Wallpaper», «Tank», «Dutch» и др.). Здесь не увидишь, к примеру, издания «Деловой Петербург», так часто встречающегося в петербургских офисах.
Таким образом, анализ организации офисного пространства и профессиональных атрибутов, окружающих графических ди-зайнеров в их повседневной жизни и обладающих для них симво-лическим значением, позволяет сделать ряд выводов относитель-но исследуемого микросообщества и профессии «графический дизайнер» в данном конкретном случае. Исследуемый мир вещей и физических предметов, представляя собой отражение социаль-ных отношений, репрезентирует структуру микросообщества,распределение профессиональных и организационных статусов,набор черт-представлений, характеризующих данную профессию.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.М., 1995. Утехин И. Очерки коммунального быта.М., 2001.
МОЙЩИКИ МАШИН: СУБКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОГО ТРУДА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Екатерина Антонова
Детский труд в современной России приобрел широкий мас-штаб. С одной стороны, тенденция распространения детской за-нятости объясняется «глубокими историческими корнями (тра-дицией коллективистской солидарности, отношением к семье как основе миропорядка). С другой стороны, детский труд обуслов-лен современными социально-экономические коллизиями (паде-нием жизненного уровня, безработицей, непредсказуемостью ре-форматорской логики)» [Барсукова, 2000. С. 53]. Официальное
386
трудоустройство детей разрешено с 14 лет (ст. 63 Трудового Ко-декса) [Комментарий… 2005. С. 914], но занятость в неформаль-ной сфере экономики регулируется другими законами, например структурой и потребностями домохозяйства, спросом и предло-жением на рынке. Вот почему проблематика использования дет-ского труда во многом выходит в область неформальной эконо-мики. Ввиду того, что эксплуатация детей приносит непоправи-мый вред их здоровью и развитию, Международной организаци-ей труда было провозглашено, что детский труд неприемлем: де-ти должны учиться для того, чтобы иметь право на будущее,и никто не может лишать их этого права [Искоренение наихуд-ших… 2000. С. 24].
Правозащитные организации в России и за рубежом основ-ной акцент делают на физической, сексуальной и эмоциональной эксплуатации детей в качестве рабочей силы в целях получения прибыли. Специалисты Международной организации труда за-остряют внимание на фактах чрезвычайно опасного положения детей, работающих в строительстве, на шахтах, в каменоломнях,на условиях содержания детей, трудящихся и живущих вне дома.Проводимые исследования в области детского труда сегодня полностью подтверждают опасения правозащитников [Бреева,1999. С. 89].
Тем не менее следует учесть и то, что существуют разные сегменты неформальной занятости. В одних – хозяйственная активность укладывается в правовые нормы, другие охвачены «полулегальными» видами деятельности, использующими вне-правовые зоны или противоречия в законодательстве, а третьи включают нелегальную (криминальную) деятельность. Различия между этими сегментами, разумеется, скорее аналитические,в действительности они интенсивно перемешаны [Стивенсон,2000. С. 91].
Детская занятость реализуется в разных формах, и дети, на-чиная с раннего возраста, помогают по дому, выполняют различ-ные поручения или помогают родителям на семейном предпри-ятии или ферме. Выполняя посильную работу, дети учатся брать
387
на себя ответственность и начинают гордиться своими достиже-ниями. При соответствующем контроле такой труд может являть-ся естественной частью процесса развития детей и их интеграции в социальную жизнь. Есть такие формы детского труда, которые не только приемлемы (труд в семейной экономике), но и органи-зуются государством (отряды милосердия при центрах социаль-ного обслуживания населения, летняя занятость подростков). По-этому в основе разработки всех технологий занятости должна лежать идея о том, что лишь та работа, которая приносит пользу,стимулируя и укрепляя физическое, умственное развитие подро-стка, без ущерба для учебы, досуга и отдыха, является допусти-мой [Герасимова, 2005. С. 31].
Отметим, что и легальные, и полулегальные, и криминальные формы занятости несовершеннолетних сосуществуют в совре-менной в России, более того, по сравнению с началом 90-х годов число детей, вовлеченных в занятость, выросло почти вдвое [Пронина, 2000. С. 117]. При этом внимание правозащитными организациями уделяется только детям, эксплуатируемым в неле-гальном секторе экономики.
По мнению некоторых исследователей, мотивы большинства работающих детей в России – быть независимыми и иметь собст-венные карманные деньги, заработать авторитет, статус, престиж [см.: Морозова, 2003. С. 138]. Кто эти ребята? Ходят ли они в школу? Из каких они семей и почему они работают? Как сло-жится их дальнейшая жизнь, будет ли у них интересная профес-сия в будущем? Несколько раз мне удалось побеседовать с работающими на автомойке ребятами, они отвечали на вопро-сы, не стесняясь и ничего не боясь, гордились тем, чем занима-ются: «Это дело наше… мало-мальски прибыльный бизнес» (ин-тервью 1). Некоторые из подростков воспринимают свою работу как отправную точку для построения новой самостоятельной обеспеченной жизни. Подростки, работающие «мойтехами», как они сами себя называют, формируют специфическую субкульту-ру, которая воспроизводит особые манеры и стили поведения,выстраивает свои социальные сети и определяет нормы жизни [Гладарев, 2001. С. 72].
388
Основные понятия: детская занятость,неформальная экономика
Прежде всего необходимо пояснить употребление и соотно-шение основных понятий «детская занятость» и «неформальная экономика». Детский труд – это занятость несовершеннолетних,которая включает в себя не только нелегальную эксплуатацию в теневом секторе экономики, но и работу детей в качестве во-лонтеров, помощников в родительском доме, активных участни-ков сельскохозяйственного сектора. Согласно Д. Рутерфорду,
неформальная экономика – это деятельность, протекающая в рамках чёрной или криминальной экономики, домохозяйств, а также организа-ций, созданных на добровольной основе [цит. по: Ковалев, 1999. С. 126].
Неформальная экономика часто «увязывается с занятостью на микроуровне и в семейных хозяйствах, но главной ее отличи-тельной чертой является отсутствие формальной регистрации,позволяющей не стеснять себя рамками законодательства и не платить налоги» [Радаев, 2000. С. 28]. По мнению Т.Шанина,неформальная экономика является синонимом термина «соци-альная экономика», так как ей присущи следующие признаки:нацеленность на выживание, а не накопление капитала; гибкость и множественность способов заработать (обычно быстро меняю-щихся).
Признаки, перечисленные Т.Шаниным, очень четко отража-ют взаимосвязь детской занятости с неформальной экономикой.Проецируя их на проведенное нами исследование, мы их разде-лим на «внутренние» и «внешние». Под «внешними» признаками мы понимаем степень отклонения от общепринятых норм (то, что государство воспринимает как угрозу для нормальной жизни и функционирования или то, что в контексте социальной полити-ки рассматривается как проблемная ситуация). Введение термина «проблемная ситуация» не случайно. Специалисты Международ-ной организации труда указывают на факторы, характеризующие ситуацию в сфере детского труда как проблемную. Это отсутст-вие данных о детях, которым был нанесен вред различной степе-ни тяжести в период их трудовой деятельности; неучтенность
389
доходов, полученных от привлечения детей в теневую экономи-ку, и целый ряд других проблематизирующих факторов. «Внут-ренние» признаки основываются на главном принципе выжива-ния тех, кто вовлечен в «неформальную» деятельность [Шанин,1999. С. 14].
Главный тезис теории рациональности М. Вебера заключает-ся в том, что экономический процесс сдерживается непредска-зуемостью социальной жизни [Вебер, 1990. С. 26]. Неоинститу-циональная экономическая теория, связанная с именами Р. Кауза,О. Уильямсона, Д. Норта, рассматривает рынок как совокупность формальных и неформальных институциальных ограничений.С точки зрения исследователей, «формальные ограничения вклю-чают законы и другие регулирующие нормативные акты» [Кре-сик, 2004. С. 137], которые в сфере детской занятости действуют лишь на бумаге. В настоящее время нет четкой концепции, регу-лирующей волонтерскую и любую другую законную деятель-ность детей и нейтрализующую риски, отсутствуют образова-тельные программы, направленные на повышение уровня квали-фикации работающих детей. Акцент здесь делается не на лич-ность ребенка, а на его окружение как агента социализации, так как факторы, способные заставить ребенка работать, возникают на всех уровнях социального взаимодействия (семья, сверстники,школа, общество).
Другое направление экономической социологии, объясняю-щее детский труд, развивается представителями вирджинской школы (Дж. Бьюкенен, В. Ванберг, Дж. Таллок), которые попы-тались переосмыслить теорию рационального выбора с позиций нормативного индивидуализма [см.: Радаев, 1998. С. 81]. Соглас-но данной теории, ребенок, вовлеченный в процесс занятости,далеко не всегда преследует свою выгоду. Зачастую он приспо-сабливается к сложившейся ситуации, принимает правила пове-дения в группе, которые уже сложились. Принятие им норм и правил, с позиции нормативного индивидуализма, рационально,потому что соответствует долговременным интересам. Й.Шум-петер предлагал изучать причины или факторы, провоцирующие данное явление [см.:Шрадер, 1999. С. 19].
390
Мойка машин: способ адаптации или детская «профессия»?
С нашей точки зрения, для анализа детского труда подходит понятие «трансформационного поведения», которое впервые применила Т.И. Заславская, подразумевая при этом способы, ко-торыми разные группы российского общества реагируют на из-менение социальной ситуации: политические перемены в стране,изменение способа принуждения к труду, последствия экономи-ческого спада (снижение уровня жизни) и ряд других [см.: Кон-стантиновский, 2003. С. 123]. Кроме того, трудовой процесс ста-новится той организационной рамкой, посредством которой че-ловек вливается в коллектив, характеризующийся своими прави-лами и стратегиями взаимодействия. Превращаясь в работника,он осваивает не только профессиональную, но и статусную ие-рархию. В контексте детской занятости это понятие обозначает неравенство, указывая на доминирующее положение старшего по отношению к младшему. Ребенок узнает, что значит быть подчи-ненным, «лидером, аутсайдером, товарищем» [Радаев, 1998. С. 16].
В рамках нашего исследования, которое длилось около года,мы изучали «профессию» мойщиков машин в феноменологиче-ской парадигме, используя метод открытого интервью и вклю-ченного наблюдения. Для того чтобы приблизиться к пониманию феномена, нам необходимо было установить доверительные от-ношения с респондентами, что невозможно сделать при исполь-зовании количественных методов. Исследователь слушает то, что дети сами говорят о своем «взрослом» мире, в котором очень бы-стро произошла смена декораций: от мягких плюшевых медведей и дистанционно управляемых машинок до мечты стать «королем нищих».
Кроме включенного наблюдения применялось скрытое на-блюдение, когда информанты не знали о присутствии наблю-дающего за ним социолога. Документально работа фиксирова-лась в дневнике наблюдений на основании полевых заметок.На протяжении исследования диктофон не применялся, так как вызывал у информантов демонстративную реакцию отторжения.Я запоминала ключевые слова фразы, основные моменты беседы и восстанавливала диалог дома на страницах дневника.
391
И хотя есть и такие дети, для которых заработок на улице действительно является важнейшим средством к существованию,большинство из работающих на автомойке детей нельзя отнести к разряду тех, кто борется за выживание. Среди них преобладают желающие просто подработать, чтобы иметь карманные деньги.Один из молодых людей, который имел некоторый стаж работы,«значительно» превышающий опыт других, называемый среди «коллег» «Я» TP
1PT, рассказал:
У меня дома с деньгами всё ОК! Ну, а карманные не дают, однажды наткнулся на одну газетёнку, сижу, читаю, пацан один, 13 лет что ли,вообщем немного больше чем мне, сын обеспеченных родителей, ко-торый после школы подрабатывает в качестве профессионального нищего. Его мечта – стать королём нищих, привлечь к работе сверст-ников, начиная с первоклассников, расставить их в разных местах го-рода, придумать им жалобную «легенду» и внешность, обучить «де-лу». А самому уже, как главе предприятия, руководить ими и получать с них деньги. Ну, вот, так и я хочу… Надо же с чего-то когда-то начи-нать… Дело говорю (интервью 1). Молодой человек, рассказавший эту историю, происходит
и материально обеспеченной семьи с двумя родителями, и он уве-рен в себе, презентирует себя как «настоящего мужчину», который для становления себя берется за любую работу, что подвернется,с целью как можно быстрее стать материально независимым.
Символические границы «рабочего места»Представьте себе пространство овальной формы примерно
70 мP
2P, находящееся позади презентабельной автомойки. С правой
стороны находился заброшенный сарай, рядом с которым на травке располагалась главная ценность «детской автомойки» –это достаточно вместительная бочка под воду. Ребята ее время от времени наполняли, договариваясь с молодым человеком, ра-ботающим на автомойке:
TP
1PT Подросток, 12 лет, имя которого не известно, кличку придумал сам, объясняя
это тем, что знает, чего хочет от жизни. Подростки приняли псевдоним, считая вы-шеупомянутого подростка свои вторым «Я» или даже своим «Идеальным Я», то есть некая авторитетная личность, на которую хотят быть похожими многие.
392
Он просто так ничего не делает, даём ему полтинник, и то много, он же ничего не делает… Вода-то не его (интервью 1). Этот неформальный сервис приютился на заасфальтирован-
ной территории задней части двора частной автомойки, где пер-воначально задумывалось место для перекуров работников. Ме-сто, «оккупированное» детьми, явно бросалось в глаза, потому что было ограничено недавно побеленным бордюром. О том,что пространство «присвоено» основательно, говорил тот факт,что было оборудовано не только рабочее место, но и террито-рия отдыха, на которой располагался дуб с пышной кроной.Под ним стояло несколько чурочек, используемых как стулья,и фанерка, которая во время спонтанно организованного «празд-ника» превращалась в стол. Дерево в интерьере автомойки пре-вращалось в социальный центр пространства этой маленькой компании, и под ним обычно сидел лидер «детской автомойки»по прозвищу «Я», ведь отсюда можно было легко осматривать все владения.
Ситуация мирного соседства устраивала и менеджера авто-мойки,
мне они здесь не мешают, да кому могут помешать дети, сама при-кинь, я им стараюсь помогать как могу, стараюсь предупредить, когда шеф должен подъехать, чтоб у них не было проблем, я их уважаю,точно, вообще как реальных пацанов, они знают, чего хотят – это хо-рошо… Да, знаешь они… вообще сегодняшние дети… они какие-то другие, у них разговоры взрослые, ты зайди к ним поговори, вообще обалдеваешь, как они рассуждают» (интервью 2), и детей, работающих на ее территории,
нам тут нравится… мы тут давно, всё под рукой, и с Вадькой (менед-жер автомойки) мы нашли общий язык, он вообще нормальный, когда не зарывается, мы со всеми находим общий язык, когда он был в от-пуске, вместо него был Колян, он то же реальный пацан, здорово нам помогал, самый главный, хозяин, он конечно против, но нам это со-вершенно не мешает… пацаны нас предупреждают, если чё, а так всё супер… лаве только мало бывает, но это от Вадьки не зависит, сами понимаем и не в обиде на него» (интервью 3).
393
Сообщество: гендерный аспект Дети, так исправно каждый день спешащие на автомойку,
здесь работают: они моют машины, мотоциклы, словом все то,что можно назвать одним общим словом – техника. Каждый день компания разная: есть завсегдатаи, редко, но можно встретить кого-то нового, скорее всего это чей-то близкий знакомый. К ос-тальным же здесь относятся с опаской, и существует вероятность конфликта непосредственно с тем, кто привел неизвестного.
Наши мойщики машин – это группа подростков, мальчиков,в возрасте от 10 до 14 лет, которая специализируется на мойке техники: машин, мотоциклов. Все атрибуты профессии: особые трудовые навыки, неформальные образовательные практики,«корпоративные» традиции – уловимы посторонним взглядом.Несмотря на то, что отличия между районными «мойтехами» су-ществуют, их все равно даже чисто внешне можно определить к той или иной «районной касте».
Важно, что все работающие на автомойке – пацаны. Этот факт объясняется следующими признаками, во-первых, «бизнес – это не бабье дело, нет, девчонкам здесь не место, они здесь не смогут» (интервью 4), а во-вторых,
они, эти бабы, ну пусть даже наши ровесницы, они ведь могут только что в куклы играть, но те, которые постарше, они ведь не больно-то ходят работать, пойдут там чем-нибудь таким позанимаются, и прият-но, и деньги опять же, а здесь чё хорошего всегда по уши, нет, это не для девчонок (интервью 1); она может только здесь с нами тряпки стирать… (интервью 3). Как показывает анализ материалов исследования, кроме уже
сложившихся норм относительно статуса и прав девушек, подро-стки часто в своей речи допускают пренебрежительные высказы-вания. Это наблюдение находит свое подтверждение в выводах А.Л. Салагаева и А.В.Шашкина, подчеркивающих доминирование сексистских установок в отношении лиц противоположного пола в подростковых группировках [Салагаев,Шашкин, 2002. С. 156].
С точки зрения гендерного предписания ролей, рабочие места здесь строго поделены между мальчишками, здесь можно выде-лить несколько аспектов, в направлении которых осуществляются
394
взаимодействия, в том числе это взаимоотношения внутри «про-фессионального» сообщества, которые выясняются жестко, «по-мужски». Среди мальчишек распространено мнение, что тем са-мым лидер «мойтехов» «Я» отбирает себе команду, проверяя на прочность пацанов. Некоторые считают, что это правильно,другие тихо выражают недовольство «достал уже…» (интер-вью 3), в глаза никто и никому ничего не высказывает, разбира-тельств обычно не бывает,
тебе просто закрывают дорогу сюда и всё… себе дороже, если что-то и надо выяснить, то мочиловка за бортом… ну, в общем, как-то так (интервью 4). Чтобы стать полноправным членом данного сообщества, не-
обходимо научиться подчиняться. Мой собственный опыт про-никновения в среду «мойтехов» это подтвердил: невысокого рос-та девушка, в потертых джинсах и футболке казалась им такой же, как они, со своими мечтами, амбициями и потребностями.Несмотря на то, что мне не суждено было стать частью их муж-ского сообщества, «Я» выслушал меня, попытался объяснить мне, не обижая, почему я не могу с ними работать, даже если вы-полнять, с точки зрения пацанов, чисто «бабскую работу».
Взрослое ведение переговоров в сфере бизнеса является спе-цифической ареной для конструирования гендера. Ведя перего-воры с клиентами, которые всегда старше, ребята самоутвержда-ются, и чем грубее и непреклонней строится разговор между под-ростком и водителем, тем «круче» работник. Для парней наибо-лее доступным ресурсом для конструирования маскулинности является жесткое ведение бизнеса: строгий отбор работников,силовое поддержание дисциплины, полное отсутствие снисхож-дения ко всем, как к «своим», так и пришлым. «Взрослое» веде-ние переговоров на предмет оплаты труда ведется на равных, вне зависимости от возраста клиента, его пола, совершенно не со-блюдая субординации: «Ездить на такой тачке и спрашивать,сколько это будет стоить – смешно…» (интервью 4).
В одной из подобных ситуаций водитель несколько был оза-дачен таким «взрослым» ведением переговоров. Ему на вид было
395
около 40 лет. Задумался, стараясь играть по правилам; согласился на «чаевые не больше пломбира, если очень быстро…» (интер-вью 4). Мальчик насторожился и даже немного обиделся на то,как его воспринял водитель, и буркнул еле слышно себе под нос «я не ем мороженое, лучше пиво…» (интервью 4). Крикнул како-го-то светловолосого парнишку, который сидел под кустом на какой-то этажерке, напоминающей табурет. Видимо, он и есть тот самый профессионал, который моет очень быстро, не очень качественно, но водители остаются довольны. То, что его среди ребят воспринимали как профессионала, говорил тот факт, что онявно доминировал среди остальных, и его приглашали в особых случаях. Особыми случаями, по мнению ребят, являются случаи,когда «заказчик» дает «неслабые чаевые».
Мальчишки очень рациональны, пиво покупают из расчета две бутылки на человека, меньше, по их словам, нет смысла:практика показывает, что придется еще раз идти, а больше – тоже нехорошо:
Мы тут работаем не для того, чтобы все деньги на пиво просаживать (интервью 1); [а] ведь настоящим мужикам, сколько не дай – всё вы-пьют, не выливать же, лучше в нас, чем в таз, мы деньги просто так не выбрасываем… это не позволительно (интервью 4). Пацаны с неформальной автомойки в решении финансовых
вопросов стараются вести себя как настоящие мужики, которые не будут работать для того, чтобы все пропить: по их представле-ниям, так поступают либо бомжи, либо алкаши, а это «отбросы», на которых не стоит ориентироваться. Для подростков их работа – это идеальная площадка для самоутверждения и конструирования маскулинности.
Девочки среди «профессионального сообщества» мойтехов отсутствуют, хотя могут быть исключения: за время существова-ния детской «профессии» было всего две девчонки, которые пы-тались с ними работать. Применение термина «пытались» не слу-чайно, потому что время, проведенное девчонками среди «мойте-хов», исчислялось двумя днями. Тогда же пацаны с автомойки пришли к выводу, что женщины сами по себе являются менее
396
дееспособными, нежели мужчины, а все женское ассоциируется с неудачей или с чем-то несущественным и не достойным внима-ния [Салагаев, Шашкин, 2002. С. 156]. Подобную ситуацию мож-но интерпретировать, основываясь на термине «украденная мас-кулинность», введенном Салагаевым и Шашкиным; подавление проявления женской активности следует рассматривать как так-тику по конструированию мужественности.
Иерархия и социальные связи Социальное положение в среде мойтехов базируется на лич-
ном авторитете, который определяется продолжительностью проработанного времени и знаниями как помыть быстро, не очень качественно, но чтоб водитель заплатил деньги и остался довольным. Иерархия ярко выражена, она проявляется и в дейст-виях, и в эмоциональных реакциях.
В период исследования на посту главного находился двена-дцатилетний подросток по прозвищу «Я», работающий в этой системе второй год. Помимо личных качеств, среди которых,прежде всего, выделяется коммуникабельность, он располагал налаженной системой связей с широким кругом лиц, способных защитить его самого и его подопечных в сложной ситуации. По-добные связи возникают в результате трудового стажа и «из-за всяких там залётов в прошлой личной жизни…» (интервью 1). Что касается организации труда, можно выделить следующие ха-рактерные моменты. Во-первых, для того чтобы начать здесь ра-ботать, необходимо получить одобрение у «Я». Обычно меха-низм принятия на работу реализуется через родственников или знакомых. Со слов мальчишек, все кто приходил и хотел рабо-тать, «Я» брал, но потом конечно отсеивались, но исключительно по собственному желанию. Во-вторых, работа на автостоянке не предполагает нормированного графика, очередь на наступив-ший день устанавливается «Я» с утра, с учетом присутствую-щих мальчишек, он же следит за тем, чтоб все выполнялось.В-третьих, между подростками не существует разделения труда:все моют машины наравне друг с другом, в том числе и «Я», но не смотря на это, все же есть подростки, которые находятся в более
397
привилегированном положении по отношению к остальным. Они имеют стаж работы на автомойке более года и знают, «как по-мыть быстро и качественно…» (интервью 1).
Социальные сети, распространенные в системе привлечения детей к труду, условно можно разделить на две группы: свойст-венные, во-первых, теневой экономике, в которой несовершенно-летние принимают активное участие, а во-вторых, домашней экономике. Группа сетей, свойственная рассматриваемому типу теневой детской занятости, основывается на патрон-клиентских взаимодействиях, которые известны еще с античности и были впервые детально описаны антропологами, изучавшими общества Средиземноморья [Грановеттер, 2002. С. 46].
Данный вид взаимодействия имеет неписаный кодекс, регу-лирующий отношения внутри системы: «Закон далеко, патрон близко» (интервью 5). Правила, принятые внутри детских рабо-тающих групп, куда более важны для них, чем закон, запрещаю-щий данный вид занятости. Дети, несмотря на свой возраст и от-сутствие жизненного опыта в общепринятом смысле этого слова,четко понимают, что закон коррумпирован и ненадежен. Попадая в сферу теневой экономики, во многом по причине нехватки средств на элементарные потребности, они опасаются контактов со взрослыми, если те представляют институты контроля, потому что видят в них реальную угрозу для своей «нормальной» жизне-деятельности. Главный принцип работающих детей: «Держаться подальше от взрослых, которые задают много вопросов» (интер-вью 6). И наконец, последнее: «Кто не с нами, тот против нас»(интервью 1). Правила, которые считаются общепринятыми внутри группы, для всех являются обязательными. Тех, кто с ни-ми не согласен, группа вымещает, и возвращение в среду практи-чески невозможно, слухи в детской «работающей» субкультуре распространяются очень быстро.
Символические интеграции: язык, манеры,привычки
Речь пацанов, работающих на автомойке, звучит однослож-но, на вопросы отвечают «да» или «нет». Говорят, как правило,мало, даже между собой, но многозначительно. Свистеть и громко
398
смеяться среди «мойтехов» не принято, потому что это непри-лично:
Мне мама часто говорит, что когда под окнами кто-то громко смеётся,сразу можно понять, что это подростки, только они такие невоспитан-ные, я стараюсь не быть таким, мы ведь бизнесом занимаемся, а вот стану… серьёзным пацаном и буду скалиться по привычке как под-росток (интервью 5). «Мойтехи» отзываются на клички, которые не являются про-
изводными от имени или фамилии, чаще всего от манеры поведе-ния или способов самопрезентации себя другим: «Я», «Череп», «Танцор», – имена эти взяты из телесериала «Бандитский Петер-бург», который полностью построен на стереотипах маскулинно-сти: настоящий мужчина должен быть сильным, иметь много де-нег, свой бизнес, связанный зачастую с теневой экономикой.Престижные для подростков прозвища, заимствованные из филь-ма, подбирались очень тщательно, учитывалось все: и внешнее сходство, и пристрастия.
Между собой «мойтехи» обращаются по именам, сокращая их. Любые уменьшительно-ласкательные суффиксы отсутствуют,воспринимаются как личное оскорбление,
не надо меня так называть, я что тебе гомик какой, что ли?! (интер-вью 5); здесь у нас одни мужики, которые хотят много… у нас здесь нет этого муси-пуси (интервью 4). Ребята с неформальной автомойки очень любят всяческие
происшествия, особенно связанные со скандалами на частной ав-томойке, за углом которой они и располагаются. Свободное время пацаны нередко проводят вместе и во многом совпадают в пред-почтениях. Поводом к небольшой совместной посиделке высту-пают финансово удачная неделя (заработок составил более полу-тора тысяч на человека), необходимость примирения после круп-ных ссор между «мойтехами». Выпить – традиция, алкоголь в по-чете, правда, ничего крепче «Балтики» № 9 пацаны с неформаль-ной автомойки не пьют, хотя курят много. Вечеринки проходят очень весело, круг участвующих ограничен только «мойтехами».
399
Пацаны накрывают стол и веселятся, эти тусовки проходят без эксцессов, здесь обсуждаются планы на следующий день, говорят о прошедшем, обсуждая недочеты в работе. Свидетельством того,что вечер удался, свидетельствует тот факт, что «Череп» запевает излюбленную песню «Шалава… лава… лава… опять же ждёт тебя твой лава». Это уже очевидный признак того, что праздник подходит к своему завершению.
Пиво является также и атрибутом примирения, после круп-ных стычек и разборок, виновный «проставляется пивом» TP
1PT (ин-
тервью 1), без пива никуда, так и будут дуться друг на друга, а это называемая разрядка, даже, если они потом и будут разбираться, уже после пива всё равно не так обидно, но, в общем, мы всегда так делаем, пролётов пока не было [плюет через плечо] (интервью 5). Излюбленными темами для разговоров являются «девчонки»
и «бомжи», что имеет функциональный смысл позиционирования себя как настоящих мужчин:
Ни один нормальный пацан не может без девчонки совсем, это не уди-вительно, это нормально, так должно быть… ещё заметь, чем круче пацан, тем прикольней рядом с ним баба, ну, модели, например, там всякие… я бы вот, если бы деньги были, тоже нашёл себе классную тёлку… (интервью 4). В отношении лиц без определенного места жительства реа-
лизуется тот же принцип, ведь они хотя взрослые, но очень сла-бые и, нападая на них, ребята могут почувствовать себя в поло-жении сильного человека, мужчины, «они старше нас, но мы справляемся с ними очень легко» (интервью 6).
«Мойтехи» охотятся на бомжей:
Они сами к нам лезут, они, наверное, сволочи думают, что мы такие же, как они… фу… мразь… их можно бить, пинать, обливать водой,плевать в них, особенно смешно, когда мы им что-нибудь сделаем
TP
1PT Виновный в конфликте покупает на всех «мойтехов» по бутылке пива, закуска
к пиву покупается в складчину.
400
и они начинают за нами гоняться, такие чумные, всё равно догнать не могут, а мы угораем, прям, катаемся… а если он ещё еле ходит – это вообще, короче один убегает, а другой раз – и опрокинул этого бомжа, и ты возвращаешься, и с таким удовольствием можешь про-бежаться по полудохлому бомжу, мне их вообще никогда не жалко (интервью 4). Бомжи для пацанов – это почти не люди, но они очень «нуж-
ны» для того, чтобы чувствовать собственное превосходство: из-деваться, бить, пинать, обливать водой и оплевывать. Мальчишки порой расходятся, впадая в азарт так, что начинает поражать дет-ская жестокость:
И это – наша молодёжь, вот что смотрят, то нам и показывают… Та-кие молодые и такая жестокость… Встреться им в тёмном подъезде…разорвут как лягушку… (пожилая женщина, проходящая мимо и на-блюдающая за «разборками» «мойтехов» с бомжом). В часы отдыха тема бомжей является очень увлекательной,
вызывает у «мойтехов» бурный восторг, обсуждения и восхище-ние. «Танцор» начал:
Иду я вчера у меня около дома… прям на дороге два бомжа… ну, вер-нее, я не знаю… темно и непонятно, ну наверняка бомжа… чмошники какие-то, нормальные не будут лежать на дороге… ну вот что, значит,когда щепка на щепку лезет… не весна, а они всё равно, прикинь…чмошники, любовь, значит, она к нему… чмок, чмок, чмок, чмок, ну все дела вообщем… а он, прикинь, ей зарядил: «Щас нас снимут на камеру, ну на эту самую, и завтра покажут, знаешь… потом стыдно будет», – все дела, какие-то несчастные бомжи и думают, что за ними все папарацци охотятся, прикинь, какое самомнение… твари… нена-вижу (интервью 6). Среди ребят раздался дружный смех, и пошли обсуждения на
предмет того, кто такие бомжи, чтоб вообще иметь право любить,кто-то сказал, что они вообще не люди и «их необходимо от-стреливать». Эта фраза прозвучала, как гром среди ясного неба,меня в который раз поразила жестокость, с какой дети говорят о людях, которые такие же люди, как многие другие со своими недостатками, стилем, укладом жизни, но такие же…
401
* * *Безусловно, каждая из «детских профессий», появившихся
в современном российском обществе, интересна и рискованна по-своему. Например, общеизвестно, что такие, на первый взгляд, безобидные формы трудовой деятельности подростка,как продажа газет, книг, напитков, а также мойка машин могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков, хулиганст-вом, мелкими грабежами. В подобных случаях социализация подростка приобретает кризисный и противоречивый характер.С одной стороны, ранняя трудовая деятельность способствует ускоренному вхождению его во взрослый мир, раскрытию по-тенциала, расширению кругозора [Морозова, 2003. С. 138].С другой – эта деятельность иногда граничит с нарушением за-кона, что может привести к драматичным поворотам на жизнен-ном пути.
Мы постарались описать символические грани особой суб-культуры подростков – мойщиков машин. Поддержание сущест-вующего гендерного статуса среди подростков, сущность которо-го заключается в вынесении отношений с женщинами за пределы работы и бизнеса и преднамеренного занижения их статуса, спо-собствует конструированию маскулинности, повышает их симво-лический статус и повышает мужскую уверенность в своем пре-восходстве. Их работа является для информантов весьма важной частью жизни, биографии. Такой вид самозанятости подростков,как мойка машин, способствует созданию социальных сетей и помогает поддерживать связи. Для некоторых занятость стано-вится своеобразным способом самопрезентации и в эмоциональ-ном, и в экономическом смысле.
Артемов В.А. О семейной экономике // ЭКО. 1997. № 4. С. 113–123. Барсукова С.Ю. Кто такие «новые русские»? // Знание – сила. 1998. № 1. С. 10–15.
Барсукова С.Ю. Неформальная экономика и сетевая организация в Рос-сии // Мир России. 2000. № 1. С. 52–68.
Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: понятие, структура // Эко-номическая социология. 2003. Т. 4. С. 15–36.
402
Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: причины развития в зерка-ле мирового опыта // Экономическая социология. 2000. Т. 1. № 1. С. 13–25.
Барсукова С.Ю. Теневой рынок труда и трудовое право в России // Эко-номическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 26–40.
Бреева Е.Б. Дети в современном обществе. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 139.
Вебер М. Основные социологические понятия // М. Вебер Избранные произведения.М.: Прогресс, 1990. С. 26.
Веселов Ю.В. Экономическая социология в России: история и совре-менность // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. II. Вып. 2.
Герасимова Т. Подростковая занятость в России // Социальная работа.2005. № 2. С. 31.
Гладарев Б. «Для нас работа – перерыв между рыбалкой» (субкультура рыбаков-любителей) // Невидимые грани социальной реальности:Сб. ст. по материалам полевых исследований / Под ред. В. Воронкова,О. Паченкова, Е. Чикадзе. СПб.: Труды ЦНСИ, 2001. Вып. 9. С. 71.
Грановеттер М. Экономические действия и социальная структура: про-блема укорененности // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 46.
Добровольный труд или вынужденная занятость // Человек и труд. 2002. № 8. С. 28–34.
Искоренение наихудших форм детского труда: практическое руково-дство по применению Конвенции МОТ № 182: Пособие для парла-ментариев.М.: Ника, 2000. № 3.
Качанов Ю.Л. «Экономическая социология» в контексте политики // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 4.
Ковалев Е. Взаимосвязь типа «патрон-клиент» в российской экономике // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 126.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатей-ный) с практическими комментариями и разъяснениями официальных органов / Автор ком. и сост. А.Б. Борисов.М.: Книжный мир, 2005.
Константиновский Д.Л. Самоопределение или адаптация? // Мир Рос-сии. 2003. № 2. С. 123.
Кресик М. Трудовая занятость несовершеннолетних // Трудовые ресур-сы. 2004. № 3. С. 137.
Кудрявцева М. «Драматургия попрошайничества» // Невидимые грани социальной реальности. Сборник статей по материалам полевых ис-следований / Под ред. В. Воронкова, О. Паченкова, Е. Чикадзе. СПб.: Труды ЦНСИ, 2001. Вып. 9. С. 38.
403
Мингиони Э. Неформальная экономика сквозь призму западного опыта:воздействие изменения режимов регулирования // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. С. 371.
Морозова Е.Н. Городские подростки-мойщики машин // Социс. 2003. № 4. С. 138.
Некипелов Д.С. Детский труд: ратификация Ковенции МОТ о запреще-нии и искоренении наихудших форм детского труда // Труд за рубе-жом. 2001. № 2. С. 74–84.
Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Ло-гос, 1999.
Новая газета. 2002. № 87. 26 нояб.Оберемко О. Эволюция правового режима подростковой занятости в России: контуры социологической экспертизы // Журнал исследо-ваний социальной политики. 2004. Т. 2. № 2. С. 232.
Осколкова О.Б. Бедные дети богатой Америки // Социс. 2003. № 2. С. 78–86.
Плюснин Ю.М. Психология материальной жизни: парадоксы сельской «экономики выживания» // ЭКО. 1997. № 7. С. 169–176.
Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы (пер. М.С. Добря-ковой) // Экономическая социология. 2003. Т. 4. № 5. С. 134–154.
Пронина Е.И. Причины детской занятости в Москве // Социс. 2000. № 1. C. 117–118.
Радаев В.В. Работающие бедные: велик ли запас прочности // Экономи-ческая социология. 2000. Т. 1. № 1. С. 28.
Радаев В.В. Экономическая социология: Курс лекций: Учеб. пособие.М.: Аспект Пресс, 1998.
Робертс Б. Неформальная экономика и семейные стратегии // Нефор-мальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос.С. 313–342.
Рывкина Р.В. Экономическая социология переходной России: Люди и реформы.М.: Дело, 1998.
Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Насилие в молодежных группировках как способ конструирования маскулинности // Журнал социологии и со-циальной антропологии. 2002. Т. 5. № 1. С. 151–160.
Стивенсон С.А. Уличные дети и теневые городские сообщества // Со-циологический журнал. 2000. № 3–4. С. 89.
Хлобустов О. Молодежь и дети в современной России // Власть. 2003. № 6. С. 21–26.
Шанин Т. Эксполярные структуры и неформальная экономика совре-менной России // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред.Т.Шанина.М.: Логос, 1999. С. 14.
404
Шрадер Х. Экономическая антропология. СПб.: Петербургское Восто-коведение, 1999. С. 19.
Щеглова С. Труд детей: права и гарантии защиты от эксплуатации // Че-ловек и труд. 2003. № 3. С. 26–28.
Описание полевых данных Интервью 1. Подросток, 12 лет, прозвище «Я». Интервью 2. Вадим, молодой человек, 26 лет, менеджер автомойки.Интервью 3. Подросток, 13 лет, прозвище «Череп». Интервью 4. Витек, подросток, 12 лет.Интервью 5. Санек, подросток, 11 лет.Интервью 6. Подросток, 12 лет, прозвище «Танцор».
«МЫ ИЩЕМ – ВЫ НАХОДИТЕ»:ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ
Ольга Ткач
Интерес к генеалогии точно такой же,как интерес широкой массы к порногра-фии: вот не было ее раньше, но хочется.
Из интервью с профессиональным генеалогом
«Добрый день! Прошу вас помочь мне в поиске родословной,включая национальность, моей бабушки по отцовской линии: Ле-вина Нина Ивановна, 21.01.1905 года рождения. Сообщите усло-вия оплаты. С уважением, Солодухина Марина Леонидовна» TP
1PT.
Современный русскоговорящий Интернет изобилует подобными запросами любителей семейной истории. Многие из них, испыты-вая потребность в составлении генеалогии, лишены необходимых для этого знаний, умений и времени и чаще всего вынуждены
TP
1PT Гостевая книга Государственного архива Российской Федерации http://www.
gb.ru/cgi-bin/guestbook/gb.cgi?master=zlobinev&page=7&searchword= (последнее посе-щение 10.03.05).
405
прибегать к содействию специалистов. С конца 1980-х – начала 1990-х годов культурное движение по поиску родословных идет параллельно с возникновением и институционализацией профес-сиональной инфраструктуры, обеспечивающей грамотность и ре-зультативность этого поиска. Непривычное для слуха слово «ге-неалог» постепенно входит в профессиональный и повседневный словари, а малопонятный обывателю род деятельности, связан-ный с этим названием, обретает определенные очертания. Задача данной статьи состоит в том, чтобы наметить границы становя-щейся профессии практикующего генеалога.TP PT
В современном российском контексте специалистов в сфере родословия достаточно сложно назвать профессионалами в клас-сическом понимании. «Генеалог» не значится в реестре профес-сий РФ и формально не имеет статуса профессии. Преподавание генеалогии в вузах ведется лишь на уровне спецкурсов. Не имея достаточно сильной институциальной рамки, профессия генеало-га складывается, скорее, как сфера практической деятельности.
Работу практикующего генеалога можно условно отнести к сфере социального обслуживания, следовательно, составляю-щие его профессионализма наиболее отчетливо видны в ситуаци-ях его взаимодействия с заказчиком, или клиентом, заинтересо-ванным в составлении родословной. Поле профессиональной практической генеалогии формируется, растет и видоизменяется,приобретая разнообразные смыслы, в зависимости от обществен-ного спроса на те или иные «генеалогические услуги», с одной стороны, и того спектра предложений, который определяется профессионалами, – с другой. В связи с этим антропологический подход к исследованию профессий, позволяющий увидеть ее на микроуровне социальных смыслов и взаимодействий, оказывает-ся наиболее эвристичным для понимания специфики нового, еще не ставшего общеизвестным, поля деятельности – генеалогиче-ских исследований.
Статья основывается на материалах пяти фокусированных интервью и нескольких неформальных бесед с практикующими генеалогами г. Санкт-Петербурга, в которых обсуждалась специ-фика их работы. Средний стаж из занятий генеалогией – около
406
10 лет. Кроме того, автор обращается к информации, представ-ленной на четырех крупнейших генеалогических сайтах и в два-дцати публикациях современной российской (региональной и мо-сковской) прессы, посвященных проблемам генеалогического поиска TP
1PT.
Чем занимается генеалог-практик? Кем востребованы его профессиональные навыки? В каких ситуациях, кем и каким об-разом определяются рамки профессионализма в профессии, не имеющей формального статуса? Сколько «лиц» у профессио-нального генеалога? Какие более широкие социальные процессы можно описать и проанализировать, исходя из перспективы этой профессии? На эти и другие вопросы автор попытается ответить в данной статье.
Научная и практическая сферы профессиональной генеалогии
Генеалогия представляет собой раздел исторической науки,оформившийся в XVII–XVIII веках, который принято называть вспомогательной, или специальной, исторической дисциплиной,изучающей родословие [Современный толковый… 2001. С. 123], а точнее – происхождение, историю и родственные связи родов исемей. Помимо научной составляющей, генеалогия имеет свою практическую сторону. Генеалогия как род практической дея-тельности ставит своей целью удовлетворение запросов людей,интересующихся историей своего рода. Оставив за рамками этой статьи историю становления и развития научной и прикладной генеалогии в дореволюционный период, отметим лишь, что в со-ветском контексте дискурс о родословии и поиске корней прак-тически отсутствовал, как и не было профессионалов, занимаю-щихся подобными изысканиями. Исключение составляли лишь медиевисты и исследователи легитимных для советской эпохи
TP
1PT Указанный материал собран в рамках исследования «Организационная ин-
фраструктура и социокультурное значение генеалогического поиска (на приме-ре Санкт-Петербурга)», которое проводилось автором при финансовой под-держке Центра независимых социологических исследований (июль 2003 – июнь 2004 года).
407
канонических биографий (потомственных рабочих, героев войн,героев труда и т. п.).
С середины 1980-х годов вместе с дестигматизацией индиви-дуальных и семейных биографий, лишенных прежде официаль-ного признания, и увеличением социального интереса к поискам корней происходила реабилитация генеалогической дисциплины в России. Так, в 1987 году в Петербурге при Российской нацио-нальной библиотеке (РНБ) был проведен первый научный семи-нар по генеалогии и истории семей. Через 5 лет при библиотеке был зарегистрирован Институт генеалогических исследований (ИГИ) – наиболее известный и авторитетный на сегодняшний день в городе центр, занимающийся как научными, так и при-кладными проектами. Тогда же по инициативе института в Пе-тербурге была проведена международная генеалогическая конфе-ренция, собравшая более 300 участников из 12 стран Европы,Америки и Азии. С 1993 года выпускается журнал «Известия Русского генеалогического общества», а в 1997 – открылось изда-тельство ВИРД, специализирующееся на публикации научных работ по генеалогии [Рыхляков, 2003. С. 4–5].
С начала 1990-х годов генеалоги – любители и профессиона-лы – начинают объединяться в ассоциации. Так, в Москве воссоз-дается добровольная научно-общественная организация «Исто-рико-родословное общество», в Санкт-Петербурге возрождается существовавшее до 1917 года Российское генеалогическое обще-ство (РГО) TP
1PT, возникают генеалогические общества во многих
крупных городах России (Мурманске, Новгороде, Иркутске, Том-ске, Твери, Самаре). Сегодня Российская генеалогическая феде-рация в Москве объединяет всевозможные генеалогические объе-динения, общества и кружки, в том числе любительские, образуя сети заинтересованных в поиске корней.
Академическое и прикладное направления генеалогии не раз-виваются независимо друг от друга. Интересы профессионалов могут сосредоточиваться одновременно и на научных, и на прак-тических генеалогических изысканиях. Практикующему генеалогу
TP
1PT Именно на базе Российского генеалогического общества в Петербурге был
создан Институт генеалогических исследований.
408
всегда важно продемонстрировать сложившийся научный инте-рес, упомянуть о публикациях, выступлениях на конференциях и семинарах, своей принадлежности к профессиональному сооб-ществу, тем самым заявляя о своей компетентности для участия в заказных исследованиях.
Профессию генеалога в современном российском контексте достаточно сложно концептуализировать в терминах традицион-ных профессий. Включенность в генеалогическое сообщество, –пожалуй, единственный формальный критерий профессионализ-ма практикующих исследователей, который маскирует или заме-няет собой отсутствие профессиональных сертификатов. Этот «пробел» восполняется, как правило, глубокими историческими знаниями и навыками архивной работы у специалистов. Не слу-чайно в сферу генеалогических исследований попадают истори-ки, архивные и музейные работники, экскурсоводы, библиотека-ри, библиографы, издатели. Нередко увлеченность историей соб-ственной семьи перерастает в дальнейшем в профессиональный интерес TP
1PT.
Варианты профессиональной самоидентификации искателей родословных также отражают зыбкие границы поля практической генеалогии. Наукообразное «генеалог» информанты заменяют бо-лее привычными и простыми определениями, позволяющими,с одной стороны, «расшифровать» название малоизвестной обы-вателю профессии, а с другой – определить для себя самих ее со-держание и сферу своей деятельности. Генеалогия оказывается удачной вывеской для самого широкого спектра занятий: истори-ческих исследований, архивных поисков, просветительских меро-приятий, – всего того, что оказывается востребованным обществом:
У нас есть такая формулировка «общие вопросы генеалогии». «Чем Вы занимаетесь?» – «Общими вопросами генеалогии, а также популя-ризацией и пропагандой генеалогических знаний в широких массах»;
TP
1PT Например, в упомянутом библиографическом справочнике В. Рыхлякова «Пе-
тербуржцы – авторы работ по генеалогии и истории семей» опубликован список 305 генеалогов Петербурга, в том числе дореволюционных. Публикации примерно каждого третьего из ныне живущих специалистов посвящены, в том числе, иссле-дованиям собственного рода.
409
…возникают темы бесконечно. Тема – знать про генеалогию всё,то есть знать методику работы, знать источники и библиографию.По идее, здесь уже можно остановиться и работать консультантом.Меня всегда занимало: «Ваша профессия?» – «Консультант»; [Я себя называю] исследователем, потому что у меня на самом деле темы очень разные, не только генеалогия, – в основном, но ко мне об-ращаются писатели, учёные… то есть вот всё, что можно исследовать по публикациям и архивным материалам;…я независимый исследователь, причём я тот исследователь, который за деньги клиента сообщает ему то, что он не очень хочет знать.
Генеалоги самостоятельно определяют не только границы собственной профессиональной компетенции, но и денежный эк-вивалент работы:
Консультация у нас стоит 300 рублей. Что касается каких-то вот таких услуг, более распространённых, это от фонаря всё делается. У нас у самих нет никакого представления о том, сколько это стоит и как это делается.
Отсутствие четких формальных критериев институционали-зации профессии в России вынуждает генеалогов «учиться» са-мим становиться профессионалами, используя ресурсы образова-ния и исследовательского опыта. Однако этого оказывается не-достаточно, когда речь заходит о профессиональных традициях,официально признанных критериях профессионального статуса и высоком уровне материальной оснащенности архивов, – всего того, что отличает развитие европейской и американской прак-тической генеалогии. Зарубежный опыт воспринимается про-фессионалами как ориентир, который за неимением достаточ-ных ресурсов остается для них, скорее, мифом, недосягаемой мечтой:
…у них [за рубежом] всё в большей степени всё-таки компьютеризи-руют, в Америке в Lake City, знаете, там эта мормонская библиотека?Вот, просто раз и получил, и бесплатно. А нам чтобы получить…из метрической книги запись, надо сесть… [материал лежит] вот та-кими томами рукописными… [Их] как когда-то дьячок заполнял в церкви, так они там и лежат;
410
…в Финском генеалогическом обществе 5 тыс. членов на 5 млн насе-ления, и оно получает от государства… материальную помощь, им выделили в центре города прекрасное помещение порядка пятисот кв.метров, они там разместили библиотеку, компьютерный центр. …нам,конечно, об этом можно только мечтать;Ведь в Соединенных Штатах, например, 68 генеалогических обществ,3 общенациональных генеалогических объединения, они получают от государства программные заказы. Это я сейчас полушёпотом говорю,что я профессиональный генеалог, а там это можно сказать открыто.И можно быть профессиональным генеалогом, получить профессио-нальную карточку, тарификацию. И три степени вот этой квалифика-ции, и существуют какие-то рамочные расценки, например, генеало-гу… с третьей квалификацией нельзя платить… больше 20 дол. в час.А с высокой квалификацией… можно 100 заплатить.
Сколь бы огромной ни была у генеалогов жажда широкого общественного признания их профессии в России, они предпочи-тают оставаться независимыми от государственных структур. От-сутствие формальной квалификации, официальной зарплаты, за-писи в трудовой книжке и развернутых государственных про-грамм в сфере генеалогических изысканий вовсе не означает, что работу российских генеалогов нельзя назвать профессиональ-ной. Слагаемые их профессионализма выкристаллизовываются на практике. Для того чтобы представить себе эти составляющие,необходимо получить представление об этапах генеалогического исследования.
Организация профессиональной деятельности практикующего генеалога
Профессиональное поле практической генеалогии образуют независимые исследователи, генеалогические организации, ин-ституты или фирмы, а также Интернет-сайты и порталы TP
1PT.
Спектр предложений и номенклатура услуг практически не зави-
TP
1PT Современный Рунет, за исключением родовых и фамильных страниц, предла-
гает несколько десятков генеалогических сайтов, на которых собраны архивы по фамилиям и родам. Наиболее информативные сайты: www.genealogia.ru, www.vgd.ru, www.petergen.com, www.geno.ru, www.famclan.ru (сайт насчитывает более 1,5 тыс. посетителей).
411
сят от формы организации профессионалов. Кроме того, и лич-ное, и виртуальное общение любителя со специалистом органи-зуется по одним и тем же принципам и правилам и включает всебя ряд определенных этапов от инициирования генеалогиче-ского поиска до его завершения.
Рассказывая о своей работе, генеалоги стремятся представить каждое исследование как уникальное, неповторимое и зачастую непредсказуемое по своим результатам. Тем не менее существует ряд процедур, характерных для любого поиска. Как правило, онначинается с любительского запроса. Заказчики находят генеало-га либо по личным сетям, либо по рекламным объявлениям TP
1PT. Ге-
неалогический запрос может варьироваться, исходя из интересов клиентов: от поиска данных об одном из предков до разветвлен-ного и детального описания нескольких поколений прародителей.Исследование предваряет беседа профессионала с заказчиком,который предоставляет известную информацию об истории се-мьи. В дальнейшем составление генеалогии предполагает поиск соответствующих справочных (библиотечных) и архивных мате-риалов, что не исключает командировок в регионы, где могли со-храниться данные о предках заказчика. На данном этапе взаимо-действие генеалога с заказчиком осуществляется по одному из двух возможных сценариев: генеалог либо сам выполняет всю работу, предоставляя заказчику лишь конечный результат, либо курирует самостоятельный поиск исследователя:
…если ко мне обращается человек, живущий в городе Петербурге,я сразу ему говорю: «Не платите, давайте я Вам расскажу, куда пойти и что посмотреть». Если человек говорит: «Нет, мне некогда, я не хо-чу, я не буду», я говорю: «Тогда платите». <…> Если человек говорит:«Ну ладно, а куда мне идти?» Я говорю: «Вот сейчас Вы идёте туда,берёте вот такой справочник, смотрите там то-то, а потом звоните мне и говорите, что Вы нашли, я Вам говорю, куда идти дальше». И таким образом мы корреспондируем.
TP
1PT Стоит уточнить, что рекламу могут себе позволить достаточно большие и раз-
ветвленные генеалогические организации. Небольшие фирмы и независимые ис-следователи, как правило, предпочитают обходиться без открытой рекламы во из-бежание наплыва клиентов. Они отмечают, что им вполне достаточно их известнос-ти и репутации в кругу знакомых.
412
Эта иллюстрация демонстрирует, во-первых, два лица генеа-лога, и, во-вторых, две категории заказчиков. Следовательно,у практической генеалогии существует, как минимум, два из-мерения: коммерческое и просветительское, то есть она функ-ционирует в рыночном и образовательном пространствах. Эту двойственность отмечают и сами заказчики (см. приложение). Два измерения генеалогической деятельности достаточно сложно разделить, любое из них может быть актуализировано,исходя из приоритетов специалиста и ситуации взаимодействия с клиентом.
В процессе поиска материалов и восстановления истории ро-да генеалог аккумулирует сведения, полученные из разных ис-точников. Одно из его основных профессиональных качеств – не просто умение работать в конкретном архиве или библиотеке,а знание «географии архивов» и их специализации TP
1PT, умение вы-
строить «архивную цепочку», которую необходимо пройти в каж-дом конкретном исследовании. Генеалог без архивной и библио-течной эрудиции, не знающий, например, в каких фондах искать информацию о репрессированных предках, а в каких – предков-священников или военных офицеров, вряд ли станет успешным.Это универсальное знание выгодно отличает практикующего ге-неалога от специалистов родственных, но общепризнанных, ин-ституциализированных профессий: архивных работников, биб-лиографов и т. д.:
А чем я отличаюсь от того же архива, в котором тоже есть, естест-венно, отдел, который отвечает на запросы? Тем, что я обязана знать не только этот архив, но где ещё можно искать. Потому что очень часто бывает так, что не хватает, например, исходных данных,и в архиве… одном, отдельно взятом, хотя фонды подходящие есть…найти ничего нельзя. И тогда я бегу в библиотеку или обращаюсь сначала в другой архив, наковыряю вот этих исходных данных побольше, потом сюда же возвращаюсь, потом ещё куда-то и так далее.
TP
1PT Профессиональный генеалог хорошо осведомлен не только о фондах крупных
государственных, но также и региональных, ведомственных и даже зарубежных архивов.
413
Серьезным преимуществом работников архивов, которое по-зволяет им вступать с независимыми исследователями в конку-ренцию за заказчиков, является прямой доступ к фондам:
Мы всё равно идем в архив, а в архиве тоже есть службы, которые вы-полняют… платные заявки. И они в нас, профессионалах, видят кон-курентов, тем более что кроме института генеалогии – нас, немногих сотрудников, есть ещё другие генеалоги, которые тоже это делают.Ничего плохого они не делают, но, естественно, по советской привыч-ке, ты – конкурент, и поэтому архив – он монополист, он может тебе дать или не дать информацию.
В связи с этим важным коммуникационным качеством генеа-лога является его умение поддерживать дружеские отношения с работниками архивов, не вступать в конфронтацию, быть под-черкнуто вежливым и обязательным. Например, некоторые спе-циализированные Интернет-сайты содержат полезную информа-цию о том, как должен выглядеть генеалог, отправляясь в архив,дабы произвести благоприятное впечатление на его служителей.Однако профессиональные сети генеалога не ограничиваются связями в архивах. Включенность в межрегиональную и между-народную среду коллег делает специалиста более мобильным,позволяет решать серьезные задачи. Дистанционное коллектив-ное исследование проводится, как правило, по принципу профес-сионального бартера:
Штатных сотрудников у меня… трое… а остальные на договорной ос-нове, когда что-то нужно… А потом, это не только Петербург, у меня вот люди, которых я, например, никогда не видела, но общаюсь года-ми по электронной почте. В Москве – три человека, кого-то видела,кого-то – нет, на Украине, в других городах. Потом люди друг друга находят. Скажем, мне нужно что-то посмотреть в каком-то городе…кто-то порекомендует или просто по Интернету, ну, по Интернету не очень, всё-таки можно попасть на кого-то, всё-таки надо, чтобы кто-нибудь рекомендовал. Как-то мы друг друга знаем в разных городах,ко мне обращаются. Вот с москвичом, например, мы меняемся. …что-то ему нужно – он меня просит, что-то мне нужно – я его прошу.
Продолжительность работы по поиску истории рода варьи-руется от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет,
414
в зависимости от объема знаний о предках у ныне живущих род-ственников, документальной оснащенности родословной, дос-тупности источниковой базы. В процессе генеалогического ис-следования документы верифицируются, а информация, которая содержится в них, систематизируется в хронологическом порядке и может быть представлена наглядно в виде генеалогического древа, схематически связывающего предков с ныне живущими родственниками. Частью профессиональной этики генеалога яв-ляется прямая трансляция полученных сведений заинтересован-ному лицу, без искажений, интерпретаций и подмены фактов:
…писатель может быть историком, точно так же, как историки – они все писатели, вот они садятся и пишут историю. Я не пишу историю вообще, в принципе. И мой готовый продукт – это, в лучшем случае,пересказанные документы или просто документы. Моя задача – их найти, сопоставить и выстроить в некую логическую цепочку. Если понадобится это как-то внешне, слегка оформить, я готов это сделать,но не с очень большим удовольствием.
Между тем деятельность генеалога не ограничивается лишь работой с источниками, коммуникацией с коллегами и подготов-кой финального результата. Взаимодействие с заказчиком на всех этапах исследования – знакомства и получения заказа, процесса поиска информации, получения и верификации результатов и т. д. – является ключевым компонентом генеалогической прак-тики. Именно в отношениях с теми, кем востребованы его знания и умения, генеалог определяет свое «профессиональное амплуа», границы своей ответственности, этические принципы работы,развивает профессиональное воображение и намечает перспекти-вы дальнейшей деятельности.
«Человек сразу видит, за что он платит деньги»: генеалог как бизнесмен (предприниматель)
Тема генеалогического бизнеса, «коммерческой генеалогии»активно проблематизируется в современных российских СМИ.Рынок генеалогических услуг описывается как один из стихийно сложившихся российских рынков. Он возник на волне пришедшей
415
с Запада моды, подхваченной «новыми русскими»TP
1PT, политтехно-
логами и предприимчивыми генеалогами, которые предлагают или навязывают свои дорогостоящие услуги состоятельным кли-ентам. По словам генеалогов – моих информантов, дороговизна генеалогических услуг порой не имеет ничего общего с их реаль-ной стоимостью. Намерено завышая цены, генеалоги-предприниматели пользуются незнанием обывателей специфики генеалогического исследования. Говорит специалист со стажем свыше 10 лет:
…для нас это… очень неустоявшийся вопрос: сколько это стоит?Многих интересует этот вопрос: а богатый ли заказчик? Если он из нефтяной компании какой-то, значит, это может… и 5 тыс. долла-ров стоить. Но это не [с ударением] стоимость работы, это просто вы-рванные деньги. На самом деле, не так дорога эта работа, как об этом пишут в газетах: «Тысячи, тысячи…». Нет, это можно сделать вполне за скромные деньги… даже в пределах 10–15 тыс. рублей.
Тем не менее поиск клиентов осуществляется подчас доста-точно агрессивно:
Обычно заказчиков ищут «на ощупь», через знакомых. Самые нахаль-ные являются прямо к руководителям банков и крупных компаний с предложением составить родословную [Эрлихман, 1999. С. 6]. Целью генеалога-коммерсанта является не исследование ис-
тории рода, а выгодная продажа необходимого заказчику фа-мильного древа, к которому предусмотрительно «пририсованы недостающие листья» [Там же]:
Можно, конечно, раздобыть фальшивую родословную или приписать-ся хоть к Романовым, хоть к Александру Македонскому [Наумов,2000. С. 15; см. также: Владимирова, 2000. С. 19]. Такая родословная выполняет декоративную функцию, ста-
новится символическим подтверждением финансового статуса
TP
1PT О российской ностальгии 1990-х годов и общественному интересу к дорево-
люционным символам и, как следствие, приобретению «новыми русскими» «благо-родной сословной» принадлежности см.: Гощило, Ажгихина, 2002. С. 513–515.
416
заказчиков. Следовательно, специалисты уделяют основное вни-мание материализации своих результатов:
Последняя стадия работы – рисование древа. Для этого существуют компьютерные программы, превращающие безликую схему в роскош-ное украшение новорусского офиса [Алексеев, 2001. С. 1]. Как и любой другой дорогостоящий бизнес, коммерческая
генеалогия описывается в нынешней прессе в терминах теневых и даже криминальных отношений и рисков:
Один клиент с отчётливо уголовным прошлым от разочарования [по-лученными сведениями. – О. Т.] даже обещал отрезать исполнителю уши, и несчастный генеалог несколько месяцев вынужден был жить на съёмной квартире [Эрлихман, 1999. С. 6]. Мода на родословные как элитарное увлечение материально
обеспеченных людей подобна современной моде на пластиче-скую хирургию. С той лишь разницей, что во втором случае для повышения социального престижа перекраивается тело, а в пер-вом – семейная биография, в которую включаются известные ис-торические фигуры. Такое представление о работе генеалога кон-струируется, отчасти, благодаря СМИ.
По словам экспертов (генеалогов, историков, библиотека-рей), профессиональный генеалог, в отличие от непрофессио-нального, получает материальное вознаграждение за результаты своей работы. Каждый этап заказного генеалогического исследо-вания (от первичной консультации до составления родословной)оценивается по установленным тарифам, которые варьируются от фирмы к фирме. На любом специализированном сайте можно найти раздел платных генеалогических услуг.
Как правило, клиенты генеалога-предпринимателя – обеспе-ченные люди, зарубежные заказчики или наши соотечественники,которым необходимо документальное подтверждение их проис-хождения TP
1PT. Коммуникация таких заказчиков с генеалогами крат-
ковременна и носит коммерческий характер:
TP
1PT Как правило, в целях эмиграции на ПМЖ в некоторые зарубежные страны
(Германию, Израиль и др.).
417
Они [обеспеченные заказчики] готовы заплатить за это. Но они все странные, они все считают, что… это быстро должно быть сделано и с исчерпывающей информацией. Им объясняешь, что информация такая, какая она может быть найдена. Они люди очень чёткие, с точки зрения бизнесмена, они не очень понимают, что это не та область дея-тельности, которая может быть исчерпывающе в неделю им предос-тавлена.
Знакомство с работой генеалога, таким образом, ограничива-ется оплатой заказа и полученного результата. Весь процесс по-иска информации остается для заказчика «черным ящиком». В таком случае генеалоги в сотрудничестве с другими профес-сионалами (художниками, граверами, резчиками по дереву и кам-ню, скульпторами) стремятся материализовать «невидимый» кли-енту интеллектуальный труд в произведения искусства. Совре-менную коммерческую генеалогию достаточно сложно предста-вить без сопутствующей индустрии генеалогического дизайна:
Понимаете, собственно говоря, ведь объяснить человеку, далёкому от общей культуры, что ты проделал работу, затратил кучу времени, что ты просто это знаешь, очень сложно. А он такой подходит: «В натуре,вот я там могу то, то, вот это. А ты что можешь? Ааааа! Да это каж-дый, байки травить, дескать». А, стало быть, товар надо чем-то утяже-лить. Вот чем можно утяжелить? Ну, во-первых, не просто листочки распечатанные принести, а как минимум их сброшюровать. Ну, по су-ти дела, это сейчас все делают, ну, просто элементарная аккуратность сдачи работы. Ну, там, может быть, копии каких-то документов, наи-более интересных, карты там приложены. Но всё равно это всё, в об-щем, то, что в магазин приходишь, на прилавке это лежит десятками.А можно нарисовать дерево, то есть мы все равно рисуем некую ге-неалогическую схему, чтобы ориентироваться и для себя, и для чело-века. А можно его нарисовать красиво. Тем более что практика тако-вая есть. Например, в историческом музее в Москве царские все вот эти веточки, на них такие, типа, лиановых, листочки, на них вышиты портреты царей. Родословное древо русских царей. Это можно всё очень красиво сделать. И кто-то в графике это всё красиво оформляет.
На наш взгляд, именно в «коммерческой» сфере практиче-ской генеалогии наиболее часты случаи конфликтов между про-фессионалами и заказчиками. Вероятно, они связаны с расхожде-ниями в ожиданиях. И генеалоги, и их клиенты уверены, что
418
можно составить любую родословную, однако и те, и другие по-нимают это утверждение по-своему. Для исследователя успеш-ность поиска родословной практически не зависит от сословия,к которому принадлежали предки заказчика, важно лишь знать,в каких архивах следует искать материал. Для заказчиков воз-можность найти любую родословную нередко означает заказ и покупку той истории семьи, которую он желает видеть своей:
Замечательно [однажды] мой киевский коллега Р. сказал. Кто-то из городской элиты позвонил и сказал: «Вот я слышал, кому-то из правительства сделали казацкую родословную, вот мне тоже казац-кую родословную». Он говорит: «Простите, Вам какую? Казацкую или Вашу?»; [Заказчица говорит]: «А нам вот наш родственник дальний говорил,что мы дворяне, а Вы нам документы дали, что они купцы петербург-ские. Нам купцы не нужны, нам нужны дворяне!»; …ужасно обидно, когда… это единицы таких случаев были, когда че-ловек, который считал, что он из благородного сословия и вдруг вы-ясняется, мы находили его родного, и он говорил, что ему не надо и он переставал интересоваться, это ужасно.
Подобные разочарования любителей в открытой для них се-мейной истории лишают профессиональных генеалогов уверен-ности в значимости их дела. В связи с этим трансляция нравст-венно-воспитательного подтекста генеалогических исследований становится одним из аспектов взаимоотношений с заказчиками.
«Мы потеряли этот элемент культуры»: генеалог как идеолог возрождения семейной памяти
Одним из элементов профессионализма генеалога является умение донести до заказчика знание о том, что приобретение ро-дословной означает для него не только и не столько изменение социального статуса, но и обладание собственной, принадлежа-щей только ему, истории. Эта «новейшая история» возникает в процессе так называемой «децентрализации общенациональной памяти» [см. подробнее: Нора, 1999]. Его суть состоит в том, что историей в современном обществе становится не спущенный «сверху» гегемонный метанарратив, а память каждого из нас.
419
То, что люди сами вольны помнить, вспоминать, запоминать или забывать, становится их историей. Так прошлое начинает «при-ручаться» сообществами, институтами, организациями, индиви-дами. В таком случае родословная становится одним из вариан-тов «приватизированного» прошлого. Из статистического инст-румента, механизма регистрации, маркера «сословного» отли-чия она превращается в способ выражения самобытности, нахо-ждения собственного жизненного пути и обоснования его ус-пешности или неуспешности, одним словом, тем прошлым, бла-годаря которому можно «понять и ощутить самих себя» [Нора,1999. С. 88].
По мнению П. Нора, чем более атомизированой и индиви-дуализированной становится память-идентичность, чем большее значение приобретает ответственность человека за ее «оживле-ние» и осмысление. Иными словами, чтобы сохранить свою идентичность в современных условиях, индивид обязан помнить,быть «человеком-памятью» (memory-individual) [Nora, 1989. P. 16].
В российских условиях этот экзистенциальный императив подпитывается идеологией исторического реванша, нацеленного на восполнение утраченных в советское время семейных историй,восстановление связи поколений. И генеалог, в том числе, бе-рет на себя ответственность не только вспоминать и помнить,но и правильно распоряжаться этими воспоминаниями, предлагая этот выбор и своим заказчикам:
Человек, который сегодня родился, и за ним там никого нет, он гораз-до легче, облегчённее смотрит в будущее. Он не перед кем и не перед чем не отвечает. Он и детям-то своим даёт только то, что сам имеет.А когда человек ощущает, что там за ним были люди, не просто какие-то люди, а дедушка Ваня, прадедушка Вася… «А вот прадедушка у меня, прадедушка, он же в русско-японскую войну воевал, у него крест был за… Родину». А у него сейчас спрашивают: «А что ж ты,сукин сын, от армии-то отлыниваешь? Время-то настало то же…на русско-японскую идти, острова защищать!»; …в какой-то момент начинаешь понимать, что ты лишь звено в цепи.Ты осознал себя, что ты что-то сделал. И тут ты начинаешь думать,а почему ты такой, какую цепь ты собой соединяешь или размыкаешь.Иногда это чувство, реже, посещает и молодёжь, особенно если её воспитывать соответствующим образом.
420
«Каждый человек должен знать свое происхождение, исто-рию своего рода. Это знание более всего связывает его с истори-ей его страны, народа, укореняет в любви, мировоззрении, выбо-ре жизненного пути»TP
1PT, – гласит приветствие одного из генеало-
гических сайтов. Знание людьми своих родословных как элемент цивилизованного общества, гражданской позиции профессиона-лы связывают с современным российским патриотизмом, семей-ной моралью. По их мнению, распространение генеалогических исследований способно восполнить «культурную отсталость»России:
…никто не спорит, что необходимо культурному человеку знать исто-рию своей страны. Из чего состоит история страны? Из историй семей,правильно? И наоборот, истории семей очень зависят от истории стра-ны. Мы потеряли этот элемент культуры. Вот эти самые «иваны не-помнящие родства», … «отеческие могилы», – это всё для нас ничего не значит, ни-че-го. Поэтому люди здесь не понимают, для чего нужна генеалогия. Да просто потому, что это элемент культуры, потому что на традициях люди воспитываются, потому что надо знать, откуда ты взялся, и что в тебе происходит.
Вместе с тем поиск семейной истории как проявление граж-данского общества из сферы дискуссий и объяснений переходит,благодаря генеалогам, в сферу практической деятельности.По инициативе профессионалов объявляются конкурсы родо-словных, например: «Задумайся над своей родословной», «Корни и крона» [Галкина, 2002. С. 10]. В их числе – многочисленные детские конкурсы и семинары TP
2PT. Генеалогам также принадлежат
различные коммеморационные инициативы, в частности, по на-писанию мемуаров, публикации родословных, созданию домаш-них и пополнению публичных архивов:
[Важно], чтобы это не потерялось. …сейчас человек думает: «Да, язнаю своего деда, прадеда, и то сейчас стоит каких-то трудов сейчас
TP
1PT Программа «Династии России» // http://www.geno.ru/.
TP
2PT Например, в Петербурге с 1999 года проводятся ежегодные городские конфе-
ренции юных генеалогов «Родословные петербургских семей в истории Петербурга и России» [см.: Нефёдов, 2004].
421
восстановить какие-то потерянные звенья. А что будут помнить мои дети? И, например, архив. Если кто-то принёс свой документ, показал,я говорю: «Да нет, Вы оставьте копию в архиве, потому что никто ни от чего не застрахован. Вдруг что-то случится? А когда это в одном месте, в другом, в третьем, это же уже всё-таки…» Потом кто-то при-ходит, если, конечно, закрытый архив, частный, но, тем не менее, если люди обращаются, мы можем заглянуть в этот архив и дать какие-то сведения.
Восприятие генеалогии не как висящего на стене в рамке ро-дословного древа, а как семейной истории, заставляет любителя прилагать усилия по ее восстановлению. Значимость этой работы для начинающего поисковика заставляет генеалога предъявлять любителю содержимое «черного ящика» и переходить от идеи поиска к практическим рекомендациям.
«На хлеб я себе заработаю… а вот научить и пристрастить других – это дорогого стоит»: генеалог как учитель (преподаватель)
В отличие от генеалога-предпринимателя, который имеет де-ло с заказчиками, генеалог-преподаватель сотрудничает со свои-ми клиентами. Отправной точкой подобного исследования явля-ется не заказ, а скорее, запрос, просьба о помощи в инициативном поиске корней. Профессионалы, воспринимающие любителей генеалогии как дилетантов, условно делятся на две группы. Пер-вую составляют те, кто считает, что любители не способны и не должны заниматься генеалогией, дабы ее не дискредитировать.Иногда эта точка зрения открыто высказывается, например,на профессиональных конференциях:
Любители, превращающие свои опусы в биографическо-краеведческо-историко-бытовые монографии, не мыслящие поколенной росписи без перечисления в ней всего того, что они знают, или того, что им попало под руку о каждом упоминаемом персонаже, о каждом предмете и яв-лении (вопрос качества и добротности не имеет значения), в подав-ляющем своем большинстве уже и не подозревают о возможном су-ществовании собственно генеалогии. И в отличие от позитивной в це-лом деятельности историков, которые силой привитых им научных
422
навыков рано или поздно определятся и в терминологии, и в задачах,и в методах, и в источниках, привлекающихся к чисто биографиче-ским или чисто генеалогическим штудиям, любители, по всей видимо-сти, никогда в этом не разберутся [Шумков, 2002. С. 58–60]. Для специалистов, разделяющих эту точку зрения, потенци-
альные заказчики априори неграмотны в вопросах генеалогии и не способны к их освоению. Учитывая эту аксиому, на одном из специализированных сайтов вслед за определением генеалогии размещены варианты искаженного использования «генеалогиче-ской орфографии»: «Иногда пишется с ошибками: генеология,гинеалогия, гениалогия, гениология, гинеология, гинеологиче-ское древо, генеологическое дерево и т. п.» TP
1PT. Авторы сайта
словно переводят неофитам незнакомое слово на их язык.Неосведомленность любителей в специфике генеалогическо-
го исследования, желание быстрого получения результата приво-дят к неконтролируемому наплыву заказов и просьб:
Соответственно, в этой области работа у нас с теми, кто обращается в генеалогическое общество, пишут иногда: «Помогите, как, что де-лать». Это надо рассказать. Это довольно муторная работа, немножко надоедливая, это надо по несколько раз говорить. Вот сейчас типич-ный вопрос по Интернету: «Хочу». Самые распространенные: «Помо-гите, подскажите, куда и что». Очень часто, конечно, обращаются, это стало довольно вездесущим, из какой-нибудь деревни приходят…; …а потом просто к нам в эту комнату [помещение ИГИ. – О. Т.] стали приходить люди со своими вопросами: «А как?» [искать родослов-ную]. В этих вопросах мы захлебнулись… в индивидуальных беседах с людьми. …ну просто сил никаких не стало хватать ни на что.…шефу без конца домой звонили, сюда звонили. …Люди приходят,причем этот поток никак не регулируемый, понимаете?
Упорядочивание этого «потока» начинается с элементарной селекции заказов на заранее неосуществимые и перспективные:
К нам иногда городские сумасшедшие обращаются, типа что «моя двою-родная тётка или бабушка была внебрачной дочерью Романовых»…
TP
1PT Сайт «Архивное дело» // http://www.1archive-online.com/genealogy/ (последнее
посещение 26.03.2005).
423
За отсевом «мифоманов» следуют попытки просвещения «нецивилизованных», но любознательных и пытливых любите-лей генеалогии. Представители второй группы экспертов, на наш взгляд, гораздо более многочисленной, склонны активно вовле-кать обывателей в изучение родословных, отдавая себе отчет в том, что профессионалов, способных удовлетворить растущее количество запросов, ничтожно мало. Для заинтересованных в самостоятельном поиске, будь то по материальным или этиче-ским причинам, генеалог становится «научным руководителем», преподающим азы генеалогии, и наставником, обучающим люби-теля практическим навыкам поиска. На этом этапе начинающий выступает в роли ученика:
[Сначала] самостоятельно смотрел по таким каким-то общедоступным вещам, то есть в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, например. Там род зафиксирован. …а в архивные фонды я уже попал… студентом первого курса, и благодаря подсказке К. [крупнейшего в Петербурге специалиста по генеалогии. – О. Т.]. Просто я себе это все смутно то-гда представлял, точнее сказать, вообще не представлял. Он дал пер-вые какие-то советы, был таким генератором в этом смысле, так что…(я) считаю его как бы учителем в генеалогии.
На уровне организаций обучение новичков ведется более ме-тодично. Так, например, в 2000 году при ИГИ была открыта «Школа начинающего генеалога», предлагающая курс лекций по истории сословий в России и практических занятий по самостоя-тельному поиску корней. Преподаватели школы не только делят-ся с новичками опытом архивного поиска сведений об истории семьи (вплоть до диктовки запросов в архивы), но и обеспечива-ют их возможностью попасть в учреждения (оформляют отноше-ния в архивы, способствуют получению библиотечных билетов), нередко прибегая к личным связям.
В Петербурге обучение и просвещение в области родословия ведется также в школах, музеях, детских кружках, а также раз-личных организациях, напрямую не связанных с генеалогическим поиском. Растущее число заинтересованных в самостоятельном поиске корней подвигает профессионалов к написанию учебни-ков или справочников по практической генеалогии.
424
Кроме того, самостоятельный поиск родословных обеспечи-вается образовательной или просветительской информацией,опубликованной на сайтах. В «Советах начинающим генеалогам»подробно описывается пошаговый процесс генеалогического ис-следования с указанием необходимых для обращения институтов и организаций (генеалогических институтов, архивов, ЗАГСов,библиотек, национально-культурных сообществ), представляются формы составления заявок, объясняются генеалогические, со-словные термины и термины родства.
Усваивая советы, рекомендации, направляющие поиск кор-ней, любитель постепенно способен превратиться из ученика ге-неалога в соисследователя:
…многие работы, больше половины, я делаю в компании с кем-то: или с моими коллегами, когда это чистый заказ, или в компании с тем че-ловеком, который заказчик. Частично он делает сам, частично – я.…это всё идет в постоянном контакте с заказчиком, в постоянном контакте. Я ему всё абсолютно объясняю, я у него спрашиваю, как он считает, что лучше смотреть – это или то, потому что здесь может найтись это, а здесь – это, вот это стоит вот столько, а вот это вот столько, и он сам решает, потому что я снимаю с себя ответственность в таких случаях.
В таком случае полученные данные можно считать результа-том групповой работы профессионала и любителя. Постоянно посвящение заказчика в тонкости генеалогического исследования приводят к тому, что специалист лишается некоторой части мо-нополии на знания и умения. Как правило, коллегиальность в ра-боте создается обоюдным интересом: в поиске истории собствен-ной семьи – у клиента, и в решении научных задач – угенеалога TP
1PT. Некоторые любители, пройдя профессиональную
подготовку, становятся «домашними генеалогами» и дают консультации по организации поиска родным и знакомым.
TP
1PT Некоторые генеалоги берутся исключительно за заказы, так или иначе пересе-
кающиеся с их собственными научными интересами, например, генеалогии донско-го казачества или истории голландских семей в России.
425
«Он (заказчик) должен тебе сначала поверить»: генеалог как психолог (врач)
Профессиональное кредо генеалога: «Не бывает хорошей или плохой родословной, она либо есть, либо ее нет». Однако, как показывает практика взаимодействия с любителями семейной истории, не всякий заказчик способен сохранять подобный ней-тралитет. Открытие сведений о предках – ожидаемых и неожи-данных, выдающихся и нелицеприятных – влечет за собой слож-ную моральную работу потомка. В таком случае генеалог стано-вится невольным свидетелем, в какой-то степени, интимных пе-реживаний заказчика, и его доверенным лицом на протяжении всего исследования: от первой встречи до получения конечного результата TP
1PT. По словам специалистов, в коммуникации клиента
с генеалогом возникают доверительность и искренность, не все-гда достигаемая в контактах, например, с психологами или со-циальными работниками. Открытые отношения между профес-сионалом и любителем становятся условием результативности поиска:
Профессию генеалога можно сравнить с профессиями врача и адвока-та вместе взятыми. Мне тоже, как врачу, приходится много выслуши-вать. Но самое главное, что генеалогу нельзя врать, как своему леча-щему врачу и адвокату, ведь от того, что вы скажете, зависит, какую янайду информацию, а вы потом будете считать родными совсем дру-гих людей.
Взаимное доверие заказчика и генеалога становится особен-но значимым на этапе получения результатов исследования.Для любителя, не имеющего глубоких исторических познаний и несведущего в тонкостях генеалогического материала, воссоз-данная история семьи, родословное древо, дореволюционные на-звания и аббревиатуры выглядят «китайской грамотой». Генеалог
TP
1PT Или результата, который признается конечным по обоюдному согласию про-
фессионала и любителя. По словам генеалогов, практически любой род можно ис-следовать вплоть до XVI–XVII веков. Выбор поколения, на котором стоит остано-виться, обусловлен доступностью источников, желанием продолжать работу, целя-ми исследования.
426
объясняет смысл полученных данных, «расшифровывает» мало-понятные обывателю исторические документы, знакомит его с новыми, еще вчера неизвестными, персонажами его семейной истории.
Работать с людьми – достаточно тяжелая ситуация, особенно, когда они что-то хотят, и когда товар не очень им понятен. [Если человек]просит колбасы, ты ему даешь колбасу, он сам видит, она такая или сякая. А тут ты ему даешь товар, а он ничего не понимает, то есть дей-ствительно, он должен тебе сначала поверить, а потом он должен, как бы, доверится тому, что этот товар – действительно то. Потому что на рынке на любом, естественно, масса обманщиков. …тем более, вот опять-таки, что гадалка, что генеалог – у него, в общем-то, приблизи-тельно одно и то же: какие-то незнакомые слова говорит, про какие-то документы.
И генеалогом, и заказчиком полученная информация может по умолчанию воспринимается как диагноз. Некоторые специа-листы стараются придерживаться профессиональной этики, по-добной врачебной: используют индивидуальный подход в беседе с клиентами, зная обстоятельства его дела, пытаются заранее подготовить к обескураживающим открытиям:
Иной раз даже вот моя сотрудница говорит: «Может, этого не гово-рить?» Я говорю: «Ну, как же не говорить? Ну, как же не говорить?» Вообще, [случаи] бывают разные.
Так же, как пациент ожидает от доктора назначения лечеб-ных процедур, улучшающих диагноз, заказчики нередко припи-сывают профессионалам способность скорректировать родослов-ную таким образом, чтобы она соответствовала ожиданиям чле-нов семьи. Понимая, что генеалог бессилен что-либо изменить в семейной истории, любители предполагают, что иная интерпре-тация материала способна ее приукрасить. Документальные сви-детельства воспринимаются заказчиками как менее валидные по сравнению с заключением эксперта:
[После сообщения результатов] они [заказчики] были очень обижены оба. И один сказал, что «как прежде, так и теперь все всё скрывают»,
427
а другая сказала: «Нельзя ли сделать так, как будто бы…?» Я сказа-ла: «Это, пожалуйста, в Академию Личностей в Москву P
1P … мы… не
торгуем»; Вчера… говорили с дамой. [Она спрашивала о своих предках]: «А ка-ких они чинов все достигали?» – «Вы знаете, они все были пономаря-ми». Она говорит: «А это вот как?» Она совсем ничего не понимает.«Высокая должность?» – «Это самая низкая должность в церковной иерархии». Она мне говорит: «Ну, зачем вы прям так сразу? Могли бы сказать: “невысокая”». В «психологической поддержке» со стороны генеалога нуж-
даются не только заказчики, оплачивающие поиск, но и ведущие его самостоятельно. В случае, когда инициативу любителя не поддерживает никто из родственников, генеалог становится для него практически единственным референтным лицом. Некоторые профессионалы рассматривают это вынужденное общение как побочную сторону своей деятельности:
Самое противное в этих любителях: они все ужасно восторженные и всем хотят похвастаться. Вот он мне взахлеб [рассказывает]: «Ах, янашел вот это, ах, я нашел вот это, а ты знаешь вот это?» Конечно,я всегда стараюсь прислушиваться, кто, что нашел, потому что диле-танту может открыться что-то, тебе неведомое, и это всегда расширяет [знания]. Но это бывает нечасто, в основном это, так сказать, куча на-воза, и вот они там нашли вот это вот зернышко, а рассказывают-то мне про всю эту кучу;…я тогда его [любителя] вот так направляла, направляла, а потом он уже так увлёкся, что уже как-то и сам. Вот я его до сих пор встре-чаю, куда бы ни пошла. Он как родной ко мне кидается, рассказывает мне всё.
Вместе с тем подобное рвение любителей в поисках новых сюжетов семейной истории создает для генеалогов новое про-странство для приложения их сил.
TP
1PT Так называемая «Академия Личностей» в Москве очень часто возникала
в рассказах информантов в связи с упоминанием непрофессиональных или «те-невых» генеалогов. Упомянутая «Академия» славится многочисленными слу-чаями присвоения (продажи) дворянских титулов людям, не имеющим предков-дворян.
428
«К семейным торжествам поможем составить и художественно оформить схему родословных связей»: генеалог как «массовик-затейник»
Регулярные встречи генеалога с любителями, организация курсов, обучающих поиску корней, а также Интернет-сайтов и фо-румов, нацеленных на создание виртуальных сообществ по прин-ципу происхождения, популяризируют поиск корней и формиру-ют пространство «клубной генеалогии». Сегодня в России насчи-тывается около 30 генеалогических обществ, объединяющих 2,5–3 тыс. увлеченных семейной историей. Как правило, центра-ми притяжения подобных обществ в городах являются централь-ные библиотеки, а инициаторами их создания – генеалоги и биб-лиотекари. Интерес к родословным становится основой интегра-ции и кооперации любителей. Общий регион поиска, один архив,подобные исторические источники превращают генеалогическое исследование в совместное времяпрепровождение.
В свою очередь создатели генеалогических сайтов пропаган-дируют поиск корней как престижное, интересное и увлекатель-ное хобби, элемент нового «культурного» образа жизни, проти-вопоставленного советским практикам умалчивания семейной истории. Кроме того, – и в этом состоит специфика Интернет-генеалогии – сайты выполняют функцию строительства семей-ных и фамильных сетей. Например, в рубрике «Создай свой клан» описываются расширенные возможности совместного ин-терактивного генеалогического исследования, образование клу-бов однофамильцев и круга родственников, «виртуальных се-мей», в том числе и международных.
Генеалоги становятся инициаторами создания сообществ по принципу происхождения (дворянских собраний, купеческих гильдий и пр.). Тем самым они организуют эксклюзивное клубное (околонаучное или игровое) пространство, в котором есть место разнообразным досуговым формам: от сбора и хранения сведений о дворянских родах до проведения балов и вечеров искусств TP
1PT.
TP
1PT Подробнее о «современном дворянском сословии» в Санкт-Петербурге см.:
Ткач О. В поисках родословной: изобретение традиции? // Отечественные записки.2005. № 1 (в печати).
429
Помимо традиционного представления о генеалогии, которая ориентируется на знания о прошлом семьи, появляются альтерна-тивные понимания родословной, позволяющие занять прежде пустующие ниши на рынке генеалогических услуг. Примером последнего является, например, появившийся в мае 2004 года в Петербурге на базе Санкт-Петербургской общественной орга-низации по распространению знаний о составлении родословных «Родословная книга Отечества» центр «Семейная родословная». Под лозунгом «Начни родословную с себя», центр ставит своей целью помощь в написании современной родословной, где осно-вателем рода провозглашается современник, который документи-ровал свои биографические данные. Он словно начинает новое семейное летоисчисление. По словам создателя центра,
в результате открылась захватывающая дух перспектива: с одной сто-роны, исключается кропотливая, нудная работа, почти ничего не надо писать, а с другой – родословная благодаря новому алгоритму появля-ется у каждого россиянина, причем красивая, подробная и основа-тельная, – а это как раз то, что нам надо [Миронов, 2004. С. 6]. Массовое производство генеалогии, имеющей обратный от-
счет, претендует на создание новой традиции написания семей-ной биографии, которое бы «воспринималось как естественное и необходимое». Кроме того, такой подход к генеалогии позволя-ет творчески подходить к созданию семейной истории: самим изобретать семейные документы и реликвии: «родословную кни-гу», «родословный ларец», «герб, гимн и знамя рода». Появление «ненаучной» генеалогии позволяет характеризовать культурное движение по составлению родословных как разновидность се-мейного досуга.
В итоге, генеалогия как массовое развлечение или увлечение,на наш взгляд, практически исключает фигуру генеалога. Остав-ляя любителя наедине с его семейной биографией, профессионал отправляется на поиски новых историй, выполняет новые прось-бы, встречает новых заказчиков, перед которыми, быть может,выступит в какой-то другой, не замеченной нами, роли.
430
«Путешествие в прошлое»: генеалог как проводник (вместо заключения)
Восстановление семейной истории предполагает активное освоение прошлого, его оценивание и увязывание с настоящим;оно, скорее, подобно путешествию в прошлое или приключению.Однако в отличие от Зиммелевского приключения, которое
…находится вне непрерывности всей остальной жизни… (и) по само-му своему смыслу не зависит от предшествующего и последующего [Зиммель, 1996. С. 212, 213], в котором форма берет верх над содержанием, приключение,
связанное с поиском родословной крепко вплетено в ткань био-графии «путешественника в прошлое». И не просто вплетено,а серьезным образом укрепляет или видоизменяет ее. Удивитель-но, как приключение, связанное с семейной историей, сочетает в себе, с одной стороны, кропотливую, напоминающую археоло-гические раскопки «работу по демонтажу, переустройству и фор-мированию собственной идентичности» [Бауман, 2002. С. 190], и дух авантюризма, исследовательского азарта, детективного расследования – с другой. В структуре нарратива о путешествии в поисках корней, будь то рассказ профессионала или любителя,генеалогу принадлежит функция помощника [Пропп, 2001. С. 35–48]. В коммуникации с заказчиком он выполняет «клас-сический» круг действий помощника: разрешение трудных задач (попадание в архивы, межрегиональный поиск, эксклюзивное ху-дожественное оформление родословной и т. д.); трансфигурация героя (ликвидация «генеалогический безграмотности» любителя,мобилизация новых ориентиров его идентичности, нахождение им нового досугового пространства и т. д.); ликвидация недоста-чи (восстановление родословных, подтверждение / опровержение семейных легенд и пр.). Профессионализм генеалога, способст-вующий таким превращениям, складывается из его социально-исторических знаний; навыков грамотной архивной работы; ком-муникативных ресурсов (включенности в профессиональные сети, репутации в среде коллег и потенциальных заказчиков); морально-нравственных ориентиров, направляющих генеалога
431
в поиске информации. И в любом случае – готовность отказаться от монополии на профессионализм и разделить его с заинтересо-ванным любителем семейной истории.
Востребованность профессии генеалога в обществе ставит вопрос о характере отношения современного человека к истории своей семьи, к событиям, которые он не переживал, но которые,парадоксально, становятся частью его биографии. Достаточно ли для этого просто «заказать » и «купить» родословную или потом-ку необходимо ретроспективно самому «пережить» ее в процессе архивной работы? Является ли процесс восстановления истории рода моральной биографической работой общества или одним из направлений современной культурной индустрии TP
1PT, рынка?
По всей видимости, и то и другое. И всегда что-то еще. История многолика, непредсказуема и бесконечна, столь же непредска-зуемо и бесконечно ее открытие потомками. Как заявила одна из моих информанток, «дело в том, что такого рода исследования,их невозможно закончить, их можно только прекратить усилием воли, как ремонт».
Приложение
Стихи о генеалогии (из творчества посетителей сайта
«Всероссийское генеалогическое древо» TP
2PT)
* * *Но, однако, генеалог Вот о нем и речь пойдет Он в архивах очень ловок Документы все найдет Исторические судьбы Переписки частных лиц Он работает как Xerox Перепишет 100 страниц А потом он всем покажет
TP
1PT Не случайно генеалогические организации открываются при учреждениях
культуры.TP
2PT Пунктуация авторов сохранена.
432
Как он много отыскал Посмотреть предложит даже За валюту или нал Ну а ты и поторгуйся Он же добрая душа Он отстроит тебе древо Потихоньку, не спеша
* * *Генеалог как старатель Забыв про сон, еду и жажду,В архивах древности, листая документы Лелеет он свою надежду Найти, просеяв пыль веков,Своих родных и близких,С кем не был он знаком.Триста лет тому назад Что говорить, и даже двести Мой предок вообразить не мог Что буду рад любой я вести О том, где жил и что творил Кого рожал и с кем он жил И где, окончив жизнь, почил.Стремлюсь проникнуть в глубь веков И объединить разрозненные факты Найти и доказать недостающее звено И наконец понять, «А кто ты?» А мой сын родился и растет,Дай Бог ему здоровья!Что папа не нашел, мой сын найдет!Это и его история!
Алексеев А. Тени фиктивных предков // Деловой Вторник (приложение к газете «Трибуна»). 2001. 20 марта.
Бауман З. Индивидуализированное общество.М.: Логос, 2002. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Тра-диция, 2000.
Владимирова Т. Как из кухарки сделать графиню // Деловой Вторник (приложение к газете «Трибуна»). 2000. 30 мая.
Галкина Н. Знает предков до седьмого колена // Кировская правда. 2002. 18 янв.
433
Гощило Е., Ажгихина Н. Рождение «новых русских»: картинки с вы-ставки // С. Ушакин (сост.). О мужественности. М.: Новое литера-турное обозрение, 2002. С. 504–531.
Зиммель Г. Приключение // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. Т. 2: Созерца-ние жизни.М., 1996.
Миронов Ю. Пишем родословную книгу. СПб.: Родословная книга оте-чества, 2004.
Наумов О. До сотого колена // Древо (приложение к изданию «Россий-ские вести»). 2000. 1 нояб.
Нефедов И. Под патронажем клуба: Всемирные петербуржцы отмечают 13-летие // Известия. 2004. 16 янв.
Нора П. Франция – память. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. Пропп В.Морфология волшебной сказки.М.: Лабиринт, 2001. Рыхляков В. Петербуржцы – авторы работ по генеалогии и истории се-мей: Библиогр. справ. СПб., 2003.
Современный толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2001. Шумков А. Биографика и генеалогия: вопрос соотношения // Источни-коведческие и методологические проблемы биографических иссле-дований: Сб. материалов научно-практ. семинара (СПб, 4–5 июня 2002 г.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002.
Эрлихман В. Урожай с родословного дерева // Карьера. 1999. 9 июля.Hobsbawm E. Introduction: Inventing Tradition // The Invention of Tradition
/ E. Hobsbawm, T. Ranger (Eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // Representa-tions 26. Spring, 1989.
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСТВА:ПОЛИТИКА, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Наталия Ловцова
Обладая некоторыми общими чертами, практики родительст-ва в истории и среди представителей разных культур чрезвычай-но вариативны. При этом многие общества считают нужным формировать определенные требования и стандарты семейного воспитания посредством общественного мнения и законов и вме-шиваться в тех случаях, когда такие стандарты не соблюдаются.
434
Считается, что дети требуют заботы и защиты, в том числе и от«неправильных» родителей. Большинство современных обществ даже и не ставит под сомнение тот факт, что государство так или иначе должно регулировать отношения между родителями и детьми, используя власть для вмешательства во внутренние де-ла семьи, чтобы защитить детей от различного рода вреда.
Необходимость заботы о благополучии детей оказалась на повестке дня государственного управления с момента призна-ния данного возрастного периода в качестве значимой социаль-ной группы, что по мнению Ф. Арьеса, произошло примерно в конце XVII века, когда в результате существенных изменений общественного сознания в Европе произошла изоляция детства от мира взрослости:
Семья организуется вокруг ребенка, придает ему такое значение, ко-торое выводит его из прошлой анонимности… возникает необходи-мость ограничить их [детей] количество, чтобы лучше о них заботить-ся [Арьес, 1999. С. 10–11]. М. Фуко объясняет подобную трансформацию экономиче-
ской и демографической ситуацией XVIII столетия, когда форми-руется «медико-административная» политика поддержания и вос-производства трудовых ресурсов, и детство наделяется экономи-ческими и политическими характеристиками. При этом именно семье делегируется ответственность за воспроизводство полезно-го населения, а также обеспечивается ее полная подконтроль-ность перед государством [Foucault, 1980].
Проблемы роли и статуса детства и семейного воспитания,компетентности родительства, последствий «неправильной» се-мейной социализации, социального сиротства находятся в фокусе общественного внимания, поскольку актуализируют целый ряд сопряженных материальных и эмоциональных аспектов, среди которых, например: противостояние прав родителей и государст-ва [Fox Harding, 1991]; содержание социальных конструктов дет-ства, родительства, материнства, отцовства в конкретный истори-ческий момент [James, Jenks, Prout, 1998]; то, каким образом формируются понятия «хорошие родители», «проблемная семья»,
435
«ребенок группы риска» [Adcock, White, 1985]; каково экономи-ческое и политическое устройство общества, и как это позволяет родителям справляться с трудностями, связанными с растущей стоимостью и коммодификацией детства, заостряя проблемы ро-ли новых рынков в обеспечении благополучия детей [Bebbington, Miles, 1989; Van de Flier Davis, 1995; Kirkpatrick, Kitchener, Whipp, 2001; Katz, 2000] и многие другие.
Привычные правила, символические границы традицион-ных представлений о детстве и родительстве исчезли или изме-нились. Современная жизнь характеризуется растущей неопреде-ленностью, в связи с чем все чаще возникает тема об определе-нии идентичности и аутентичности родительства, где акценты перемещаются в сторону стандартизации и «нормализации» ро-дительского поведения, которое все больше и больше приоб-ретает черты профессиональной деятельности, что стимулирует рост культурного и политического резонанса и обусловливает возникновение новой системы смыслов вокруг отношений де-тей, родителей и государства [Schechter, Bertocci, 1990; Feast, Howe, 1997].
В данной статье, используя атрибутивный подход, мы рас-смотрим профессионализацию родительства. Согласно этому подходу, для определения деятельности как профессии необхо-димо наличие в ней определенных признаков, например, пере-численных Миллерсоном: применение навыков, основанных на теоретических знаниях; образование и подготовка по этим на-выкам; компетентность профессионалов, удостоверенная экзаме-нами; правила поведения, которые утверждаются профессио-нальным сообществом; исполнение услуг ради общественного блага; профессиональная ассоциация, которая организует своих членов [цит. по: Ярская-Смирнова, 2002. С. 64].
Для объяснения важности и значимости процесса профес-сионализации родительства для государства мы привлекаем идеи М. Фуко, который связывает современную общественную жизнь с ростом «дисциплинарной власти», продуцирующей «послуш-ных людей», поведение которых контролируется извне, и кото-рые больше не могут действовать спонтанно, по собственному
436
желанию. С этих позиций мы проанализируем практики законо-дательного и политического регулирования родительства, в ка-честве одного из примеров рассмотрим практики фостерного воспитания детей, лишенных попечительства биологических родителей.
Профессионализация родительства в этой статье выступает как метафора, передающая смыслы модернизации семейного воспитания и формализации отношений между государством и семьей. Модернизация родительства стимулирует развитие на-стоящей культурной индустрии, которая, в свою очередь, базиру-ется на популяризации научных и политических идеологий. Про-фессионализация может пониматься и в отношении так называе-мого «социального материнства», то есть перенесение традици-онных семейных функций женщины в публичную сферу типично «женской» занятости (работа медсестер, воспитателей, поваров и учителей). Фостерные родители, получающие заработную пла-ту за временное содержание и воспитание «чужих детей», расши-ряют смысловое поле нашей метафоры.
Оформление контракта между государством и родителями
С позиции функционалистского подхода, профессионализа-ция способствует интеграции всех элементов общества в единое целое. Профессионализация есть ответ на растущую обществен-ную потребность в решении сложных проблем, для чего требу-ются квалифицированные специалисты. Модернизация всех со-циальных отношений в первые годы советской власти требовала кардинальной ломки системы ценностей, в том числе, и приват-ной жизни. Семья, являясь оплотом традиционных устоев, долж-на была подвергнуться коренной перестройке, а ее функции мог-ли бы выполнять новые социальные институты и специально обученные специалисты.
И если в первое десятилетие советской власти решать пробле-мы детства пытались при помощи коллективистских институтов (которые и поныне остались главным оплотом воспитания сирот), то уже к концу 1920-х годов, когда количество беспризорников
437
приняло недопустимые масштабы, акцент сместился в сторону родителей. Тема родительской компетентности и ответственно-сти исторически поднимается на гребень волны дебатов о сущно-сти и роли семьи в обществе в периоды, характеризующиеся рос-том безнадзорности, беспризорности, сиротства и социального сиротства: послереволюционный, послевоенный и постперестро-ечный периоды.
Родительская ответственность за отсутствие надлежащего контроля над отпрысками, их злоупотребление или пренебреже-ние своими обязанностями теперь виделись основной причиной детских бед. С 1926 года законодательством предписывалась бо-лее высокая ответственность семьи за поддержку близких родст-венников, особенно это касалось родительской ответственности за воспитание детей. В 1935 году принимается закон об уголов-ной ответственности родителей, пренебрегающих своими обя-занностями. Новое законодательство о семье 1936 года ознамено-вало крутой поворот государственной семейной политики и за-крепило сталинские репрессивные стандарты в этой сфере на дол-гие годы.
Для того чтобы оправдать ожидания, возложенные на роди-телей обществом и государством, им следовало обладать опреде-ленными знаниями и развивать специфические навыки, не при-сущие традиционной культуре. Напротив, традиционные элемен-ты воспитания детей могли нанести вред их здоровью – как фи-зическому, так и моральному:
Наши родители обладают властью… но эта власть является отражени-ем социальной власти. В нашей стране долг отца по отношению к сво-ему ребенку принимает конкретную форму долга по отношению к об-ществу. Как будто наше общество говорит родителям: «Обществу во-все не безразлично, какими людьми станут ваши дети. Предоставляя вам некоторую меру социальной власти, Советское государство тре-бует от вас правильного воспитания будущих граждан» [Макаренко,1967. С. 27–28]. Не случайно в пособии для родителей конца 1960-х годов
приводятся идеи сорокалетней давности, принадлежащие классику
438
советской педагогики [см.: Черняева, 2004]. Категория «правиль-ного» воспитания в те и последующие годы, безусловно, была нагружена идеологией соответствующего периода, однако и тогда,и поныне от родителей ожидается общественно-полезный вклад:сохранение целостности социального организма, снижение ост-роты конфликта, предотвращение общественной дезинтеграции.
Семейный кодекс 1969 года воплотил многие положения и принципы, которыми руководствовалась советская политика предыдущих десятилетий, зафиксировав необходимость форми-рования у детей «коммунистического уважения к работе» (ст. 1), отдавая предпочтение коллективным, а не личным интересам.«Воспитание детей семьей в органическом сочетании с общест-венным воспитанием в духе преданности Родине, коммунистиче-ского отношения к труду и подготовка детей к активному уча-стию в строительстве коммунистического общества» (ст. 1) фор-мулирует направление обучения детей их родителями.
Коммунистическая мораль не допускала религиозного обра-зования и не поощряла этнические традиции в семейном воспи-тании: религиозность и этническое самосознание были признаны «вредными пережитками прошлого» и одной из задач Кодекса 1969 года было «окончательное устранение вредных пережитков и обычаев прошлого в семейных отношениях» (ст. 1) для совет-ских людей, чья идентичность могла быть национальной, этниче-ской лишь по форме, но социалистической по содержанию.
Ввиду интенсивной занятости обоих родителей, уход за деть-ми, их воспитание в СССР во многом зависело от разветвленной системы детских дошкольных учреждений. Дошкольное, а осо-бенно всеобщее школьное образование, контролируемое центра-лизованно, позволяло дополнять или даже перенимать на себя пробелы, оставляемые семьей, и воспитывать учащихся «в орга-ническом сочетании с общественным воспитанием в духе пре-данности Родине» (ст. 1 Кодекса 1969 года). Для обучения роди-тельству, правильному с научной и государственной точки зре-ния, существовали различные каналы, включая детскую худо-жественную и научную педагогическую литературу, фильмы и мультфильмы, родительские собрания в школе. Если родители
439
не подчинялись инструкциям учителей или воспитателей, то мог-ли быть подвергнуты различным санкциям с помощью многочис-ленных механизмов социального контроля.
Социально-политические трансформации современной Рос-сии затронули и сферу брачно-семейных отношений, что отрази-лось во вновь созданном демократическом семейном законода-тельстве. Ряд законов, принятых для регулирования семейных и детско-родительских отношений (Семейный кодекс, закон об об-разовании 1992 года) изменил характер государственной интер-венции, существенно ограничив роль государства и предоставив свободу родителям в деле воспитания детей: «Родители имеют приоритетное право образовывать и воспитывать своих детей пе-ред другими людьми» (ст. 63) и могут сами принять решение,следовать ли указаниям и советам учителей или других специа-листов о том, как лучше воспитывать детей или, например, в ка-ком возрасте осуществлять профилактическую вакцинацию детей.
Одновременно государство ограничило и гарантии пособий и льгот, инфраструктуру поддержки семьи. Например, было со-кращено число детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, организации досуга и спортивной активности, а услуги оставшихся учреждений в основном предос-тавляются на платной основе. Вновь возникшие отношения меж-ду семьей и государством стали основываться на основе отказа от принципа патернализма в пользу принципа минимализма [Fox Harding, 1991]. В дискурсе законодательной и исполнитель-ной власти все чаще звучат идеи ответственности семьи, сопро-вождающиеся утверждениями о предоставлении семье большей свободы выбора при принятии решений.
Семейный кодекс 1996 года закрепил за родителями право совместного воспитания детей в семье согласно их представлени-ям о наилучшем воспитании, освободив, по крайней мере на сло-вах, семью от былой идеологической нагрузки. Был провозгла-шен принцип взаимной ответственности членов семьи за благо-получие друг друга при содействии других государственных и негосударственных акторов социальной политики. Акцент государственной поддержки смещен в сторону сохранения семьи
440
(как на институциальном уровне, так и на уровне конкретной се-мейной группы) и содействия семье при выполнении задач вос-питания детей. Этот принцип наиболее ярко проявился в прак-тиках государственных воздействий на те семьи, в которых ро-дители «не исполняют функции воспитания детей надлежащим образом», – практики лишения родительских прав значительно усложнены. Так, изъятие ребенка из семьи представляется край-ней мерой наказания родителей и возможно только по решению суда, а разлучение братьев и сестер в случае лишения родитель-ских прав и определения места жительства детей не допускается.Безусловно, на практике остается множество проблем и препят-ствий реализации этого принципа.
И все же контракт между государством и родителями сохра-няет свою силу. Подобно контролю над профессионалами, стан-дартизация деятельности родителей осуществляется особыми ин-станциями, наделенными властью следить за соблюдением пра-вил, налагать санкции в случае их нарушения. Контроль за со-блюдением государственных предписаний осуществляют управ-ления народного образования, отделы по охране материнства и детства, действующие в системе министерств (департаментов)труда и социального развития, инспекции по соблюдению прав ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних, а также раз-личные негосударственные фонды и общественные организации.
В политической риторике идеалы семьи ассоциируются с ее ролью как автономного экономического субъекта, основного агента социализации детей, аккумулятора и транслятора культур-ных ценностей. К примеру, Национальный план действий в инте-ресах детей «Основные направления государственной социаль-ной политики по улучшению положения детей в Российской Фе-дерации до 2000 года» делает акцент на необходимости поддерж-ки семьи как «естественной среды развития детей» путем обеспе-чения «экономическими, социальными, правовыми и админист-ративными мерами права детей на жизнь в семье, поддержки возможностей семьи по воспитанию и содержанию детей,улучшения семейного образа жизни» [Указ Президента РФ…1995]. Развитие культуры «ответственного родительства» можно
441
интерпретировать как следующий виток его профессионализа-ции, подкрепляемой различными формами образования: вал книжной индустрии, специальные занятия, программы, органи-зуемые государственными и общественными организациями.
Современные ценности мультикультурализма за рубежом переформулируют контракт между государством и родителями,дополняя его новыми взглядами на семью и воспитание. Тем са-мым контракт этот становится и более гибким, и более противо-речивым. Гибкость проявляется в конвенциальности регулирова-ния семейных отношений: например, в европейских странах ста-вится вопрос о возможности усыновления детей гомосексуаль-ными парами [Katz, 2002]. Противоречивость вызвана неопатер-налистскими устремлениями современных государств всеобщего благосостояния [Garrett, 2002; Katz, 2000], стимулирующими конформное поведение как условие получения финансовой или социальной поддержки от государства [Powell, 2000]. Усложне-ние требований, предъявляемых к родителям как к высококвали-фицированным профи, означает огромный поток микрообяза-тельств, правильное исполнение которых возможно благодаря консультациям и контролю со стороны большого количества профессионалов: педагогов, психотерапевтов, социальных работ-ников, исполняющих роль менторов, содействующих становле-нию профессиональной сущности родителей [Straw, Anderson, 1996]. «Неуспевающие» родители дисквалифицируются в пуб-личном дискурсе и в реальных практиках депривации. Например,как в России, так и за рубежом подвергается сомнению квалифи-кация социально или экономически маргинализированных роди-телей, как правило одиноких матерей. Политическая конъюнкту-ра относит к группе риска некомпетентности и иностранных усыновителей.
Задачи и уроки профессионализации родительства
Эксперты Всемирного Банка указывают, что дети – будущий человеческий капитал, который рассматривается как один из ключевых факторов, определяющий не только индивидуальное
442
благосостояние, но и социально-экономический рост и развитие в целом [Социальная политика в интересах детей… 2002]. В свя-зи с этим, а также ввиду того, что родители работают без оплаты (за исключением грошовых пособий на детей), профессионализа-ция родительства является экономическим резервом общества и государства. Инвестиции в детство сокращают социальные рас-ходы и способствуют сплоченности общества, снижая всевоз-можные риски в будущем и стимулируя социальное развитие на основе соблюдения прав человека.
Вместе с тем институциализация государственного контракта с родителями в политике поддержки семьи и охраны детства име-ет и ряд латентных причин, в том числе, (вос-)производство удобного для общества типа личности, правил, норм, стереоти-пов, служащих потребностям общества, а также осуществление социального контроля. Иными словами, на родителей возложена обязанность (хотя это и называется правом) воспитывать детей,полезных государству и обществу. «Правильная» родительская деятельность представляет собой услугу, исполняемую ради об-щественного блага, а нарушение исполнения родительской роли наносит обществу вред. Подобная точка зрения, находящаяся всогласии с метафорой профессионализации родительства, весьма распространена в публичном дискурсе.
Позиция государства по отношению к семье и родительству амбивалентна. С одной стороны, либеральная политика приветст-вует индивидуализацию и свободу выбора в сфере семейных от-ношений. С другой стороны, ожидается, что этот выбор будет общественно-полезным. Например, от родителей, в большей сте-пени от матерей, требуется регулирование моральных приорите-тов и социальной ответственности в довольно сложном совре-менном идеологическом климате. Политика профилактики пра-вонарушений среди подростков приписывает родителям ключе-вую ответственность за поведение их семей, чему противоречит требование обеспечения семьи через занятость всех трудоспо-собных членов семьи.
Для объяснения подобных противоречий полезны идеи Фуко о способности власти формировать и население как воплощение
443
коллективности, и индивидуальную субъективность. Это воз-можно с применением различных техник, или практик, таких как надзор, нормализация, исключение, классификация и регуляция [см.: Gore, 1998]. Фуко описывает возникновение этого нового типа «дисциплинирующей власти» из нововведений XVII века,когда на замену насилию и принуждению пришли техники уп-равления [см.: Baker, 1998. P. 129–130] во многих сферах, вклю-чая родительство, образование и социальную работу, определяя то, как конструируются проблемы, каким образом классифици-руются люди и что считается необходимым для формирования правильного поведения.
Результатом использования подобной системы классифика-ций является возникновение, в частности, суждений о сниженном воспитательном потенциале родителей, «аномальном родительст-ве, дефектности социализации в семье» [Панкратов, Цымбал,1998], а значит и конструирование пространства, в котором будут действовать родители и в которое будет помещен ребенок. В со-ответствии с идеями Фуко, родители и ребенок предстают про-дуктами категоризаций, техник формирования и рассуждений.Категории оценки – «аномальное материнство», «работающая мама», «отсутствующий отец», «готовность к обучению», «про-блемные дети» – претендуют на определение некой нормы, а сле-довательно, оценки родительской деятельности как правильной и неправильной (профессиональной и непрофессиональной), а детей как ее качественного или некачественного продукта. От-метим, что понятие проблемной семьи или семьи группы риска относится в публичной риторике только к тем семьям, где есть дети, оно произведено доминантным дискурсом семьи и отноше-ний между детьми, родителями и обществом, сформировавшимся в условиях роста жестокого обращения с детьми, детской и под-ростковой беспризорности и преступности вследствие углубле-ния экономического неравенства, либерализации социальной по-литики.
Для того чтобы ограничить интервенцию в семью, но сделать это эффективно, государство стремится применить ряд техник, ко-торые Фуко называет техниками власти, для того чтобы убедиться,
444
что государственная интервенция нацелена именно на ту группу,на которую необходимо. Эти техники включают надзор, облег-ченный системой здравоохранения и социального обеспечения,с помощью которых можно определить (выявить) потенциальные «случаи» и распределить практики, необходимые для нормализа-ции, классификации и исключения. В соответствующих законах эти практики объединены под названием «поддержка детей груп-пы риска и их семей». К сожалению ни один российский норма-тивный или законодательный документ не дает четкого опреде-ления, что такое «проблемный ребенок» и какова ситуация риска,понятие которого, кстати сказать, само по себе является конст-руктом.
Законодательство и практики социальных служб демонстри-руют подход, автономизирующий, изолирующий и деконтекстуа-лизирующий ребенка и родителей, разрешение проблем которых видится в их поддержке. Либеральная модель социальной под-держки исключенных и маргинализированных групп состоит не в оказании материального содействия, что создало бы большую зависимость от государства, а в стремлении вовлечь клиентов в различные программы «для этической переделки их в активных граждан» [Rose, 1999. P. 60].
Согласно политическому и профессиональному дискурсу,ребенок может нормально развиваться в семье; если же возникает необходимость вмешательства внешних агентов, целью стано-вится ре-приватизация и «нормализация» воспитания ребенка.Вместе с тем акцент социальных программ, как все чаще заявля-ется, должен быть сделан на профилактике семейного неблагопо-лучия, чтобы сократить нежелательную интервенцию в семью,способную ослабить семейные связи. Акцент на превентивных программах также характеризует либерализацию социальной по-литики, при которой целью государства становится «регулирова-ние событий, решений и действий экономической сферы, семьи,частных предприятий, поведения конкретных людей, чтобы по-ощрять их автономность и ответственность» [Rose, 1999. P. 46]. И вновь именно профессионализируемые качества родитель-ских умений и навыков приобретают первостепенное значение,
445
а сутью превентивных программ фактически становится подго-товка или переподготовка родителей к «надлежащему исполне-нию родительских обязанностей».
Родительство как оплачиваемая работа
В предыдущих разделах мы обсуждали в большей степени ожидания государства от так называемого биологического роди-тельства, а также то, каким образом государство регулирует и профессионализирует родительскую деятельность. Однако наи-более ярко признаки профессионализации родительства прояв-ляются там, где исполнение родительских обязанностей не толь-ко контролируется и поощряется, но и оплачивается государст-вом. Речь идет о государственной заботе о детях-сиротах и соци-альных сиротах.
Строго говоря, и биологическое родительство поддерживает-ся государством материально в виде пособий на ребенка, льгот по оплате услуг детских дошкольных учреждений и коммуналь-ных услуг, в виде налоговых льгот для работающих родителей,имеющих несовершеннолетних детей, оплачиваемых отпусков по родам и уходу за детьми. Однако в случае помещения ребенка в замещающую семью, люди, исполняющие обязанности по вос-питанию ребенка, получают за свою родительскую деятельность заработную плату.
Семейные формы устройства выступают альтернативой го-сударственной заботе о детях-сиротах в закрытых учреждениях,дебаты о которых не сокращаются в политических, научных и общественных дискуссиях уже не один десяток лет. Наиболее известными деинституциализированными формами устройства детей, лишенных родительской заботы, зафиксированными феде-ральным законодательством, являются приемная семья, опека и попечительство, усыновление [Семейный кодекс РФ, 1996. Гл. 19, 20, 21; ФЗ «О дополнительных гарантиях… 1996. Ст. 1;Положение о приемной семье, 1996]. В последнее время распро-страняется практика устройства детей в фостерную семью (ее еще называют фостеровской, или замещающей), которая яв-ляется разновидностью приемной семьи и выступает «погранич-
446
ной», временной формой устройства ребенка, до определения его статуса и дальнейшей судьбы. Исторически более ранней формой для России, по сравнению с фостерной семьей, является практика патроната. Деятельность фостерной семьи регулируется местным законодательством, тогда как понятия приемной семьи и патро-ната определяются в Семейном кодексе.
Приемная, фостерная и патронатная семья по своим функци-ям и определениям очень близки: деятельность всех этих видов замещающих семей строится на основе контракта с государст-венным учреждением, занимающимся вопросами устройства де-тей-сирот; люди, принимающие детей в семью, становятся работ-никами данного учреждения и получают зарплату и средства на содержание ребенка, в такой семье дети и воспитатели не вступают в правоотношения, возникающие в биологической се-мье (наследование, обязанность заботы после прекращения срока договора), время пребывания ребенка варьируется от четырех ме-сяцев до нескольких лет TP
1PT. Целью работы таких семей является
предоставление ребенку временного убежища, до тех пор пока не будет решена его дальнейшая судьба: возврат в биологическую семью, усыновление, передача под опеку или попечительство,устройство в учреждение институциальной заботы.
Итак, фостерная семья – это профессиональная семья, то есть грамотно воспитывающая ребенка на основании контракта с го-сударственным учреждением, которая отличается от других форм принятия детей на воспитание временным характером и договор-ными отношениями. Ребенок, попавший в фостерную семью,становится активным участником воспроизводства семейного опыта через взаимодействие, взаимопонимание, общение с при-емными родителями, их детьми, родственниками, представите-лями старшего поколения. Предполагается, что если у таких де-тей появляется положительный опыт семейного благополучия,то они впоследствии сами станут эффективными родителями.
TP
1PT В случае фостерной семьи срок пребывания ребенка определяется местным за-
конодательством или иными специальными документами. Так, в Саратове длитель-ность нахождения ребенка в замещающей семье ограничена одним годом.
447
В фостерную семью передаются дети и подростки, оказав-шиеся в трудной жизненной ситуации, не имеющие «формальных признаков», позволяющих дать им статус оставшихся без попе-чения родителей, но фактически являются таковыми, в первую очередь из числа воспитанников специализированных учрежде-ний для несовершеннолетних. Фостерная семья может принимать от одного до трех воспитанников, в зависимости от жилищно-бытовых условий. Условия воспитания, конкретные сроки пре-бывания ребенка в фостерной семье, материальное обеспечение ребенка и другие условия регулируются договорами, которые за-ключаются между социальным учреждением и воспитателем фостерной семьи. Воспитатель фостерной семьи несет ответст-венность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка. Регулярно воспитатели фостерной семьи ставят работников учреждения в известность о состоянии здоровья ребенка, хода его развития,отчитываясь о результатах реабилитации ребенка один раз в ме-сяц. Администрация учреждения, со своей стороны, за время на-хождения ребенка в фостерной семье защищает его права и за-конные интересы, решая совместно с органами опеки и попечи-тельства вопросы его дальнейшего жизнеустройства. Воспитате-лю фостерной семьи ежемесячно выделяется денежная сумма на каждого воспитанника на различного рода расходы. Финанси-рование ребенка, находящегося на воспитании в фостерной се-мье, на порядок ниже, чем стоимость его содержания в детдоме,и выделяется оно лишь на протяжении шести месяцев (в исключи-тельных случаях финансирование может быть продлено до одно-го года). При закрытии фостерной семьи, ребенок, проживающий в ней, возвращается в учреждение или биологическую семью ли-бо направляется в детский дом, либо передается на усыновление.
Развитие системы фостерных семей представляется альтер-нативной формой решения проблем детей, лишенных родитель-ского попечительства, однако неразвитость сети таких семей и ограниченность законодательства, регулирующего систему воспитания, пока не позволяют говорить о ее эффективности.Среди аргументов противников семейных форм устройства детей – обращение к истории патронатного воспитания, которое часто
448
представляло узаконенную форму эксплуатации детей в семьях [см.: Червоненко, 2005], поскольку несмотря на жесткие практи-ки контроля за семьями в советский период, семья оставалась бо-лее закрытой для вмешательства и государственного регулирова-ния системой, чем, например, колония для подростков, детский дом или школа-интернат. Среди аргументов сторонников инсти-туциальной заботы возникают и сетования о недостаточной ком-петентности приемных родителей, чей профессионализм намного ниже, чем у специалистов государственных учреждений [Соци-альная политика в интересах детей… 2002].
Для того чтобы получить представление о том, как живут фостерные семьи, с какими проблемами они сталкиваются, как с ними справляются, нами в 2003–2004 годах в Саратове было проведено два интервью с сотрудниками социально-реабилита-ционного учреждения, где реализуется программа фостерных се-мей, и 12 интервью с женщинами в возрасте от 37 лет до 61 года,принимающими на воспитание детей с самого начала реализации программы в 1999 году.
Люди иногда идут работать фостерными воспитателями,чтобы проверить свои силы, чтобы в дальнейшем они могли при-нять в свою семью ребенка, стать опекунами (попечителями) или приемными родителями. По словам социального работника уч-реждения,
фостерная семья предшествует открытию приёмной семьи. Я ориен-тирую кандидатов в фостерные воспитатели на то, что в будущем они могут открыть приёмную семью.
Сразу решиться на это очень трудно и страшно, а поработав,можно набраться опыта и, главное, найти «своего» ребенка. Путь у всех в фостерные воспитатели разный. Одни идут, чтобы «дать тепла и уюта неухоженным детям», другие «чисто случайно», увидев мальчика у соседки. Иногда причиной становится необхо-димость сохранения трудового стажа: «Мне не хватало четыре года до пенсии». Материальная сторона не может служить доста-точным мотивом, так как зарплата у воспитателей не очень боль-шая. Однако ответственность очень велика. Естественно, что
449
воспитатели часто считают это работой: «Жизнь всё время в на-пряжении. Постоянно. Я постоянно в напряжении. Это же не мои дети. Это чужие», – говорит одна из фостерных воспитателей.В этом высказывании сочетается и понимание ответственности за воспитание детей, и попытка дистанцироваться от чувства привя-занности к детям, связанная с необходимостью расставания с ре-бенком по окончании действия договора о воспитании ребенка,сроки которого весьма ограниченны.
Вообще, определение «чужой» в высказываниях фостерных родителей звучит так часто, что становится похоже на заклинание,на постоянное напоминание себе о том, что у отношений между членами семьи и принятым на воспитание ребенком нет будуще-го. Убежденность в том, что ребенок «чужой», вроде бы поможет снизить стресс от разлуки. Воспитатели понимают всю ответст-венность, которая ложится на них с появлением в семье приемно-го ребенка. Исполнение работы фостерного воспитателя или фос-терного родителя изменяет и взгляд на биологическое родитель-ство, которое также начинает осознаваться как работа:
Неустанная, непрерывная, в течение 24 часов, на протяжении всей жизни. Многие считают, что дети растут сами по себе, как трава. На-верное, такое отношение к родительству и обуславливает большое ко-личество социальных сирот в нашей стране (интервью 3). Проблема мотива продолжения такой работы – тема отдель-
ного разговора. С одной стороны, воспитатели ссылаются на жа-лость, и чтобы уберечь себя от переживаний, связанных с этим чувством, вырабатывают ряд стратегий, помогающих дистанци-роваться от детей: «…хоть и чужие, а жалко их», «…их ещё жальче, чем своих», «это чужие же дети». Отличительной осо-бенностью является овеществление таких детей использованием глаголов «взяли», «дали», «отправили», «присмотрели», «выбра-ли» а также такого оборота при объяснении принципа выбора ре-бенка: «Что предложили, то и взяли». Возможно, это защитная реакция воспитателей, а возможно это показатель отношения к детям. Одна из воспитателей объяснила причину своего выбора работы фостерным родителем, следующим образом:
450
Когда начинаешь работать, становится их всех жалко. Жалко! Хочется дать любовь, заботу, внимание. Вот. И потом очень получается тяжёлый разрыв. Очень тяжёлый разрыв! И сажаются и свои нервы, и сердце,и всё на свете. Вот. И переживания двухнедельные, так сказать. Преж-де для меня как для женщины, в первую очередь. Не воспитателя, про-сто женщины. Мне вот поэтому очень тяжело, если ты привязываешь-ся к детям. Поэтому я для себя поставила рамки, что не любить и не отдавать большую любовь, привязываться к детям нельзя. Просто не хватит здоровья (интервью 2). С другой стороны, важной движущей силой, позволяющей
продолжать работать, даже несмотря на глубокие переживания,связанные с расставанием с ребенком, выступает чувство гордо-сти, осознание своей значимости и понимание того, что работа приносит видимые результаты. С какой гордостью фостерные родители говорят об успехах своих воспитанников, с какой гру-стью они вспоминают тех, чья судьба не слишком удачно сложи-лась. Они помнят всех детей, которых не удалось оформить в приемную семью или под опеку, проявляют личную заинтере-сованность в дельнейшей судьбе детей:
Я знаю, им идти в интернат. Хотя у них бабушка вообще не пьющая.Вот так. Вот хотела [бабушка] взять. Потом передумала… А я [ее] как уговаривала! (интервью 5). Чтобы снизить риск психологической травмы при расстава-
нии, в практике фостерного родительства значительное внимание уделяется формам обращения к детям и к воспитателям. Обычно приемные дети называют своих воспитателей по имени и отчест-ву, если ребенок достаточно большой. Малыши обычно зовут мамой. Наиболее частое обращение – это «тетя» или «бабушка».
Не каждый кандидат справляется с той нагрузкой, которая ложится на их плечи с появлением в доме чужого ребенка. В пер-вое время все начинающие воспитатели ежедневно звонят в уч-реждение, для того чтобы спросить совета, как им себя вести в той или иной ситуации. В ходе интервью мы задавали фостерным воспитателям вопрос о трудностях в воспитании приемных детей.Примечательно, что многие не могут привести конкретных
451
примеров. У них просто остается воспоминание о том шоке, ко-торый они испытали при встрече с первым приемным ребенком,от первого опыта и первых трудностей.
Среди проблем своей профессиональной деятельности мно-гие информанты отмечают изменение привычного стиля жизни,что во многом связано с изменением не только расписания жиз-ни, но и с особенностями отношения к фостерным родителям в ближайшем окружении. Многие воспитатели отметили, что ок-ружающие не одобряют их работу, смотрят искоса. Не поддержи-вают их выбор и родственники. Часто вполне благополучные лю-ди не могут понять, что заставило пойти на такой шаг – взять ре-бенка из приюта. Воспитатели иногда сильно меняют или даже теряют свой круг общения, своих друзей. Это становится резуль-татом того, что меньше остается свободного времени, а также с тем, что посещение гостей с приемным ребенком становится избирательным.
Приемным родителем может быть любой гражданин Россий-ской Федерации. Отказать кому-либо можно только если канди-дат имеет заболевания из законодательно установленного «Пе-речня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыно-вить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью». Для открытия фостерной семьи формально требуется согласие всех ее членов. Но иногда этот вопрос опус-кается. Решение об открытии фостерной семьи нередко самостоя-тельно принимается тем человеком, который собирается стать воспитателем (чаще – женщиной): «Не-а, мы папе нашему ничего не сказали. Идём домой с ним [приемным ребенком], вот сюр-приз, думаю, будет...». Чаще все-таки такие ответственные реше-ния принимаются «семейно», с привлечением всех заинтересо-ванных членов семьи.
Иногда в фостерные воспитатели оформляется не только женщина, но и ее супруг. Чаще фостерным воспитателем стано-вится женщина, а ее супруг все равно принимает участие в вос-питании, даже если «у него своя комната, у них [детей] – своя», и он «их [детей] и не видит». В большинстве случаев он выпол-няет традиционную роль «отца семейства» и «добытчика»:
452
Муж – чисто мужское занятие, то есть это ремонт, починка чего-то;Муж у меня работает, то есть он добытчик денег; Папу она [воспитан-ница] естественно боится. Ну дети они все в принципе папу бы [хоте-ли]… Они редко видят его. Он приходит, когда отругает. А мама ко-нечно! Мамы все балуют. Ну, так. Он тоже воспитывает, занимается воспитанием (интервью 4). Кроме того, что мамы балуют, они еще занимаются хозяйст-
вом. Приемные дети помогают им в этом:
Она выполняет всё за собой. …она убирает за собой одежду. Допус-тим, она… Я говорю: «Аня, снимай грязную». Она снимает, относит,кидает в машинку. Помогает она мне убираться. Вот допустим, я там полы мою или пыль вытираю, она берёт также тряпку и за мной всё также повторяет (интервью 2). На первый взгляд может показаться, что воспитание прием-
ных детей ничем не отличается от воспитания родных. Но посто-янное ощущение, что ребенок «чужой», постоянно держит в на-пряжении. Даже выполнение поручений по дому заставляет за-думываться, не является ли это эксплуатацией ребенка, кроме то-го, многие родители отмечают, что при таких просьбах у них воз-никает странное чувство:
Вот, вроде, он живёт здесь… ну… и вроде бы… я так считаю… ну он – мой, а вроде и нет, как бы в гостях он… ведь уйдет скоро. А гостей не заставляют убираться. И вот, представляете, даже об этом думать надо (интервью 6). Просьба сходить в магазин за хлебом – это не простой шаг со
стороны воспитателя. Он должен быть уверен, что ребенок не сбежит. Такие сомнения отражают проблему формирования идентичности фостерного воспитателя, в которой должны быть сбалансированы чувство доверия ребенку, мера собственной от-ветственности, определение меры любви, без которой наши ин-форманты не мыслят взаимоотношения с детьми. К сожалению (или к счастью), профессиональные знания и навыки, необходи-мые специалистам, работающими с детьми, а особенно с детьми,которых можно отнести к группе риска, пока не востребованы
453
большинством фостерных воспитателей. Мерой профессиона-лизма в понимании информантов выступает чувство любви:
Детей любить надо, тогда они вырастут нормальными (интервью 6); …ну для этого психологи в [учреждении] есть, они консультируют нас, подсказывают… (интервью 1). Лишь некоторые фостерные родители, особенно воспиты-
вающие детей-инвалидов, считают, что им нужны хотя бы эле-ментарные знания как по педагогике и психологии, так и по ме-дицине. Это необходимо и потому, что кроме создания условий для нормальной жизни ребенка в фостерной семье, необходимо учитывать стрессовые состояния детей и обеспечивать их реа-билитацию. Поэтому кандидаты в воспитатели должны прохо-дить обучение по определенной программе. Но это стало фор-мальностью.
Особые отношения в фостерной семье складываются, если в ней присутствуют и свои, родные дети. Но часто воспитателями становятся, когда свои дети уже выросли и не живут с родителя-ми, хотя довольно часто помогают своим родителям заботиться о воспитанниках:
Она [дочь информантки] очень к ним [воспитанникам] лояльна, спо-койна, без агрессии. С ними постоянно гуляет, общается, кормит…В связи с тем, что она у меня выросла одна, то в принципе она их вос-принимает как младших. Брат, сестра (интервью 4). Свои дети помогают фостерной маме воспитывать и пригля-
дывать за детьми. Впрочем, некоторые воспитатели еще молоды и своих детей не имеют.
Преимущество воспитания в фостерной семье, как отмечают и сами воспитатели, и специалисты учреждения, очевидно: дети,изъятые из неблагополучных семей, обычно бывают слабеньки-ми, страдающими от недоедания, нечистоплотности родителей,от хронических заболеваний. Среди них встречаются апатичные и отсталые в развитии дети, некоторые из них, наоборот, очень не-спокойные. Однако в фостерной семье рано или поздно эти осо-бенности запущенных детей исчезают, дети меняются настолько,
454
что их просто трудно узнать. Понятно, что речь идет не о краси-вой новой одежде, которая, кстати, в достаточном количестве обычно готовится к встрече ребенка, а о его общем виде, отноше-нии к окружающей среде. Ребенок уже через несколько месяцев жизни в фостерной семье выглядит уверенным, здоровым, весе-лым и радостным человеком.
Положительные изменения в детях особенно тщательно под-черкиваются фостерными воспитателями, в их рассказах всегда присутствует сравнительный компонент – каким ребенок был,впервые переступив порог дома фостерного воспитателя, и каким он / она стал(-а) через короткий промежуток времени:
Она практически… На девочку она была не похожа. У неё взгляд был испуганный. Всего она боялась: она боялась кровати, боялась ложить-ся спать, то есть… Постоянно плакала. Ела она, как будто последний раз ест, то есть… Она наверно… её может, покормили там, ну там, се-годня покормили, а завтра забыли покормить. То есть у неё чувства сытости не было. Ну где-то месяц мы боролись с этим. Сейчас всё нормально (интервью 7). Об этой же девочке говорила специалист учреждения: «Она
пришла, и мы ее не узнали. Такая хорошенькая стала». Еще одна довольно типичная история:
Она пришла к нам какая-то вот такая [показывает телом и мимикой], как размазня. Кислая. Вот так вот ходит. Ничего не могла, как эта…А сейчас! Скажешь разве? Была – вот прям… Начальники там гово-рят: «Ба, да у нас Янка совсем другая стала!» Вот совсем другой чело-век! (интервью 2). Для каждого ребенка специалистами разрабатывается своя
индивидуальная программа реабилитации. За исполнением этой программы внимательно следят. Отчеты фостерных воспитателей включают информацию о том, как ребенок справляется с про-граммой, и справляется ли, что оценивается воспитателями как успех, а что они считают неудачей. Взаимоотношения с сотруд-никами учреждения воспитателей устраивают полностью. Един-ственное пожелание, которое высказали многие фостерные
455
воспитатели, связано с продолжительностью пребывания детей в фостерной семье:
Вот что мне в этом фостере не нравится… Я вот только одно, но это все говорят, чтобы их у нас оставляли лет там, ну хотя бы до 15–16. Может там потом типа какие-то училища. Или до 18 (интервью 8); Чтобы часто детей не меняли. Только к ним привыкнешь, а тут заби-рают и другого дают (интервью 7). В фостерных семьях дети могут находиться от одного месяца
до года. Исключение составляют дети, проходящие длительную реабилитацию (дети-инвалиды):
Два года жили два инвалида. Я им сделала обоим операцию и… Вот в ортопедическом. И выхаживала обоих (интервью 9). Специалисты учреждения регулярно посещают семьи фос-
терных воспитателей с целью контроля за условиями жизни и воспитания в них детей. На вопрос о том, нужен ли такой кон-троль, родители-воспитатели отвечали, что «контроль нужен обя-зательно, так как нужно следить за детьми, а люди могут быть разные».
Насколько часто общаются воспитатели с сотрудниками уч-реждения?
Я сама даже приглашала в гости. Вообще первое время ходили очень часто. Смотрели, чем мы их кормим. Обязательно! Вот где они спят.Даже сама [директор учреждения] часто приходила. А сейчас уже знают, что у нас квартира чистая, мы купаемся… ходим (интервью 5). Конечно и в фостерных семьях случаются столкновения:
Конфликты бывают в любой семье. Конечно и здесь могут быть кон-фликты. А как же! Детишки и ругаются, и ссорятся, что-то ломают,лезут, допустим, в косметичку той же дочери (интервью 4). Иногда дети переходят из одной семьи в другую: «Вот эта
Яна была в другой семье, а теперь её мне отдали». Относиться к таким передвижениям можно по-разному. Однозначно можно
456
сказать лишь о том, что в фостерных семьях дети, по высказыва-ниям воспитателей и социальных работников, «отогреваются ду-шой», а иногда просто отъедаются и отсыпаются.
Фостерное родительство – сложный феномен. Это работа,которая требует постоянного внимания, постоянного напряжения от родителей-воспитателей. И в то же время, в отличие от биоло-гического родительства, фостерные воспитатели не позволяют себе полюбить своих воспитанников. Фостерная семья – это про-тиворечивое явление. С одной стороны, пребывание в семье,пусть не родной, помогает детям пережить разрыв с родителями,поправить здоровье, восстановить физические и душевные силы,приобрести необходимые навыки по самообслуживанию. Но с дру-гой стороны, фостерная семья становится для сироты травми-рующим фактором. Ребенок привыкает к родителям-воспитате-лям, но срок договора заканчивается, оформляются все необхо-димые документы и семью нужно покинуть. Его вновь отрывают от близких и дорогих ему людей. И хотя правила фостерного воспитания как раз и заключаются во временном пребывании ре-бенка в этой семье, психологические переживания разлуки очень тяжелы как для самих родителей, так и для их воспитанников.Деятельность фостерной семьи имеет смысл только в случае, ес-ли за время нахождения ребенка в такой семье ему / ей будут найдены усыновители, и таким образом ребенок избежит травми-рующего опыта пребывания в интернатном учреждении.
* * *Анализ динамики отношений семьи и общества показывает,
что на протяжении многих десятков лет родительство и детство находились под пристальным вниманием государства, и хотя практики воздействия на поведение родителей варьировались в зависимости от идеологического контекста того или иного пе-риода, суть государственных ожиданий оставалась неизменной:семейная социализация детей только тогда считается эффектив-ной и правильной, если ребенок усваивает все социально одобряе-мые предписания и следует им в своей жизни. При таких ожидани-ях государства и общества возрастают требования к родителям,
457
которые, чтобы заработать «звание» хорошего родителя, должны,в свою очередь, соблюдать ряд стандартов и норм поведения, на-бор которых практически полностью соответствует спискам ат-рибутов, характеризующих профессиональную деятельность.
Государственное воздействие на поведение родителей меня-лось от тотального контроля и применения многочисленных практик принуждения и наказания за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей до следования принципу, что вмеша-тельство государства в дела семьи должно быть максимально ог-раничено, когда государство должно поддерживать независи-мость семьи и свободу граждан, осуществляя лишь минимальную интервенцию.
Обзор законодательства и социальной политики позволяет нам сделать вывод о том, что государство, продвигая идеологию ответственного родительства и делая акцент на важности «нор-мального» родительства для стабильного общественного разви-тия, пытается преодолеть противоречия либерального общества,которое, по мнению Р. Дингвалл с соавторами, высоко ценит автономность и приватность семьи как препятствие силе госу-дарства, но при этом должно беспокоиться о социализации бу-дущих поколений граждан [Dingwall, Eekelaar, Murray, 1983. P. 124–125].
Анализ власти, предложенный Фуко, указывает на важность контроля, нормализации, профессионализации родительства со стороны государства, и таким образом в число приоритетов по-мощи семье в России попадают такие направления, как совер-шенствование системы подготовки детей и подростков к семей-ной жизни; развитие разнообразных форм психологического про-свещения родителей, повышение их «культурно-образовательно-го уровня», а также внедрение в учебный процесс школ и училищ занятий по формированию здорового образа жизни.
Расширение возможностей семей справляться с повседнев-ными проблемами самостоятельно, благодаря полученным ин-формационным и образовательным услугам, является одним из основных приоритетов социальной политики в отношении се-мьи, поскольку считается,
458
Что даже незначительные государственные ассигнования на обучение взрослых соответствующим методам воспитания детей, а также на по-ощрение использования этих методов воспитания могут в значитель-ной степени улучшить здоровье детей, поднять уровень их образова-ния и степень участия в жизни общества [Сокальски, 1993. С. 36–37].
Наиболее четко социальный контракт государства с родите-лями представлен в форме развиваемых и поддерживаемых го-сударством семейных форм устройства детей-сирот, каковой,например, является фостерная семья, когда профессионализм родителей перестает быть метафорой, а становится реально-стью. Более того, именно в таких семьях полностью преодоле-вается пресловутое противоречие либеральной социальной по-литики, когда государство несет ответственность за воспитание детей и в интересах ребенка полноправно осуществляет интер-венцию в семью, продвигая необходимые стандарты социализа-ции и заботы и беспрепятственно осуществляя контроль за их соблюдением.
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург:Изд-во Урал. ун-та, 1999.
Макаренко А.С. Коллективная семья: руководство для советских роди-телей.М.: Педагогика, 1967.
Панкратов В.В., Цымбал Е.И. Государственная политика предупрежде-ния преступности несовершеннолетних: общие принципы и регио-нальная специфика // Аналитический вестник Совета Федерации.1998. № 16 (83).
Положение о приемной семье. Постановление Правительства РФ № 829 от 17.07.1996.
Семейный кодекс Российской Федерации. № 223-ФЗ. 29.12.1995. М., 1996.
Сокальски Х.Дж. Роль семьи в процессе развития // Семья в процессе развития:Материалы Междунар. науч.-практ. конф.М., 1993.
Социальная политика в интересах детей: российский опыт 1990-х гг.и перспективы. Ч. 1. Документ Всемирного банка. Препринт. 2002.
Указ Президента РФ № 942 «Об утверждении Основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года» (национального плана действий в интересах детей) от 14.09.1995.
459
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной за-щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»№ 159-ФЗ от 21.12.1996.
Червоненко Е. Система защиты детей и элементы патронирования в Со-ветской России // Нужда и порядок: история социальной работы в России: ХХ в. Саратов: Научная книга: ЦСПГИ, 2005.
Черняева Н. Производство матерей в Советской России: учебники по уходу за детьми эпохи индустриализации // Гендерные исследова-ния. 2004. № 12. С. 120–138.
Ярская-Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в Рос-сии в 1990-х годах // Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Рома-нова.М.: ИНИОН РАН, 2002. С. 59–75.
Adcock M., White R. Good Enough Parenting. London: BAAF, 1985. Baker B. «Childhood» in the Emergence and Spread of US Public Schools //
T. Popkewitiz, M. Brennan (Eds). Foucault's Challenge:Discourse, Know-ledge and Power in Education. New York: Teachers CollegePress, 1998.
Bebbington A., Miles J. The Background of Children who Enter Local Au-thority Care // British Journal of Social Work. 1989. № 19. P. 249–369.
Dingwall R., Eekelaar J., Murray T. The protection of children: State inter-vention and family life. London: Blackwell, 1983.
Feast J., Howe D. Adopted Adults who Search for Background Information and Contact with Birth Relatives // Adoption & Fostering. 1997. № 21(2). P. 8–16.
Foucault M. The Politics of Health in the Eighteenth Century // Power knowledge: Selected Interviews and other writings 1972–1977 by Michel Foucault / Ed. by C. Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
Fox Harding L.M. Perspectives in Child Care. London: Longman. 1991. Garrett Р.M. Getting 'a grip': new labour and the reform of the law on child
adoption // Сritical social policy. Vol. 22(2). 2002. P. 174–202. Gore J. Disciplinary Bodies: On the Continuity of Power Relations in Peda-
gogy // T. Popkewitiz, M. Brennan (Eds). Foucault's Challenge: Dis-course, Knowledge and Power in Education. New York: Teachers College Press, 1998.
James A., Jenks C., Prout A. Theorising Childhood. Cambridge: Polity Press, 1998.
Katz N.S. Dual Systems of Adoption in the United States // S.N. Katz, J. Eekelaar, M. Maclean (Eds). Cross Currents: Family Law and Policy in the US and England. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 279–307.
Katz P. 'Adoption hope for gay couples', The Guardian 15 March 2002. Цит.по: Garrett Р. M. Getting 'a grip': new labour and the reform of the law on child adoption // Сritical social policy. 2002. Vol. 22(2). P. 174–202.
460
Kirkpatrick I., Kitchener M., Whipp R. Out of Sight, Out of Mind: Assessing the Impact of Markets for Children's Residential Care // Public Admini-stration. 2001. № 73(1). P. 49–71.
Powell M. New Labour and the Third Way in the British Welfare State: A New and Distinctive Аproach? // Critical Social Policy. 2000. № 20(1). P. 39–61.
Rose N. Governing the Soul: the Shaping of the Private Self (2P
ndP edition).
London: Free Association Books, 1999. Schechter M.D., Bertocci D. The Meaning of the Search // D.M. Brodzinsky,
M.D. Schechter (Eds). The Psychology of Adoption. Oxford: Oxford Uni-versity Press, 1990. P. 62–91.
Straw J., Anderson J. Parenting. London: Labour Party, 1996. Van de Flier Davis D. Capitalising on Adoption // Adoption & Fostering.
1995. 19(2). P. 25–31. Описание полевых данных Фостерные воспитатели Интервью 1. Женщина, 61 год, замужем, двое взрослых детей, живут от-дельно. Воспитывает ребенка-инвалида.Интервью 2. Женщина, 44 года, замужем, взрослая дочь, живет отдельно,иногда приходит помогать. Воспитывает девочку 6 лет.Интервью 3. Женщина, 41 год, замужем, имеет сына 15 лет. Воспитывает девочку 12 лет.Интервью 4. Женщина, 52 года, замужем, взрослая дочь, живет с родите-лями. Воспитывает мальчика 13 лет и девочку 7 лет.Интервью 5. Женщина, 39 лет, замужем, имеет дочь 11 лет. Воспитывает брата 11 лет с сестрой 8 лет.Интервью 6. Женщина, 42 года, замужем, имеет сына 13 лет. Воспитывает мальчика 12 лет.Интервью 7. Женщина, 47 лет, разведена, имеет дочь 16 лет. Воспитывает девочку 5 лет.Интервью 8. Женщина, 39 лет, замужем, бездетная, оформила опеку над бывшим воспитанником. Воспитывает мальчика 13 лет.Интервью 9. Женщина, 44 года, замужем, дочь 12 лет. В настоящее время взяла перерыв в работе, в основном берет на воспитание детей-инвалидов.Интервью 10. Женщина, 55 лет, вдова, двое взрослых детей, живут отдель-но. Воспитывает девочку 3 лет и мальчика 5 лет.Интервью 11. Женщина, 41 год, замужем, имеет двоих дочерей 10 и 14 лет,воспитывает мальчика-инвалида 11 лет.Интервью 12. Женщина, 42 года, разведена, имеет сына 9 лет, взяла под опеку воспитанницу, в настоящее время не имеет воспитанника – преды-дущий мальчик 14 лет был помещен в школу-интернат.
461
Сотрудники учреждения Интервью 13. Женщина, 42 года, социальный работник отделения для организации фостерных и приемных семей, принимает участие в отборе будущих фостерных родителей, контролирует деятельность работающих воспитателей.Интервью 14. Женщина, 39 лет, социальный педагог отделения для ор-ганизации фостерных и приемных семей, принимает участие в отборе будущих фостерных родителей, проводит тренинги по подготовке к ра-боте фостерным воспитателем, консультирует детей и фостерных вос-питателей.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Андреева Ольга Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент ка-федры культурологии Пермского государственного технического уни-верситета, Пермь.Антонова Екатерина Петровна – аспирантка кафедры социальной ан-тропологии и социальной работы Саратовского государственного тех-нического университета, научный сотрудник Центра социальной поли-тики и гендерных исследований, Саратов.Артёмова Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры философии и социологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Абакан.Баева Елена Святославовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Самарского государственного уни-верситета, Самара.Васина Евгения Николаевна – аспирантка кафедры социальной антро-пологии и социальной работы Саратовского государственного техниче-ского университета, научный сотрудник Центра социальной политики и гендерных исследований, Саратов.Запорожец Оксана Николаевна – кандидат социологических наук, до-цент кафедры социологии и политологии Самарского государственного университета, Самара.Кабацков Андрей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии Пермского государственного технического университета, Пермь.Казанина Екатерина Игоревна – аспирантка кафедры культурной ан-тропологии и этнической социологии, факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург.Казурова Екатерина Владимировна – аспирантка кафедры социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета, координатор проектов Центра социальной политики и гендерных исследований, Саратов.Кондратьева Наталия Владимировна – аспирантка отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России, МАЭ Кунсткамера РАН, Санкт-Петербург.Корнеева Антонина Евгеньевна – выпускница факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург.
463
Кимерлинг Анна Семеновна – кандидат исторических наук, доцент ка-федры культурологии, Пермский государственный технический уни-верситет, Пермь.Лейбович Олег Леонидович – доктор исторических наук, профессор, за-ведующий кафедрой культурологии Пермского государственного тех-нического университета, Пермь.Ловцова Наталия Игоревна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета, Саратов.Масленкова Наталья Александровна – кандидат филологических наук,старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, Самар-ский государственный университет, Самара.Мокин Константин Сергеевич – кандидат социологических наук, руко-водитель Саратовской региональной общественной организации «Со-циум и молодежь», доцент Поволжской академии госслужбы – филиал в г. Балаково Саратовской области.Москаленко Екатерина Сергеевна – менеджер по работе с клиентами информационно-аналитического центра «БИЗНЕС-ТЕРРИТОРИЯ»,Санкт-Петербург.Романов Павел Васильевич – доктор социологических наук, профессор кафедры социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета, директор Центра соци-альной политики и гендерных исследований, Саратов.Сафонова Татьяна Владимировна – научный сотрудник Центра незави-симых социологических исследований, Санкт-Петербург.Ткач Ольга Александровна – научный сотрудник Центра независимых социологических исследований, Санкт-Петербург.Шушкова Наталья Викторовна – кандидат социологических наук,старший преподаватель кафедры культурологии Пермского государст-венного технического университета, Пермь.Щепанская Татьяна Борисовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии, факуль-тет социологии Санкт-Петербургского государственного университета,Санкт-Петербург.Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна – доктор социологических наук,профессор, заведующая кафедрой социальной антропологии и социаль-ной работы Саратовского государственного технического университета,Саратов.
Научно е издание
АНТРОПОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ
Сборник научных статей
Под редакцией Романова Павла Васильевича,
Ярской -Смирновой Елены Ростиславовны
Дизайн обложки – Наталия Феоктистова На обложке использованы гравюры из архива международной информационной системы
по истории профессий HISCO
Корректоры Юлия Бирюкова
Светлана Зернакова Компьютерная верстка
Елена Лашкова
Подписано в печать 08.09.2005. Формат 60х84P
1P/B16B. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,97.
Уч.-изд. л. 23,01. Заказ 8497 Тираж 500 экз.
Издательство «Научная книга»410054, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 127 Отпечатано ОАО «Издательство «Слово»по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 28.