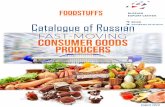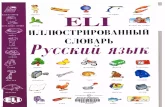A reading in the Russian Empire in the middle of the nineteenth century.
Transcript of A reading in the Russian Empire in the middle of the nineteenth century.
Как читало общество на заре Великих реформ середины XIX века?
Ключевые слова: чтение, журналы, Великие реформы, либерализм, Просвещение,
Российская империя, роман, цензура, писательство.
Статья посвящена проблемам чтения в Российской империи в 1850-1860-ых гг.
Рассматриваются вопросы о размерах читающей аудитории, ее составе и предпочтениях,
каналах взаимодействия и характере взаимоотношений между авторами и публикой.
Среди внешних факторов, влиявших на чтение в России, изучается роль международных
связей, государственной политики и цензуры. Делаются выводы о самосознании
российских писателей и читателей и его влиянии на их политическое поведение и
развитие страны в целом.
A reading in Russian Empire in the middle of the nineteenth century.
Keywords: reading, magazines, Great Reforms, liberalism, the Enlightenment, the
Russian Empire, the novel, censorship, writing.
This article is devoted to the reading and publishing in the Russian Empire in the Eve of
the Great liberal reforms in 1850-1860-s. The author focuses on the account and characteristics
of a reading public and its relationships with the writers. The problems of censorship’s and
foreign influence on reading and publishing in the Russian Empire are also discussed. The
conclusions figure out, how self-consideration of Russian writers and readers caused there
political behavior and the development of the country.
К концу XVIII века печать ниспровергла все старое. В XIX столетии она
начинает строить заново. Теперь зададим себе вопрос: которое же из …
искусств является за последние три столетия подлинным
представителем человеческой мысли? Которое из них передает ее?
Которое выражает не только ее литературные и схоластические
увлечения, но и все ее движение, во всей его широте, глубине и охвате?
Которое из них неизменно, непрерывно, постоянно идет в ногу с
движущимся вперед родом человеческим, этим тысяченогим чудовищем?
… Конечно, книгопечатание.
В. Гюго, «Собор Парижской Богоматери»
Историография вопроса
Взаимоотношения общества и печати эпохи Великих реформ и их развитие
затрагивались практически во всех научных трудах, посвящённых данному периоду,
начиная с вышедшего в Берлине «по горячим следам» крестьянской реформы
многотомной работы Д.П. Хрущова1. Затем в той или иной степени эта тема поднималась
во всех работах, посвящённых как обществу и общественным движениям, так и печати и
государственной цензурной политике, с другой.
Историографию развития общества и общественного движения в данном
исследовании нет смысла рассматривать. Во-первых, эта тема столь обширна, что по ней
можно написать отдельную докторскую диссертацию, на что совершенно справедливо
указал во введении к одной из последних обобщающих монографий по данному вопросу
В.Я. Гросул2. Во-вторых, во всех работах по данной проблематике тема круга чтения
общественных деятелей поднимается эпизодически и фрагментарно, поэтому – несмотря
на огромное количество исследований – её ещё далеко нельзя считать вполне
разработанной.
Отметим, что писательство и «читательство» в России затрагивалось буквально во
всех исследованиях, посвящённых писателям или общественным деятелям. С
концептуальной точки зрения представляется важным обратить внимание на работы О.Б.
Леонтьевой, остановившейся на проблемах меморизации и исторической памяти в XIX
веке, и Р.Г. Эймонтовой, рассмотревшей движение в поддержку Великих реформ как
развитие Просвещения на русской почве. Через призму такой интерпретации рассмотрена
общественная борьба и журнальная полемика преддверья отмены крепостного права, что
наполняет новыми смыслами и аналогиями историю российской литературы и печати3.
Как будет видно в дальнейшем, этот подход весьма близок самосознанию деятелей
изучаемой эпохи.
Первое специальное исследование по истории печати и цензуры (в развитии
которой в России традиционно выражалась государственная политика в области печати)
было «Печатано по распоряжению Министерства Народного Просвещения» (в чьём
ведомстве и находились цензурные органы) на следующий год после освобождения
крестьян в Санкт-Петербурге и называлось «Исторические сведения о цензуре в России»4.
Цензуре и печати посвящён ряд монографий и воспоминаний дореволюционных
исследователей и общественных деятелей5.
В начале ХХ столетия М.К. Лемке изучил положение прессы и цензурной
политики, динамики её изменения и взаимовлияния её и общественного движения и
раскрыл, таким образом, взаимоотношения либеральной общественности и правительства.
В работе «Эпоха цензурных реформ 1859 – 1865 годов» им сделан акцент на раскол
дворянско-помещичьего слоя и замешательство высшей аристократии на заре эпохи
реформ6. Правда, хронологические рамки вызывают определённое удивление: если с 1865
г. всё ясно – была проведена реформа, то выбор 1859 г. сомнителен, поскольку
непосредственная подготовка этой реформы и серьёзные попытки преобразования
порядка функционирования цензуры (изменение её функций и полномочий, отношения к
другим органам и т.п.) начались не позже 1858 г.
В советской и современной историографии на проблемы истории цензуры
обращалось внимание и в общих работах по истории изучаемого периода и
общественного движения и в специальных статьях. Например, З.П. Базилева, Н.М.
Пирумова и Н.Я. Эйдельман изучали проникновение сведений из России в эмигрантские
круги, а их изданий – в Россию7. С.Ф. Коваль и Б.Г. Кубалов занимались проблемами
изучения общественного движения Сибири и влияния на неё изданий А.И. Герцена8.
Похожая работа была проделана Е.М. Ильенко, В.В. Снедковой и Н.М. Силаевой на
материалах Урала и Поволжья9.
Проблематику взаимоотношений правительства и цензуры с отечественной и
эмигрантской печатью продолжили изучать Л.П. Громова, Л.Ю. Гусман и Т.Ф.
Пирожкова10
. В последние годы достаточно популярным стало обращение к истории
специальных служб, карательного аппарата и т.п.11
Например, опубликованы годовые
отчёты Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии
императору, в которых определённое внимание уделено и проблемам печати, чтения и
цензуры12
. К.Е. Нетужилов посвятил своё исследование церковной периодической печати
и духовной цензуре13
.
В последнее время было защищено ряд диссертаций по истории печати, цензуры и
цензурной политики, в том числе на базе междисциплинарных исследований. Однако
большинство таких работ либо имеют максимально широкий хронологический охват14
,
либо относятся к пореформенному периоду15
. Важный вклад в изучение цензуры внесли
специалисты из РГПУ им. А.И. Герцена: дискуссии в правительстве и обществе по этому
вопросу и их влияние на государственную политику были рассмотрены в
диссертационных исследованиях М.В. Евдокимовой и Л.Ю. Гусмана16
. Взаимоотношения
власти и общества посредством взаимодействия печати и цензуры в период подготовки
отмены крепостного права по-прежнему остаются без специального рассмотрения.
Общие сведения: грамотность, количество публикаций, роль периодики.
Прежде чем говорить о том, как читали в России, неминуемо приходиться задаться
вопросом, какая часть населения умела читать, а также какая печатная продукция
присутствовала на рынке и в каком количестве. В ходе подготовки и проведения Великих
реформ середины XIX века не раз вспыхивала дискуссия о том, можно ли давать
различные права и свободы полуграмотному или почти безграмотному населению
Российской империи. Например, о суде присяжных известный общественный деятель того
периода, составитель одного из самых последовательных и ярких проектов
преобразований (отсидевший за него в тюрьме) А.М. Унковский писал следующее: «В
Англии суд присяжных существовал уже в XV столетии, она завела его даже в Новой
Зеландии. Неужели русский народ ниже по развитию жителей её?»17
.
И для многих современников это был далеко не праздный и совсем не
риторический вопрос! В период правления императора Александра II, который и принято
называть Эпохой Великих реформ, точных сведений о грамотности населения просто не
было. Например, Н. Г. Чернышевский писал в 1859 г., «По самым щедрым расчетам
предполагается, что из 65 или 70 миллионов жителей Русской империи, людей, умеющих
читать, набирается до 5 миллионов. Но эта цифра, по всей, вероятности, слишком велика.
Большинство грамотных людей сосредоточено в городах; в селах едва ли наберется
половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо больше половины
жителей еще не знают грамоты. Судя по этому, едва ли мы ошибемся, положив число
грамотных людей в России, не превышающим 4 миллионов» (т.е. не более 6 %
населения)18
.
При этом нужно иметь в виду, что в разряд грамотных попадали все, кто мог хоть
как-то читать и написать своё имя. Далеко не всех этих людей, а скорее меньшинство из
них, можно отнести к читателям литературных и специальных произведений.
Статистических сведений о количестве грамотных и, тем более, читающих в России эпохи
Великих реформ просто не было, а существовали данные лишь по некоторым городам и
губерниям, которые относились к разным периодам, имели разную степень достоверности
и охвата, поэтому их трудно сводились во едино. Как явствует из материалов
проводившихся в тот период городских переписей, лишь в Санкт-Петербурге более
половины населения были грамотны, а среди мужчин такой уровень достигался в пяти
городах страны. Некоторые из этих разрозненных сведений приведены в таблице 1.
Таблица 1. Грамотность населения. 19
Город Год Процент грамотных
Город Год Процент грамотных
Муж. Жен. всего Муж. Жен. всего
Петербург 1869 62,0 46,4 55,6 Новочеркасск 1872 52,2 30,3 41.8
Псков 1870 51,8 33,4 45,6 Харьков 1866 45,5 26,8 36,9
Москва 1871 49,5 34,1 43,2 Одесса 1873 35,7 22,4 30,9
Кроме этих сведений, существовали и отдельные исследования по некоторым
губерниям, основанные на земской статистике, но они не представляют особого интереса
в изучении вопроса о чтении в России20
, поскольку доля «читающей публики» среди
населения этих губерний вряд ли выходила за рамки статистической погрешности.
Коренной перелом в количестве и качестве статистических данных произошёл в ходе и по
завершению первой всеобщей переписи населения 1897 года. Её результаты легли в
основу ряда специальных исследований современников и энциклопедических изданий
Брокгауза и Эфрона21
, однако они относятся уже к совершенно другому периоду и не
представляют интереса в данном исследовании.
Больше сведений имелось относительно публикаций и изданий. В современном
описываемым событиям статистическом исследовании говорилось следующее: «В 1872
году, по сведениям главного управления по делам печати число вышедших в Росши книг
было 3024 неповременных изданий, из коих только ¼ часть пользовалась правом выхода
без цензуры, а журналов и газет выходило 427. По числу сочинений целых 3/5
приходилось на долю Петербурга и Москвы, а на остальную Россию лишь 2/5; если же
считать их по их объему, т. е. по числу листов, то бедность провинциальной литературы
выказывается еще резче: на долю двух столиц приходится около 7/8 всего числа печатных
листов, и лишь 1/8 на прочие местности.
В период с 1865 по 1869 гг. в Петербурге и Москве вышло 14610 изданий;
исключив из них около 3600 номеров музыкальных сочинений к эстампов, на долю
собственно книг придется до 11 тысяч изданий, из коих. содержание 5000 не определено и
показано под рубрикой смесь, а 6000 определено с точностью. Наибольшее число между
ними составляют книги реального и технического содержания (1891) и почти в таком же
количестве книги из области словесности (1795); на третьем плане идут книги
политического содержания (1109), а затем элементарные (949) и философские (221)...
Иностранных книг в 1868 году было ввезено в Россию 3469, из них дозволено вполне
3236, отчасти 106, запрещено—127. Все эти книги составляли 3539 тыс. томов и 1734 т.
экземпляров»22
.
Согласно упомянутой автором таблице, "в коей показано также распределено их по
срокам выхода и по языкам (за 1868 г.)", всего выпускалось 318 периодических изданий,
из которых большинство – 264 – публиковалось на русском языке, а крупнейшими
категориями изданий были научные и специализированные – 83 наименования. На
губернские ведомости и другие местные и епархиальные издания приходилось порядка
ста наименований. Около сотни изданий выходили еженедельно, чуть меньшее
количество чаще, а все остальные – имели больший временной промежуток между
выпусками или номерами23
.
Приведённые де Ливроном статистические данные показывают, что в 1860-ые годы
в течение 5 лет в свет вышли порядка 11 тысяч книг, в то время как только за 1868 г. было
опубликовано порядка 27 тысяч номеров и выпусков периодических изданий, среди
которых, правда, лишь порядка полутора тысяч выходили ежемесячно или реже, то есть
представляли из себя, как тогда это называлось, «толстые журналы» (крупные – до тысячи
страниц и более – сборники самостоятельных научных, публицистических и критических
статей и художественных произведений).
Художественная литература
Нужно отметить, что роль этих журналов для читающей публики была
исключительно высока и именно в них впервые публиковались (а значит и впервые
читались) большинство художественных и часть научных произведений, ставших затем
классикой российской литературы, публицистики, критики, историографии, философии и
т.п. Например, И.А. Гончаров опубликовал свой роман «Обломов» в 1859 году в журнале
«Отечественные записки». Помимо оригинальных российских произведений и переводов
из Гёте и Шекспира, журнал помещал переводы современных зарубежных авторов Жорж
Санд, Чарлза Диккенса, Фенимора Купера, Г. Гейне, Александра Дюма-отца, Эдгара По.
Всколыхнувшие общество произведения И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и
«Отцы и дети» появились в 1859 и 1862 гг. в журналах «Современник» и «Русский
вестник». Там же были впервые опубликованы роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
(«Современник» в 1863 г. – он стал, по признанию советских историков и их западных
коллег, «настоящей Библией для русских революционеров»24
) и романы Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» и «Бесы» («Русский вестник» за 1866 и 1871
гг. соответственно). В 1865 г. в «Русском вестнике» началась публикация романа Л.Н.
Толстого «Война и мир» (первая часть вышла под заглавием «1805 год»). Можно сказать,
что середина XIX столетия стала «Золотым веком» русской эпической и реалистической
прозы, а «толстые повременные журналы» (то есть периодические издания, выходившие
раз в 1 – 2 месяца) были главным средством ознакомления читателя с новейшими
шедеврами литераторов.
Нужно отметить, что художественная литература играла в XIX веке примерно ту
же роль, которую в современном массовом сознании играет кино: новые произведения
начинали обсуждаться ещё на стадии их создания, публика с нетерпением ждала
«премьеры» (первой публикации) и затем живо обменивалась впечатлениями, люди
узнавали в героях себя и своих знакомых, начинали отождествлять друг друга с
характерными типажами. Так же, как сейчас можно услышать, что кто-то «вообразил себя
Рэмбо» или «устроил Санта-Барбару», в компаниях XIX столетия находили своих
«Рудиных», «Хлестаковых», «Обломовых»; у каждого был свой знакомый «человек в
футляре», а затем нередко «Базаров» или «Рахметов».
Популярность и известность произведений сегодня и при жизни авторов (в
изучаемый нами период) далеко не всегда совпадала. Среди признанных классиков
Тургенев, Гончаров, Толстой, Фет, Тютчев и т.п. стали популярны по выходу в свет своих
трудов, и ореол великих писателей сохранился за ними по сей день. С другой стороны, ряд
популярных в середине XIX века писателей почти не известны современному читателю,
что обусловлено, прежде всего, их позицией в общественной борьбе – нейтральной (Н.А.
Мельгунов – один из первых русских фантастов) или консервативной (В.В. Крестовский -
автора политьических романов)25
. Это обстоятельство привело к негативной оценке их
творчества демократической критикой и общественностью, мнение которой стало
возводиться в абсолют советским литературоведением.
С романом «Что делать?» (и, возможно, сочинениями других демократических
авторов, например, Н.А. Некрасова) произошла обратная метаморфоза26
. Современники
крайне невысоко оценили его художественные достоинства; романом зачитывалась одна
лишь революционная молодёжь, да и то только в одном – двух поколениях27
. Однако, сам
автор романа был вождём революционеров своей эпохи, другие демократы превознесли
его как «апостола новой веры» и «мученика за благо народа», и что самое главное – когда,
его произведение уже почти забылось, оно стало любимой книгой будущего «вождя
мирового пролетариата» В.И. Ленина28
, вследствие чего и было канонизировано всей
советской и просоветской наукой как величайшее творение своего времени.
Советская историческая наука, всегда уделявшая огромное внимание Н.Г.
Чернышевскому и его роману «Что делать?», к самому концу своего существования (1990
г.) была вынуждена констатировать следующее обстоятельство. С одной стороны,
буквально «каждый исследователь» упоминает о бешеной популярности романа «Что
делать?» среди прогрессивной молодёжи. С другой стороны, никто до сих пор не смог
найти этому документального подтверждения (несмотря на великое множество
исследований) и все попытки это сделать натолкнулись на неразрешимость данной задачи
или факты, откровенно противоречащие изначальному тезису. Получается, повторяемое
из книги в книгу положение о том, что роман был «библией» молодого поколения
оказался лишённым источникового основания29
.
Такого рода «общественно значимые» произведения (написанные в жанре реализма
и призванные отразить типических проблемных героев в типических злободневных
обстоятельствах) вызывали больше всего идеологических споров, которые не утихли до
сих пор, и в значительной степени отразили портрет целых поколений и нарождающихся в
обществе социальных типов. Их влиянию на общество посвящена обширная литература30
.
Все перечисленные и другие крупные произведения, как правило, публиковались в
нескольких номерах журналов, которые и были основным, а иногда и единственным,
каналом, знакомившим публику с этими романами. Кроме того, в журналах
публиковалось множество статей и материалов научно-популярного характера, что
придавало им важное значение в «просвещении публики».
Просветители публики
В начале царствования императора Александра II – в 1855 – 1856 гг. – среди
общественных деятелей было распространено мнение, что общество накопило в себе
значительный запас знаний и идей, обмен и применение которых искусственно
сдерживались тяжёлыми политическими условиями николаевской эпохи (предыдущего
тридцатилетия), а теперь достаточно предоставить свободу слова (устного и печатного, в
преподавании и судопроизводстве) и вся могучая сила общественного мнения устремится
на разработку и реализацию необходимых России преобразований. Так оценивали
ситуацию К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин31
, Ю.Ф. Самарин32
, Н.А. Мельгунов33
, редакция
журнала «Отечественные записки»34
, анонимные прокламаторы35
, а промышленник В.А.
Кокорев в своём тосте в московском купеческом собрании объявил это сущностью
современной государственной политики36
.
Своего рода манифестом требований «гласности для ожидающей её и готовой к
ней публики» стали либеральные статьи первых выпусков сборников «Голоса из
России»37
, издававшихся Герценом и Огарёвым в Лондоне. Вот вполне красноречивый
набор цитат из работ К.Д. Кавелина, Н.А. Мельгунова и Б.Н. Чичерина: «в своём
отечестве осуждённые на глубокое, безусловное молчание», они пытались опубликовать
за границей свою «откровенную исповедь». «Каким же образом скажется русская мысль?
Как восстановятся прямые отношения между царём и народом? Как поймут они наконец
друг друга? Для этого одно и есть средство: прямое, откровенное выражение русской
мысли посредством печатной книги или статьи, которая будучи издана за границей,
невольно обратит на себя внимание», «узнать Россию можно только от неё самой» и далее
«Станем лучше надеяться, что голос публики, так или иначе, проникнет до государя…»38
Такие суждения можно встретить в двух основных видах общественно-
политических сочинений того периода: нелегально доставлявшихся в Россию
заграничных изданиях русских корреспондентов и «ходивших по рукам» «записках»,
авторами которых зачастую были те же самые лица. Рукописные и заграничные
публикации российских либералов достаточно хорошо изучены исторической наукой39
.
Лишь с 1857 г. обсуждение общественно-политических вопросов проникает на страницы
российской публицистики, да и то ненадолго: уже в конце 1859 года свобода прессы была
резко и существенно ограничена циркуляром министра просвещения40
.
Однако проблема адресата довольно остро ощущалась сочинителями. Уже в 1855 г.
К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин сознавали узость культурного слоя в России: «Поставленная
между бессмысленной, скажу даже – преступной – бюрократией и невежественной
массой… русская мысль представлена горстью просвещённых и порядочных людей»41
.
Дальше скепсис относительно размеров и качества этой «мыслящей группы» усиливался.
Общественные деятели и публицисты становились всё менее высокого мнения друг о
друге и об уровне интеллектуального и культурного развития «публики»
(общественности) и ощущали себя её «Просветителями».
В качестве иллюстраций к такому отношению приведём несколько цитат
известных публицистов, научных и общественных деятелей за разные периоды. В 1857 г.
Б.Н. Чичерин, который всегда смотрел на общество в целом более критично, нежели его
коллеги и соратники, писал Е.Ф. Коршу следующее: «Задача … дать толчок дремлющему
уму. В этом отношении вы можете оказать нашей публике величайшую услугу. У нас
даже большинство занимающихся людей до такой степени дико, что самые простые вещи
кажутся ему неслыханною странностью»42
.
Несколько лет спустя и К.Д. Кавелин начал высказываться в письмах тому же
адресату приблизительно в том же духе: «При негоднейших цензурных условиях, которые
чуть ли не хуже, чем в самые худые времена... Что за дрянь газетные писаки, что и
вообразить не можешь! Или невежды, или подлые и поганые души! Безлюдье в этом мире
изумительное». (1865 г.) и десятилетие спустя: «Что за безобразие, например, печатная
полемика Лесевича с Соловьевым! Меня просили резюмировать эту её, но резюмировать
решительно нечего! Только ругня. Я хочу по этому поводу сказать о бедствиях нашей
публики, интересующейся философскими вопросами, и разъяснить, как стоит вопрос
…нашей журналистике, давно не выражающей общественного мнения и не ведущей его...
С переводами нашему полуграмотному люду не справиться, да и написаны оригиналы не
для нашей публики» (1875 г.)43
.
В рецензиях на роман Тургенева «Отцы и дети» редакция журнала «Русский
вестник» высказалась об учёных и представителях науки в том смысле, что «эту породу
едва ли можно найти в наше время в России»44
. М.П. Драгоманов, сочетавший в своих
взглядах черты либерализма и демократизма, указывал в 1876 г., что «политическая
литература «оскудела» и не отвечает вовсе не только положению России, как европейской
страны, но даже самым скромным потребностям общества…Одна из причин
«оскудения»… заключается в отсутствии в обществе достаточного количества
политически образованных людей, людей со знаниями в общественных науках». Затем
автор обрушивался на необразованность, невежество и нелогичность суждений «среднего
русского литератора»45
.
Обращает на себя внимание, что эти крайне нелестные высказывания о читающей
публике исходили от лиц, которые позиционировали себя как её часть, как представители
общества. Тем более непримиримую позицию заняли традиционалисты, представленные в
русском дискурсе, прежде всего, сочинениями славянофилов. Для этих авторов слова
«общество» и особенно «публика» превращаются почти в ругательные. Например, один из
предводителей славянофилов К.С. Аксаков посвятил целую статью выявлению
недостатков российской «публики» по сравнению с русским «народом», в которой
публика явно демонизировалась: «…публика есть искажение идеи народа… Публика
подражает и не имеет самостоятельности... У публики свое обращается в чужое... Публика
выписывает из-за моря мысли и чувства»46
.
Аналогии с Эпохой Просвещения были столь сильны, что в обществе даже витала
идея создания всеобъемлющей Энциклопедии, которой суждено было воплотиться лишь
почти полвека спустя в известном издании Брокгауза и Эфрона. Не удовлетворяясь
существующими «настольными словарями для справок»47, известный публицист Е.Ф.
Корш предполагал в 1859 году следующую программу издания нового типа. Цитата
достаточно обширна, но является прекрасной иллюстрацией отношения публицистов к
обществу и своей роли в его развитии – то, что крупицами и намёками рассыпано во
множестве источников, здесь высказано целостно и прямо: «…издание предлагаю назвать:
Энциклопедический сборник.
Цель его: доставить за умеренную цену такое чтение, которое общедоступным
изложением добытков современной науки содействовало бы развитию общего
образования и пробуждению научных интересов в обширнейших кругах читателей.
Содержание: избранные с этой целью статьи лучших иностранных изданий за последнее
десятилетие, извлечения из замечательнейших книг, а по мере возможности и
оригинальные статьи русских ученых, насколько они будут соответствовать выше
изложенной цели.
Чтобы сообщить изданию решительный, хотя и не оглашаемый в печати оттенок,
руководиться при выборе статей не тенденциозным или памфлетным направлением, но
тем общим направлением современной науки, которое видит главного своего врага в
беззаконном произволе, откуда бы он ни шел и какими бы ни прикрывался личинами. Это
направление не терпит пустых слов и фраз, а требует всему положительного разъяснения,
или по крайней мере откровенного сознания в том, что еще не разъяснено»48
.
Помимо упомянутого патерналистского и просветительского отношения к публике,
заслуживает внимания акцент на иностранное происхождение подавляющего
большинства материалов (Россия продолжает осознаваться ведущими публицистами в
качестве принимающей стороны на мировом рынке передовых знаний и идей), а научное
и культурное просвещение масс неразрывно связывается с политической пропагандой.
Российская интеллигенция осталась на таких позициях вплоть до краха самодержавия, а
возможно и до сегодняшнего дня.
Как нам прекрасно известно из упоминавшихся уже романов того периода,
просвещенная читающая публика вполне владела не только русским, но иностранными
языками, как правило, французким и немецкими. Не только эти языки, но и освоение
основной написанной на них литературы являлось обязательной частью классического
образования. В этом смысле, большинство общества действительно, как выразился
Аксаков, выписывали идеи из-за моря, однако делали это вынужденно – за неимением
адекватной замены в отечественной литературе, что в большей степени касается научных
сочинений. Российские писатели и ученые только начинали покорять отечественного, а
затем и зарубежного читателя. Глубоко символично, что Герцен, Тургенев и Достоевский
писали свои романы, находясь за границей, а роман "Что делать?" был написан в тюрьме:
Российская публика черпала свои идеи и свое вдохновение либо из иностранных
произведений, либо от своих соотечественников, фактически выпавших из нее и
оказавшихся на чужбине или в местах не столь отдаленных.
Российская свобода между словом и делом, российская общественность между
Просветительством и Либерализмом
По меткому замечанию историка Исайи Берлина, в России, где любое
политическое действие контролировалось властью и всякая самодеятельность или
оппозиционность запрещалась и каралась, именно литература стала единственной формой
выражения гражданской позиции49
. Литература освоилась с этой ролью уже к середине
XIX столетие и на заре Великих реформ выполняла ее ярко и осмысленно. Можно
констатировать, что при всей кажущийся напряженности борьбы за свободу слова и
неопределенности ее исхода писатели и читатели уверенно одерживали победу и, так или
иначе, получали доступ ко всей интересующей информации.
Исследование цензурной политики в области контроля внутренних изданий и ввоза
и перевода иностранных публикаций показывает, что при всей кажущееся строгости
бюрократии представителям общественности удавалось опубликовать и провести почти
все, в чем они видели необходимость50
. Иллюстрацией практического бессилия
внутренней цензуры может быть легальная публикация в журнале «Современник» романа
Чернышевского «Что делать?», который лишь задним числом был признан опасным, а
журнал закрыт. О свободе российской прессы один читатель восклицал в своём письме:
«...в Русском Вестнике Крузе (член Московского цензурного комитета – С.Р.) пропускает
такие штуки, что что ваша Лондонская книгопечатня»51
. А что же с изданиями Герцена, с
которыми автор сравнил российские журналы?
В годовом отчёте Третьего отделения императору – «Политическом обозрении за
1858 год» о распространении в России публикаций Герцена, воспрепятствовать которому
правительство пыталось изо всех сил, говорилось: «…запрещённые издания
преимущественно обращаются в С.-Петербурге и Москве. … Во внутренних губерниях
известны более других изданий «Колокол» и «Голоса из России». … ни одному
правительству не удавалось ещё прекратить тайный ввоз и вывоз не только предметов
столь малого объёма, как книги и рукописи, но и громоздких товаров, а у нас это, по
огромному протяжению наших границ, ещё менее возможно»52
.
К тем же выводам
приходил в своей официальной записке помощник руководителя Третьего отделения
Долгорукова А.Е. Тимашев53
.
Ту же степень вольности демонстрируют и материалы перлюстрации: люди писали,
кому хотели и что хотели. Наказания случались, но были скорее исключением и не меняли
общей картины. Интересно отметить, что наряду с жалобами на строгости цензуры
постоянно были желающие сделать ее еще строже54
. При этом идей ликвидация цензуры в
либеральном дискурсе практически не было: даже ее убеждённые противники
ограничивались требованиями ее ограничения.
Цензоры и писатели отнюдь не были сплоченными группами по разные стороны
баррикад, а, наоборот, в некоторой степени являлись коллегами по просветительскому
цеху. Возможно, это было обусловлено и специфической ролью цензуры как органа
государственного «контроля качества» печатной продукции55
. Известные писатели и
общественные деятели становились цензорами, а цензоры были тепло приняты публикой;
отдельные персоны добивались высокого положения одновременно и в литературных
кругах и в цензурном ведомстве.
Цензорами в разные периоды работали такие известные деятели культуры и
просвещения, как писатель С.Т. Аксаков (1826 – 1832 гг.) и либеральный литературный
критик и редактор А.В. Никитенко (с 1833 г., т.е. его деятельность пришлась и на эпоху
реакции и на эпоху реформ). Оба цензора понесли наказания за допуск к публикации
крамольных сочинений. Инженер и учёный Е.П. Ковалевский тоже работал в Московском
цензурном комитете, а в 1858 – 1861 гг. был Министром народного просвещения, в
непосредственном подчинении которого находилась вся внутренняя цензура, кроме
ведомственной. В декабре 1858 г. должность цензора предлагали московскому археологу
и историку И.Е. Забелину56
. Отношение общества к «своим» цензорам можно
проиллюстрировать на примере случая с отставкой Н.Ф. фон Крузе, после которой в
редакции «Русского вестника» задумали небывалую акцию в его поддержку, о чем Катков
писал в 1858 г. в Петербург В.П. Безобразову57
.
Совершенно очевидно, что расширение свободы слова совсем не означало роста
взаимопонимания и взаимной поддержки между правительством и обществом. Наоборот:
оппозиционность последнего только нарастала. Консерваторы объясняли это просто: чем
больше отдаешь – тем больше хотят, "дашь палец – руку откусят", как говорит народная
мудрость. Реформы нередко трактуются как уступки обществу, в которых оно видело
показатель слабости власти: вырвав у правительства одну уступку, оппозиция выдвигала
следующие требования – и так вплоть до падения режима. Однако нам представляется,
что нельзя все сводить к наглости общественных деятелей.
Оппозиционная литература существовала и при царе-реформаторе и при его
консервативных отце и сыне. Разница лишь в том, что, чем строже становилась цензура,
тем большее распространение получала нелегальная (контрабандная или рукописная)
литература и тем большую долю в круге обязательного чтения каждого образованного
человека она занимала. И, наоборот: при относительной свободе печати роль нелегальной
литературы значительно сокращалась. Иными словами, можно констатировать, что
свобода прессы не определяла градус оппозиционности общества.
Например, ситуацию под занавес «мрачного 30-летия» Николаевского
царствования ярко характеризует изданная за границей в 1856 г. анонимная статья
«Записка о письменной литературе» (историки приписывают её перу К.Д. Кавелина или
Б.Н. Чичерина58
): «В настоящее время войдите в кабинет всякого сколь-нибудь
образованного человека, и вы непременно найдёте у него запрещённые книги и бумаги».
И далее: «Известно, что запрещённые книги есть у всякого; у нас запрещены многие
сочинения Гизо и Августина Тьерри, история Англии Маколея, история Греции Грота, не
говоря уже о других; а между тем всякому, кто не хочет остаться невеждой, необходимо
познакомиться с этими книгами»59
(и снова: все авторы – иностранные).
В прогрессирующем отчуждении между властью и интеллигенцией можно видеть
выражение и результат фатального взаимного непонимания правительства и общества,
реализовывавших принципиально различные модели взаимодействия, которые отражали
их представления о применение европейского опыта, правда, относящегося к разным
эпохам. Правительство и аристократия, которые со времен Н.М. Карамзина прочно
усвоили консервативные ценности и ориентиры, считали вслед за автором "Записки о
древней и новой России", эпоху Екатерины Великой своим "Золотым веком" и во всем
старалась соответствовать стандартам Просвещения. Именно в духе Просвещения высшая
бюрократия пыталась строить отношения с интеллигенцией, воспринимая ее как
философов-просветителей образца предыдущего столетия. На практике это означало, что
их с удовольствием выслушивали и позволяли говорить и давать советы, позволяли
заниматься наукой и преподаванием с целью использование их интеллектуальных
достижений для развития и укрепления авторитарно бюрократического режима.
Поэтому свобода письменного слова всегда в большей или меньшей степени
допускалась правительством с тем, чтобы из всего написанного можно было выбрать
наиболее дельные идеи и рекомендации, а самых зарвавшихся оппозиционеров примерно
наказать. При этом ни в коем случае речь не могла идти об изменении основ
политического строя: интеллигенция воспринималось как советник власти, управляющей
народом с помощью своих образованных консультантов, а не как выразитель воли самого
народа, конструирующий его политическое бытие – как она сама склонна была себя
позиционировать. В этой функции общественности было отказано: слова не переходили в
дела, поэтому цензурные реформы шли, а политические даже не планировались.
Либеральная интеллигенция, – напротив – уже совсем не ощущала себя
философами-просветителями восемнадцатого столетия, а наоборот: стремилась играть
роль оппозиции, как это происходило в современных ей парламентских политических
системах Западной Европы. Лидеры образованного класса разных политических
направлений считали, что уже давно выросли из роли добровольных помощников
бюрократии, иногда даже брезговали ею60
. Например, показателен случай отказа Ю.Ф.
Самарина от ордена за помощь правительству в ходе подготовки крестьянской реформы.
В ситуации вынужденного переноса всей своей политической активности в литературу
они видели стремление власти запереть их в политической песочнице и, конечно, это не
могло их радовать или удовлетворять, поэтому, какая бы ни была свобода слова, это
воспринималось (наверное, не всегда осознанно) лишь как квази свобода или попытка
подменить реальные действия разговором и отделаться более мелкими уступками в
настойчивом стремлении игнорировать главные требования.
Именно поэтому оппозиционность только нарастала, росло раздражение
невозможностью участвовать в политике и свобода письменного самовыражения отнюдь
не компенсировала эту потерю, а только подогревала недовольство. Нужно также учесть,
что интеллигенция была склонна сопоставлять степень своей оперативной свободы с
положением своих современников на Западе в большей степени, нежели своих предков.
Отчаявшись дождаться возможности действовать, авторы либо повели политическую
борьбу "с того берега", либо превратили литературу в само действие – появились роман-
программа "Что делать?" и роман-предупреждение "Бесы". Каждый автор старался в
максимальной степени подействовать на общество, а оно с готовностью видело в
литературе проповедь и призыв. Но и это не давало выход стремлению к действию, а
лишь подогревало его. Действовать – естественно, нелегально – начали следующие
поколения.
1 Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в
царствование императора Александра II. (составитель Хрущов Д.П.) Vol. 1. Берлин, 1861. 2 Гросул В.Я. Русское общество ХVIII – ХIХ веков. Традиции и новации. М., 2003.
3 Эймонтова Р.Г. Идеи просвещения в обновляющейся России в 50 – 60-е годы XIX в. М., 1998.
4 Исторические сведения о цензуре в России. Печатано по распоряжению Министерства Народного
Просвещения. СПб, 1862. 5 Скабичевский А. М., Очерки истории русской цензуры (1700-1863), СПБ, 1892; Розенберг В., Якушкин В.,
Русская печать и цензура в ее прошлом и настоящем, М., 1905; Никитенко А. В., Дневник, т. 1-3, М., 1955-
56; Феоктистов Е. М., Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848 - 1896, Л., 1929. 6 Лемке М.К. Эпоха цензурных реформ 1859 – 1865 годов. СПб.: Герольд, 1904. С. 2 – 7.
7 Базилева З.П. «Колокол» Герцена. М.: Политиздат, 1949; Пирумова Н.М. Александр Герцен –
революционер, мыслитель, человек. М.: Мысль, 1989; Эйдельман Н.Я. Тайные корреспонденты "Полярной
звезды". М.: Мысль, 1966. // http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/STAR/STAR_03.HTM 8 Кубалов Б.Г. А.И. Герцен и общественность Сибири (1855 - 1862). Иркутск, 1958; Коваль С.Ф. Характер
общественного движения 60-х годов XIX в. в Сибири. // Общественно-политическое движение в Сибири в
1861- 1917 гг. Новосибирск, 1967. 9 Герцен, Огарев и общественное движение в Поволжье и на Урале. Казань, 1964.
10 Громова Л.П. К вопросу о взаимоотношениях российского правительства и русской эмигрантской печати.
// Журналистика на пороге ХХI века. Владикавказ, 1997; Гусман Л. Ю. В тени «Колокола». Русская
либерально-конституционалистская эмиграция и общественное движение в России (1840–1860 гг.): СПб.:
Изд-во РГПУ, 2004; Пирожкова Т.Ф. Б.Н. Чичерин в журнальной полемике 1856 – 1858 гг. и его суждения
об этике журналиста. // Из века в век. Из истории русской журналистики. 1702 – 2002. М.: Изд-во. МГУ,
2002. 11
См., напр.: Григорьев Б., Колоколов Б. Повседневная жизнь российских жандармов. М.: Молодая гвардия,
2007; Жандармы России. Ред.: Измозик В.С., Поляков А.М. М.: Олма-пресс, СПб.: Нева, 2002; Колпакиди
А.И., Серяков М.Л. Щит и меч. М.: Олма-пресс, СПб.: Нева, 2002. 12
Россия под надзором: отчёты III отделения 1827 – 1869. М., 2006. С. 455, 473 – 475, 479, 494. 13
Нетужилов К.Е. Церковная периодическая печать в России ХIХ столетия. СПб., 2008. 14
Полусмак Т.Л. Цензурное законодательство дореволюционной России. Дис. … канд. ист. наук., Н.
Новгород, 2003. 15
Макушин Л.М. Власть и пресса: политика российского правительства в области печати в период реформ
60-х годов XIX века. Дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1997; Павлов М.А. Государственная
регламентация чтения в России 1890-1917 гг. Дис. … канд. филол. наук. СПб, 2000; Москвин В.А. Цензура и
распространение иностранных изданий в Москве (вторая половина XIX – начало XX вв.). Дис. … канд. ист.
наук. Тверь, 2004. 16
Евдокимова М.В. Полемика в русской прессе о свободе слова и цензурных постановлениях, 1857 – 1867
гг. Дис. … канд. ист. наук., СПб., 1994; Гусман Л.Ю. Проекты реформ цензуры иностранных изданий в
России (1861-1881 гг.). Дис. … канд. ист. наук. СПб, 1999. 17
Джаншиев Г.А. А.М. Унковский и освобождение крестьян. М., 1894. С. 126. 18
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений, т. IV, СПБ, 1906. С. 556. 19
Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1813 - 1913). Статистические очерки. Под редакцией академика
С.Г. Струмилина. Государственное статистическое издательство, Москва, 1956. 20
Благовещенский Н. А. Сводный статистический сборник хозяйственных сведений по земским подворным
переписям, т. I, М., 1893; Быков Н. Грамотность сельского населения по данным земской статистики. //
Юридический Вестник, 1880, С. 310-312; Данилевский Г. Об образовании низших классов России, Сельские
училища и народное образование в Харьковской губернии // Отечественные записки № 4, 1864, С. 533-535;
Покровский В. И. Историко-статистическое описание Тверской губернии, 1882; Сборник статистических
сведений по Московской губернии, т. IX, Народное образование, М., 1884; Суперанский М. Начальная
народная школа в Симбирской губернии. Симбирск, 1906. 21
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907. 22
Ливрон де В. Статистическое обозрение Российской Империи. C.Петербург: Общественная польза, 1874.
С. 310 – 311. 23
Там же. 24
Карпачёв М.П. Истоки российской революции. Легенды и реальность. М.: Мысль, 1991. С. 139. 25
Мельгунов Н.А. История одной книги. М., 1839; Мельгунов Н.А. Гуляние под Новинским. М., 1841;
Крестовский В.В. Кровавый пуф. М.: Современный писатель, 1995. 26
Подробнее см.: Репинецкий С.А. К вопросу об отношении общества к роману Н.Г. Чернышевского «Что
делать?» // Клио, 2014, № 2. С. 46 – 50. 27
Короленко В. Г. Собрание сочинений. Том 5. М.: Правда, 1953; Панаева А.Я. Воспоминания. М.: Захаров,
2002. С. 361 – 385; Критика 60-х годов XIX века / Сост., преамбулы и примеч. Л. И. Соболева. М., ООО
"Издательство Астрель": ООО "Издательства АСТ", 2003; Видуэцкая И. П. Роман «Что делать?» в оценке
революционно-демократической критики. // «Что делать?» Н. Г. Чернышевского: Историко-функциональное
исследование. М.: Наука, 1990. С. 78. 28
Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М.-Л., 1930. Вып. 1, л. 177. 29
Афанасьев Э. Л. Роман Чернышевского «Что делать?» и жизненный идеал народовольца. // «Что делать?»
Н. Г. Чернышевского: Историко-функциональное исследование. М.: Наука, 1990. С. 145 – 147. 30
Рейсер С.А. Некоторые проблемы изучения романа "Что делать?" // Н.Г. Чернышевский. Что делать?
Л.: Наука, 1975; «Что делать?» Н. Г. Чернышевского: Историко-функциональное исследование. М.: Наука,
1990; Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое
литературное обозрение, 1996. С. 28 – 33, 114 – 117; Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое
литературное обозрение, 2001; Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М.: Советский писатель,
1990; Баранов А. С. Образ террориста в русской культуре конца XIX — начала XX века. // Общественные
науки и современность. — 1998. — № 2. — С. 181—191; FATHERS AND SONS
A NORTON CRITICAL EDITION. I VAN T URGENEV. The Author on the Novel. The Contemporary Reaction
Essays in Criticism. Translated and Edited by MICHAEL R. KATZ. MIDDLEBURY COLLEGE, 1994. 31
Кавелин К.Д., Чичерин Б.Н. Письмо к издателю // Голоса из России. Т. 1. С. 9. 32
ГАРФ. – Ф. 109., Оп. 3. – Д. 2026. Л. 14. 33
Мельгунов Н.А. Мысли вслух об истекшем тридцатилетии в России // Голоса из России. Т. 1. С. 69. 34
Современная хроника России. // Отечественные записки. 1857, № 12. Т. 115. С. 2 – 15, 48 – 49. 35
ГАРФ. – Ф. 109, Оп. 1. – Д. 84. 36
ЦИАМ. – Ф. 31, Оп. 5. – Д. 398. Л. 31 – 32.
37
Голоса из России. // Российский либерализм середины XVIII — начала XX века ; энциклопедия / отв. ред.
В.В. Шелохаев. - М. . Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 1087С.: ил. ISBN 978-5-
8243-1424-3. С. 200 – 201. 38
Голоса из России. Т. 1. С. 15, 36, Т. 4. С. 150, 153. 39
Репинецкий С.А. Формирование идеологии российского либерализма в ходе обсуждения крестьянского
вопроса публицистикой1856–1860 годов. М.; Самара: СамНЦ РАН, 2010. Историографический обзор: с. 23 –
47. 40
ЦИАМ, ф. 31, о. 5, д. 425, л. 109 – 110. 41
Голоса из России. Т. 1. С. 15. 42
ОР РГБ, ф. 465, о. 2, д. 105, л. 3 – 4. 43
ОР РГБ, ф. 465, оп. 2, д. 40, л. 1 – 3. 44
Роман Тургенева и его критики//Русский вестник. 1862. № 5. С. 393—426; О нашем нигилизме: По поводу
романа Тургенева // Там же. 1862. № 7. С. 402—426. 45
Драгоманов М.П. К вопросу об «оскудении» литературы и о столичной печати и провинции. // Молва,
1876, № 36. 46
Аксаков К.С. Опыт синонимов. Публика – народ // «Молва», 1857, № 36 47
Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. Под ред. Ф. Толля. СПб., 1864. 48
ОР РГБ, ф. 465, оп. 1, д. 3. 49
Berlin Isaiah. Introduction to Russian intellectual history. Anthology. Edited by Marc Raeff. New York: Harcourt
Brace & World, 1966: 3 – 13. 50
Подробнее см.: Репинецкий С.А. Московский цензурный комитет и политика в отношении печати
накануне отмены крепостного права. // Российская история № 2, 2011. С. 109 – 116; Репинецкий С.А. Санкт-
Петербургский комитет иностранной цензуры в борьбе с крамолой (1856-1860 гг.) // Вестник Московского
городского педагогического университета. Серия «Исторические науки». № 2 (4), 2009 г. С. 39 – 50. 51
ГАРФ, ф. 109, о. 1, д. 1802. 52
Россия под надзором: отчёты III отделения 1827 – 1869. М., 2006. С. 474. 53
ГАРФ, ф. 109, о. 35, д. 105. 54
ГАРФ, ф. 109, о. 1, д. 1716 и 1951; ЦИАМЛС, ф. 276, д. 132, л. 5 – 6. 55
Исторические сведения о цензуре в России. Печатано по распоряжению Министерства Народного
Просвещения. СПб, 1862. С. 89 – 95. 56
Подробнее см.: Никитенко А. В. Записки и дневник (В 3-х книгах).М.: Захаров, 2005; Забелин И.Е.
Дневники. Записные книжки. М.: Издательство имени Сабашниковых, 2001. 57
ИРЛИ РАН, ф. 23, д. 69, лл. 5 – 6. 58
Нечкина М.В., Рудницкая Е.Л. Комментарии. // Голоса из России. М.: Наука, 1975. Т. 4. С. 62 – 66, 92, 297.
Об авторстве «Записки о письменной литературе» см. так же: Киреева Р.А. Государственная школа:
историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004. С. 223 – 225; Hamburg G.M. Boris
Chicherin and Early Russian Liberalism. Stanford. 1992. Р. 374. 59
Записка о письменной литературе. // Голоса из России. М.: Наука, 1975. Т. 1. С. 43 – 45. 60
См. об этом: Нольде Б. Юрий Самарин и его время. М., 2003.



















![Das Osmanische Reich – ein antikoloniales Imperium? [The Ottoman Empire – An Anticolonial Empire?] (2006)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632565c9c9c7f5721c020fde/das-osmanische-reich-ein-antikoloniales-imperium-the-ottoman-empire-an.jpg)